Книга: Мерцающие

Мерцающие
Ted Kosmatka
THE FLICKER MEN
Published by arrangement with Henry Holt and Company, LLC, New York. All rights reserved.
© 2015 by Ted Kosmatka
© Галина Соловьева, перевод, 2016
© Дмитрий Вишневский, иллюстрация, 2017
© ООО «Издательство АСТ», 2017
***
Номинант премии «Небьюла» ит «Локус».
Выдающаяся книга в жанре твердой НФ, поражающая неожиданным сюжетом и философской глубиной.
Science Thrillers
Еслиибы Стивен Хокинг и Стивен Кинг решили вместе написать роман, то у них получились бы «Мерцающие». Блестящая, тревожно и прекрасно написанная книга.
Хью Хауи
«Мерцающие» – это то, какой должна быть лучшая научная фантастика: сюжет заставляет читателя осмысливать те вопросы, которые поднимает, о персонажах беспокоишься с самой первой главы. Прекрасно написанная и провокационная книга.
SF Revu
***
123
Моим детям
Невозможно, чтобы Бог меня обманывал (ведь во всяком обмане заключено нечто несовершенное) или хотел, чтобы я заблуждался.
Я сидел под дождем с пистолетом в руке.
Волна подбиралась по гальке, омывала мне ступни, наполняла камешками и песком штанины. Вдоль всего пляжа из прибоя торчали темные камни, острые как обломки зубов. Я вздрогнул, приходя в себя, и только тогда заметил, что пиджак пропал. И левый ботинок тоже – коричневая кожа, двенадцатый размер. Я поискал его взглядом, но увидел только песок и вспененную колышущуюся воду.
Я еще раз отхлебнул из горла́ и попробовал ослабить галстук. В одной руке я держал пистолет, а во второй – бутылку и ни того ни другого не желал уступать волнам, поэтому распустить галстук было непросто. Я действовал рукой с пистолетом – залез в узел пальцем, пропущенным сквозь скобу, так что холодная сталь коснулась горла. Подбородком почувствовал мушку – неловкие онемевшие пальцы сжимались на спусковом крючке.
Это было бы так просто. Я задумался, умирал ли кто-нибудь вот так: пьяным, вооруженным, распуская себе галстук. Пожалуй, среди людей определенных профессий это должно быть обычным делом.
Галстук подался, а я не застрелился. В награду позволил себе новый глоток из бутылки.
Пророкотала еще одна волна. Задержись я тут подольше, прилив накатит, утопит меня и унесет в море. Это было совсем непохоже на индианские дюны, у которых озеро Мичиган ласкает берега. Здесь, в Глостере, вода ненавидит землю.
Ребенком, приходя на этот пляж, я гадал, откуда берется столько валунов. Огромные темные камни походили на обломки кораблекрушений. Не прибой ли их приносил? Теперь-то я знаю. Валуны, конечно, и раньше лежали здесь, зарытые в мягкую почву. Они – останцы. Они – то, что остается, когда все прочее отнимает океан.
В тридцати ядрах выше, у дороги, стоит обелиск со списком имен. Рыбаков, глостерцев. Тех, кто не вернулся. Это Глостер, история здешних мест – история поражений перед океаном.
* * *
Порывами налетал ветер.
Я говорил себе, что захватил пистолет ради самозащиты, но, сидя здесь, в темном песке, уже сам этому не верил. Я слишком далеко зашел, чтобы морочить самого себя.
Пистолет был отцовский, девятимиллиметровый. Из него не стреляли семнадцать лет, пять месяцев и четыре дня. Считалось легко. С каждым глотком счет давался все легче. Это мой самый стойкий дар, так всегда было.
Сестра Мэри сказала, мол, это хорошо, что в новом остается немало от старого.
– Новое начало, – говорила она в трубку. – Вдали от всего, что было в Индианаполисе. Ты снова сможешь работать. Продолжишь прежнюю тему.
– Да-да, – сказал я. Она, кажется, сама верила в свою ложь.
– Ты не будешь мне звонить, да?
– Обязательно позвоню!
Моей лжи она не поверила.
Пауза.
– Я серьезно, Эрик. Звони. Если что не так.
Над пляжем взлетела белокрылая крачка, застыла на ветру, как моментальный снимок, потом развернулась, взмыла вверх и пропала.
Я отвернулся от океана и еще глотнул обжигающего зелья. Я пил, пока не забыл, в какой руке держу пистолет, а в какой бутылку. Пил, пока между ними не пропала разница.
На вторую неделю мы занялись распаковкой микроскопов. Сатвик работал ломиком, а я – молотком-гвоздодером. Тяжелые герметичные деревянные ящики – их прислали из какой-то закрывшейся в Пенсильвании лаборатории.
Солнце ворвалось в разгрузочный отсек лаборатории – на этой неделе было почти настолько же жарко, насколько на прошлой – холодно. У меня со лба текло.
Я взмахнул рукой, и гвоздодер вцепился в светлую доску. Я снова размахнулся. Работа была в радость.
Сатвик улыбнулся – оскалил белые зубы на сухом темном лице.
– У тебя голова протекает.
– Плавится, – поправил я.
– В Индии, – заявил он, – в такую погоду свитера носят.
* * *
Сатвик вставил ломик в проделанную мной щель и поднажал. Я знал его три дня и уже был ему другом. Мы вместе насиловали ящики, принуждая их к сдаче.
Производство укрупняли. Пенсильванская лаборатория пала не первой жертвой. Их оборудование досталось нам дешево – мы закупили крупную партию, целый контейнер. Здесь, в Хансене, ученым выпал праздник. Мы вскрывали ящики. Мы жадно перебирали новые игрушки. Удивлялись, за какие заслуги нам такое.
Кое-кто, в частности Сатвик, заковыристо объяснял это нашими достижениями. Хансен, что ни говори, был не из рядовых массачусетских бачков с мозгами, и Сатвику, чтобы пробиться сюда, пришлось обогнать дюжину других претендентов. Он устраивал презентации и писал проекты, старался понравиться важным шишкам. И на кого-то произвел впечатление.
Для меня все было проще.
Я получил второй шанс в подарок от друга. Последний шанс.
Когда мы вскрыли последний ящик, Сатвик заглянул внутрь. Он слой за слоем снимал пенопластовую упаковку, на полу уже валялась целая груда. Ящик был большой, но внутри мы обнаружили только несколько волюметрических банок Налгена, примерно на три фунта. Кто-то в новопреставленной лаборатории пошутил – высказал свое мнение о новопреставленной работе.
– Лягушка в колодце, – по обыкновению загадочно высказался Сатвик.
– Да уж, – согласился я.
У меня была причина вернуться на восток. И была причина не возвращаться. Обе, связанные между собой, они не имели ничего общего с пистолетом.
Указатель – первое, что видит подъезжающий сюда. «Научный центр Хансен» – крупными синими буквами. Поставлен деликатно, чуть в стороне от дороги, и окружен продуманной коллекцией кустарников. Через сто ярдов за указателем нарядные черные ворота, в рабочие часы они не закрываются. От них зданий совсем не видно, что на земельных участках вблизи Бостона говорит не просто о деньгах, но о деньгах с большой буквы. Здесь все дорого стоит, но дороже всего свободное пространство.
Лабораторный комплекс встроен в склон холма примерно в часе езды от города, если по берегу. Это тихое уединенное место в тени деревьев. Главное здание красиво – два этажа отражающего алюминиевого перекрытия над участком, обширным как футбольное поле. Где нет алюминия, там матовая вороненая сталь. Строение выглядит произведением архитектурного искусства, приспособленного под вкусы лучших научных умов мира. Здание огибает мощенная кирпичом дорожка, а парковка перед дверями чисто декоративная – просто асфальтовая заплата для гостей и непосвященных. Дорожка уходит за здание, к настоящей стоянке – стоянке для научных сотрудников. В дальнем конце участка стоят несколько подсобных строений поменьше. Это северная и южная лаборатории, технопарк и рабочие площадки. За ними, на отлете, как большой серый линкор – старый склад.
В свое первое утро я оставил взятую напрокат машину перед главным зданием и вошел внутрь.
– Чем могу помочь?
– Меня ждут, – сказал я дежурной.
– Ваше имя?
– Эрик Аргус.
Она улыбнулась.
– Присядьте, пожалуйста.
Я опустился на кожаные подушки. Здесь было три кресла и симпатичная сложная роспись в красных и голубых тонах. В ней угадывался намек на техническую схему, скрытый порядок. Такие мотивы мог бы выдать инженер, поставь ему задачу разукрасить вестибюль. Через две минуты из-за угла показалось знакомое лицо, и я встал.
– Господи, – сказал Джереми, – сколько же не виделись! – Он тряхнул мою руку и хлопнул по спине. – Ты как, черт тебя побери?
– Бывало хуже, – честно ответил я.
Он за прошедшие годы сильно переменился. Стал не таким тощим. Укротил непокорные светлые волосы практичной стрижкой. Но с ним было все так же просто. И он по-прежнему легко улыбался.
– А ты? – спросил я.
– Дел здесь хватает, я тебе скажу. Уже больше ста пятидесяти научных сотрудников, и это мы еще растем.
Он провел меня к себе в кабинет. Мы сели. Затем последовало предложение – словно речь шла просто о бизнесе, словно мы с ним были просто деловыми людьми. Но в глазах Джереми, в его грустном взгляде я видел старого друга.
Он подвинул ко мне через широкий стол сложенный листок. Я развернул и заставил себя разобраться в числах.
– Слишком щедро. – Я подвинул листок обратно.
– За тебя это дешево.
– Нет, – сказал я.
– Ты работал на QSR[1], значит, стоишь этих денег. Мы тебе обеспечим высокую степень интеграции, параллельные ядра – что угодно, только попроси. – Открыв ящик стола, он достал серую папку и вложил в нее листок. – Сможешь начать с того, на чем остановился.
– Кажется, мы друг друга не поняли.
– Ты только дай знать, что тебе требуется. С твоими патентами и работами…
– Я больше не могу этим заниматься, – оборвал я.
– Не можешь?
– Не стану.
Это его остановило. Джереми откинулся на кожаную спинку кресла.
– Я слышал, – заговорил он наконец и через стол окинул меня оценивающим взглядом. – Но не хотел верить.
Я покачал головой.
– В чем дело?
– Просто я с этим покончил.
– Тогда ты прав, – сказал он, – я тебя не понимаю.
– Если ты считаешь, что я тебя обманул… – Я хотел встать, но Джереми вскинул ладонь:
– Нет-нет, предложение остается в силе.
Я опустился на место.
– Мы можем дать тебе четыре месяца, – продолжал он. – Мы нанимаем ученого, а не программу. Даем четыре месяца испытательного срока. Такая у нас система.
– Чем я буду заниматься?
– Свобода действий сотрудников – наша гордость! Ты можешь выбрать любую программу, лишь бы она имела научную ценность.
– Какую захочу?
– Да.
– Как определяется ценность?
– По отзывам коллег, по публикациям, если дойдет до публикаций. Но еще раньше тебе придется пройти наш научный совет. Прием новых сотрудников доверен администрации, но по истечении четырех месяцев решаю уже не я. Надо мной тоже есть начальство; у тебя к тому времени должно найтись что показать. Что-нибудь публикабельное или близкое к тому, понимаешь?
Я кивнул. Четыре месяца.
– Здесь ты можешь начать сначала, – сказал Джереми, и я понял, что он уже говорил с Мэри. Интересно, когда сестра успела ему позвонить.
«Я серьезно, Эрик. Звони. Если что-то пойдет не так».
– Для QSR ты сделал прекрасную работу, – продолжал Джереми. – Я следил за твоими публикациями – мы все, черт возьми, следили. Но, учитывая обстоятельства твоего увольнения…
Я снова кивнул. Этого следовало ожидать.
Он помолчал, глядя на меня.
– Ради тебя я рискну. Но ты должен мне обещать…
Он только намекнул. Как все старались обходить этот момент!
Я отвел взгляд. Кабинет у Джереми был подходящий. Не слишком большой, зато светлый и удобный. Окно у него за плечом выходило на площадку, где я оставил машину из проката. Одну стену почтил собой диплом Нотрдамского технологического. Претенциозным здесь был только стол – чудовище тикового дерева, огромное как палуба авианосца, – но я знал, что он достался Джереми по наследству от его отца. Я его видел, когда мы еще учились в колледже, лет десять назад. Целую жизнь назад. Когда мы еще думали, что нам не тягаться с нашими отцами.
– Можешь обещать? – спросил он.
Я знал, о чем он. Я встретил его взгляд.
Молчание.
Он еще долго потом молчал, глядя на меня, дожидаясь моих слов. Взвешивая дружбу и риск, каким она могла для него обернуться.
– Ладно, – заговорил он наконец. – Добро пожаловать в научный центр Хансен. Завтра и приступай.
Бывают дни, когда я совсем не пью. Вот как они начинаются: я вытаскиваю из кобуры пистолет и кладу его на стол в номере мотеля. Пистолет тяжелый и черный. На его боку мелкая выпуклая надпись: «Ругер». У него вкус мелких монет и пепла. Я смотрю в зеркало напротив кровати и говорю себе: «Если ты сегодня выпьешь, то покончишь с собой». Гляжу в свои серо-голубые глаза и вижу, что это не шутка.
В такие дни я не пью.
В работе научной лаборатории – свой ритм. Входишь в стеклянную дверь в 7:30, киваешь другим ранним пташкам. Потом сидишь у себя в кабинете до 8:00, размышляешь над фундаментальной истиной: что даже дрянной кофе – землистый, солоноватый, перекипевший дрянной кофе – лучше, чем вовсе без кофе.
Я люблю оказаться первым, кто с утра берется варить кофе. Распахиваю дверцу шкафчика в комнате отдыха, вскрываю жестяную баночку и глубоко вдыхаю, наполняя легкие запахом. Вдохнуть этот запах лучше, чем напиться кофе.
Бывают дни, когда мне все в тягость: есть, разговаривать, выйти утром из номера. Все трудно дается. Я существую большей частью в собственной голове. Такое приходит и уходит, и я очень стараюсь этого не показывать, потому что, если честно, не в том дело, как ты себя чувствуешь. Дело в том, чем ты занимаешься. Как себя ведешь. Пока интеллект не отказал, ты можешь рассудком просчитывать свое поведение. И заставлять себя день за днем.
А я хочу остаться на этой работе и потому заставляю себя что-то делать. Я хочу двигаться дальше. Хочу снова давать результат. Хочу, чтобы Мэри мной гордилась.
Работа научной лаборатории – не то, что нормальная работа. У нее необычный ритм, странное расписание – творческим людям многое прощается.
Двое китайцев – заводилы по части баскетбола в обеденный перерыв. В первую же неделю они втянули меня в игру.
– Ты, похоже, можешь играть, – так они сказали.
Один высокий, другой низкий. Высокий вырос в Огайо и говорит без акцента. Его прозвали Забивалой. Второй понятия не имеет о правилах игры и потому оказался лучшим в защите. От его фолов остаются синяки, и возникает метаигра – игра в игре: проверка, сколько издевательств я могу стерпеть. По-настоящему я только затем и играю. Пробиваюсь к кольцу и получаю рубящий удар. Снова пробиваюсь. Кожа лупит по коже. На ней остаются отпечатки ладони.
В одном игроке – норвежце Остлунде – шесть футов восемь дюймов. Я поражаюсь его росту. Он не умеет ни бегать, ни прыгать, ни вообще двигаться, зато своей тушей забивает проход, огромной лапой сшибает любой прыжок в зоне действия этого асфальтового катка. Мы играем четверо на четверо или пять на пять, смотря сколько человек оказались свободны в обед. В тридцать один год я на несколько лет моложе любого из них и на несколько дюймов выше – не считая Остлунда, который на голову выше всех. С каким только акцентом не перекликаются на поле…
– Моя бабушка лучше подает!
– Это бросок или подача, не разберу?
– Остлунд, не стукнись башкой о корзину!
Кое-кто ходит обедать в ресторан. Другие в это время играют на компьютере у себя в кабинете. Третьи остаются работать – забывают о еде. Среди них Сатвик. Я играю в баскетбол потому, что это похоже на наказание.
Атмосфера в лаборатории вольная, можно даже вздремнуть, если охота. Никто работать не заставляет. Все строго по Дарвину – конкуренция за право остаться. Никто на тебя не давит, кроме тебя самого, потому что всем известно, что каждые четыре месяца аттестация, на которой нужно что-то предъявить. После испытательного срока вылетает каждый четвертый. Дружба с новичками мимолетна.
Сатвик занимается схемами. Об этом он мне рассказал на вторую неделю, когда я застал его за СЭМ.
– Мелкая работа, – сказал он.
Я смотрел, как он налаживает фокусировку и как сдвигается изображение на экране. В старших классах я имел дело с СЭМ, но этот был новее и лучше. Ничего ближе к магии мне видеть не доводилось.
Сканирующий электронный микроскоп – это окно. Положите образец, выкачайте воздух из вакуумной камеры, и вы заглянете в иной мир. Плоская гладкая поверхность преображается, приобретает пространственную структуру.
Работать с СЭМ – все равно что разглядывать спутниковые снимки: вы в космосе, сверху вниз смотрите на сложный земной ландшафт, потом поворачиваете маленькое черное колесико, и поверхность приближается. Зум похож на падение. Как будто тебя сбросили с орбиты и Земля стремится навстречу, только летишь ты быстрее, чем было бы в настоящем падении, быстрее предельной скорости, невероятно быстро, невероятно далеко, и ландшафт вырастает, и кажется, сейчас будет удар, но удара нет, потому что картина становится еще ближе и отчетливее, а до земли все же не добраться – как в старой притче про лягушку, которая прыгнула на половину расстояния до бревна, потом еще на половину, еще и еще, так и не попав за бревно. Вот вам электронный микроскоп. Вечное падение в картину, а дна не достать.
Я дал увеличение 14 000, как Господень глаз сфокусировал. В поисках окончательной, неделимой истины: дна не увидишь, потому что его нет.
* * *
Наши с Сатвиком кабинеты располагались на втором этаже главного здания, через несколько дверей друг от друга.
Сатвик был невысоким и тощим, между тридцатью и сорока. Кожа глубокого насыщенного коричневого цвета, почти мальчишеское лицо, но усики присыпала первая соль. Узкое лицо можно было приписать любой нации: мексиканец, ливиец, грек, сицилиец – пока он не открывал рта. Стоило ему заговорить, все эти версии отпадали, и перед вами оказывался индус, до мозга костей индус, и уже невозможно было представить его никем другим.
Когда я знакомился с Сатвиком, он сжал мою ладонь двумя руками, встряхнул и сказал:
– А, новое лицо в наших коридорах. Как поживаешь, друг? Добро пожаловать в науку.
Мы так говорили: «наука», будто это было название места. Цель, которой можно достичь. Мы стояли в большом коридоре у библиотеки. Сатвик так широко улыбался, что не мог не нравиться.
Это он объяснил мне, что нельзя работать с жидким азотом в перчатках:
– Тут нужна твердая рука. Будешь в перчатках – обожжешься.
Я наблюдал за его действиями. Он наполнил резервуар СЭМ – ледяной дым перелился через край и потек на кафель.
У жидкого азота поверхностное натяжение не такое, как у воды: капнешь на руку, и капли сбегут, не смочив кожи, – как шарики ртути. Капли мгновенно испаряются: вскипели, стали паром, исчезли. Но если наливать азот в перчатках, он может попасть внутрь, между перчаткой и кожей.
– А тогда, – продолжая наливать, сказал Сатвик, – тебе плохо придется.
Он первый спросил, в какой области я работаю.
– Точно не знаю, – ответил я.
– Как это – не знаешь? Раз ты здесь, значит, чем-то занимаешься.
– Я еще не разобрался.
Он уставился на меня, вбирая в себя, и я увидел, как изменился его взгляд, – Сатвик понял меня по-новому, как я его, когда впервые услышал его речь. И я тоже стал для него другим.
– А, – сказал он, – теперь я знаю, кто ты, – о тебе рассказывали. Ты из Стэнфорда.
– Это было восемь лет назад.
– Ты написал ту знаменитую работу по декогеренции. Прорывную работу.
Сатвик, как видно, не любил обиняков.
– Я бы это прорывом не назвал.
Он кивнул, то ли соглашаясь, то ли нет.
– Ты и сейчас занимаешься квантами?
– Нет, бросил.
Он наморщил лоб.
– Бросил? Ты делал важное дело.
Я покачал головой.
– Квантовая механика со временем меняет твой взгляд на мир.
– Как это понимать?
– Чем больше я изучал, тем меньше верил.
– В квантовую механику?
– Нет, – сказал я, – в мир.
Бывают дни, когда я совсем не пью. В такие дни беру отцовский девятый калибр и смотрю в зеркало. Я внушаю себе, во что мне обойдется отплыть сегодня первым бортом. В ту же цену, что заплатил он.
Но бывают и дни, когда я таки пью. Это дни, когда я просыпаюсь больным. Ухожу в ванную и блюю в унитаз, и выпить надо так, что руки трясутся. Из желудка поднимается желчь – мышцы сжимает судорога, и я сливаю себя в фаянсовый горшок. Желудок опорожняется длинными спазмами, под черепом бьется пульс, ноги дрожат, и жажда выпить вырастает в злобного монстра. Когда уже можно выпрямиться, я смотрю в зеркало над раковиной и плескаю в лицо водой. Я ничего себе не говорю. Все равно не поверил бы.
В такие дни с утра – водка. Потому что водка не пахнет.
Я наливаю ее в старый кофейный термос.
Глоток снимает дрожь. Еще несколько – и можно шевелиться. Тут главное в равновесии. Не слишком много, а то будет заметно. И не слишком мало, а то дрожь останется. Я, как в химической реакции, добиваюсь равновесия. Ровно столько, чтобы продержаться на уровне, идя через главный вход в лабораторию.
Я поднимаюсь к своему кабинету по лестнице. Если Сатвик и замечает, то молчит.
* * *
Сатвик занимался схемами. Он выводил их – малые и нулевые – в программируемых пользователем вентильных матрицах Матера. Внутренняя логика таких матриц пластична, и он позволял давлению отбора направлять строение схем. Вроде эволюции в пробирке. Автоматизированная программа определяла самые эффективные схемы и на их основе создавала следующее поколение. Отбор лучших велся по генетическим алгоритмам.
– Тоже не идеально, – говорил Сатвик. – Много приходится моделировать.
Я представления не имел, как все это работает.
Сатвик был гений из индийских крестьян, в двадцать лет добравшийся до Америки. Он получил диплом инженера в Массачусетском технологическом. Электронику выбрал потому, что любил математику. Потом Гарвард, патенты и предложения работы. Все это мне описывалось обыденным тоном, словно в наше время только так и бывает – каждому по силам.
– Невелика хитрость, – сказал он, – главное – стараться.
Похоже, он сам в это верил.
Я сомневался.
Другие сотрудники заходили посмотреть на его вентильные матрицы, расставленные вокруг рабочего компьютера, наподобие самоорганизующейся художественной композиции. Из раза в раз всплывало слово: «изящно» – высшая похвала в устах людей, для кого математика была родным языком. Сатвик стоял, согнувшись над своей работой, не отвлекаясь часами. Отчасти в этом и заключалось дело. В его способности сосредоточиться. Всего лишь сидеть и работать.
– Я простой крестьянин, – так он любил отвечать на комплименты. – Мне нравится борьба с землей.
Словечек у него было – не сосчитать. Расслабившись, он позволял себе перейти на ломаный английский. Иногда, проболтав с ним все утро, я подхватывал эту манеру и отвечал на таком же ломаном языке – удобном пиджине, достоинства которого – целеустремленную эффективность и точную передачу нюансов – успел оценить.
– Я вчера был у зубного, – рассказал мне Сатвик. – Говорит: у меня хорошие зубы. Я ей – в первый раз за сорок два года пришел к дантисту. Она не поверила.
– Ты никогда не обращался к дантисту? – переспросил я.
– Никогда.
– Как же так?
– До двенадцатого класса в сельской школе я просто не знал, что зубы лечит особый доктор. А потом не было нужды. Она сказала, зубы хорошие, без дырок, только на задних молярах слева пятна от жевания табака.
– Ты жуешь? – Я попробовал представить Сатвика с жвачкой во рту, на манер бейсболиста, но картина не складывалась.
– Мне стыдно за себя. Никто из братьев не жует. Из всей семьи я один такой. Начал много лет назад, дома. Теперь пытаюсь бросить. – Сатвик беспомощно развел руками. – Но не могу. Два месяца назад сказал жене, что бросил, но начал заново, а ей не признался. – Взгляд у него погрустнел. – Плохой я человек.
Сатвик наморщил лоб.
– Ты смеешься, – сказал он. – Чему ты смеешься?
* * *
Хансен был для техников центром притяжения – набирающим силу природным явлением. Он постоянно скупал другие лаборатории, оборудование, поглощал конкурентов… Хансеновские лаборатории принимали на работу только лучших, не глядя на происхождение. Здесь можно было встретить в комнате отдыха нигерийца, по-немецки беседующего с иранцем. По-немецки, потому что оба знали этот язык лучше английского, который тоже был у них общим. Хансен испытывал вечный голод на таланты.
Бостонская лаборатория была не единственным филиалом, но снабжались мы лучше других, и бо́льшая часть освободившегося оборудования попадала к нам. Мы вскрывали ящики. Мы разбирали посылки. Если что-то могло пригодиться для работы, писали заявку и получали все что нужно. Полная противоположность бюрократии большинства корпораций, где правит резиновая печать.
Чаще всего по утрам мы с Сатвиком стояли пред рабочим столом, разговаривали и занимались делом. Я помогал ему с матрицами. Он за работой рассказывал про дочку. Обед я проводил на баскетбольной площадке.
Иногда после баскетбола я, чтобы отвлечься, заходил в лабораторию Забивалы в северном флигеле – посмотреть, чем он занят. Забивала работал с органикой, подбирал химикаты, которые не вызывали бы врожденных дефектов у земноводных. Испытывал воду с кадмием, ртутью, мышьяком.
Забивала был вроде шамана. Он изучал схему экспрессии генов у ланцетика, читал будущее в уродствах. Его работы понравились бы моей матери – в них было поровну от алармизма и от конспирологии.
– Если ничего не предпринимать, – говорил он, – бо́льшая часть ланцетников вымрет.
В его аквариумах жили саламандры и лягушки – лягушки с лишними ногами, с хвостами, без лапок. Уродцы. Они прыгали, плавали, ползали – чернобыльские кошмары в высоких стеклянных банках.
Рядом с его лабораторией был кабинет сотрудницы по имени Джой. Тоже новенькой, хотя я не знал точно, когда она поступила. Ее знали только по имени. Иногда, услышав разговор, Джой обходила нас, скользя тонкой кистью по стене – высокая, красивая и слепая. Она вела какие-то акустические исследования. У нее были длинные волосы и высокие скулы, а глаза такие чистые, голубые и совершенные, что я сперва не понял.
– Все нормально, – ответила она на неловкие извинения кого-то из сотрудников. – Я с этим часто сталкиваюсь.
Джой не носила черных очков и не пользовалась белой тростью.
– Отслоение сетчатки, – объясняла она. – В три года. Это пустяки.
– Как ты находишь свою комнату?
Это спросил Сатвик, прямолинейный Сатвик.
– Зачем нужны глаза, если есть слух и память? Слепые привыкают считать шаги. Кроме того, на глаза полагаться не стоит, – улыбнулась она. – Всё не так, как видится.
После обеда я, вернувшись в главное здание, пытался работать.
Сидел один в кабинете за чертежной доской. Огромным пустым пространством. Я брал маркер и закрывал глаза. Всё не так, как видится.
Я записывал по памяти, формулы легко сматывались с левой руки. Ряд букв и цифр, как древние руны забытого заклинания – образ из головы. Эту работу я начинал для QSR. Я остановился. Посмотрел, что написал, и швырнул маркером в стену. Пачка заметок съехала со стола на пол.
Джереми зашел ко мне в тот же вечер.
Он остановился в дверях с чашкой кофе в руке. Увидел разбросанные по полу бумаги, нацарапанные на доске формулы.
– Математика – всего лишь метафора, – доплыл от дверей его голос. – Не ты ли это сказал?
– Ага, самоуверен был по молодости. Любил простые лозунги.
– А теперь тебе нечего провозглашать?
– Порастерял жирок.
Он похлопал себя по животу.
– Ты потерял, я набрал, а?
Я улыбнулся. В нем не было ни фунта лишнего веса – просто раньше он выглядел так, будто умирает с голоду.
– Правда, – заметил я, – как это похоже на нас – в первую очередь вспоминать о себе? Может, это мы – метафора?
Он приветственно поднял кофейную чашку.
– Ты всегда был остряком.
– Ты хочешь сказать – психом.
Он покачал головой.
– Нет, психом был Стюарт. Но посмотреть стоило на тебя. Это мы все знали. До тебя я не видал студентов, затевающих споры с профессором.
– Как давно это было.
– Но ты победил в споре.
– Забавно, ничего такого не помню.
– Да еще как победил, если вдуматься. – Он отпил кофе. – Просто у тебя на это ушло несколько лет.
Он, старательно обходя листки, вошел в комнату.
– Ты со Стюартом еще общаешься?
– Давно его не слышал.
– Жаль, – заметил он, – вдвоем вы делали интересные работы.
Можно было сказать и так. Однако Джереми таким способом объявлял, зачем пришел. Работа.
– Ко мне сегодня заходили из аттестационной комиссии, – сообщил он. – Спрашивали, как ты продвигаешься.
– Уже?
– Несколько недель прошло. Они просто не теряют тебя из виду, интересуются, как ты устроился.
– Что ты ответил?
– Обещал к тебе заглянуть, вот я и здесь. Заглядываю. – Он кивнул на доску с формулой. – Рад видеть, что ты не бездельничаешь.
– Не получается, – сказал я.
– Сразу ничего не делается.
Из меня перла правда. Не было смысла лгать. Ни себе, ни ему. Слова всплывали из груди пузырями и вырвались наружу:
– Я здесь даром время трачу. Твое время. Время лаборатории.
– Нормально, Эрик, – ответил он. – Всё придет.
– Не думаю.
– У нас есть сотрудники с индексом цитирования втрое ниже. Тебе место здесь. Первые недели бывают самыми трудными.
– Теперь не то, что прежде. Я не тот.
– Ты слишком строго себя судишь.
– Нет. Я ничего не добился. – Я махнул на доску. – Одна незаконченная формула за три недели.
Он переменился в лице.
– Больше ничего? – Джереми всмотрелся в рядок из дюжины знаков. – Ты продвигаешься?
– Не знаю, как ее закончить, – сказал я. – Не нахожу решения. Это тупик.
– И больше ничего? Другими темами не занимаешься?
Я мотнул головой:
– Ничего.
Он повернулся ко мне. Опять этот грустный взгляд.
– Мне здесь не место, – сказал я ему. – Я даром трачу ваши деньги.
– Эрик…
– Нет. – Я опять покачал головой.
Он долго молчал, всматриваясь в формулу, как в чайную заварку на дне чашки. А когда заговорил, голос его смягчился:
– Венчурные исследования – в сущности способ ухода от налогов. Оставайся хотя бы до истечения контракта.
Я осмотрел разбросанные в беспорядке бумаги.
Он продолжал:
– Еще три месяца на жалованье до аттестации. Столько мы сможем тебя прокормить – не разоримся. А потом дадим рекомендации. Есть и другие лаборатории, устроишься где-нибудь.
– Да, может быть, – согласился я, хотя оба мы знали, что это неправда. Такова природа последнего шанса. После него ничего нет.
Он повернулся к двери.
– Мне жаль, Эрик.
В ту ночь в номере мотеля я цедил водку и разглядывал телефон. Прозрачная стеклянная бутылка. Жидкий огонь.
Пробка покатилась по дешевому ковру.
Я представил, как звоню Мэри, набираю номер. Сестра – так похожа на меня и так непохожа. Хорошая, здравомыслящая. Я представил ее голос в трубке.
Алло? Алло?
Тупая голова, странная тяжесть, геологические отложения слов, которые я мог бы сказать: «Не волнуйся, все хорошо», – но вместо этого я молча отодвинул телефон и через час оказался за балконной дверью, выходя из очередного ступора промокшим до костей, со струями дождя перед глазами. Монотонная холодная морось пропитала одежду.
Гром накатывал с востока, а я стоял в темноте, дожидаясь, когда хоть что-нибудь станет хорошо – как было.
Вдалеке виднелись очертания мотельной автостоянки. Кто-то, кому незачем там быть, стоял под дождем – влажный силуэт тускло блестел, голова повернута в сторону мотеля. Он следил за мной, смотрел в черный пруд. Внезапно вспыхнули фары проходящей машины, а когда я снова взглянул туда, влажный блик пропал. Или его и не было.
Последний глоток водки пролился в горло.
Я вспомнил мать, последний раз, когда виделся с ней, и вот оно – перспектива медленно растворилась. Я, теряя связь со своим телом, подумал о матери: угловатый силуэт в холодном свете – глаза серые, как дождевые тучи, как ружейная сталь.
– Это не для тебя, – сказала мне мать в тот осенний день много лет назад.
Рука у меня дернулась, и бутылка из-под водки улетела в темноту – блеск, звон стекла, и асфальт, и осколки дождя. И больше ничего – пока больше ничего.
* * *
Иногда мне это снится. Последний наш разговор, мне было пятнадцать.
Она носила много имен, большей частью апокрифических.
Мать смотрит на меня через стол. Она не улыбается, но я знаю, что довольна. Что у нее один из периодов хорошего настроения, потому что я пришел в гости.
Она снова дома – в самый последний раз, пока все не стало непоправимо плохо. Пьет чай. Как всегда, холодный. Два кубика льда. Я пью горячее какао и обнимаю ладонями теплую чашку. Мы пьем по глоточку, а под потолком над нами медленно вращаются лопасти вентилятора.
– Я в трауре, – говорит она.
– По кому?
– По роду человеческому.
У меня в голове сдвигается рычажок – я замечаю поворот, стало быть, к одному из тех разговоров. Ее мысли все время съезжают в одну колею – все дороги в конце концов приводят в пустыню.
– Y-хромосома нашего вида вырождается, – говорит она. – Еще несколько тысяч лет – и она усохнет совсем.
Ее взгляд скользит по комнате, нигде не задерживаясь.
Я подыгрываю:
– А естественный отбор? Разве он не выпалывает неудачников?
– Он не справится, – отвечает мать. – Это неизбежно.
«Может быть, так и есть, – думаю я. – Может быть, всё это неизбежно. Эта комната. Этот день. Сидящая напротив мать с беспокойным взглядом и криво застегнутой рубашкой».
В окна студии косо падает свет. За окнами через двор летят листья, скапливаются у каменной стены, которую сложил Портер, чтобы соседский корги не лез в розовый сад.
Портер – ее любовник, хотя она никогда его так не называет.
«Моя Джиллиан», – зовет он ее и любит так, будто для того и создан. Но, по-моему, он слишком напоминает ей моего отца, и потому близок к ней, и потому никогда не станет ближе.
– Твоя сестра выходит замуж, – говорит мать.
И все вдруг становится понятно, весь этот разговор. Потому что я, конечно, знал о помолвке сестры. Не знал только, что мать в курсе. Ее бегающий взгляд останавливается на мне в ожидании ответа.
В описании на водительских правах глаза матери названы ореховыми, светло-карими – но в таком описании есть ловушка. Так говорят, если глаза не голубые, не зеленые и не карие. Карими называют даже черные глаза, но сказать человеку, что у него глаза черные, нельзя. Я пробовал, и люди иногда обижались, хотя такие глаза у большинства Homo sapiens. В большей части света такой цвет нормален для нашего вида. Черный и блестящий, как осколок обсидиана. Но у моей матери глаза не обычного цвета. Они не голубые, и не зеленые, и не ореховые, набор из водительских прав им не подходит. Цвет ее глаз – в точности цвет безумия. Я знаю, потому что видел его всего раз в жизни и только в ее глазах.
– Магнитное поле Земли меняется, – говорит она. – Горячая точка сейчас под Южной Америкой. Эти прекрасные сияния – просто заряженные частицы, переходящие в видимую часть спектра. Я видела их однажды, когда яхта твоего отца проходила к северу от полюса.
Я улыбаюсь и киваю, как всегда. Она слишком занята потаенным, чтобы говорить о повседневном. Колеи ее души ведут к темным истинам, к глубоким тайнам.
– Магнитное поле ослабевает, но здесь мы в безопасности.
Она пьет чай. Она счастлива.
Это ее личное чудо. Она умеет стать счастливой, грустной или сердитой, меняя только взгляд. Этот ее дар передался мне: такое общение – будто тайный язык, с которым нам не нужно слов.
В начале того учебного года учитель посоветовал мне иногда улыбаться, а я подумал: «Разве я не улыбаюсь? Никогда?»
Похож на свою мать, даже тогда был похож.
Диплом она в конце концов получила по иммунологии, после того как забежала в химию, астрономию и генетику. Ее порывы были столь же мощными, сколь донкихотскими. Когда она защитила диссертацию, мне было девять, и, оглядываясь назад, я вспоминаю, что признаки появлялись уже тогда. Странные идеи. Со временем они стали бросаться в глаза.
Ее любовь была яростной и непрактичной. И эта ярость, и эта непрактичность взрастила в ее детях такую преданность, потому что мы видели, что она непоправимо изломана, и все же в ней крылось величие, глубина. Глубокие воды, сила океанских течений.
Она поздно ложилась и рассказывала нам на ночь истории, в которых вечно сдвигались границы между правдой и фантазией. Рассказывала о науке и о том, что могло бы стать наукой, будь наш мир устроен по-другому.
Мы с сестрой так любили ее, что не знали, что делать с этой любовью.
Когда не вернулся отец, она разбудила меня первого, с трудом выдавливая слова, обрушиваясь в мою спальню. Я так мало запомнил с той ночи, что это похоже на чужой рассказ, но я помню, как она втянула в себя воздух, ударила по выключателю, разбудив меня, – и как всё это вылилось в слова: всё, все бессчетные годы. Сроки многих жизней. Водопад слов. Медленный вопль, которому не было конца. Он так и не смолк.
И я запомнил комнату. Цвет стен. Почти фотографические подробности в сочетании со странными провалами памяти – кое-что я должен бы помнить, но не вижу. Старые трещины в стене я вижу ясно. Скользкие деревянные перила под рукой, когда я сплывал вниз по лестнице, задевая плечом рамы картин. Я вижу тонкий слой пыли на люстре в прихожей, но сестра почему-то отсутствует – стерта из памяти, хотя она должна была там быть. Или, возможно, это она стоит в стороне, в тени.
А потом под моими босыми ногами скрипит щебень, а мать не может идти, падает на обочину перед домом. Я стою на дорожке, над которой беззвучно вращается красный фонарь. Полиция, но лиц нет. Только мигалка, и значки, и слова из-под воды.
Твой отец…
И она не договорила. Не смогла выдавить слова.
И ничего потом уже не было прежним. Ни для кого из нас. Но в первую очередь для матери.
Теперь она делает еще глоток чая, и я вижу, как счастье вытесняет тревогу в ее глазах. В этих не совсем карих глазах, которым трудно подобрать имя.
– Ты в порядке, Эрик?
Я только киваю и делаю глоток.
– Ты уверен? – спрашивает она.
Ее отец был на четверть чероки и выглядел соответственно. У нас с ней и это общее – мы оба похожи на своих отцов.
– Все хорошо, – говорю я.
Она высокая, длинноногая и длиннорукая. В волосах, прежде каштановых, проглянула седина. Она теперь – и всегда была – красива.
Если между нами есть сходство, оно в глазах – не в цвете, потому что мои серо-голубые, а в форме. Глаза прикрыты веками. Веки скрывают наши секреты.
Она никогда не пила. Ни разу, никогда в жизни. Не то что мой отец.
Она бы вам порассказала.
Она из рода алкоголиков – тяжелых алкоголиков. Из тех, что ввязываются в драки и попадают за решетку. Таким был ее отец, и дед, и братья. И кое-кто из двоюродных. Так что она в этом понимает. Это как хорея Гентингтона или гемофилия – порченая кровь, передающаяся из поколения в поколение. И мне думается: не в этом ли отчасти дело? Не в той ли странной алхимической близости, притягивающей людей друг к другу? Ее и моего отца.
Иногда это бывают простые вещи – например манера смеяться. Или знакомый цвет волос. Или привычка держать стакан виски, небрежно обхватив пальцами кромку так, что ладонь нависает над прохладной темной жидкостью. Это чувство при встрече с новым человеком… Мы знаем друг друга. Всегда знали.
Может, это ее и притянуло. Может, она подумала, что сумеет его исправить.
И вот мать не пила – ни капли, и думала, что этого хватит, чтобы спастись.
Она много раз повторяла мне в детстве, что я тоже не должен пить. Алкоголизм с обеих сторон, говорила она, так что и не пробуй. Даже первый глоток – слишком большой риск.
Но я попробовал. Конечно, попробовал.
Это не для тебя.
Большей ошибки и быть не может.
Голоса лаборатории.
Сатвик сказал:
– Я вчера разговаривал в машине с дочкой, ей пять лет, так она выдала: «Пожалуйста, папочка, помолчи!» Я спросил почему, а она: «Потому что я молюсь. Мне нужна тишина». Спросил, о чем она молится. «Подружка взяла у меня помаду с блестками, и я молюсь, чтобы она не забыла вернуть».
Сатвик прятал улыбку. Мы сидели у него в кабинете, обедали за его столом – на единственной в комнате поверхности, не скрытой файликами, книгами и деталями от электроники. В окна лился свет.
Он продолжал:
– Я ей: «Ну, если она похожа на меня, то могла и забыть». Но дочка говорит: «Нет, прошло уже больше недели».
Сатвика это очень веселило – и помада, и детские молитвы. Он зачерпнул еще риса с красным перцем. Этот незатейливый и жгучий пожар сходил у него за ланч.
– Надоело мне питаться в твоем бедламе, – сказал я. – Надо попробовать другое место.
– Какое другое?
– Как у нормальных людей. Сходить в ресторан.
– В ресторан? Обидеть хочешь? Я простой человек, коплю дочке на колледж. – Сатвик воздел руки, изображая отчаяние. – Думаешь, я родился с золотой ложкой во рту?
После этого он порадовал меня трагической историей своих племянников, выращенных в Нью-Йорке на американской еде.
– Оба за шесть футов ростом, – качал он головой. – Это уж слишком. Сестра только и делает, что покупает им новые ботинки. Дома у меня никто из семьи таким не вырастал. Никто! А здесь: та же семья – и шесть футов.
– А виновата американская еда?
– Кто ест корову, тот и выглядит как корова. – Он дожевал рис и поморщился, сквозь зубы втянув воздух. Потом закрыл контейнер пластмассовой крышкой.
– Слишком острый перец? – удивился я. Иной раз он ел такое, от чего у меня бы нутро расплавилось.
– Нет, – объяснил он, – но, когда я ем табачной стороной рта, сильно щиплет.
Мы закончили прибирать после завтрака, и тогда я сказал ему, что не останусь на работе после испытательного срока.
– Откуда ты знаешь?
– Просто знаю.
Он стал серьезным:
– Уверен, что сгоришь?
Прямодушный Сатвик. «Сгорю». Я этого слова не произнес, но оно было точным в единственно важном смысле. Скоро стану безработным. Безработным. Карьере конец. Я попробовал представить эту минуту, и внутри все сжалось в кулак. Стыд и ужас. Миг, когда все рушится.
– Да, – сказал я, – выгонят.
– Ну, если ты уверен, то и беспокоиться не о чем. – Дотянувшись через стол, он хлопнул меня по плечу. – Бывает, что корабли просто тонут, друг мой.
Я минуту обдумывал его слова.
– Ты хочешь сказать, что иногда выигрываешь, а иногда проигрываешь?
– Да, – поразмыслив, ответил Сатвик, – только о выигрышах я не упоминал.
* * *
Ящик из «Доцент» попался мне на пятую неделю работы в лаборатории. Началось с автоматического сообщения на имейл от транспортного отдела: прибыли контейнеры, которые могли бы меня заинтересовать. С пометкой «Физика» на платформе.
Я нашел их в дальнем отсеке. Они сбились вместе, словно в поисках тепла. Четыре деревянных ящика разной величины. Я раздобыл ломик и вскрыл их один за другим. В трех были весы, измерительные приборы и химическая посуда. Четвертый отличался от других, был больше и тяжелее.
– Что у нас здесь? – спросил я себя. Сдул с крышки пыль и приподнял доску.
Ломик, выпав из руки, зазвенел о пол. Я долго смотрел в четвертый ящик.
Прошла минута, пока я уговорил себя, что в нем именно то, о чем я подумал.
Я очень поспешно закрыл крышку, забил ее гвоздями и пошел к компьютеру транспортного отдела. Цепочка пересылок начиналась с нью-йоркской компании «Инграл». «Инграл» была выкуплена «Доцентом», а «Доцент» достался Хансену. Все это время ящик был на хранении, медленно перемещаясь по звеньям корпоративной пищевой цепочки. Кому он принадлежал до «Инграла», оставалось только гадать. Может, его не вскрывали десять лет. А может, и дольше. Его происхождение затерялось в прошлом.
Я кликнул «Груз получен» рядом с номером посылки и вбил свое имя в нужную графу. Палец завис над клавиатурой. Я нажал «Возврат».
Теперь ящик был мой.
Я разыскал ручную тележку и сумел выкатить его наружу, а потом через стоянку до главного здания, где грузовой лифт поднял меня на второй этаж. Ящик занял бо́льшую часть кабинета. В тот же день я пересмотрел свободные помещения в лабораторном флигеле и, отвергнув несколько на первом этаже северного, остановился на комнатке в дальнем конце второго, номер 271. Помещение было среднего размера, без окон, с голыми стенами – только на потемневшем кафеле пола остались темное пятно, след давнего эксперимента, в котором что-то пошло не так. Подписав бумаги, я получил новую карточку-ключ.
На следующий день Сатвик зашел ко мне, когда я чертил на доске.
– Это что?
– Это, – жестом указал я, – мой проект.
Один взмах руки стер с доски незаконченную старую формулу. Новый чертеж я, как мог, старался упростить, и все же он занял почти всю доску.
Сатвик прищурился, разбирая мои каракули.
– У тебя появился проект?
– Да.
– Поздравляю! – просиял он и встряхнул мне руку. – Как случилось такое чудо?
– Подожди с поздравлениями, – попросил я, – не будем забегать вперед.
– Что это? – Он опять смотрел на доску.
– Слышал что-нибудь про двойную щель Фейнмана?
– Физика – не моя область, но я слышал про двойную щель Юнга.
– Это одно и то же, только вместо света поток электронов. – Я запустил руку в ящик, так и не снятый с тележки. – И еще датчик. Я нашел его в этом ящике вместе с термионной пушкой.
– Пушкой? – Сатвик заглянул в ящик.
– С термионной пушкой. Это электронный эмиттер. Нужен для повторного опыта.
– Ты этой пушкой собираешься пользоваться?
Я кивнул.
– Фейнман утверждал, что в квантовой механике любое явление можно объяснить законом сохранения. Помнишь эксперимент с двумя дырками? Тут то же самое. – Я похлопал по ящику. – Здесь то же самое.
– Почему ты этим занялся?
– Хочу увидеть то, что видел Фейнман.
На Восточном побережье осень приходит быстро. Здесь она – зверь иного вида: деревья окрашиваются всеми цветами радуги, а у ветра острые зубы. Мальчиком, до переезда из спецшколы, я осенними вечерами переселялся в лес за дедовым домом. Лежал навзничь в высокой траве и следил за листьями, влетающими в поле зрения.
Когда лезешь на дерево, в какой-то момент понимаешь, что дальше лезть не стоит. Чем выше забираешься, тем тоньше ветки. С шансами в жизни так же.
Этот аромат так ярко возвратил прошлое – запах осенней листвы. Я вышел к парковке. Джой стояла у выезда на дорогу, ждала такси.
Деревья заплясали под порывом ветра. Она подняла воротник, защищаясь от холода и не замечая осенней красоты вокруг. На миг я пожалел ее за это. Жить в Новой Англии и не видеть листвы!
Я забрался в свою – прокатную – машину. Такси у ворот не появлялось. И на объездной их не было видно. Я задним ходом выехал на дорожку. Собирался трогаться, но в последнюю секунду передумал и, повернув руль, подкатил к Джой.
Опустил боковое стекло:
– Проблема с такси?
– Не знаю, – ответила она. – Похоже на то.
– Подкинуть до дома?
– Не хочу тебя затруднять. – Она помолчала и добавила: – Если тебе не трудно?..
– Вовсе не трудно.
Я повернул ручку, дверца распахнулась. Она села рядом.
– Спасибо. Извини, что придется сделать крюк.
– Нормально. Не так уж много у меня дел.
– От ворот налево, – сказала она.
По правде говоря, мне было приятно кому-то помочь. Я давно не чувствовал себя таким нормальным. Жизнь стала ужасно неуправляемой, но такое я еще мог – подвезти человека, которому это нужно. Она подсказывала дорогу по остановкам. Названий улиц не знала, но считала перекрестки и так, как слепой ведет слепого, вывела на шоссе. Мили убегали назад.
Бостон – город, который не забыл себя. Город вне времени. Крошащийся кирпич и стильный бетон. Улицы, получившие свои имена до вторжения красных мундиров. Легко заблудиться, вообразить, что затерялся в хаосе извилистых переулков. За собственно городом повсюду камень и деревья – пушистые сосны и разноцветная листва. Я держал в голове карту: выдающийся в Атлантику мыс Код. Его изгиб так удачно прикрывает Бостон, будто его нарочно устроили. Если не люди, то Бог. Бог хотел, чтобы на этом месте стоял город.
Знаю, дома безумно дорогие. Земледелие не для Бостона. Поскреби землю – тут же выскочит камень и даст тебе в лоб. Участки окружают каменными стенами – надо же куда-то девать камни.
Я остановился на маленькой площадке перед ее домом. Проводил до двери квартиры, как после свидания. Встав рядом, я заметил, что Джой всего несколькими дюймами ниже меня, высокая и стройная. До самых дверей ее пустые голубые глаза смотрели куда-то вдаль, а потом она взглянула на меня – взглянула, и я бы поклялся, что увидела.
Потом ее взгляд скользнул мне за плечо, опять сосредоточившись на чем-то, видимом только ей.
– Я пока снимаю, – сказала она. – Когда закончится испытательный срок, куплю, пожалуй, квартирку поближе к работе.
– Я не знал, что ты тоже на испытательном.
– На самом деле я поступила неделей позже тебя.
– Ах, я еще и старший. Приятно слышать.
Она улыбнулась.
– Я надеюсь остаться и после испытательного.
– Значит, останешься, уверен.
– Может быть, – кивнула Джой. – Моя тема хотя бы дешево обходится. Еще прежде чем попала сюда, я накупила акустических программ, так что теперь Хансен оплачивает только меня и мои уши. Я – мелкое капиталовложение. Можно пригласить тебя на кофе?
– Сейчас мне надо ехать, но в другой раз…
– Понимаю. – Она протянула руку. – Значит, в другой раз. Спасибо, что подвез.
Я уже повернулся уходить, когда она сказала:
– Знаешь, я подслушала разговор о тебе.
Я обернулся.
– Чей?
– Людей из администрации. Знаешь, странно быть слепым. Кое-кому кажется, что ты и глухой тоже. Или слепота делает тебя невидимкой. Ты вот меня видишь?
Вопрос застал меня врасплох. Что-то такое было в ее лице. Натянутая улыбка…
– Нет, – сказал я. И подумал, знает ли она, что красива. Должна бы знать.
– Большинство людей – искусные говоруны, – заметила она. – А я училась обратному. Джереми назвал тебя гением.
– Так и сказал?
– У меня вопрос – пока ты не ушел.
– Давай.
Она нашла ладонью мою щеку.
– Почему у гениев всегда все наперекосяк?
Ладонь у нее была прохладной. Меня давно никто не трогал.
– Ты бы поосторожней, – посоветовала Джой. – Я иной раз утром чувствую от тебя запах спиртного. Если я учуяла, могут и другие.
– Все у меня будет нормально, – сказал я.
– Нет. – Она покачала головой. – Я в это почему-то не верю.
Сатвик стоял перед рисунком, который я начертил на доске.
Разбираясь в пояснениях, он молчал. Раз потянул себя за мочку уха. Я не хотел его торопить. Меня интересовало его исходное мнение.
– Ну и что это? – спросил он наконец. Было уже поздно, почти все разошлись по домам.
– Корпускулярно-волновой дуализм света.
Я почти весь день чертил и сверялся с мысленным списком. Отчасти просто чтобы преодолеть инерцию, собраться для работы. А отчасти, пожалуй, я искал новую дорогу к вере. Можно ли верить во что-то наполовину? Нет, не совсем так. Это ведь квантовая механика. Лучше спросить: можно ли одновременно верить и не верить во что-то?
Сатвик придвинулся ближе к доске.
– Корпускулярно-волновой дуализм, – повторил он себе под нос. И, повернувшись ко мне, указал на чертеж: – А эти линии что означают?
– Это волновая составляющая, – объяснил я. – Направь поток фотонов через две близко расположенные щели, и на фосфоресцирующем экране возникнет картина взаимодействия волн. Частоты обнуляют друг друга в определенном порядке, и возникает вот такая характерная картина. – Я указал на рисунок. – Видишь?
– Вроде бы вижу. Фотоны ведут себя как волны.
– Да, а когда волна проходит сквозь две щели, она разбивается надвое, и они, накладываясь друг на друга, создают картину интерференции.
– Понятно.
– Но можно добиться совершенно иного результата. Совсем другой картины. Если ты поместишь у щелей датчики, – я начал рисовать под первой картинкой новую, – они все изменят. В присутствии датчиков происходит что-то вроде перехода от вероятного к абсолютному – и результат таков, как будто где-то между излучателем и экраном свет перестал вести себя как волна и начал – как поток частиц.
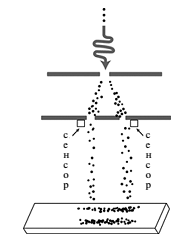
Итак, – продолжал я, – вместо интерференционной картины получаешь два отдельных пятна на экране – потому что частицы, проходя через щели, не влияют друг на друга.
– И это при использовании того же излучателя?
– Да, той же фотонной пушки. И щели те же, но результат другой.
– Теперь вспоминаю, – протянул Сатвик. – Кажется, в школьном учебнике об этом была глава.
– Я преподавал эту тему старшим школьникам. И видел их лица – тех, кто понял, что это значит. Я видел на их лицах мучительное усилие поверить в то, чего не может быть.
– Все же этот эксперимент уже широко известен. Ты хочешь его воспроизвести?
– Угу.
– Зачем? Его много раз повторяли, ни один журнал не примет статью.
– Знаю. Я читал исследования этого явления, я подробно анализировал его на лекциях, я разобрался в математике. Черт побери, бо́льшая часть моих ранних работ для QSR основана на следствиях этого эксперимента. На нем держится вся квантовая механика, но своими глазами я его ни разу не видел. Вот зачем.
– Наука есть наука, – пожал плечами Сатвик. – Результат получен, и тебе незачем его видеть.
– А я думаю, мне это необходимо, – возразил я. – Хоть раз.
* * *
Следующая неделя прошла как в тумане. Сатвик помогал в работе мне, а я – ему. По утрам трудились в лабораториях. Вечера проводили в северном флигеле, устанавливали в комнате 271 оборудование для эксперимента. С фосфоресцирующим экраном пришлось повозиться – а потом и с термионной пушкой. В каком-то смысле мы с Сатвиком почувствовали себя почти партнерами. И чувство это было приятным. Я так долго работал в одиночку, что поговорить с кем-то оказалось в удовольствие.
Мы коротали время за рассказами. Сатвик делился своими проблемами. Это были такие проблемы, какие иногда возникают у хороших людей, живущих хорошей жизнью. Он рассказывал, как помогает дочке с домашними заданиями, и беспокоился о деньгах ей на колледж. Он рассказывал, как жил раньше дома; он произносил это так быстро – «раньшедома», что получалось настоящее существительное. Он рассказывал о полях, и букашках, и муссонах, и погибших посевах.
– Для сахарного тростника будет неудачный год, – втолковывал он мне так, словно мы были не учеными, а крестьянами.
И я легко представлял его стоящим на краю поля. Как будто он только по случайности оказался здесь, в этой жизни. Он говорил, что мать стареет. Рассказывал о братьях, сестрах, племянниках, и я начинал понимать, какую тяжелую ответственность он на себя взвалил.
– Ты никогда не говоришь о себе, – заметил он однажды.
– Нечего особо рассказывать.
– Семьи нет. Ты один живешь?
– Угу.
– Значит, только это. – Он обвел рукой лабораторию. – Только работа. Люди забывают, что когда-нибудь умрут. Жизнь – это не только карьера и оплата счетов.
Он склонился над вентильной матрицей с паяльником в руках и переменил тему:
– Я слишком много болтаю – тебя, верно, уже тошнит от моего голоса.
– Ничего подобного.
– Ты мне очень помогаешь с работой. Чем я могу отплатить тебе, друг?
– Можно деньгами, – отшутился я. – Предпочитаю крупные чеки.
– Вот видишь. Все о счетах.
Он тихонько поцокал языком и еще ниже склонился над работой.
Мне хотелось рассказать ему про свою жизнь.
Мне хотелось рассказать ему о работе на QSR, о том, как узнаёшь вещи, которые хотелось бы сразу забыть. Мне хотелось сказать ему, что у памяти есть масса, а у безумия цвет; что у любого оружия есть имя, и это одно и то же имя. Мне хотелось сказать ему, что я понимаю, как у него с табаком; что я однажды был женат, но не сложилось; что я часто разговариваю тихонько с отцовской могилой; что мне очень давно не бывало по-настоящему хорошо.
Но ничего этого я ему не сказал. А заговорил об эксперименте. О том, что умел.
– Это началось полвека назад с мысленного эксперимента, – сказал я ему. – Речь шла о попытке доказать неполноту квантовой механики. Физики чуяли, что не всё сводится к квантовой механике, потому что теоретики слишком вольно обходились с реальностью. Все дело было в этом невозможном противоречии: фотоэлектрические эффекты доказывали корпускулярную природу света – поток отдельных частиц; опыты Юнга говорили, что свет – это волны. Но прав мог быть только кто-то один. Конечно, со временем, когда техника догнала теорию, оказалось, что экспериментальные результаты укладываются в формулы. Математика говорит, что можно узнать позицию электрона или его энергию, но не то и другое сразу.
– Понятно.
– Ты про туннельный эффект слышал? – спросил я.
– В электронике его иногда называют туннельной утечкой.
– Принцип тот же самый.
– И какая связь?
– Оказалось, что формулы – вовсе не метафоры. Математика убийственно серьезна. Она не шутит.
Сатвик, продолжая паять, насупился.
– В познании мира надо добиваться точности.
Несколькими минутами позже, тщательно настраивая свою матрицу, он ответил на мой рассказ своим.
– Один мудрый учитель привел в лес четверых царевичей, – начал он. – Они стреляли птиц.
– Птиц… – повторил я, дивясь, куда свернул разговор.
– Да, и на высоком дереве увидели прекрасную птицу в ярком оперении. Первый царевич сказал: «Я подстрелю эту птицу», – и спустил тетиву. Но меткость ему изменила, и стрела прошла мимо. Тогда выстрелил второй царевич и тоже промахнулся. Потом третий. Наконец четвертый царевич пустил стрелу в вершину дерева, и прекрасная птица упала мертвой. Гуру взглянул на первых трех юношей и спросил: «Куда вы целились?»
«В птицу».
«В птицу».
«В птицу».
Гуру взглянул на четвертого:
«А ты куда целил?»
«В птичий глаз».
Оборудование мы установили, осталось только отъюстировать. Надо было навести электронную пушку так, чтобы электроны с равной вероятностью попадали в каждую щель. Установка заняла почти все помещение – электроника, экраны, провода. Чистой воды лаборатория сумасшедшего ученого.
Утром в номере мотеля я поговорил с зеркалом и дал слово глазам цвета ружейного металла. И каким-то чудом не выпил.
У меня в портфеле лежали таблетки – незаконченный курс, чтобы снять тремор. Только мне не нравилось, что после них творилось с головой. Две таблетки я забросил в рот.
День за два, два за три, три за пять. Вот я и неделю не пью. Мучительная жажда никуда не делась, засела под кожей. Руки, обнимавшие по утрам холодный фаянс, все равно дрожали. Но я не пил.
«У меня работа, – твердил я себе. – У меня работа».
Этого хватало.
Работа в лаборатории продолжалась. Установив последнее оборудование, я отступил назад и окинул все взглядом. Сердце колотилось в груди – я стоял на пороге некой великой универсальной истины. Мне предстояло своими глазами увидеть то, что видели лишь несколько человек за всю мировую историю.
Когда в 1977 году в дальний космос запускали первый зонд, в него заложили особую золотую пластинку с диаграммами и математическими формулами. На ней была схема развития эмбриона, калиброванный круг и одна страница из ньютоновой «Системы мира», а также единицы нашей математической системы, потому что, как нас уверяют, математика – универсальный язык. А мне всегда казалось, что на той золотой пластинке надо было изобразить схему вот этого эксперимента – двойной щели Фейнмана.
Потому что этот эксперимент фундаментальнее математики. В нем жизнь, скрытая в математике. Он рассказывает о самой реальности.
Ричард Фейнман говорил об этом опыте: «В нем сердце квантовой механики, и в этом сердце – тайна».
В комнате 271 уместились два стула, маркерная доска и два длинных рабочих стола. Установка растянулась на всю длину комнаты, заняв и столы. В стальной перегородке были прорезаны две щели. С дальней ее стороны, в прямоугольной камере со второй парой щелей, стоял фосфоресцентный экран. Когда в него попадут фотоны, он будет светиться.
Джереми заглянул ко мне в самом начале шестого, перед тем как уйти домой.
– Значит, правда, – сказал он с улыбкой и зашел в комнату. – Мне говорили, что ты подавал заявку на рабочее помещение.
– Угу.
– И что это у тебя? – спросил он, озираясь.
– Просто старая установка от «Доцент». Фейнмановская двойная щель. Ее никто не использовал, вот я и решил проверить, будет ли работать.
Его улыбка погасла.
– Что конкретно ты задумал?
– Воспроизведение опыта.
Он не смог скрыть разочарование.
– Приятно видеть, что ты не бездельничаешь, но вроде бы эта тема немножко устарела?
– Хорошая наука не может устареть.
– Да, я разделяю твои чувства, но не стану тебя обманывать – вряд ли такие опыты впечатлят аттестационную комиссию.
– Я не для них стараюсь.
– А зачем же?
Ну как мне было ему объяснить? Я сам-то не очень понимал, зачем мне нужна эта минута, когда я открою камеру и увижу, что в ней – эксперимент, в тени которого давно уже живет наука. Выпадет ли мне увидеть это: разлом между квантовым и реальным миром, непреодолимый для физики?
Не дождавшись ответа, Джереми нашел табуретку и, усевшись, указал мне на стул:
– Прошу. Я хотел с тобой поговорить.
Он был серьезен и строг.
Я сел.
– Эрик, обычно я так не поступаю, но тебе должен сказать, что меня о тебе спрашивали.
Значит, его визит не так уж случаен.
– Мог бы и не говорить.
– Оказывается, есть проекты, уже работающие, в которых бы пригодился такой дельный сотрудник, как ты.
– В каком смысле?
– Мы здесь чаще всего принимаем людей с собственными темами, но бывает, что проект неожиданно разрастается и люди начинают собирать команду. В южном флигеле есть группа, которой нужны люди.
– Чья?
– Доктора Ли. С ним уже работают двое.
– А я стану третьим колесом, так ты себе представляешь?
– Ну, строго говоря, четвертым, считая его самого. Ли считает, что у него ты мог бы включиться с ходу. Ему нужна дополнительная пара перчаток. Именно так и сказал.
– Он со мной не знаком. Почему обо мне зашла речь?
– Я ему наврал, что с тобой легко работается.
– То есть попросил его об услуге. А что я обаятельный, не говорил?
– Есть предел и моей лживости.
Я помолчал, воображая их разговор.
– Тебе это ни к чему.
– Каждому иногда нужна помощь. Мир вращается на взаимных услугах.
Заметно было, что он верит своим словам. Или хочет верить.
– Я и так у тебя в долгу, – сказал я.
– Будет непросто, но если бы ты работал у доктора Ли…
Он сбился, и я понял, чего он не решается сказать:
– То аттестационная комиссия, может быть, посмотрела бы сквозь пальцы на мою бесполезность?
– Возможно. Говорю же, это не более чем шанс. Я ничего не обещаю.
– А ты чем рискуешь, вот этак подыгрывая любимчикам? Не ты ли говорил, что над тобой тоже есть начальство?
– Об этом предоставь беспокоиться мне.
– Я не позволю тебе рисковать ради меня положением.
– Какой там риск…
Я всматривался в его лицо, искал в нем ложь. Я не доверял его оценке риска. Ему уже случалось подставляться, и даром это не проходило.
– Ты даже не сказал, над чем этот доктор Ли работает.
– Это важно?
Я захлопал глазами.
– Макрофаги, – сообщил он.
– Шутишь?
– Макрофаги тебя недостойны?
– Это вряд ли, – усмехнулся я. – Я о них ничего не знаю.
– Да что там знать? К тому же ты быстро схватываешь. Ему нужен ассистент, а не доктор философии.
– Это не по моей части. Любой поймет, что я занимаюсь не своим делом.
– А твое дело какое, если конкретно? – огрызнулся Джереми. Он не ожидал сопротивления. Это была злость человека, который, бросив спасательный круг, видит, как утопающий его отталкивает. – Ты забросил все, чем занимался в QSR.
– У меня на то были причины.
– Какие? Ты так и не объяснил.
Такие, что одна незаконченная формула способна тебя сломать.
Я покачал головой.
– Теперь уже неважно.
– Очень важно, если только где-то втайне от меня не открылся спрос на отставных квантовых физиков. Если ты забросишь все прежние темы, с чем останешься?
– Возможно, ни с чем.
– Тогда принимай предложение!
А мне и хотелось принять.
Мне хотелось сказать «да». «Да» вертелось на кончике языка. Я уже представлял, как выговариваю слова, произношу то, что он хочет услышать. Представлял, как читаю все, что было написано о макрофагах. Ныряю с головой в новую тему. «Новое начало», как сказала сестра. Ассистент-лаборант – это большой шаг в сторону, но все же это работа. Занятость. Какая-никакая, но будет от меня польза. Я бы справился, и я хотел этим заняться.
Но сказал я другое:
– У меня есть тема.
– Это? – Джереми кивнул на безумную установку. – Для комиссии этого мало.
Я вспомнил про его начальство. Начальство, которому не понравится, что он завел любимчика. Карьеры рушились и на меньшем. Под ложечкой у меня стянулся узел.
– Ну и пусть.
Он воздел руки. Он уставился на меня и смотрел так долго, что я понял: смотрит не на меня – на себя. Или, может быть, на своего отца – финансового воротилу за великанским столом. На человека, который никогда не уступал ни на дюйм.
Заговорил он в конце концов сдержанно и взвешенно:
– Эрик, мы с тобой давно знакомы. Таких старых друзей у меня больше нет. Я не хочу видеть, как ты приканчиваешь свою карьеру. Ты думал, что станешь делать потом?
Как ему ответить? Как сказать человеку, что не думаешь о будущем? Что твое будущее обрывается через несколько месяцев? Я подумал о пистолете и вспомнил его имя – Панацея, – всплывшее, когда я в одну из пьяных ночей дивился холодной гладкости курка. Может быть, тем и кончится. Как всегда, кончалось с тех плохих времен в Индианаполисе.
– Ты хочешь остаться здесь и работать? – спросил Джереми.
– Да.
– Тогда действуй. Прими услугу.
Я смотрел на него, на старого друга. На втором курсе он вышел в ледяную пургу, чтобы помочь застрявшей машине. Для него это было обычное дело. Джереми тогда возвращался в колледж после рождественских каникул. Пока он помогал старушке сменить колесо, его ударило кузовом грузовика – занесло на гололеде. Он чуть не месяц провалялся в больнице – сломанные кости, разрыв селезенки. Потерял целый семестр и закончил позже остальных. Большинство, заметив ту машину, проехали бы мимо, а он остановился и вылез. Такой уж он был – всегда старался помочь. А я чувствовал лед под колесами.
– Только не так, – сказал я. – Так я не могу.
Он покачал головой.
– Начистоту: если это – твой проект, мне тебя не вытащить.
– Ты и не обязан меня спасть, – сказал я. – Хватит того, что уже сделал. Двойная щель – я должен это увидеть. Лучше объяснить не сумею.
Как я мог объяснить? Сказать, что все эти дни не пил? Но разве он поймет, какое это чудо?
– Думаю, мне суждено это увидеть.
– Суждено? Что за бред?
В голове у меня загорелись глаза матери.
– Ничего не бывает суждено, – продолжал Джереми, но уже безнадежно. Он видел, как утопающий скрывается под волнами.
– Тот, кто верит в квантовую механику, – заявил я, – никогда не скажет: «не бывает».
Он покосился на установку.
– Но что ты хочешь доказать?
– Только одно, – сказал я. – Что невозможное иногда случается.
Мы провели опыт в морозный день. С океана налетал ветер, все Восточное побережье съежилось под холодным фронтом. Я рано пришел на работу и оставил на столе Сатвика записку:
Зайди ко мне в лабораторию в 9:00.
Только это, объяснять ничего не стал.
Сатвик вошел в комнату 271 чуть раньше девяти.
– Доброе утро, – поздоровался он. – Получил твою записку.
Я указал ему на кнопку:
– Окажи мне честь?
Мы замерли в темном полумраке лаборатории. Сатвик разглядывал простиравшуюся перед ним установку – стальные щиты и длинный серебристый ствол термионной пушки. По всей длине стола тянулись провода.
– Не верь инженеру, который не рискует пройти по построенному им мосту, – усмехнулся Сатвик.
Я улыбнулся:
– Ну ладно.
Пора было.
Я нажал кнопку. Машина ожила, загудела.
Мы смотрели.
Я дал ей несколько минут прогреться, потом подошел к камере. Открыл ее сверху и заглянул. И увидел то, чего ожидал. Отчетливый спектральный узор, интерференционная картина на экране – особый порядок темных и светлых полос. Все согласно Юнгу и копенгагенской интерпретации.
Сатвик заглянул мне через плечо. Установка все гудела, узор проявлялся с каждой секундой.
– Фокус хочешь? – спросил я.
Он торжественно кивнул.
– Свет – это волна, – сказал я ему.
Потом потянулся к датчикам, включил – и больше ничего, картина интерференции пропала.
– …Только пока никто не смотрит.
* * *
Копенгагенская интерпретация предполагает это фундаментальное противоречие: наблюдатель – главное необходимое условие любого явления. Ничто не существует, пока его существование не засвидетельствовано. До тех пор есть только вероятностные волны. Статистическое приближение.
Для целей эксперимента поведение электронов вероятностно – их точный путь не только неизвестен, но и принципиально непознаваем и проявляется как диффузная вероятностная волна, проходящая сразу в обе щели. За щелями волны, продолжая расходиться, взаимодействуют друг с другом: так рябь от двух плывущих через пруд змей перекрывается и скрещивается, образуя на экране интерференционную картину.
А что, если бы у щели находился наблюдатель? Если бы можно было точно установить путь электрона? В таком случае его движение уже не подвержено вероятностным законам. Вероятность сменяется уверенностью. Становится измеренным фактом. Если доказано, что частица прошла только в одну из щелей, то, как говорит здравый смысл, она не может интерферировать с собственным двойником. Однако, если вы будете стрелять светом сквозь две щели, картина интерференции возникнет. Даже если стрелять медленно, фотон за фотоном. Два разных исхода при одинаковых условиях эксперимента. Это выглядело бы внутренне противоречивым, если бы не один факт. Тот, что интерференционная картина пропадает в присутствии наблюдателя.
Мы повторяли и повторяли опыт. Сатвик проверял показания датчика, тщательно отмечал, в какую щель прошел электрон. То в левую, то в правую. При включенных датчиках примерно половина электронов фиксировалась у каждой щели, а картина интерференции не возникала. Мы снова выключали датчики – и на экране тут же возникали полосы.
– Откуда система может знать? – спросил Сатвик.
– Что знать?
– Что датчик включен. Откуда ей знать, что положение электронов записывается?
– А, это серьезный вопрос.
– Может, от датчика исходит какое-то электромагнитное влияние?
Я покачал головой.
– Ты еще самого удивительного не видел.
– Чего же это?
– Электроны реагируют вовсе не на датчик. Они реагируют на то, что ты рано или поздно считываешь его показания.
Сатвик вытаращил глаза.
– Включи датчик, – попросил я.
Сатвик нажал кнопку. Машина тихонько загудела. Мы подождали.
– Все как раньше, – говорил я. – Датчики включены, поэтому электроны должны вести себя как частицы, а не как волны – а без волн нет картины интерференции, так?
Он кивнул.
– Ну а теперь выключи.
Машина замолчала.
– А теперь волшебный фокус, – сказал я. – Именно ради него я все и затеял.
Я нажал кнопку «Очистить», стерев показания датчиков.
– Эксперимент повторялся в точности, – напомнил я. – Оба раза включались те же датчики. Разница только в том, что я стер показания, не взглянув на них. А теперь посмотри на экран.
Сатвик открыл камеру и вытащил пластинку.
Я уже видел. По его лицу. Мучительное усилие поверить в то, чего не может быть.
– Картина интерференции, – сказал он. – Как же так?
– Это называется обратной причинной обусловленностью. Стерев результаты после окончания опыта, я вызвал рисунок, которого прежде не существовало.
Савик молчал добрых пять секунд.
– Разве такое возможно?
– Нет, конечно, но так оно и есть. Если показания датчиков не удостоверяются сознательным наблюдателем, сам датчик остается частью недетерминированной системы большего масштаба.
– Не понимаю!
– Не датчик вызывает исчезновение волновой функции, а сознательный наблюдатель. Сознание – как гигантский мощный прожектор – обрушивает освещенные им участки в реальность, а то, чего он не осветил, остается вероятностным. Речь не только о фотонах и электронах. Речь обо всем. О материи вообще. И это – слабое место реальности. Проверяемое, воспроизводимое слабое место реальности.
– Так вот что ты хотел увидеть? – спросил Сатвик.
– Угу.
– И теперь, когда увидел, для тебя что-то изменилось?
Прежде чем ответить, я пошарил у себя в голове.
Да, изменилось. Стало намного хуже.
* * *
Мы снова и снова повторяли опыт. С тем же результатом. Результат в точности соответствовал описанному и документированному несколько десятилетий назад. Через пару дней Сатвик подключил датчики к принтеру. Мы проводили опыт, и я нажимал «Печать». Мы слушали, как гудит и щелкает принтер, распечатывая результаты – переводя наблюдения датчиков в физическую реальность, которую можно пощупать руками.
Сатвик маялся над листами распечаток, словно надеялся усилием воли привести их в согласие с рассудком. Я стоял за его плечом, нашептывал в ухо.
– Это вроде неоткрытых законов природы, – говорил я. – Квантовая физика как вариант статистической аппроксимации для решения проблемы сохранения реальности. Материя ведет себя как частотная область. Зачем нужна дискретность в той области сигнала, на которую никто не смотрит?
Сатвик отложил распечатку и протер глаза.
– Существуют математические школы, утверждающие, что под самой поверхностью наших жизней заложен глубокий гармонический порядок. Дэвид Бом называл это «импликатом».
– У нас для этого тоже есть слово, – заговорил Сатвик. Он уже улыбался. – «Брахман». Мы знаем об этом пять тысячелетий.
– Хочу кое-что проверить, – сказал я.
Мы еще раз прогнали опыт. Я распечатывал результаты, но постарался на них не смотреть. Показания датчиков, снимок с экрана. Мы отключили установку.
Я сложил оба листка пополам и сунул в конверты. Отдал Сатвику конверт со снимком экрана. Себе оставил показания датчиков.
– Показаний датчиков я еще не видел, – сказал я ему. – Так что в данный момент волновая функция в состоянии суперпозиции. Результаты распечатаны, но пока не наблюдались, так что они входят в недетерминированную систему. Понимаешь?
– Да.
– Выйди в соседнюю комнату. Я открою конверт с показаниями датчиков ровно через двадцать секунд. И прошу тебя ровно через тридцать секунд открыть снимок с экрана.
Сатвик вышел. Вот она – дыра, в которую утекает логика. Я боролся с иррациональным страхом. Я зажег стоявшую рядом горелку и поднес свой конверт к огню. Запах горящей бумаги и яркое желтое пламя. Черный пепел. Через минуту вернулся Сатвик со вскрытым конвертом.
– Ты не смотрел, – сказал он и поднял перед собой лист. – Я, как только вскрыл, понял, что ты не смотрел.
– Да, я солгал, – кивнул я, – а ты меня поймал. Я уничтожил показания датчиков, не глядя. Мы сделали первый в мире квантовый детектор лжи – божественное орудие, созданное из света.
Я взял у Сатвика лист. Темные полосы интерференции на белой бумаге. Волновая функция не коллапсировала. Я никогда не узнаю, в какую щель проходили электроны, потому что записи обратились в золу. А значит, частицы проходили в обе щели, как вероятностные волны.
– Когда распечатывались результаты, я уже решил, что не буду смотреть. Значит, я уже сделал выбор. А мог ли передумать и посмотреть? Иные математики говорили, что либо свободной воли не существует, либо мир – это иллюзия. Как ты думаешь, что из двух?
– Других вариантов нет?
Я смял лист в комок. Что-то во мне сдвинулось – едва заметно переменилось, – и, когда я открыл рот, чтобы заговорить, сказал не то, что собирался:
– У меня был срыв.
Я рассказал Сатвику про арест в Индианаполисе, про пьяные вопли на улице. Соседи сестры смотрели из-за штор. Я рассказал ему о формуле, над которой работал, пытаясь объединить квантовую механику с общей физикой, наподобие ненайденной теории всего. Я рассказал ему про пьянство, и про глаза в зеркале, и про то, что говорю себе по утрам. Я рассказал, как в восемнадцать лет ко мне зашел дядя. «Я был его братом, – сказал он, – но ты – его сын». И он вручил мне вещественные доказательства в коробке, еще запечатанной полицейской лентой. Дядя хранил ее много лет, как самый могущественный талисман. «Она твоя, если хочешь».
Я рассказал ему о гладкой стальной кнопке «Стереть» у моего лба: одно движение указательного пальца – и за все заплачено.
Сатвик кивал, слушая, но улыбка слетела с его губ. Я говорил долго, выливал все разом, расплачивался за недели молчания, а когда закончил, Сатвик положил руку мне на плечо.
– Значит, ты все же сумасшедший, друг.
– Уже тринадцатый день, – сказал я. – Тринадцатый день я трезв.
– Это хорошо?
– Нет, но за два года я ни разу столько не продержался.
* * *
Мы повторяли опыт. Мы распечатывали результаты.
Когда мы проглядывали распечатки, на экране оказывался корпускулярный рисунок. Если не смотрели – полосы интерференции.
После того долгого разговора мы почти всю ночь проработали молча. Под утро, сидя в полутемной лаборатории, Сатвик наконец сказал:
– Жила в колодце лягушка.
Я слушал сказку и следил за его лицом.
– Однажды крестьянин зачерпнул из колодца воды и вытащил в ведре лягушку. Лягушка заморгала на ярком солнце, которого до того не видела.
«Кто ты?» – спросила лягушка у крестьянина.
Тот не поверил своим ушам.
«Я – хозяин этого поля», – сказал он.
«Ты называешь свой мир полем?» – спросила лягушка.
«Да разве это другой мир? – удивился крестьянин. – Мир везде один и тот же».
Лягушка посмеялась над крестьянином:
«Я исплавала свой мир с севера на юг и с запада на восток. Говорю тебе, это другой мир».
Я молча смотрел на Сатвика.
– Мы с тобой, – снова заговорил он, – пока еще лягушки в колодце. Можно тебя спросить?
– Давай.
– Ты не хочешь выпить?
– Нет.
– Любопытно, как ты говоришь насчет пистолета: что убьешь себя, если выпьешь.
– Угу.
– И в те дни, когда так говоришь, ты не пьешь?
– Верно.
Сатвик помолчал, будто взвешивая каждое слово.
– Тогда почему бы не говорить это каждый день?
– Просто потому, – сказал я, – что тогда я был бы уже мертв.
В четыре года я во дворе наступил на муравейник огненных муравьев и заработал добрую дюжину укусов. Муравьи забрались в штанины и застряли у резинки на поясе. Они снова и снова вцеплялись в тело вокруг пояса и в кожу на икрах и на бедрах. Помню, как вскрикнула мать, как она срывала с меня одежду прямо на траве, а я вопил – и как она вытряхивала штаны и сбивала рыжих тварей, вцепившихся в тело.
В доме она раскрошила сигарету и, присыпав укусы табаком, залепила пластырем.
– Чтобы вытянуть яд, – объяснила она, а я удивлялся ее умению. Моя мать всегда знала, что делать.
Я, устроившись на диване, смотрел старенький телевизор. Пришла тетя, чтобы посидеть со мной, – мать пригласили на ужин, и отец должен был встретиться с ней после работы.
– Иди, – сказала ей тетя, – ничего с ним не случится.
И вот мать ушла, а я стоял у окна и смотрел, как отъезжает ее машина. Скрылась.
Но через несколько минут в замке звякнул ключ. Мать вернулась и, как ни гнала ее тетя, отказалась уходить.
– Ты должна, – говорила тетя, – это же корпоративная вечеринка.
Но мать только отмахнулась и подсела ко мне на диван.
– Будут и другие, – сказала она. Хотя больше их не было. – Я не могу его оставить.
Она обняла меня, и мы еще час смотрели программу про природу, пока у меня сводило живот, боль росла, ноги вздувались и багровели, и мы плакали.
* * *
Мы с Сатвиком распрощались на ночь, и я очнулся в машине, застряв перед зеленым светофором. Я стоял на левой полосе, глядя, как сигнал сменяется желтым, потом красным. Я развернул машину. Я возвратился в лабораторию, поднялся наверх и осмотрел установку. Бывают раны, от которых нельзя уйти. Этому научила меня мать.
Я последний раз прогнал опыт. Нажал «Печать». Вложил результаты в два конверта, не глядя.
На первом я написал: «Показания датчиков». На втором: «Снимок экрана».
Я доехал до мотеля. Я разделся догола. Встал перед зеркалом, воображая свое место в недетерминированной системе. Если верить Дэвиду Бому, квантовая механика требует, чтобы реальность была нелокальным феноменом. В глубине квантовой среды локация уже не проявляется, все позиции эквивалентны – сливаются в единую, согласованную частотную область. Импликаты Бома постулируют, что в основе всего – жизнь.
Я приложил ко лбу конверт с надписью «Показания датчиков».
– Никогда не загляну в него, – сказал я себе. – Никогда, если снова не начну пить.
Я уставился в зеркало. Я уставился в свои, цвета ружейного металла, глаза и увидел, что не шучу.
Я опустил взгляд на второй конверт на столике. Тот, что со снимком экрана. Руки у меня тряслись.
Я положил первый конверт на стол.
Я знал, что в кладовке вделан в стену маленький сейф. Пошел туда и отпер его. Ввел шифр – день рождения матери: 2-27-61 – и положил конверты внутрь.
Китс пишет: «Красота есть правда, правда – красота». Что есть правда?
Конверты знали ответ.
Однажды я либо напьюсь и вскрою показания счетчиков, либо нет.
Во втором конверте либо интерференционная картина, либо нет. Да или нет.
Ответ уже распечатан.
* * *
Я дождался прихода Сатвика в его кабинете. Он положил портфель на стол, удивился, заметив меня в офисном кресле. Посмотрел на меня, на часы и снова на меня.
– Что ты здесь делаешь?
– Тебя жду.
– Давно?
– С половины пятого.
Он осмотрел кабинет, проверяя, не трогал ли я чего. Те же завалы электронных проводов и деталей. Для нас, остальных, это был хаос, но Сатвик, пожалуй, помнил здесь каждую мелочь. Я откатил кресло от стола, сплел пальцы на затылке.
Сатвик просто смотрел на меня. Сатвик был умен. Он ждал.
– Ты мог бы приспособить к датчику индикатор? – спросил я.
– Какой индикатор?
– Световой.
– Как это?
– Чтобы прохождение электрона через щель отмечалось не на шкале, а световым сигналом?
Он насупил брови.
– Должно быть несложно. А зачем?
– Я думал, что экспериментом с двойной щелью уже ничего не докажешь, но мог и ошибиться.
– Что еще осталось?
Я наклонился к нему.
– Точное определение недетерминированной системы.
В то же утро при опыте присутствовал Забивала. Стоял в темном полумраке комнаты 271. Гудела машина. Он наблюдал картину интерференции – узкие светящиеся полоски.
– Ты видишь перед собой одну вторую корпускулярно-волновой природы света, – сказал я ему.
– А как выглядит вторая полвина?
Я включил датчики. Интерференционная картина распалась на две отчетливые полоски.
– Так.
– О, – сказал Забивала, – я об этом слышал.
* * *
Мы стояли в лаборатории Забивалы. Лягушки плавали.
– Они ведь сознают, что такое свет? – спросил я.
– Глаза у них есть.
– Да, но сознают ли они его?
– Да, на зрительные стимулы они реагируют. Охотники должны видеть добычу.
Я склонился над стеклянным аквариумом.
– Но мне нужно знать, сознают ли?
* * *
– Чем ты раньше занимался?
– Квантами.
– То есть? – переспросил Забивала.
Я попробовал отговориться:
– Разные проекты. Твердотельные фотонные устройства. Преобразования Фурье, жидкостный ЯМР.
– Преобразования Фурье?
– Система уравнений, позволяющая перевести волновую функцию в визуальную форму.
Взгляд Забивалы напрягся. Он повторил очень медленно, подчеркивая каждое слово:
– Чем занимался ты, конкретно?
– Компьютерами, – признался я. – Мы работали с компьютерами. Квантовые вычисления до шестнадцати кубитов. Мы сотрудничали со стартаповой командой молодежи. Те были прикладники, а я занимался теорией.
– А прикладной частью кто?
– Мой друг Стюарт. Он интересовался задачами динамического моделирования. Как упаковать в поверхности побольше полигонов при передаче объема на плоскости.
– И что получилось?
– Мы на порядок величины увеличили точность моделирования, но наткнулись на ограничение вычислительной мощности системы. Под конец мы с помощью преобразований Фурье переводили волновые кривые в визуальную форму.
– Волны в изображение?
– Угу.
– Зачем?
– Для меня это было вызовом. Убедиться, что такое возможно. У других имелись более существенные причины.
– Например?
– Пробить предел полигонного бюджета системы. Для эффективной передачи объема. Стюарт занимался усовершенствованием железа. Проектированием. Организацией собственной фирмы. На самом деле таким вещам всегда находится применение.
– Получилось?
– С фирмой? Да, она сейчас базируется в Индиане.
– Нет, с компьютером.
– Ах, ты об этом. В некотором роде. Мы достигли шестнадцатикубитного когерентного состояния, а для его расшифровки использовали ядерный резонанс.
– Почему же «в некотором роде»? Значит, не получилось?
– Нет, система работала – определенно, работала, – сказал я. – Даже когда ее отключали.
* * *
Два дня, пока Сатвик налаживал световой сигнал, я возился с ящиком.
Забивала доставил лягушек в субботу. Мы отделили здоровых от больных, здоровых от уродцев.
– Что это с ними? – спросил Сатвик.
– Загрязнение.
Одна лягушка походила на паука – из задней части торчали кривые суставчатые лапки. Когда Сатвик взял ее в руки, лапки задергались. Одна судорожно распрямилась.
– Загрязнение так действует?
– Да – на земноводных. Чем сложнее организм, тем многообразнее воздействие. Земноводные – очень сложные организмы.
– Бедолаги! – Сатвик отбросил лягушку, и она шумно плюхнулась в другой аквариум.
Джой работала рядом, в своей лаборатории. Заслышав наши голоса, она вышла в коридор.
– Трудишься по выходным? – спросил, увидев ее в дверях, Сатвик.
– Обычно по выходным здесь тихо, – ответила она. – Я провожу самые тонкие опыты, когда никого нет. А вы? Вы теперь все вместе работаете?
– Главный у нас Эрик, – возразил Сатвик. – Я просто немножко помогаю.
– А, значит, за пропавшие выходные в ответе Эрик? – Она вошла в лабораторию, ориентируясь на голос Сатвика и нащупывая пальцами стену.
– Похоже на то, – признал я. И вбил последний гвоздь в угловой стык. Конструкция получилась хлипкая, фанерный ящик в два квадратных фута с маленькой лампочкой на проводе – ради нее пришлось разорить ночник в доме Сатвика.
– Я слышала, ты отсюда уходишь? – обратилась ко мне Джой.
Неловкий момент. Забивала оторвался от своих аквариумов.
– Пока не ушел, – ответил я.
– Так чем же вы заняты? – спросила Джой.
В ответ на взгляд Сатвика я кивнул.
И Сатвик объяснил, как умел только Сатвик. Она поморгала пустыми глазами. И осталась.
Забивале мы отвели роль контролера.
– Опыт проведем в реальном времени, – сказал я ему. – Без записи с датчиков, только с лампочкой-индикатором в ящике. Когда я скажу, встанешь здесь и будешь следить за сигналом. Вспышка означает, что датчик обнаружил электрон. Понимаешь?
– Да, понятно, – протянул Забивала.
Сатвик нажал копку, запустив поток электронов. Я наблюдал фосфоресцентную картину на экране: полосы интерференции, уже знакомое чередование тени и света.
– Ну, – обратился я к Забивале, – теперь смотри в ящик. Скажешь, когда увидишь свет.
Забивала заглянул в ящик. Он еще молчал, когда картина интерференции пропала.
– Да, – сказал он, – вижу.
Я улыбнулся. Ощутил тонкую грань между известным и неизвестным. Погладил ее.
Я кивнул Сатвику, и тот нажал кнопку отключения пушки. Я обернулся к Забивале.
– Ты, наблюдая световой сигнал, обрушил вероятностную волну. Принципиальное доказательство получено.
Я обвел взглядом всех троих.
– Теперь проверим, все ли наблюдатели созданы равными.
Забивала посадил в ящик лягушку.
– Ну вот она – черта перехода. Взгляд на импликат.
Я кивнул Сатвику:
– Включай пушку.
Он нажал кнопку, машина загудела. Я посмотрел на экран. Я закрыл глаза, чувствуя, как бьется сердце в груди. Я знал, что в ящике, повинуясь сигналу с одного из двух датчиков, загорается лампочка; я знал, что лягушка видит свет. Но, когда я открыл глаза, на экране светилась все та же картина интерференции. Лягушка ничего не изменила в системе.
– Еще раз, – попросил я.
И еще раз. И еще.
– Ну? – взглянул на меня Забивала.
– По-прежнему интерференция. Вероятность не коллапсировала.
– И что это значит? – спросила Джой.
– Это значит, что мы попробуем с другой лягушкой.
Мы попробовали с шестью. Одну за другой вытаскивали их из аквариума и сажали в ящик. Результат не менялся.
– Они – составная часть недетерминированной системы, – сказал Сатвик.
– Что это значит? – не понял Забивала.
Сатвик не ответил, только задумчиво потянул себя за ухо.
Я не сводил глаз с экрана и чуть не вскрикнул, когда картина интерференции вдруг схлопнулась в две полоски, но, обернувшись, увидел, что Забивала заглядывает в ящик.
– Просто проверял, горит ли лампочка.
– Горит. Я понял, как только ты ее увидел.
Мы перебрали всех наличных лягушек. Мы попробовали с саламандрами. Коллапса волны не возникало.
– Может, это только с земноводными, – сказал Забивала.
– Да, возможно.
– Что из этого, вообще говоря, следует?
– Представления не имею.
– Как получается, что мы влияем на систему, а лягушки с саламандрами – нет?
– Может, устройство глаз? – предположил Забивала. – Квантовая спутанность проявляется в самих молекулах родопсина.
– И что это меняет?
– Клетки оптических нервов всего лишь передают учтенные кванты на зрительную кору. Глаза – тоже датчик.
– Дело не только в наших глазах.
– Откуда ты знаешь?
– У лягушек есть и глаза, и кора.
– Можно я попробую? – вмешалась Джой.
Мы все повернулись к ней. Заложенный за ухо каштановый локон выбился ей на щеку и стрелкой указывал на губы. Лицо ее было серьезным.
– Давай, – сказал я.
Мы снова подготовили установку, только на этот раз в ящик был устремлен пустой взгляд Джой.
– Готова?
– Да, – отозвалась она.
Сатвик нажал кнопку.
Машина загудела. Мы оставили ее включенной на десять секунд. Я проверил результат и покачал головой:
– Ничего.
Картина интерференции не нарушилась. Вместо двух отдельных полос на экране был узор пересекающихся волн.
– Попробовать стоило, – сказал Забивала.
* * *
На следующее утро Забивала встретил нас с Сатвиком на стоянке. Мы все уселись в мою машину и поехали в торговый центр.
Мы зашли в зоомагазин. Я купил трех мышек, канарейку, черепаху и курносого щенка бостонского терьера. Продавец вытаращил глаза.
– Любите домашних животных? – Он подозрительно косился на Сатвика с Забивалой.
– О да, – закивал я. – И чтоб их было много.
Обратный путь проделали в молчании, только щенок поскуливал.
Забивала нарушил тишину:
– Может быть, требуется нервная система посложней, чем у земноводных.
– Разницы быть не должно, – возразил Сатвик. – Жизнь есть жизнь.
Я сжимал баранку, вспоминая ночные споры в колледже. В чем отличие между разумом и мозгом?
– Семантика, – сказал Забивала. – Разные имена для одного понятия.
– Нет, – подумавши, ответил Сатвик, – не только.
– Это вроде старой загадки про гитару, – напомнил я. – Чем играют на гитаре, пальцами или душой?
– Мозг – это железо, – сказал Сатвик. – Разум – это софт.
* * *
За окнами машины пролетали массачусетские пейзажи, справа вставала стена разрушенных холмов – темные камни, кости земли. Сложные переломы костей. Где-то на востоке угадывался океан. Холодная темная вода. Остаток пути мы молчали.
В лаборатории начали с черепахи. Потом проверили канарейку, которая после опыта упорхнула и устроилась на шкафу. За ней были мыши. Никто из них не обрушил волну. Последняя, красноглазая белая мышка типично лабораторной породы осторожно шмыгала по столу, подрагивая усами, пока Сатвик, поймав ее за хвост, не водворил в картонную переноску.
– Теперь собаку, – сказал Забивала.
Бостонский терьер пучеглазо таращился на нас из-под стола. И поскуливал, склоняя голову набок.
– У них всегда такие глаза? – удивился Сатвик.
– Какие?
– Ну, знаешь, смотрят в разные стороны.
– Порода такая, – предположил Забивала. – Я их часто вижу.
Я подхватил черно-белого щенка и посадил его в коробку.
– Ему только и надо, что увидеть свет. Для целей эксперимента годятся любые глаза.
Я смотрел на лучшего друга человека, нашего спутника на пути через тысячелетия, и втайне надеялся. «Этот, – говорил я себе. – Конечно, из всех видов именно этот». Ведь кто же, заглянув в собачьи глаза, не чувствовал, что ему отвечают?
Щенок в ящике взвизгнул. Ему там было тесно, лампочка торчала прямо перед носом.
Сатвик нажал кнопку, начиная опыт.
– Ну?
Я нагнулся над камерой с экраном. Четкая картина интерференции не изменилась.
Я знал, что в ящике горит лапочка. Но, с точки зрения Вселенной, у нее не было наблюдателя.
– Ничего, – сказал я. – Совершенно никаких изменений.
В тот вечер я приехал к Джой. Она открыла дверь и остановилась, ожидая моих слов.
– Ты что-то говорила о кофе?
Тогда Джой улыбнулась – милое лицо в раме двери, – и мне снова на миг почудилось, что она меня видит. Отступив назад, она широко открыла дверь.
– Заходи.
Я прошел мимо нее, и дверь тихо щелкнула, закрывшись.
– У меня нечасто бывают гости, – сказала она. – Извини за развал.
Я огляделся и подумал, что она шутит. В маленькой квартирке царил порядок. Не знаю, чего я ждал, – может быть, именно этого. Голые стены без картин. Диван. И – позже – кровать.
Началось с молчания. Потом было прикосновение.
Тихий, неуверенный поцелуй.
На простынях она выгибала спину. Кожа как шелк. Жизнь в звуке и касании. Одеяло стекало на пол. Ее руки крепко сцеплялись у меня на затылке, притягивали ближе – в моих ушах голос, а скользкие тела терлись друг о друга.
Потом, в темноте, мы долго лежали молча.
* * *
Я уже решил, что она спит, и вздрогнул от ее голоса:
– Как правило, я их лучше знаю.
– Кого?
– Тех, кто ворует одеяло.
– Одалживает, – поправил я, – одалживает одеяло.
Дотянувшись, я поднял одеяло с пола и набросил ей на нагие плечи.
– Ты хорош собой? – спросила она.
– Что?
– Мне любопытно.
Она нащупала меня в темноте, расчесала пальцами волосы.
– Это важно?
– У меня строгие требования.
Я и не хотел, а рассмеялся.
– В таком случае, да. Я потрясающий.
– Не знаю, не знаю.
– Ты мне не веришь?
– Может, лучше навести справки на стороне.
– Тогда зачем было меня спрашивать?
– Мне было любопытно, как ты считаешь.
Я взял ее ладонь и положил себе на лицо.
– Я такой, как ты видишь.
Прохладная рука на моей щеке. Долгое молчание, а потом она спросила:
– Почему ты приехал сегодня?
Я вспомнил щенка в ящике. Свет, оставшийся без наблюдателя.
– Не хотелось быть одному.
– Ночью тебе тяжелее всего. – Она просто констатировала факт. Огонь горячий. Вода мокрая. Ночью тяжелее всего.
В разговоре со слепым есть преимущество – слепой не видит твоего лица. Не знает, что попал в больное место.
– Над чем ты работаешь? – спросил я, чтобы переменить тему. – Ты никогда толком не объясняла.
– Ты никогда толком не спрашивал. Назовем это производством звука.
– И в чем штука?
– Берешь тон широкого, смешанного диапазона и удаляешь все лишнее.
– Удаляешь?
Ее тонкая рука обняла меня за шею.
– Звук может быть гибким инструментом. Катализатором или ингибитором химических реакций. Начни с максимальной плотности частот и отрезай все, чего не хочешь слышать. В каждом всплеске помех скрыт концерт Моцарта.
И опять я не понял, шутит ли она.
Я сел на кровати в неосвещенной комнате. В эту минуту в темноте мы были одинаковыми. Наши миры станут разными, только когда я зажгу свет.
– Тяжелее всего утром, – сказал я ей.
Через несколько часов взойдет солнце. Подступит или не подступит боль.
– Время идти.
Она провела ладонью по моей голой спине. Она не стала меня удерживать.
– Время, – прошептала она. – Нет такого зверя. Только сейчас. И сейчас.
Она прижалась губами к моей коже.
* * *
На следующий день я оставил секретарше Джереми записку – просил его зайти ко мне.
Через час в дверь постучали, он вошел в лабораторию.
– Что-то нашел? – спросил он. Он был в пиджаке. Я знал, что ему предстоят совещания. Вот так и отличают администратора от ученого – по цвету костюма. Сатвик и Забивала стояли у меня за спиной.
– Мы нашли.
На лице его было смятение.
– В записке сказано – новая находка?
– Посмотри сам.
Джереми наблюдал за ходом эксперимента. Заглядывал в ящик. Самолично добивался коллапса волны.
Потом мы посадили в ящик щенка и повторили заново. Мы показали ему картину интерференции.
И опять лицо его выразило смятение. Он сомневался в увиденном.
– Почему не сработало? – спросил он.
– Не знаем.
– Но в чем разница?
– Только в одном. В наблюдателе.
– По-моему, я не понимаю.
– Ни одно из испытанных до сих пор животных не смогло изменить квантовую систему.
Он поскреб в затылке. Между бровями у него пролегли морщины – единственные черты беспокойства на гладком лице. Он долго задумчиво молчал, разглядывая установку.
Я его не торопил.
– Черт меня побери! – высказался он наконец.
– Да, – сказал Забивала.
– Это воспроизводится?
– Сколько угодно. – Я подошел и выключил машину. Гудение стихло.
– Никуда не уходи! – Джереми выскочил за дверь.
Мы с Забивалой переглянулись.
Через несколько минут Джереми вернулся в компании еще одного человека в костюме. Этот был постарше, седой. Старший администратор. Имя, стоящее за итогом квартальной аттестации. Одна из подписей под моим увольнением.
– Покажи ему.
Я показал.
И этот дошел до понимания.
– Господи… – сказал он.
– Надо еще много опытов провести, – объяснял я. – Перебрать все роды, классы и семейства… особенно интересны приматы, поскольку они эволюционно ближе к нам.
– Конечно, – выговорил администратор. Глаза его смотрели куда-то вдаль. Лицо было лицом контуженого. Он еще обрабатывал информацию.
– Нам могут потребоваться дополнительные материалы.
– Вы их получите.
– И бюджет.
– Сколько угодно, – сказал администратор. – Просите сколько нужно.
* * *
Организация заняла десять дней. Мы наладили сотрудничество с зоопарком Франклина. Перевозка большого количества животных – кошмар логистика, и мы решили, что проще перенести лабораторию в зоопарк, чем зоопарк в лабораторию. Наняли фургоны. Подрядили рабочих. Забивала прервал собственную работу и поручил кормежку своих амфибий лаборанту. Тема Сатвика также была официально приостановлена.
– Не хотел мешать твоей работе, – извинился я, узнав об этом.
Сатвик покачал головой.
– Я хочу досмотреть все до конца.
Субботним утром мы начали эксперимент в недостроенном выставочном павильоне – зеленом помещении с высоким потолком, куда должны были поселить мунтжаков. А пока здесь расположились ученые – самые странные и недолговечные обитатели зоопарка. Сложнее всего было перекрыть свет – пришлось загораживать широкие витрины брезентом. Полы еще не настелили, они располагались ниже уровня дверей, но мы устроили три короткие лесенки, по которым спускались на большой бетонный восьмиугольник, где установили столы. Сатвик налаживал электронику, Забивала договаривался с сотрудниками зоопарка. А я строил большой деревянный ящик.
Этот был площадью шесть квадратных футов, и конструкцию со всех сторон укрепляли накладки два на четыре. Большой, крепкий, светонепроницаемый ящик.
Сатвик застал меня со своей электропилой.
– Осторожнее, – посоветовал он, – короткое замыкание может далеко завести.
Мы работали и в выходные, пока не установили и не наладили все как в лаборатории. Для проверки я загнал в ящик Сатвика и включил пушку. Он увидел свет. Интерференционная картина на экране распалась на две отчетливые полоски.
– Работает, – сказал Забивала.
С понедельника начались эксперименты. Мы с раннего утра явились в зоопарк, и сторожа пропустили нас за ворота.
Чтобы связать эту серию с предыдущей, мы начали с лягушек.
Сатвик напоследок еще раз проверил свет, после чего Забивала посадил одну из своих лягушек в деревянный ящик.
– Готово? – спросил я.
Он кивнул.
Я оглянулся на Джереми, который вместе со свитой прибыл за несколько минут до начала и теперь стоял в сторонке, у стены. Он был собран и сосредоточен. За его спиной потели в строгих костюмах два помощника. Они хотели увидеть действие установки. Забивала с группой техников встал возле камеры с экраном.
Я нажал кнопку. Машина загудела гитарной струной.
– Как оно там?
Забивала проверил экран и поднял вверх большие пальцы.
– Все как в лаборатории, – сказал он. – Без изменений.
* * *
Мы пообедали в шумной толпе местного кафетерия. Тысячи посетителей с детишками. Воздушные шарики и мороженое. Двойные коляски застревали в проходах, семья шла за семьей. Никто из них не подозревал, какой эксперимент проходит в дюжине ярдов, за предупреждениями: «Ведутся работы».
Забивала заказал пиццу, но доесть не сумел.
У меня тоже крутило живот и пропал аппетит.
– На ком?
– Не знаю.
– А если бы пришлось угадывать?
– Где-то между классом и отрядом, – сказал Забивала. – Приматы – наверняка.
– А ты как думаешь, Сатвик?
Он поднял взгляд от картонной тарелочки.
– Не знаю.
Забивала допил пепси.
– Говорю вам, кто-то из приматоморфов. С них начинается.
* * *
Первый опыт мы провели сразу после обеда. Кнопку нажимал Сатвик. Картина интерференции не распалась.
За несколько часов мы перебрали представителей нескольких линий млекопитающих: сумчатых, афротериев и два крайних эволюционных отростка однопроходных: утконоса и ехиду. Смотрители подводили, подкатывали и подносили нам животных. Их, одно за другим, помещали в ящик. Включалась машина. Картина интерференции ни разу не изменилась.
Назавтра мы проверяли виды от неполнозубых до лавразиатериев. Тут были броненосцы, ленивцы, дикобразы, панголины и парнокопытные. На третий день пошли грызунообразные и эуархонты. Мы проверяли тупай и зайцеобразных. Зайцев, кроликов, пищух. Никто из них не обрушил волновую функцию, никто не был снабжен прожектором. Только на четвертый день мы обратились к приматам.
В тот день мы приехали в зоопарк еще раньше. Сотрудники зоопарка торжественно проводили нас от ворот, отперли павильон мунтжаков и включили свет. Сатвик передал зоологам список на день, и они несколько минут обсуждали его между собой.
Мы начали с самых дальних родственников. Проверили лемуров и обезьян Нового Света. Мы сажали их в ящик, закрывали дверцу, нажимали кнопку.
Затем обезьян Старого Света, подсемейство узконосых: красноухого гвенона и тонкинского макака.
Потом был один суматранский лангур с мордочкой куколки-гремлина, цеплявшийся за руку служителя. Моргающее чучело. Наконец мы перешли к антропоидам. Волна еще ни разу не коллапсировала.
На пятый день мы добрались до шимпанзе.
– Их на самом деле два вида, – объяснял нам Забивала, пока готовили переноску. – Pan paniscus, их еще называют бонобо, и Pan troglodytes – обычные шимпанзе. Пока зоологи не спохватились – до тридцатых годов, – их всегда содержали в неволе как один вид.
Сотрудники за руку, как детей, ввели в помещение двух молодых шимпанзе.
– Но во время Второй мировой нашлось средство различать. Случилось это в зоопарке Хелабрунна в Германии. Бомбардировщики сровняли город с землей, но зоопарк чудом уцелел. Люди, вернувшись, думали, что застанут счастливчиков шимпанзе живыми и здоровыми. А увидели мертвецкую. Только обычные шимпанзе цеплялись за решетку, выпрашивая еду. Все бонобо лежали в клетках погибшими от шока.
Первого шимпанзе подвели к ящику. Молодая самка с любопытством заглянула мне в глаза. Дверь за ней закрылась, и Сатвик задвинул засов.
– Готовы? – спросил я.
Он кивнул.
Мы проверили оба вида. Шимпанзе и бонобо. Установка гудела. Мы перепроверили дважды и трижды.
Картина интерференции не нарушалась.
Я повернул рубильник, в последний раз отключив установку. Гудение сменилось тишиной.
– Мы одни, – сказал я.
* * *
Статья заняла несколько дней. Я засел в лаборатории как в норе: упорядочивал данные, выстраивал их в читабельном порядке, переваривал, готовил к публикации. По утрам сильно трясло, поэтому я принимал прописанные таблетки, запивая их кофе и апельсиновым соком. Когда статья была готова, написал резюме. Сатвика и Забивалу поставил в соавторы.
Виды и коллапс квантовой волновой функции
Эрик Аргус, Сатвик Пашанкар, Джейсон Чанг.
Лаборатории Хансена, Бостон, МА
Резюме
Многочисленные исследования обнаружили способность всех квантовых систем пребывать в суперпозиции коллапсированных и неколлапсированных вероятностных волн. Давно известно, что основное условие коллапса волновой функции – наличие наблюдающего субъекта. Целью данного исследования было определить, какие таксоны высших уровней способны, будучи наблюдателями, вызывать коллапс волновой функции и выстроить филогенетическое древо, проясняющее отношения между этими крупными группами животных. Виды, не способные вызвать коллапс волновой функции, можно рассматривать как часть недетерминированной системы большего масштаба. Работы проводились в бостонском зоопарке Франклина на различных классах позвоночных. Здесь мы сообщаем, что человек – единственный вид, оказавшийся способным осуществить коллапс волновой функции на фоне суперпозиции состояний, и что фактически эта способность оказывается исключительно человеческим свойством. Такая способность, по всей вероятности, возникла в последние шесть миллионов лет после расхождения предковых линий человека и шимпанзе.
* * *
Джереми прочел резюме. Мы сидели у него в кабинете, и на всем обширном пространстве его стола лежал единственный листок.
Наконец я подал голос:
– Ты говорил, вам нужно что-нибудь публикабельное.
– Так мне и надо за то, что сказал тебе такое. – У него между бровями опять пролегла морщинка. – Я сам виноват.
– Не так уж плохо, а?
– Плохо? Да это невероятно. Поздравляю! Потрясающая работа.
– Спасибо.
– Однако, – продолжал он, – она вызовет бурю в сортире. Ты сам должен понимать.
В голубых глазах Джереми была тревога. Я узнавал в нем того восемнадцатилетнего мальчика, каким увидел его впервые в университетской библиотеке. Гладкое, молодое лицо. Ледяная метель и поскользнувшийся на гололеде грузовик еще в будущем. Эта статья осложнит ему жизнь больше, чем десять лет на больничной койке.
Он поднял взгляд от листка:
– Но что означают эти результаты?
– Как поймешь, то и будут означать.
* * *
После этого события развивались быстро. Статью опубликовал журнал «Квантовая механика», и телефон взорвался звонками. Просили интервью, рецензий, дюжина лабораторий повторяла опыт, выискивая изъяны в процедуре. И все были уверены, что изъян где-то есть. Интерпретаторы вне научного сообщества сходили с ума. Я интерпретациями не занимался. Я имел дело с фактами.
Например, такой факт: на кратчайшем пути от работы до мотеля ровно один винный магазин. Я объезжал его, вдоль дороги выстраивались деревья – и я не пил. Бывали вечера, когда я не доверял даже кружному пути и оставался на работе – принимал душ в проходной при химической лаборатории на первом этаже северного флигеля, насилуя правила распорядка и всё святое. Меня окружали бутылки со всеми известными человечеству химикатами – сульфатом калия, трехокисью сурьмы, едким калием, сульфидом азота, ферроцианидом железа – всеми, кроме пригодного для питья алкоголя.
Кабинет Сатвика остался на прежнем месте в глубине главного здания, хотя искать его самого все чаще приходилось в лаборатории – он занял комнатушку на втором этаже южного корпуса.
Сатвик тоже занимался условиями эксперимента. Он упрощал, минимизировал, переводил в цифровую форму. Превращал опыт в продукт. Он, как-никак, был электронщик, а громоздкая, неуклюжая установка в зоопарке вопияла об усовершенствовании. Она получила название «хансеновская двойная щель» и, когда Сатвик с ней закончил, стала размером с буханку хлеба – темная коробочка с простым световым индикатором и маленьким удобным контролем. Зеленый – да, красный – нет. Я гадаю, не знал ли он уже тогда. Гадаю, не подозревал ли, какое ей найдут применение.
– Неважно, знаешь ли ты, – сказал Сатвик, когда мы задержались у него в кабинете после первой демонстрации новой установки, и коснулся волшебной шкатулки – своего создания. – Главное – есть ли возможность узнать!
Вентильные матрицы остались в прошлом. В прошлом осталась и его легкая улыбка, и я гадал, какую цену заплатил мой друг за работу над этим проектом. Больше не было рассказов про дочку и жалоб на неурожай на родине. Теперь он говорил только об эксперименте и о своей работе над шкатулкой. Над его рабочим местом я заметил цитату – приклеенный изолентой листок из старой книги:
Возможно ли, что животные – лишь усовершенствованные марионетки: едят без удовольствия, кричат без боли, ничего не желают, ничего не сознают, а их интеллект – лишь видимость?
Это был вечер пятницы. Я, вместо того чтобы прямиком отправиться в номер, зашел в правление мотеля. Розовые фламинго на лужайке перед зданием – этого я никогда не понимал. Мотель, насколько я знал, не был тематическим. Название самое безликое: «Мотель Блэкли». Темная прямоугольная постройка, глазу не на чем остановиться, приземистая трехэтажка с наружными галереями вдоль верхних этажей. Он был точь-в-точь как десятки других старых мотелей, испещривших побережье в этой части света, – и такой же благородной потертости, – но здесь перед фасадом стояли два розовых фламинго из пластмассы. Может, в этом и был смысл. Может, безликому бурому зданию без пары фламинго никак.
Портье на первом этаже, заметив меня, махнула пачкой конвертов.
– Для вас почта, – сказала она. Звали ее то ли Мишель, то ли Марта.
Я взял протянутые ею конверты и заплатил за месяц вперед. Мне казалось, что в мотеле предпочитают постоянных жильцов, у которых можно прибираться раз в неделю. Почту я унес к себе в номер и бросил на стол.
Два письма. Одно аккуратное, деловое. Другое накорябано от руки.
Первое было с работы. Вскрыв конверт, я нашел внутри один сложенный лист бумаги.
«ЛАБОРАТОРИИ ХАНСЕНА
Эрику Аргусу, рабочее место 1246
Подтверждение прямого депозита.
Дорогой мистер Аргус, мы рады сообщить, что вы прошли испытательный срок и переводитесь в постоянные сотрудники. Прилагается премиальный чек на 1000 долларов в вознаграждение за ваши усилия. Ваше жалованье будет с этого момента повышено на 15 процентов. Добро пожаловать в Лаборатории Хансена».
Я положил письмо на стол и стал рассматривать. Я снова и снова перечитывал первую фразу. Постоянный сотрудник. Я толком не знал, что делать. Хотелось то ли плясать, то ли позвонить кому-то. Как положено себя вести в таких случаях? Постоянный сотрудник… – только теперь я понял, что никак этого не ждал. Даже после статьи.
Я достал чековую книжку. Вписал в графу пятьсот долларов. Вложил чек в новенький свежий конверт и надписал адрес сестры.
Я был ей должен больше. Намного больше. Одни чеки за лечение…
Я подумал, не позвонить ли ей – нажать несколько кнопок на телефоне. Хотелось ей сказать… что-нибудь. Хотелось поговорить, рассказать обо всем. Опыты, зоопарк, статья. Я достал телефон из кармана и подержал перед собой, но не сумел себя заставить.
– Этого мало, – сообразил я. Два месяца трезвости. Пятьсот долларов. Этого недостаточно.
И как объяснить ей статью? В ушах еще звучал голос Джереми: «Что она означает?»
Я не стал звонить, закрыл телефон. Скоро, пообещал я себе. Когда еще месяц продержусь трезвым. Когда смогу ей сказать, что сделал что-то стоящее. Тогда позвоню. Я сложил письмо и засунул его в карман.
И только после этого взял второе. С написанным от руки, в спешке адресом. Я взглянул на обратный адрес. Название улицы в Индианаполисе мне ничего не говорило. А вот имя было хорошо знакомо.
Я вскрыл конверт. Внутри один листок.
От руки. Одна строчка.
Надо поговорить.
Я долго смотрел на нее. Удивлялся, как он заполучил мой адрес. Научный мир тесен. Он мог прочитать об эксперименте. А может, совпадение по времени – случайность. Может, из пепла предыдущей работы поднялся новый феникс, и Стюарт расширялся. Пришли в голову и более мрачные мысли. Может быть, он в беде.
«Надо поговорить». Одно-единственное предложение.
Я скомкал листок и бросил его в мусорную корзину.
Еще месяц приходили новые письма из новых источников, отфильтрованных по официальным рабочим каналам. Какой-то медик по имени Роббинс, тщательно подбирая слова, выражал свой интерес к проекту.
Эти письма оборачивались телефонными звонками. Голоса в трубке принадлежали адвокатам из тех, что водятся в глубоких карманах. Роббинс работал на консорциум, поставивший себе целью раз и навсегда определить, когда именно возникает сознание у человеческого эмбриона.
Хансеновские давали ему от ворот поворот, пока сумма не стала семизначной.
Джереми отловил меня с утра, за сменой кофейного фильтра – рассчитал, я думаю, когда моя оборона слабее всего.
– Он добивается твоего участия.
– Не хочу, – сказал я.
– Роббинс запрашивал конкретно тебя.
К тому моменту торговля продолжалась уже некоторое время.
– А я конкретно отказался. – Я насыпал в фильтр молотого кофе и вставил пластиковую сеточку в гнездо. – Не желаю принимать в этом участия – хоть увольняйте.
Джереми устало улыбнулся.
– Тебя уволить? Уволь я тебя, мой босс уволит меня. А тебя наймет обратно. Возможно, повысив жалованье. Как раз на мое место и возьмет.
– Я на твоем месте – страшно подумать! Первым же распоряжением я принял бы тебя обратно, так что, может, все и сложилось бы.
Кофемашина гудела, темная жидкость лилась в подставку, пока Джереми доставал из шкафа чистую кружку.
– Точно не согласишься?
– Точно.
Видел я, что предлагал этот Роббинс. Надо признать, в своем роде изобретательно. Такое применение эксперимента мне и в голову не приходило. Но я бы к этому на милю не подошел.
– Ну и ладно, – сказал Джереми. – Так и передам.
Это было не то же самое, что принять отказ. Он налил себе исходящего паром кофе и прислонился к стойке. Когда заговорил снова, весь босс из него вытек – остался просто Джереми, мой старый друг.
– Этот Роббинс – большая дрянь, знаешь?
– Знаю. Видел его по телевизору.
– Но это не значит, что он не прав.
– Да, – кивнул я, – и это знаю.
* * *
Хансен предоставил для эксперимента технических работников. Я не вникал в переговоры по контракту, но и так было ясно, что в Хансене нашли изящный выход, позиционируя себя как нейтральную экспертизу и в то же время всемерно отстраняясь от сомнительных толкований возможного результата. Не так легко пройти по столь тонкому канату.
Сатвик оказался главным переговорщиком по проекту – и кажется, эта обязанность его особенно тяготила.
В середине дня я застал его в кабинете. Он ссутулился над мотком оптоволокна, зажав уши тонкими плечами. На лбу узкой полоской была закреплена лампочка и крошечная камера. На плоском экране монитора изображался вид с нее очень крупным планом – провода выглядели канатами подвесного моста, пальцы – древесными стволами.
– Как идет подготовка?
Он отложил паяльник. Изображение развернулось, когда он поднял ко мне лицо.
– Скоро завершающая проверка на дым.
Я увидел на мониторе свое лицо: огромное, чужое.
– «Проверка на дым»?
Он снова обратился к канатам.
– Запускаешь и надеешься, что нигде не задымит.
– Ты успеешь закончить?
– Ящик готов. Я буду готов. А ты как?
– Мне досталась благая часть. Можно не готовиться.
– Не говори, – возразил он. Паяльник на видео ушел в глубину механизма. – Это теперь твой опыт. Смотри, еще прославишься.
– Что? Как так?
– Если опыт провалится. – Он ниже склонился над работой. – Или если закончится успехом.
– Я не хочу славы.
Сатвик покивал, вроде бы соглашаясь.
– В этих водах ты утонешь, друг мой.
– Погоди-ка. А если бы я хотел славы?
Он бросил на меня взгляд.
– Плохо было бы.
Прямолинейный Сатвик.
Я оставил его работать.
* * *
За несколько недель до эксперимента мне позвонили. Я ждал этого звонка. Сам Роббинс. Трубка холодила мне висок.
– Вы никак не можете приехать?
Голос у него был не такой, какого я ожидал. Мягче, естественнее. Я слышал его только по телевизору, когда он грохотал с кафедры или трубил в кабельный рог на всяких теледискуссиях. Врач, перекрасившийся в пастора, а там и в медийную персону. Но в трубке был другой Роббинс. Не такой громогласный.
Я подумал, прежде чем ответить, – прикинул, что за человек на том конце линии.
– Нет, – ответил я, – не думаю, что это возможно.
– Вашего присутствия будет весьма не хватать, – настаивал Роббинс. – Учитывая вашу роль в проекте, мы бы очень хотели вас видеть. Я считаю, что это было бы очень полезно для дела.
– Думаю, ваше дело прекрасно обойдется без меня.
– Если это вопрос денег, заверяю вас…
– Нет.
Пауза.
– Понимаю, – снова заговорил он, – вы – человек занятой, я уважаю вашу занятость. И все же я хотел бы лично поблагодарить вас.
– За что?
– За ваше великое свершение. Вы должны понимать, что ваша работа спасет множество жизней.
Я молчал. Молчание становилось бездонным – меня затягивало в него обратным давлением. Я представлял его таким, каким видел на экране. Высоким, с квадратным подбородком. Есть разновидность привлекательной наружности: некоторым она достается с возрастом, в то время как другие стареют и толстеют. Я представлял телефон, прижатый к его уху. Я гадал, один ли он в кабинете или вокруг люди. Целая команда юристов, взвешивающих каждое слово. Он ждал, пока я выберусь, и, когда я снова заговорил, оба мы почувствовали, что после такого провала во времени разговор начинается заново.
– Где вы набрали матерей? – спросил я.
– Все вызвались добровольно, все до одной. Безусловно, это выдающиеся женщины, они ощущают в себе призвание к важной миссии.
– Но где вы их нашли?
– У нас много сторонников по всей стране, и мы сумели найти несколько волонтерок на каждом сроке беременности – хотя я не сомневаюсь, что нам достаточно будет первой, чтобы доказать, в каком возрасте в младенца вселяется душа. Срок у первой – всего несколько недель. Некоторым из вызвавшихся нам пришлось отказать.
«Вселяется душа». Эти слова он использовал и в пресс-релизах. Меня эти слова доводили до края.
– Почему вы так уверены, что проверяете именно это?
– Мистер Аргус, чем же еще определяется различие между человеком и животным? Чем, если не душой?
Пока я мялся с ответом, он продолжил:
– Назовите это, если хотите, духом или найдите другое слово, но это именно то, что обнаруживает ваш опыт. То, что делает нас избранными. То, о чем нам так долго твердили все религии мира.
Я очень осторожно сформулировал следующую фразу:
– А вас не беспокоит, что они рискуют? Я о матерях?
– Будут присутствовать медики, и эксперты уже определили, что процедура опыта не опаснее диагностической пункции. Диод, внедряемый в околоплодную жидкость, будет не толще иглы.
– Кажется, у вас все проработано.
– Мы приняли все меры предосторожности.
– Одного я не могу понять… Глаза эмбриона закрыты.
– Я предпочитаю слово «младенец», – натянуто поправил он.
Я вспомнил, как изменилось мое представление о Сатвике, едва я услышал его речь. Ту же перемену я уловил теперь в голосе в трубке. Легкое изменение температуры слов. Собеседник изменил мнение обо мне.
– Веки младенца очень тонки, – продолжал он. – А свет диода очень ярок. Мы не сомневаемся, что он ощутит этот свет. Тогда мы отметим коллапс волновой функции и получим наконец необходимое доказательство, чтобы изменить закон и остановить чуму абортов, охватившую страну.
Я положил трубку на стол микрофоном вниз. И посмотрел на нее. «Чума абортов».
Такие, как он, попадались и в науке – люди, заранее уверенные в ответе. Догма, с какой бы стороны она ни исходила, всегда представлялась мне опасной. Я снова поднял трубку. Она показалась тяжелее, чем несколько минут назад.
– Значит, так просто?
– Конечно! С какого момента человеческая жизнь становится человеческой? Не об этом ли всегда шли споры?
Я молчал.
Он вел свое:
– В справедливом обществе наши права кончаются там, где начинаются права другого. С этим согласятся все. Но где начало? С чего это начинается? Ответа не было. Мы докажем наконец, что аборт – это убийство, и кто нам возразит?
– Подозреваю, что такие найдутся.
– Да, но, видите ли, наука будет на нашей стороне. Это все изменит. Всем нам дано общее чудо. Уникальное человеческое сознание. Я чувствую, что не слишком вам симпатичен.
– Вполне симпатичны. Но есть старая поговорка: «Не доверяй человеку, который читает только одну книгу».
– Одной книги человеку достаточно, если это правильная книга.
– В том-то и дело. Каждый считает, что его книга правильная. А вы не думали, что будете делать, если окажется, что вы ошибались?
– Как вас понимать?
– Что, если коллапс волновой функции не происходит до девятого месяца? Или до чудесного мига рождения? Вы измените свои взгляды?
– Этого не будет.
– Вы так уверены?
– Да.
– Возможно, – сказал я. – Возможно, вы правы. Но именно это, я думаю, мы скоро узнаем.
Все великие истины начинались как кощунства.
В моем детстве у отца имелось два любимых занятия: ходить под парусом и пить. С матерью он познакомился в колледже, когда оба первокурсника были беднее бедного. Она занимались химией, он экономикой. История их знакомства стала семейной легендой.
– В основе экономики лежит генетика, – сказал он ей, когда она наконец удостоила его разговором в парке перед университетской библиотекой. Он заметил спираль на обложке книги, которую она принесла с собой.
Мать рассказывала, как он сделал ей предложение – уже на последнем курсе: прогулка по берегу, а вдали, в бухте, белая парусная яхта качается на волнах, как играющий кит. Они час следили за ней, пока отец не сказал: «Когда-нибудь и у меня такая будет». С тем же успехом он мог сказать, что станет когда-нибудь президентом. Или астронавтом.
После окончания колледжа мать включилась в научную работу, а отец поступил на должность в самую крупную из соглашавшихся принять его корпораций. Мир для него был машиной: закладываешь рабочие часы, на выходе получаешь деньги. Он был хорошим сотрудником, и скоро появились автомобили, дом и младенец, а за ним и второй – мать впоследствии часто вспоминала те годы. Так мудрецы вздыхают о минувшем золотом веке. В частности обман, но в целом правда. Ведь ни один золотой век не оказывался по-настоящему золотым. Но для матери реальность всегда была абстрактным искусством – набором красок на холсте, скоплением мазков.
И возможно, истина в том, что на нем имелось достаточно золота.
В семь лет отец впервые взял меня в гавань. У него была тридцатишестифутовая «катилина», «Регатта Мария» – средняя прогулочная яхта с парусностью четыреста квадратных футов. Отец обогатил нанимателя на миллионы и заслужил премии, повышение, статус партнера. Я в этом никогда ничего не понимал. Понимал только, что отец хорошо делает свое дело. Лучше других. Что он талантлив.
На семь дней «Регатта Мария» стала нам целым миром: высокие волны и мы вдвоем. Ветер дул с юга, и корабль кренился, взлетая на волну, а паруса щелкали как вымпелы. На первый раз мы держались в виду берега. Ночью доставали бинокли и разглядывали мигающие в темноте городские огни.
На следующий день отец восторженно вопил под брызгами – меня удерживал на месте страховочный пояс, а гребни волн разбивались о днище миллионами блестящих капель. Он стоял на носу, промокший до нитки, и, когда яхта ложилась на борт, одной ногой упирался в кокпит. Мы ели суп из саморазогревающихся консервов, а в окна правого борта то и дело плескала соленая вода. Я из безопасного кубрика наблюдал, как отец купается в своей стихии.
Он к тому времени пил почти каждый день, но к морю относился честно. Он никогда не пил в гавани, если на борту был пассажир.
– Слишком опасно, – говорил он. Потому что даже он понимал, что с водой не шутят.
После летнего плавания я пошел в школу, а отец стал уходить один, с каждым разом забираясь все дальше и дальше. Перед его первым дальним плаванием в одиночку я проверял список на желтых страницах блокнота.
Купить новые фалы.
Проверить, не прогнил ли корпус.
Поднять парус 6 сентября.
Не погибнуть.
Позже, уже двенадцатилетним, я снова проверял его список, искал последний пункт, но его не было. В какой-то момент он выпал из списка.
Поскольку отец не пил, когда бывал за рулем или выходил в море с командой, то и другое случалось все реже. И наши прогулки по гавани тоже. А потом был последний раз. Последний наш выход на большую воду.
Я управлял кораблем, указывая пальцем.
– Вот! – орал я. – Давай туда!
Я указывал на клочок синевы, ничем не отличающийся от других голубых клочков с вздымающимися и опадающими волнами, и тянул шкоты при развороте, и большой парус над нами поворачивался на рее. Полотно наполнялось ветром, шкоты скрипели, и вся большая таинственная машина ложилась на бок, повинуясь нам.
Океан огромен. Крошечные суденышки в мировом пространстве. Нам нравилось уходить туда, откуда уже не видно земли. На семнадцать миль в ясный день. Бывало шестнадцать, четырнадцать или десять, смотря по погоде. Мы вглядывались в горизонт.
– Ну вот! – говорил он, и я смотрел.
И видел, что он прав. Земли не было. Только океан. И никакого смысла уходить дальше – там везде будет одно и то же. Только океан, и корабль вздымается и падает, как дышит. Мы двигались по волнам космическим кораблем в темном космосе.
При восточном ветре мог незаметно подкрасться шторм. Застать врасплох. Так врасплох застает вас жизнь.
* * *
Когда аэродромный автобус вышел на поворот, я увидел вдали безымянную марину. Я смотрел через плечо Забивалы – тот дремал, рассыпав черные волосы по стеклу. Я видел паруса и мачты. Ближе к городу шоссе снова свернуло, пошло вдоль берега. Над нами росли здания. Я толкнул соседа:
– Подъезжаем к отелю.
Но он не проснулся.
Мне в окно был виден узкий ломтик океана. Всегда помни: вода холодна и глубока; то, что ты любишь, может оказаться опасным.
Выбираясь из автобуса, я почувствовал запах соли. Мы со Забивалой забрали багаж и остановились под навесом отеля – роскошного сетевого «Рамада» у самого моря. Мы решили, прежде чем регистрироваться, пообщаться с народом.
Толпа уже собиралась.
– Ну и наряды! – заметил мой спутник.
Я перекинул лямку рюкзачка на другое плечо.
– Теперь припоминаю, почему всегда старался увернуться.
Поездка была принудительной: распоряжение босса, огорчать которого опасался даже Джереми. Помогать с Роббинсом я отказался, так вот – взамен. Меньшее из двух зол. Я все же тянул и отговаривался, пока не вмешались сверху. В конечном счете согласился ради Джереми.
– Им нужен представитель от Хансена, – сказал тот. – Желательно повиднее, а в данный момент ты из самых заметных. Сатвик уже занят в другом месте.
«Другое место» было, конечно, при Роббинсе.
Так что в указанную дату я собрал вещи и встретился в аэропорту с Забивалой.
По правде сказать, мне меньше всего хотелось сюда лететь. Три дня назад в лабораторию пришло письмо с угрозами. Вызвали полицию.
На мой вопрос Джереми ответил коротко:
– Ты бы предпочел не читать.
В конце концов он показал мне ксерокопию. Десять слов черным «волшебным» маркером. Мне хватило, чтобы вспомнить, как опасен мир.
Мрамор под ногами сменился толстым ковром: мы, виляя в потоке, вошли в толпу, и меня захлестнула волна голосов. Я давно не бывал на подобных собраниях, но совсем забыть их невозможно. Суетливая толпа студентов и выпускников. Недоучек и докторов. Блогеры-научники бок о бок с издателями.
В идеале здесь ковалось будущее сотрудничество. Отливались новые представления о мире. Я вспомнил конгресс 1961-го, где Фейнман встретился с Дираком. Просто двое оказались за одним столиком.
В худшем варианте здесь собирались фракции и изгонялись отступники, но все это было крыто сусальным золотом. Для любителей тут всегда находился предлог выпить. Я взял с собой прописанный налмефен и принял две таблетки перед посадкой в самолет.
Мы разыскали стойку регистрации. Отстояв короткую очередь следом за немецкоязычными учеными, предъявили документы и получили по бейджику на пластмассовых зажимах и по пакету с брошюрами. Я не сомневался, что в одной из них найдется краткое описание нашего эксперимента – вместе с десятком других тем конгресса. От выступления с докладом нам удалось уклониться, но только потому, что я уперся рогом. Это не помешает другим исследователям обсуждать наш опыт. На именной бирке Забивалы значилось его настоящее имя. Свою я повернул буквами к груди.
Закинув багаж в номера, мы, вооруженные только брошюрами, спустились вниз. Я изучал схему расположения основных событий.
– Сюда, – сказал я.
Три минуты и два вопроса привели нас в гостевую приемную оргкомитета, где теснился самый разнообразный народ. На узком столике у стены сырные чипсы соседствовали с кексами. Мы прихватили по бесплатному соку и, раз уж больше оттягивать было нельзя, отправились на доклады.
Первый был по квантовой динамике кристаллов. Докладчик красноречиво вещал о кристаллических структурах углерода, зал гудел разговорами. Я покосился на Забивалу.
– Следующий выбираю я, – сказал тот. И выбрал. «Скрытые филогенетические структуры вымирающих видов земноводных».
Здесь демонстрировались слайды – несомненный плюс. Мы любовались на докладчицу, тычущую в экран длинной указкой. Говорила она тихим голосом с идеальным произношением Среднего Запада – так говорят ведущие новостей и жители Огайо.
– Молекулярный анализ проводился на разновидностях, собранных в широком диапазоне угрожаемых экосистем…
На одном слайде мелькнула лягушка, и Забивала вроде бы оживился, но голос телеведущей все тянул:
– Существование криптовидов в популяции древесных лягушек подчеркивает необходимость сохранения ex-situ.
Избранная Забивалой презентация потянулась дальше: графики и тренды, вид древесных лягушек, скрыто живущий среди другого вида… Я отвлекся.
Аплодисменты возвестили об окончании первой сессии. Мы встали и смешались с выходящими слушателями.
Вечером у нас по расписанию был ужин, устроенный нашей администрацией. Нам дали адрес и два имени: Кен Брайтон и Гершон Боаз.
Они уж ждали нас с Забивалой в ресторане – назывался он «Котлетная Зоко». Заведение настолько утонченное, что в салате не было капусты. Это верный признак серьезного подхода к делу.
Оба они оказались высоки ростом, в костюмах, при галстуках. Брайтон шире в плечах и с намечавшейся полнотой, скрытой умелым портным. Возраст угадывался с трудом. Ему можно было дать сорок, но по походке я заподозрил, что он моложе. Волосы яркого золотистого оттенка он носил коротко подстриженными. Второй – Боаз, такого же роста, но без лишнего веса. У этого прическа была чуть длиннее и с серебряной сединой, хотя лицо гладкое, без морщин. Впечатляющая пара – я заметил, что другие посетители на них посматривают. В прошлой жизни они могли быть топ-моделями – если случается, что модели похожи на адвокатов, и если вы большой поклонник адвокатов.
Хозяйка провела нас к дальнему столику. Я-то думал, что ужин в ресторане – подачка от нашего начальства, плата за вынужденную командировку. Но при виде этих двоих засомневался.
– Джентльмены… – Брайтон нас представил. Рукопожатия, «спасибо, что к нам присоединились».
– Зовите меня Эрик, – попросил я.
Мы с Забивалой сели напротив этой пары, и через минуту подошла официантка с корзинкой горячего хлеба. Брайтон спросил за всех:
– Какое красное у вас лучшее?
– Есть отличное «Шато Лафит» 1989-го, – ответила она.
– Мне коку, – вставил я.
– Глупости, всего один глоток! Вы же не в завязке, а? – еще шире заулыбался Брайтон.
– Нет, – солгал я, – но…
– Ну, значит, решено.
Для него так и было. Он уже забыл обо мне, улыбкой и кивком отослал официантку – человек, для которого привычка все делать по-своему стала второй натурой.
Я не удивился, обнаружив, что Брайтон говорит за двоих, умело и легко управляет беседой. Златоуст под стать златым власам. Пока мы листали меню, он рассуждал о винах. Боаз помалкивал.
Посреди длинной тирады, посвященной тончайшим оттенкам букета в правильно аэрированном «Ауслезе» 1990 года, Брайтон как будто спохватился и подался к нам, приглашая к разговору.
– Но довольно о вине, – заключил он. – Я хотел еще раз поблагодарить, что вы согласились на столь внезапно назначенную встречу.
– Мы рады, – отозвался я. – Приятно посмотреть город.
– Толпа порою утомительна. Я знаю, у вас был долгий день и время ваше дорого стоит, но мне хотелось встретиться с создателями так заинтересовавшего меня эксперимента.
– Значит, вы читали статью? – спросил Забивала.
– О да. С большим интересом.
– Часто вы читаете научную периодику?
Сочетание выглядело неправдоподобным: знаток вин в костюме от дорогого портного почитывает на досуге «Квантовую механику».
– Признаюсь, не часто, – согласился он. – Я дилетант – не более того. Интересующийся любитель… Но наше предприятие располагает экспертами, которые уведомляют нас об интересных находках.
– А ваша работа чрезвычайно интересна, – подхватил Боаз. Он впервые подал голос: словно песок попал в гладко смазанные колесики речи его партнера. И на меня он взглянул как-то странно, хотя, в чем странность, я не разобрал.
Брайтон продолжал:
– Мне квантовая механика всегда представлялась упрямой теорией. Дойдя до грани, на которой нормальные, разумные теории склонны останавливаться, квантовая механика упорно продолжает свою линию. Это машина предсказаний.
– Как ничто другое, – кивнул я.
В этот момент подошла официантка с бутылкой вина. Она улыбалась, принимая заказы. Брайтон пожелал утку, Боаз – копченую курицу, мы со Забивалой оказались любителями стейков. Я попросил на гарнир салат.
Когда официантка отошла, разговор от квантовой механики вернулся к вину и искусству. Брайтон, несколько лет проживший в Германии и Франции, рассказывал о визите в Берлин.
– В Золингене есть музей – «Deutsches Klingenmuseum», открывающий «перспективы клинков». Я влюбился в эту фразу из буклета: она звучит так, будто у стали есть собственный взгляд на мир. Впрочем, кто бы сомневался, что так и должно быть. Экскурсоводы там уверяют, что по клинку можно судить о создавшем его обществе. Причудливые столовые ножи, или грубые штыки, или мечи-бастарды из вороненой стали. Там есть один меч – «Richtschwert», служивший для обезглавливания. – Брайтон налил себе вина. – У этого клинка была своеобразная точка зрения на мир.
Подали салаты, и Брайтон, наклонившись через стол, налил вина в мой бокал.
– Тост! – предложил он.
Забивала озабоченно нахмурился, когда я поднял свой бокал вместе с остальными.
– За открытие! – провозгласил Брайтон.
– За открытие!
Мы чокнулись. Я поднес бокал к губам. Поймал встревоженный взгляд Забивалы. Я глубоко вдохнул сочный аромат. Я почувствовал, как участился пульс – передо мной встал выбор. Я поставил бокал, не отпив.
Брайтон поймал мой взгляд поверх бокала и, улыбнувшись, продолжил тост:
– Чтобы мы каждый день узнавали что-то новое!
Он выпил.
Подали главное блюдо: мясо на круглых подносах скворчало и исходило паром.
Посреди трапезы Брайтон снова переключил передачу.
– Итак, расскажите об эксперименте, который свел нас здесь.
Наконец-то всплыла настоящая причина этой встречи.
– Опыт имел целью установить условия коллапса волны… – начал Забивала.
Я жевал стейк и предоставил ему вести рассказ. Он подробно описал установку, поведал о лягушках и щенке.
– Как увлекательно, – заметил Брайтон, когда Забивала дошел до шимпанзе. И отставил пустую тарелку. – Все это я читал. Вы ничего не упустили?
– Статья была довольно подробной.
– Меня, – повернулся ко мне Брайтон, – интересуют те подробности, которые в статью не попали.
– Например?
– Например, причина, по которой вы обратились к этому эксперименту.
– Зачем проводят эксперимент? – удивился я. – Чтобы посмотреть, что из этого выйдет.
– Чего вы добивались?
Я рассматривал свой салат, гадая, что это в нем за зелень, если не капуста. В маленькой тарталетке монеткой блестело что-то похожее на икру. Я задумался, не попали ли в мой организм непривычные для него витамины. Салат за пятьдесят долларов несомненно содержит питательные вещества, отсутствующие в его дешевом собрате. Должен содержать за такие-то деньги.
– Добивался? – переспросил я.
– Да, – вмешался Боаз. Он повернул ко мне седую голову. В его голосе звенело напряжение. И опять этот странный взгляд. – Что вы хотели доказать?
И тут меня осенило. Гнев. В его взгляде был гнев.
Я отложил вилку.
– Любопытство, и не более того.
– К эксперименту полувековой давности? Должно быть что-то еще.
– Что же именно? – Я позволил себе добавить в голос немного льда.
Боаз открыл рот, но Брайтон усмирил его коротким жестом – едва уловимым, но и того хватило. Боаз прикусил язык. Брайтон, прежде чем заговорить, казалось, собрался с мыслями.
– Простите моего друга, – начал он. – Он не умеет вовремя остановиться. Это от него не зависит. И когда-нибудь, несомненно, его погубит. – Откинувшись назад, Брайтон бросил на стол салфетку. – Вы образованный человек, Эрик, но насколько хорошо вы знаете классику?
– Читал кое-что.
Помолчав, Брайтон продолжал:
– Человеческое знание началось с суеверий. Затем явились великие мыслители: Платон, Аристотель, Галилей, да Винчи, Ньютон – каждый на шаг выводил нас из темноты, каждый добавлял новый слой. Волна рационализма смела все древние суеверия. Затем пришли Кантор и Пуанкаре, математика и физика вступили в новый Золотой век. Пока не наметилась трещина.
Он снова склонился к нам и понизил голос:
– То, что Гедель сделал с математикой, с физикой сделал Гейзенберг. Неполнота. Неуверенность. Сама материя утратила определенность. Новые убеждения рушатся подобно башням. А теперь вы, – подчеркнул он, – вы воскресили старую веру.
– Какую же это?
– В существование души.
Тут я вдруг увидел вторую часть этого странного уравнения. Вот почему мы здесь сидим. Все это из-за Роббинса.
Улыбка Брайтона погасла.
– Скажите, как вам нравится работа в Хансене?
– Вполне, – сказал я.
– Это далеко от Индианаполиса.
Он застал меня врасплох.
– Что?
Я уже не так ясно понимал, о чем идет речь. Под ногами осыпался песок.
– Далеко от вашей работы для QSR. Вам не кажется, что двойная щель отвлекла вас от вашей главной темы?
– Откуда вам известно, что я работал на QSR?
– Я же говорил, что наше предприятие располагает экспертами.
Я уставился на него через стол.
– Дилетант, говорите?
– Можно сказать и так.
Я оглянулся на Забивалу. У него между бровями пролегла морщина. Он тоже понял: что-то случилось.
– У вас передо мной преимущество, – заговорил я, переводя взгляд с одного на другого. – Я только сейчас заметил, что за все время беседы вы не упомянули, чем, собственно, занимаетесь.
Вот где видно истинное мастерство златоуста. Проговорить час, ничего не сказав. Разглагольствовать, не позволяя собеседнику заметить, что все эти слова, сотни слов – пустое сотрясение воздуха.
Моя прямота, кажется, позабавила Брайтона.
– У нас своя компания, – ответил он мне. – Очень маленькая и специализированная. Инвестиции и исследования. Купля-продажа. И еще частные пожертвования. Мы ведем себя тихо, но держим ухо востро.
– А откуда вы знаете Джереми?
– Кого?
– Джереми. Администратор, который устроил этот обед.
– А, вы о мистере Боннере. Мы с ним не знакомы. По крайней мере лично не знакомы. Конечно, познакомиться с выдающимся сотрудником другой фирмы порой непросто, но нет непреодолимых препятствий. Мы при необходимости бываем очень убедительны, и вы поразитесь, как много можно достичь, правильно построив телефонный разговор.
– Да, поразительно.
Брайтон пригубил вино.
– Звонок вашему нанимателю, предложение, сделанное от нашего имени… и вот мы здесь. И с удовольствием пользуемся возможностью вас поздравить. И предложить поощрительную премию.
– Поощрение? – Я не сумел скрыть недоверия. Трудно было ждать хорошего от этих двоих.
– За переход к другой теме.
Это могло бы прозвучать угрозой – в устах другого человека. Или в другом месте – не в многолюдном ресторанном зале среди улыбающихся официантов и тихо звучащей откуда-то музыки. Или это могло бы прозвучать угрозой, если бы я счел нужным ее расслышать.
– Меня и нынешняя устраивает.
Улыбки по ту сторону стола погасли. Брайтон сверлил меня взглядом.
– Я вижу, вы правы. Каждому человеку свое место – я твердо в это верю. И нетрудно заметить, что вы – на своем.
– Зачем вам понадобилась эта встреча?
– Чтобы вас поздравить, как я уже говорил.
Брайтон положил салфетку на тарелку и дал знак принести счет. Потом снова посмотрел на меня.
– В 1919 году, – заговорил он, – некий англичанин получил должность профессора в Пекине, где изучать кровеносную систему можно было исключительно на трупах. Полиция в те времена обеспечивала бесперебойное снабжение телами, обычно удавленными или обезглавленными, их легко можно было купить. Когда анатом пожаловался, что у всех экземпляров для препарирования повреждены шеи, следующую партию трупов ему прислали еще живыми, связанными и с мешками на головах, с просьбой предать их смерти удобным ему способом. Хотите знать, как он поступил?
Я кивнул. Еле шевельнул подбородком.
– Профессор их вернул. Полагаю, он был недостаточно предан науке. – Зубы Брайтона приоткрылись в улыбке. – А насколько ей преданы вы?
Я рассматривал сидящего напротив человека. Костюм за пять тысяч долларов. Хищная улыбка. Я не понимал, что за игру ведет Брайтон, зато сумел понять, что противник мне не по силам. Отодвинув стул, я поднялся:
– Благодарим за обед, джентльмены.
Забивала встал вместе со мной.
– Спасибо вам, Эрик, – ответил Брайтон. – Было очень приятно.
Поднявшись, он протянул руку. Когда я ответил, он сжал мою ладонь и второй, не давая выдернуть.
– Напоследок еще один вопрос. Через несколько дней состоится эксперимент Роббинса. Какого исхода вы ожидаете?
– Не берусь гадать, что из двух, – сказал я.
– Вы говорите, «из двух», как будто возможны только два результата.
– Разве не так? Коллапс или произойдет, или нет.
Я почувствовал, как усилилась хватка на моей руке.
– Думаю, что вы, мистер Аргус, запустили ход событий, в которых совершенно ничего не понимаете.
Мне показалось, что Брайтон решает, добавить ли что-то еще. Его ладонь разжалась.
– Впрочем, полагаю, очень скоро мы все увидим.
– У меня ни в том ни в другом варианте нет никакой корысти, – напомнил я и потянул к себе руку. – Я в это дело не ввязываюсь.
– Боюсь, что глубже, чем вы, ввязаться просто невозможно.
Подошла официантка со счетом. Повинуясь знаку Брайтона, она оставила кожаную папку на столе и исчезла.
Брайтон снова сел.
– У каждого есть своя корысть, – сказал он. – Тот, кто это отрицает, лжет. – Открыв папку, он подписал чек несколькими острыми штрихами. – Все дело в перспективе вашего клинка.
Назавтра мы с Забивалой пропустили послеобеденные доклады и раньше всех уехали в аэропорт. В такси почти не разговаривали.
В аэропорту, между контролем и нашим выходом на рейс, я заметил на висящем под потолком экране знакомое лицо. Роббинс. Лицо ожило. Руки жестикулировали в такт речи. Он походил на политика, пункт за пунктом выкладывающего свою программу во время дебатов.
Я притормозил под телеэкраном, выхватывая обрывки монолога. Что-то о деонтологической этике и депривациях. Словам не хватало контекста, а контексту – смысла, зато экстаз оратора бросался в глаза. Пауза для улыбки и масленый голос:
– Завтрашний опыт это докажет.
На экране мелькнула еще одна говорящая голова – непременный оппонент с таким же искренним лицом. Субтитрами поползли гарвардские степени.
– Он слишком далеко заходит в своих выводах, – говорил оппонент. – Наука не подтверждает эту интерпретацию.
Дюжина пассажиров смотрели на экран. Другие играли с телефонами. Кое-кто спал. Аэропорт был полупустым: середина дня, середина недели. Середина жизни.
Я вспомнил вопрос Джереми: «Но что означают эти результаты?»
«Все что захочешь».
В том-то и опасность.
В голове у меня было всё виски мира.
Я прошел дальше.
* * *
В ночь после возвращения я позвонил Забивале. Либо звонить, либо пить. Пить я не хотел. Потому что знал: один глоток – и мне уже не остановиться. Никогда.
Он взял трубку с пятого звонка. Далекий голос.
– Что завтра будет? – спросил я.
Пауза так затянулась, что я подумал, расслышал ли он меня.
– Не знаю, – сказал Забивала. Голос в трубке звучал хрипло, устало. Голос не выспался. – Онтогенез воспроизводит филогенез.
– Что это значит?
– На ранних стадиях развития мы видим жабры, хвост… истоки животного царства. Это вроде машины времени: мы начинаемся с головастика и поднимаемся все выше. С развитием зародыша мы взбираемся по филогенетическому древу, и самые новые свойства – то, что делает нас людьми, – появляются последними.
– Как это скажется в эксперименте?
– Если Роббинс ищет тот признак, что есть только у человека, нутром чую, что он ошибается: коллапс проявится на поздних стадиях. Самых поздних.
– Думаешь, это так получается?
– Понятия не имею, как это получается.
* * *
В день эксперимента мы как ни в чем не бывало вышли на работу. Мы ждали сообщений в прессе – по телевизору или по радио. Ждали деклараций.
Первым намеком, что вышло не то, чего ждали, стало молчание.
Молчала группа Роббинса. Молчали СМИ. Ни пресс-конференций, ни телеинтервью.
Просто тишина.
Объявление последовало гораздо позже.
Сатвик вернулся в лабораторию, но сказать ему было нечего. Он помогал с установкой, а к эксперименту его не допустили.
– Как ты можешь не знать? – допытывался Забивала.
– Мне не показали, – отвечал он. – Оставили за дверью.
Один день, два. Три дня.
Наконец группа выпустила краткое заявление, в котором говорилось, что опыт не дал решающего результата. Роббинс, выступая несколько дней спустя, прямо сказал, что установка не сработала.
– Не сработала? – взбеленился Сатвик. – Как это не сработала?
Мы сидели у него в кабинете, смотрели новости с экрана компьютера. Запись переслал нам Джереми с сообщением: «Вам это может быть интересно».
– Прекрасно все работало, – бормотал Сатвик. – Будь там неполадка, они бы меня вызвали.
Я нажал «Пуск». На видео Роббинс стоял перед рядом микрофонов. Пресс-конференция.
– Ошибка в самой идее опыта, – говорил Роббинс. На нем был строгий костюм, вспышки камер отражались в голубом экране фона. Лицо выражало уверенность в себе, тон был взвешенным. – Условия постановки эксперимента на беременных женщинах исключают точную оценку результатов… Мы не получили осмысленного ответа.
Он предложил задавать вопросы. Но ответы были все теми же.
Установка не сработала.
Порок механизма.
Бессмыслица.
Я закрыл ролик.
– Все работало, – повторил Сатвик. – Ему результат не понравился.
– Да, – кивнул Забивала, – думаю, так и есть. Лжет.
Но, конечно, истина оказалась не так проста.
И узнали мы о ней, конечно, не сразу.
Сатвик на несколько недель зарылся в работу. В его лаборатории горел свет, завалы электроники на столах складывались в новые схемы. Его ячейка для писем наполнялась, пустела, снова наполнялась.
Я проснулся в семь часов. Дрожащие руки, холодный фаянс. Скверное утро, давно такого не случалось. И снилось плохое. Во сне разворачивалась темнота – видения из детства.
Я приехал в лабораторию к восьми.
Сатвика застал уже в кабинете. За эти недели у него отросли волосы. Концы стали темные, а у корней – соль с перцем. От этого он выглядел неряшливым – каким прежде не бывал. Прежний Сатвик пропал, его место занял тощий человечек с загнанным взглядом.
Он укладывал коробку, загибал картонные клапаны крышки.
– Куда-то собираешься?
Сатвик вскинул голову. Я его напугал.
– Пакую оборудование. В дорогу.
– Куда?
– Один проект.
Я вошел, вспоминая, как впервые сказал ему это слово. Слово, с которого все началось.
– Какой проект?
– Надо кое-что проверить, – отозвался он, закончив с коробкой и потянувшись за клейкой лентой. – Расскажу, когда вернусь.
– А почему не теперь?
– Может, я ошибаюсь, и ничего не выйдет.
– Джереми знает, что ты уезжаешь?
– Я ему сообщил имейлом. Узнает, когда посмотрит почту.
– Ты слишком много работаешь. Помнишь, когда ты мне это сказал?
– Помню, – кивнул он.
– Люди забывают, что когда-нибудь умрут.
Он улыбнулся. Впервые после эксперимента Роббинса. На минуту передо мной возник Сатвик, которого я видел в первые дни работы.
– Это другое дело, – сказал он.
– В каком смысле?
– Это я должен сделать.
Я кивнул, принимая ответ, хотя он мне не понравился. В голове почему-то всплыла сказка про царевичей.
«В птицу».
Меня снова поразило, насколько Сатвик переменился. Из-за эксперимента. Из-за меня.
Осмотрев комнату, я не заметил недостачи. Трудно было догадаться, что попало в коробку.
– Тебе помочь?
Он покачал головой.
– Нет, справлюсь. – Оторвав кусок ленты, Сатвик заклеил коробку. – Вернусь через неделю.
– Зачем тебе это?
– Затем, что Роббинс солгал, – сказал он. – Эксперимент не провалился.
– Ты тут ни при чем. Не лезь в это дело.
– Не могу, – сказал он.
Я смотрел на него. Сатвик – четвертый царевич, он всегда таким был. «В птичий глаз». Он не умел «не лезть».
Подняв коробку, он двинулся к выходу.
– Ты осторожней там.
Я смотрел ему вслед.
– И ты, друг мой.
* * *
Правда накатывала волнами. Первая попала в новости на следующий день – Роббинс не сумел помешать ее медлительному приливу. Я только потом сообразил, что Сатвик, видимо, знал. Должно быть, поймал какой-то намек в Сети.
Правда состояла в том, что некоторые зародыши прошли испытание. Точно как надеялся Роббинс. На «Ютьюбе» всплыло видео. Загружено анонимом. Утечка из ближнего круга Роббинса. Улыбающаяся мать, над ней склоняются доктора – из живота тянется проводок диода. Сам Роббинс виден на нескольких дополнительных экранах, ждет результата.
Некоторые зародыши вызвали включение зеленой лампочки индикатора. Вызывали коллапс волновой функции.
А другие нет. И видео с ними тоже всплыло.
Те же медики. Другие пациентки.
Взволнованные голоса:
– Попробуй еще.
– Еще раз.
Встревоженное лицо матери. А свет не загорается, не светится зеленым, что ни делай.
– Что это значит? – В голосе матери паника. – С моим ребенком все нормально? Что это значит?
Ролик за роликом. Дюжина животов разной величины. Два совсем разных результата. Большинство эмбрионов обрушивали волновую функцию. Но не все.
И срок беременности не играл никакой роли.
* * *
Сатвик не вернулся ни через несколько дней, ни через неделю.
На десятую ночь меня вырвал из кошмара звонок.
– Нашел одного в Нью-Йорке, – говорил Сатвик.
– Что? – Я тер глаза в попытке проснуться. Понять слова в трубке мобильника.
– Мальчик. Девять лет. Я проверил его на ящике, он не обрушивает волновой функции.
– О чем ты говоришь?
– Он смотрел в ящик, но коллапса волны не было.
Я заморгал в темноте. Сатвик понял первым. Раньше нас всех. Что верно для эмбрионов, верно и для остальных.
«В птичий глаз».
– Что с ним не так? – спросил я.
– Ничего, – ответил Сатвик. – Нормальный мальчик. Нормальное зрение, нормальный интеллект. Я перепроверил пять раз, картина интерференции не исчезает.
– А что было, когда ты ему сказал?
– Я не сказал. Он стоял там и так смотрел на меня…
– Как?
– Как будто уже знал. С самого начала знал, что не сработает.
* * *
Дни превращались в недели. Испытания продолжались. Сатвик нашел еще нескольких. Много.
Он ездил по стране, отыскивая это неуловимое, идеальное скрещение волосков и набирая статистику. Он собирал данные, пересылал их факсом в лабораторию – на хранение.
Я представлял его на том конце линии – в темной комнате мотеля, измученного борьбой с бессонницей и страшным одиночеством своего дела.
Забивала искал утешения в построении сложных филогенетических деревьев, зарывался в кладограммы. Но утешения в них не находилось.
– Нет там кривой частотного распределения, – жаловался он мне. – И равновесие между этническими популяциями не нарушено – не за что уцепиться.
Он перелопачивал собранные Сатвиком данные в поисках хоть какой-то закономерности.
– Распределение случайно, – говорил он. – Не вижу связи.
– Может быть, ее и нет?
Он покачал головой.
– Тогда кто они такие? Какое-то пустое множество? Неиграющие элементы недетерминированной системы?
У Сатвика, естественно, были свои соображения.
– Почему не ученые? – спросил я его как-то ночью, прижимая к уху трубку. – Если разброс случайный, почему никто из нас?..
– Самоотбор, – ответил Сатвик. – Если ты – элемент недетерминированной системы, к чему тебе наука?
– О чем ты говоришь?
– К упорядоченному поведению способны многие виды, – пояснил он. – Оно еще не означает сознания.
– Речь-то о людях, – возразил я. – Не может это быть правдой.
Я еще не договорил, а уже мечтал взять свои слова обратно. Сколько раз они произносились в квантовой механике? «Это не может быть правдой. Так быть не может».
– Факты есть факты, – напомнил Сатвик. – Твои глаза – двойная щель.
– А кто-нибудь из них знал, на что ты их проверяешь, зажигая перед ними лампочку? Они знают, что не такие, как все?
– Один, – сказал Сатвик. И минуту молчал. – Один знает.
* * *
Много дней спустя он последний раз позвонил мне ночью. Из Денвера. Его последний звонок.
– Думаю, нам нельзя было этого делать, – удивительно резко проговорил он.
Я, протирая глаза, сел на кровати.
– Чего делать?
– Нельзя было собирать эту штуку, – сказал он. – То слабое место реальности, о котором ты толковал… думаю, нам не положено было использовать его таким образом. Для проверки.
– О чем ты говоришь? – Свет фонаря с парковки косо падал в окно, рисовал бледную полосу на полу. За ночь комната выстывала. – Что случилось? – спросил я.
– Я снова видел того мальчика.
– Кого?
– Мальчика из Нью-Йорка, – повторил он. – Я его сегодня видел. Он ко мне приходил.
Голова у меня еще не работала. Я мучительно пытался понять.
– Мальчик… – Я еще не проснулся, мне бы кофе выпить. – Чего он хотел?
– Думаю, он приходил меня предупредить.
И Сатвик дал отбой.
Я еще несколько дней пытался ему дозвониться, но Сатвик не отвечал. Словно пропал с лица земли вместе со своей шкатулкой. Звонки сразу перебрасывались на голосовую почту. Я проводил ночи в лаборатории, спал на кушетке. В лаборатории меня застал звонок от его жены.
– Нет, – ответил я, – с понедельника.
Она плакала в трубку:
– Он каждый вечер звонил домой. Ни разу не пропустил.
– Уверен, с ним все хорошо, – солгал я.
После разговора я взял пиджак, ключи и вышел. Прокатная машина блестела под фонарями парковки.
«Они знают, что не такие?» – спросил я его.
«Один, – ответил он. – Один знает».
Я нажал газ, вылетел на дорогу на желтый свет.
Чем сложнее система, тем больше в ней может поломаться. Об этом говорил Забивала.
Всё поломалось. Прожектор. Моторчики для коллапса волны. Может ли прожектор увидеть темноту, если видит только свет?
На шоссе я вылетел через две минуты.
* * *
Стук в дверь.
Ее лицо в щелке.
– Джой, – сказал я.
Она оставила дверную створку качаться, повернулась и ушла в глубину квартиры. Слов не было. Они пришли много позже.
В постели она прижалась теплой щекой к моему плечу. Я рассказал ей про Сатвика. Про звонок его жены.
Она лежала молча, не заговаривала. В темноте у нее была форма. Изгиб бедра.
– Каждую ночь снятся кошмары, – сказал я.
– Они пройдут.
– Что ты понимаешь в сновидениях?
Она по голосу услышала, что это вопрос, а не насмешка.
– Звук и прикосновения, – сказала она. – Но я помню, как видела сны. Это было так давно, что не знаю: помню, как видела, или помню, как видела во сне? А может быть, это одно и то же.
– Может быть, – согласился я.
– Сегодня пришла новая угроза, – сказала она. – Письмо на адрес лаборатории. Я подслушала, как Джереми говорил о нем в коридоре.
Тень шевельнулась. Я не видел ее, но чувствовал ее руку на своей груди.
– Так что тебе снится? – спросила она.
– Никогда не запоминаю снов.
– Храни свои тайны, – сказала она. – Я не в обиде.
– Ты думаешь, с ним все в порядке?
Она долго молчала.
– Он вернется. Думаю, он просто сбился с пути.
* * *
– Заходи.
Джереми сидел за столом перед развалом бумаг.
Я все утро думал, что ему скажу, но сейчас не знал, с чего начать.
– Думаю, что-то случилось, – начал я.
Джереми отложил ручку.
– Ты о чем?
– С Сатвиком. Никто не может с ним связаться, телефон переключен на голосовую почту.
– Ты говорил с его женой?
– Вчера вечером – она тоже не может дозвониться. Она волнуется.
– Он часто вот так пропадал с радара?
– Бывало, на несколько дней, но он обычно отвечал на звонки.
– На мои – нет, – с досадой бросил Джереми. – Ты знаешь, над чем он работал?
– Он высылал отчеты факсом.
– О себе я этого сказать не могу. Не люблю, когда меня держат в потемках.
– Я думал, он тебе докладывается.
– Ни о чем он не докладывался. Попросил несколько дней за свой счет для «разведки нового направления» – кажется, он так выразился, – но это было довольно давно. Он должен был уже вернуться.
– В том-то и дело – у нас нет с ним связи. И, как я слышал, опять пришло угрожающее письмо?
Джереми отмахнулся:
– Письма, имейлы. Бывает иногда. – Открыв ящик стола, он вытащил пачку конвертов и толкнул ко мне через стол. – Группа Роббинса воистину открыла банку с червями. Роббинс выкрутился, а нас теперь дергают с обеих сторон.
Я взял пачку, перелистал несколько писем. Странная смесь. Длинные рукописные послания и короткие угрожающие декларации. Короткие были популярнее.
«Надеюсь, у вас хорошая страховка».
Ты в полицию обращался?
– И не раз. Бо́льшая часть писем не содержит угрозы действием, а в тех немногих, где она есть, почему-то нет обратного адреса. Но полиция ими занимается.
Я перебрал еще несколько писем, куда более удивительных. То красный маркер, то аккуратная печать. А в последнем вроде бы вовсе не было угрозы.
«Берегитесь мерцающих».
Я вернул конверты.
– Не нравится мне, что о Сатвике никто не знает. Как ты думаешь, не подать ли заявление?
– Заявление? – Он поднял бровь. – Заявление о пропаже?
– Ну да.
– Думаю, пока рано. Во всяком случае, для нас. Если жена захочет, это ей решать, но я бы не спешил с выводами.
Джереми снова взялся за перо.
Это было в его характере. Я его знал. Джереми никогда не рассматривал наихудших вариантов. Они не укладывались у него в голове.
– Он мог потерять телефон, – предположил Джереми. – Объявится… а когда объявится, заставь его позвонить мне.
– Хорошо. – Я уже уходил, но задержался в дверях. – Еще одно. Кое-что меня беспокоит. Те двое, с которыми ты нам устроил ужин. Брайтон и Боаз, помнишь?
– Да, я же хотел тебя о них спросить.
– Что ты о них знаешь?
– Они занимаются каким-то спонсированием. Вроде бы со связями.
– Спонсированием? – В определенных кругах это волшебное слово. Слово, открывающее все двери. Неудивительно, что им удался этот фокус с рестораном.
– Состоят в каком-то научном комитете, – продолжал Джереми. – По крайней мере так нам сказали их люди. А что, что-то случилось?
– Брайтон произнес одну фразу: «Вы так говорите, будто есть только два варианта». Думаю, они что-то знали об опыте Роббинса.
– Что знали?
– Что он получит не тот результат, которого ждал.
– Откуда им было знать? – озадачился Джереми.
– Без понятия.
Я повернулся к двери и уже взялся за ручку, когда он сказал: «Если Сатвик позвонит и с ним что-то случилось, дай мне знать. Что бы там ни было».
* * *
После заката я набрал номер. Забивала взял трубку со второго звонка.
– Нет, – ответил он, – ничего не слышно.
Я передал ему, что Джереми сказал о Сатвике и о нашем банкете на симпозиуме.
– Мне это не нравится.
Я поразмыслил.
– У тебя есть связи в деловых кругах?
– Есть.
– Окажи услугу. Я сейчас несколько дней буду занят. Попробуй разузнать что-нибудь о Брайтоне с Боазом. И что там они спонсируют.
– Думаешь, они как-то связны с Сатвиком? – недоверчиво спросил он.
– Не знаю. Но они хорошо покопались в моем прошлом. Хочу ответить тем же.
К границе штатов Сатвик подъехал в темноте. Он опустил окно, подставил лицо ветру.
С трассы 93 на 89. Через холмы в Вермонт, за Уайт-ривер, и снова через мост, по зигзагам шоссе, пересекающимся на равнине. Он ехал в поля. От городов. От лаборатории.
Так могло быть. Это я мог себе представить.
У Сатвика полный багажник оборудования. Камнем на шее. Возможно, он устал от экспериментов, устал писать отчеты. Устал гоняться за тем, чего и быть не может: за теми, кто среди нас, но не мы. На сиденье рядом с ним звонил телефон. От звонков он тоже устал. Не обращал внимания.
Остались только ветер, темнота и белые полосы на шоссе.
Я старался в это поверить.
Сатвик вырвался на волю. Отступил.
Может быть, он соскучился по логической простоте вентильных матриц. Или устал от вопросов без ответа. Или все дело в том мальчике. Последняя соломинка. Мальчик из Нью-Йорка – тот, что его выследил.
«Один знает».
Через тридцать миль телефон снова зазвонил. Сатвик посмотрел, кто это. Опять из лаборатории. Свет экранчика бросал зеленоватый отблеск на сиденье машины. Ему хотелось ответить. И хотелось не отвечать. Ему нужно время, решил Сатвик. Несколько дней. Время, чтобы навести порядок в голове. За несколько дней он во всем разберется. Так подсказывала интуиция – та самая, которая чуяла ошибку в схеме, когда Сатвик ее еще не видел. Иногда чем усерднее вглядываешься, тем меньше видишь. Он стоит слишком близко к проблеме. Взяв телефон, он вышвырнул его в окно. Он никогда не поддавался порывам, а сейчас поддался, и ему сразу полегчало. Так хорошо не было уже много недель. С тех пор как Роббинс дал пресс-конференцию.
Он ехал дальше, оставляя телефон позади. Наматывал милю за милей. Он купит новый телефон, только вот несколько дней отдохнет.
Все могло быть вот так просто.
Или он ехал по шоссе с полным багажником оборудования, а сзади его догнала другая машина.
Темная лента шоссе.
Сатвик держал пятьдесят пять миль в час, а вторая машина догоняла.
В ней три человека. Те самые, кто слал письма в лабораторию. Они рассержены. Встревожены.
Задняя машина пошла на обгон, и в темное окно высунулся невидимый ствол. Сатвик слушал радио и вспоминал дом. Он слишком давно не был дома. Он дал себе слово сегодня же позвонить жене. В первую же подходящую минуту. Он забыл зарядить телефон, аккумулятор сел, а когда зарядился, оказалось, что нет связи. Он ехал по пустыне. По обе стороны дороги глушь.
Хватит с него дорог. Хватит искать дно там, где дна не видно.
Мимо пронеслась машина.
Он потянулся к кнопке приемника, когда уголком глаза увидел: ствол показался и скрылся вместе с обогнавшей машиной.
И лицо Сатвика обмякло за миг до того, как спустили курок.
Выстрел осветил пространство между машинами, а потом еще несколько сот футов машина Сатвика шла так, будто ничего не случилось, потом уклонилась вправо, к обочине, не снижая скорости. Машина ударила в ограждение на скорости пятьдесят пять миль в час, завиляла, ударила еще, а потом вылетела на травянистый откос, уходящий к лесу, мелькнула ракетой и скрылась из вида, канула в чащу, пропала. Темнота приняла его, как конверт, и заклеила клапан.
Могло быть и так.
Или он, как сказал Джереми, просто потерял телефон. Или зарядник потерял.
Он мог быть в Нью-Джерси или в Нью-Йорке. Или рядом, в Бостоне. В такой же комнате мотеля.
– Я пришел повидаться с мистером Роббинсом.
Секретарша улыбнулась.
– Вам назначена встреча?
Она была молоденькая и пухленькая, с очень ровными, очень белыми зубками, и все в ней дышало опрятностью и точностью. Даже волосы были точны – ни волоска не на своем месте.
Жаль было ее разочаровывать.
– Нет.
– Извините, – сказала она. – У него весь день расписан. Вам придется записаться. Мы составляем график встреч заранее, за несколько недель.
– Мне нужно его видеть, – объяснил я. – Я приехал издалека.
Ее улыбка не дрогнула.
– К сожалению, это невозможно.
Приемная, где мы разговаривали, была достойна Овального кабинета. Роскошный голубой ковер, облагороженные картинами стены. Своды потолка поднимались к небу. Не меньше пяти человек сидели среди этой обдуманной роскоши, ожидая свидания с великим человеком.
– Он там? – спросил я. И шагнул к резной двойной двери у нее за спиной.
– Боюсь, он не сможет вас принять.
Мне приходило в голову просто пройти мимо и открыть дверь, но что-то в беззаботности секретарши, в ровном блеске уверенной улыбки подсказывало: стоит коснуться этих створок без разрешения, и я окажусь на полу носом в пышный ковер.
Возможно, с высоких сводов обрушится парашютный десант. Или она сама меня уложит.
Я выбрал дипломатический подход:
– Меня зовут Эрик Аргус, и…
– О, я вас знаю.
Я умолк. Ее улыбка не коллапсировала.
Я обвел глазами комнату. Теперь все смотрели на меня. Пора было зайти с другой стороны:
– Может, вы скажете ему обо мне, а он уж сам решит, принимать меня или нет?
– Он принимает только по графику…
– Я два часа провел за рулем. Прошу вас, потратьте две секунды, спросите.
Ее броня дала крошечную трещинку. Миг колебания. Я поднажал:
– Если он узнает, что я приезжал, а ему не сообщили…
Улыбка в левом уголке ее губ сузилась на долю миллиметра.
– Прошу вас, – повторил я, – две секунды.
Мне показалось, что она очень долго рассматривала меня, прежде чем потянуться к интеркому.
– Сэр, – проговорила она, – простите, что прерываю, но здесь Эрик Аргус. Он не записан на прием.
Интерком молчал верных восемь секунд, и все это время секретарша не сводила с меня глаз. Я уже начал думать, что ответа не будет, когда динамик щелкнул:
– Пусть войдет.
Проходя, я чувствовал на себе гневные взгляды других посетителей. Так смотрят на парня, который объезжает пробку, чтобы втереться первым.
Роббинс сидел за столом напротив двоих других. Эти двое обернулись. Акулы в деловых костюмах.
– Прошу меня извинить, – обратился к акулам Роббинс. Оба кивнули и встали. – И, пожалуйста, закройте за собой двери.
Дверь щелкнула шепотом. За щелчком последовало молчание банковского сейфа.
– Эрик Аргус! – торжествующе провозгласил Роббинс, когда мы остались одни. – Сколько раз я просил вас о встрече?
Он был мельче, чем я думал, и без телевизионного грима не такой ухоженный и лощеный, но в остальном тот самый человек, которого я видел по кабельным каналам.
– Помнится, дважды.
– А теперь вы вдруг возникаете здесь, где ваше появление отнюдь не желательно. Я очень занят, мистер Аргус. Чем обязан честью?..
Лицо его было холодным и невыразительным. Сесть Роббинс не предложил. Вероятно, встреча предполагалась такой короткой, что садиться и не стоило. Кабинет его оказался столь же огромным, сколь и броским, – обставлен как вся его жизнь. Несколько мягких кресел, картины на стенах, одна непременная книжная полка с солидными кожаными томами. Балконная дверь за его спиной открывалась в маленький закрытый дворик.
Я решил переходить сразу к делу:
– Я наделся получить у вас сведения о своем друге.
Он и глазом не моргнул.
– О ком?
– Сатвик Пашанкан. Техник, налаживавший для вас установку.
– А, кажется, припоминаю. Сатвик, говорите? Он со мной не связывался. Почему вы спрашиваете меня?
– Потому что он пропал.
– Пропал… – Впервые на его лице мелькнуло что-то похожее на чувство. – Когда пропал ваш друг?
– Неделю назад.
– Иногда люди нуждаются в перемене обстановки. Думаю, он объявится.
Я пристально смотрел на него. Мне требовалась правда, пусть и не высказанная словами, но либо Роббинс был очень хорошим актером, либо ничего не знал о Сатвике. Я решил, что прямота будет уместнее всего.
Достав из заднего кармана сложенный листок, я бросил его на стол. Чуть помедлив, Роббинс протянул за ним руку.
– Такие приходят к нам в лабораторию, – пояснил я. – Может, от ваших сторонников?
Он развернул листок. Он прочитал. Он поднял ко мне широко расставленные карие глаза. Снова сложил и бросил листок через стол в мою сторону.
– С какой стати кто-либо из моих сторонников мог бы такое написать?
– Эксперимент, – напомнил я. – Такие угрозы стали поступать примерно месяц назад. Эта – не самая серьезная.
Он указал на кресло перед столом:
– Садитесь, пожалуйста.
Я утонул в красной коже. Так чувствуешь себя в дорогой машине. Пожалуй, это кресло обошлось в мое месячное жалованье.
– В своем интервью вы объяснили провал опыта неполадками в механизме, – начал я.
– Да.
– Однако неполадок ведь не было?
– Вот чего вам надо? Признания? Вам оно действительно нужно? Вы видели просочившиеся в Сеть ролики.
– Видел.
– Как и весь мир. Мы, описывая эксперимент, использовали слово «неудача», но, конечно, есть другое слово: «катастрофа». Скажу вам правду, я жалею, что вообще услышал о вашем ящичке. Он ничего не принес нам, кроме проблем.
– И, может быть, один из ваших последователей решил сорвать досаду на Сатвике. Или вы сами.
– С какой стати? – расхохотался Роббинс. – Что мне это даст?
Я пожал плечами.
– Вам не понравилось то, что сказал наш ящик.
– Ну в этом отношении вы правы, но тут уже ничего не поделаешь. Кота, так сказать, выпустили из мешка. И его не загонит назад исчезновение вашего техника. Честно говоря, если с вашим другом что-то случится, это только привлечет внимание к злосчастному эпизоду, о котором в ином случае скоро забудут. Я предпочел бы на этом закрыть книгу.
Я вспомнил наш прошлый разговор о книге. Передо мной был не тот самоуверенный, упертый Роббинс, с каким я не так давно говорил по телефону. Этот человек познал смирение. Научился отступать. Что-то переменилось.
– Однажды вы сказали мне, что вам нужна всего одна книга, но правильная.
Отработанная улыбка погасла.
– Бывает, что создатель отказывает нам в ответе, давая возможность проявить веру. Есть такая версия.
– Интересная гипотеза.
– Других нам не осталось. Хотя иногда, в темные часы, я гадаю, не стали ли мы жертвами розыгрыша.
Его холодная профессиональная улыбка пропала. Кожа в уголках глаз пошла трещинками, веки оказались припухшими, словно Роббинс недосыпал.
– Это не шутка, – уверил я. – Мой друг исчез.
– Иной раз мне даже приходит в голову, что «розыгрыш» слишком мягко сказано. Может быть, точнее было бы: «трюк». Я должен поблагодарить вас – за этот месяц я многое узнал о душе.
– Благодаря мне?
– После эксперимента я пережил кризис веры, – кивнул он. – Я не мог понять, зачем Бог создает детей, лишенных души. С какой целью? И вот какой вопрос не давал мне уснуть по ночам: что вырастет из этих детей?
Именно этот вопрос я всеми силами гнал из головы. Может быть, именно этот вопрос не давал Сатвику вернуться домой.
– Я не за тем пришел, чтобы обсуждать богословские вопросы.
Он отмахнулся:
– Если Бог существует, то любой вопрос – богословский. Скажите, вас не удивляет, что свобода воли стала предметом и религии, и физики?
Я промолчал. Роббинс откинулся в кресле.
– Это Монтес. – Он кивнул на картину, висевшую напротив его стола.
На большом полотне в красно-коричневых тонах девочка сидела на стенке каменного колодца, на заднем плане поднимался огромный собор. Крест на вершине шпиля отбрасывал длинную тень на городок. Картина была хороша. Девочка выглядела измученной и печальной.
– Восемнадцатый век, – продолжал Роббинс. – Художник покончил с собой в двадцать один год. Отчасти потому его работы так ценятся – их не слишком много. Творчество иногда убивает, это одна из причин, по которым я сторонюсь искусства: но что сказать об изначальном Творце? Не знаю. Почему, размышляя о целях Творца, люди… почему они никогда не допускают, что Бог безумен?
Я счел вопрос риторическим, но Роббинс ждал ответа. Мне было нечего ответить. Не существует ответов на такие вопросы.
– Так вот, может, глупо задаваться вопросом, зачем Творец сделал то или это, – продолжал он. – Может, в его действиях нет логики. Может, правы были древние философы Востока, когда спрашивали не «Зачем?», а «Как?». Что скрыто под блестящей позолотой? Можно ли по-настоящему полагаться хоть на что-то в этом мире? Даже атомы оказались неуловимым туманом – пустотой в пустоте, в которую все мы умудрились поверить.
Этого я не ожидал. Однако он уклонился в сторону, и я вернул его к главному:
– Наверняка вы что-то могли бы сделать насчет Сатвика.
Его взгляд мгновенно стал внимательным.
– Например?
– Обратиться к своей пастве.
Роббинс рассмеялся. Глубокий басовитый хохот длился и длился.
– И вы вообразили, что, если в это действительно замешан кто-то из моей паствы, они послушаются моего слова?
– Возможно, – пожал я плечами.
– Любая церковь создается по нашему образу и подобию, как мы созданы по подобию Бога. Паства берет из религии то, что ей подходит, а остальное отвергает. Если кто-то из моих последователей держится столь… крайних взглядов, подозреваю, что никакие мои слова не заставят его от них отказаться. Что думает о пропаже вашего друга начальство?
– Держится тактики «подождем – увидим».
– Ну, возможно, они знают, что делают. Впрочем… – Он помедлил, обшаривая карими глазами мое лицо. Я видел, как трудно ему решиться. – То, что вы предлагаете, не повредит. Проповедь о том, как преступно подменять собою закон? Что-то в этом роде?
– Неплохо бы для начала, – согласился я и решил сыграть наугад: – У вас новая охрана или вы всегда страдали паранойей?
Безрадостная улыбка тронула его губы.
– Новая. И во дворе охрана. – Он махнул в сторону балконной двери, но среди кустов и деревьев я никого не разглядел.
– Отчего вдруг такое внимание к безопасности?
– Обстоятельства переменились. Мир не стоит на месте.
– Да?
– Мы заглядываем в ваш ящичек и обрушиваем волну. То, что истинно в одном плане, часто отображается и в другом. По-видимому, даже слава подчиняется законам квантовой механики. Взгляд публики меняет наблюдаемый объект.
– Значит, и вам приходят письма.
– Скажем так: не всё внимание доброжелательное. – Улыбка пропала. – Такую цену приходится платить за поиск ответов на главные вопросы.
– Кстати, о вопросах, – начал я и запнулся, подбирая слова. На руках у меня была всего одна карта. – Вам знакомо имя Брайтон?
Его лицо застыло – на такой короткий миг, что я мог притвориться, будто не заметил. Он покачал головой.
– Нет. Никогда о таком не слышал.
Я смотрел ему в глаза. Впервые за весь разговор я ему не верил.
– Еще до вашего эксперимента, – сообщил я, – у меня был разговор с Брайтоном, и он, по-видимому, знал больше, чем ему следовало. Знал, что вы получите неожиданный результат.
Роббинс молча смотрел на меня.
– Так откуда он мог знать? – поторопил я. – Кто вам этот Брайтон?
– Мне не знаком человек с таким именем.
Ложь была написана у него во все лицо. Я еще поднажал:
– Кто и откуда мог знать, что у вас получится?
– Может быть, догадался? Или вы его неправильно поняли.
– Может быть, – кивнул я, ни на секунду в это не поверив.
– Если кто-то знал, – сказал он, – безумно жаль, что он не предупредил меня. Я бы уклонился от внимания журналистов.
Роббинс вдруг встал из-за стола. Мне было подумалось, что это конец разговора, но он, вместо того чтобы попрощаться, развернулся к балконной двери. Не открыл, а просто постоял в ломтике солнца, упавшего сквозь стекло. Выглянул в окно, скрестил руки на груди.
И заговорил, не поворачиваясь ко мне:
– Знаете, до недавнего времени я не стал бы уклоняться от сложностей. Я всегда стремился быть твердым в вере. Вот почему ваш опыт так соблазнял меня. Я думал, что найду ответ.
– На что ответ?
– На старейший из всех вопросов. Может быть, единственно важный. Что мы? Тело? Я приобрел знания по множеству проблем, которые редко укладываются в одной голове, и, добившись этого, понял, что вера моя слаба. Теперь я могу это сказать. Могу признаться. – Я увидел, как его взгляд нашел мое отражение в стекле. – Вы мальчиком не удивлялись, как могла возникнуть жизнь?
– Я больше увлекался математикой.
– В мединституте я изучил эндокринную систему и кровообращение – все эти клапаны и рычаги организма – и не увидел ни смысла, ни цели, кроме бесцельного поддержания функции клеток. Безусловно, все это очень сложно устроено, но не говорит о присутствии души. Под оболочкой не горит огонек. – Он неторопливо кивнул, словно возвращаясь к особенно темному отрезку жизни. – И то, что верно в этом плане, верно и для всего мира. Как клетка возникает из существовавших до нее клеток, так и во Вселенной прослеживается бесконечная непрерывная цепь событий, связующая ее с первопричиной – с «неподвижным движителем» Аристотеля. Существует ли смысл жизни, ее сверхзадача? Я искал, и я спрашивал себя, где во всем этом Бог – причина, не имеющая причины. Есть ли в нем необходимость?
– Это религия, а не наука.
Он снова поймал мой взгляд, отраженный в стекле.
– Был один ученый, Стивен Вайнберг, его часто цитируют: «Чем более постижимой представляется Вселенная, тем более бессмысленной она кажется».
– Я помню эту цитату.
– Разве вы не видите, что именно это дал нам ваш опыт?
– Что же?
– Свет под оболочкой, – произнес он. – Смысл всего. Он существовал с самого начала.
Отвернувшись от окна, Роббинс вернулся к столу, упал в кожаное кресло.
– Вы не знали, что я – один из близнецов? Не знали. Так и есть.
Я попытался представить себе мир, где их двое.
Он, словно прочитав мою мысль, продолжил:
– Брат умер при родах.
– Очень жаль.
– Мальчиком, в католической школе, я пытался понять, как мы с братом обрели душу, находясь в одном теле. Душа этого тела разделилась надвое? Или на то краткое время, что мы были едины, в одной бластоцисте содержались две души, чье присутствие и вызвало разделение на два тела? Двоение – несомненно, ошибка, но какого рода? Может, присутствие двух душ вызывает раздвоение, а не порождается им. Или, может, у нас с братом была одна душа на двоих? Кому она досталось: мне или ему? Или у нас была общая душа?
Теперь я начал понимать, какой демон его терзает. Такое детство могло сформировать этого взрослого. Врач, ставший пастором, ставший… чем бы он ни стал, он сидел передо мной.
– А что же люди, у которых вовсе нет души? – продолжал он. – Кальвинисты учат, что нам еще до рождения предопределено, кто будет спасен, а кто нет. Может быть, они правы?
– Не думал, что вы кальвинист.
– Никогда им и не был, – ответил он. – Помнится, жизнь и прежде заставляла меня размышлять о том, что нас разделяет. Откуда берутся убийцы? Я смотрел в глаза этих людей и не видел ни сожаления, ни раскаяния – они просто не думали о чужих жизнях. Можно ли, глядя в лица ближних наших, не задуматься, что есть среди нас и лишенные искры человечности?
– Что вы вздумаете проверять в следующий раз? – съязвил я. – Тест на социопатию?
– Посягнув на право, принадлежащее одному Господу, мы сами навлекли на себя катастрофу.
– Какое право?
– На истинное зрение, разумеется, – на распознание в человеке сознания или отсутствия такового. – Он помрачнел. – Эксперименты меня больше не интересуют. Не вы один теряете людей.
Смысл его слов дошел до меня не сразу, но, когда это случилось, я словно под поезд попал.
– Кого вы потеряли?
По лицу Роббинса было видно, что проговорился он нечаянно. Он медленно улыбнулся и промолчал.
– Зачем вы солгали про Брайтона?
– Говорю вам, это имя мне неизвестно.
Посмотрев на него, я вдруг догадался:
– Так вот зачем вам охрана!
Он тихо хихикнул. Если раньше взгляд его был усталым, то теперь совсем погас.
– За одними тайнами мы гоняемся. От других бежим. Как неживое порождает живое? Что мы: ткани или искра? И последняя тайна – та, на которую однажды каждый получит ответ.
– Это какая же?
– Что станется с горящим в нас огнем после смерти? Я пока не готов искать ответа.
– Я тоже.
– Тот, кто верит в Бога, мистер Аргус, неизбежно верит и в дьявола. Спросите себя, кто из двоих к вам ближе? Мне случалось терять веру. Какая великая ирония в том, что встреча с дьяволом может привести человека к Богу!
Рука его шевельнулась под столом. Едва заметно.
– Но иногда, – закончил он, – я мечтаю вернуться к неверию.
Дверь в кабинет открылась. Он, видимо, нажал кнопку вызова охраны. Итак, разговор окончен.
– Я выступлю с проповедью, как вы просили, – пообещал Роббинс, – но теперь вам пора идти.
Вошли четверо рослых мужчин. Двое бритоголовых, двое с военной стрижкой.
Самый крупный положил руку мне на плечо.
Я подавил инстинкт сопротивления и сказал, вставая:
– Мы с вами еще свяжемся.
– К сожалению, мистер Аргус, я в этом сильно сомневаюсь.
Мне позвонили через четыре дня после этого. В субботу под вечер, когда тени за окном моего номера начали удлиняться. Я вздрогнул от звонка – от внезапной вспышки на столе, где я оставил телефон.
Он прогудел дважды и замолчал. Я посмотрел на экран. Пропущенный звонок.
Номера я сперва не узнал. Местный и выглядит знакомым, но в контактах не записан.
Потом я сообразил, в чем дело, и уставился на цифры.
Я знал этот номер, но никогда не набирал. Мой собственный рабочий телефон.
Я напрягся, встрепенувшись.
Я попробовал перезвонить, но трубку никто не брал. Отвечал мой голос, записанный на автоответчик и забытый. «Меня нет на месте, но, если вы оставите сообщение, я вам перезвоню». Я набрал еще раз. И еще раз. Пять раз за ту пару минут, пока одевался, но ответа так и не было. Только мой голос в трубке.
Меня нет на месте, но, если вы оставите сообщение…
Меня нет на месте…
Меня нет…
Я успел возненавидеть собственный голос. Подумал, не позвонить ли Джереми, но что я мог ему сказать? Что мне звонили с работы днем в субботу? И таинственно отключились? И что бы он стал делать? В лаборатории нередко работали по выходным. По такому поводу полицию не вызывают. Хотя, может, и следовало бы, учитывая все обстоятельства. Скорее всего, он бы просто сам съездил проверить.
Я, разгоняя туман, плеснул себе воды в лицо. Я попробовал представить, кто мог быть на том конце линии – кто сидел на моем стуле, набирал мой номер. В голову приходил только один человек. И позвонил он мне, а не Джереми.
Но почему из лаборатории? Почему не с мобильного? После такого долгого молчания звонить с рабочего телефона… С чего бы? Разве что он боялся, что звонок проследят. Или Джереми был прав – он просто потерял мобильник. Может, рабочий телефон просто оказался под рукой. Но тогда зачем вешать трубку?
Я открыл рюкзачок и, вытащив, взвесил на руке пистолет. Есть вещи, которые, сделав, уже не отменишь.
Я проверил обойму – оружие было заряжено.
Надо верить себе. Я поймал свое отражение в зеркале над гардеробом. Всклокоченные темные волосы. Мое квадратное лицо осунулось – давно не было таким узким. Беспокойный взгляд.
Я завернул пистолет в старую пару джинсов и убрал обратно в рюкзак. А рюкзак убрал в сейф в шкафу-кладовке.
Потом нашел ботинки и вышел.
* * *
Солнце уже садилось. Телефон лежал рядом со мной на пассажирском кресле. Днем прошел дождь, дорога еще не просохла. Я включил дворники, стирая брызги от встречных машин.
Добрался я к сумеркам. На гостевой парковке мигал маленький желтый огонек. Я проехал дальше, обогнув здание.
Мое сердце забилось чаще, когда я увидел: посреди парковки стояла машина Сатвика, его серый седан. Я чуть не заорал.
Остановив машину рядом, я вылез. Подошел к его старой «субару» и пощупал капот, как видел в каком-то полицейском боевике. Еще теплый, и на нем несколько капель воды.
Я подошел к главному зданию, карточкой открыл дверь, пробежал вестибюль и поднялся на второй этаж.
Передние помещения были хорошо освещены, но глубина здания подсвечивалась только гаснущим закатом.
– Сатвик! – позвал я. – Ты здесь?
Ответа не было.
Он звонил из моего кабинета, но я решил сперва заглянуть к нему.
Ни звука, кроме стука моих подошв.
Подходя к его комнате, я увидел, что свет не горит. Разочарование. Я щелкнул выключателем. Здесь было пусто и на вид точно так же, как все эти недели. Непохоже, чтобы Сатвик тут появлялся. Не погасив света, я прошел дальше по коридору к его лаборатории. И там тоже оказалось пусто.
Оборудование на рабочем столе – сколько раз я его видел! Я уже уходил, когда меня что-то остановило.
Что-то переменилось. Я присмотрелся.
Сообразил через минуту.
Пропали графики. На стене еще болтался обрывок бумаги. Листы не снимали – срывали.
Напрягшись каждым нервом, я вышел из комнаты и свернул по коридору.
Остановился. Наконец-то включенный свет.
В моем кабинете.
Я видел светлую щель под дверью.
– Сатвик!
Я подождал. Ответа не было.
– Сатвик, это ты?
Меня приветствовало одно молчание. Я вошел в кабинет.
Там оказалось пусто.
Я прошел дальше, осмотрел маленькое помещение. Все бумаги на своем месте. Ничего не тронуто. Я упал на вращающееся кресло, соображая, что делать. Телефон стоял передо мной на столе. Сняв трубку, я набрал мобильный Сатвика, подумав, что он ответит, если увидит, что я здесь, но результат оказался тот же, что на прошлой неделе. Сразу на голосовую почту. Его телефон либо отключен, либо мертв.
Мне хотелось позвонить ему домой, но что-то удерживало. А вдруг Сатвик еще не связывался с женой? Не стоило ее волновать. Положение выглядело все более сомнительным, так что лучше было не звонить, пока не смогу сказать что-нибудь наверняка. Да и у Сатвика, если он сразу не поехал домой, должны быть на то веские причины. Нет, лучше подождать, разобраться. Хватит времени на звонки, когда я пойму, что происходит.
А что произошло? Таинственный звонок. Знакомая машина на стоянке. Я опустил голову на стол, прижался лбом к холодному твердому дереву.
Если машина здесь, он тоже должен быть где-то рядом. Но необязательно в этом здании.
Я вскинул голову.
Встал, подошел к окну, открыл шторы. Сквозь стекло мне виден был лабораторный флигель за стоянкой, а еще дальше, на самом краю территории, я разглядел старый склад – здание С. Входная дверь была открыта.
Я не медлил.
Я сбежал по лестнице и распахнул стеклянную дверь. Прохладный вечерний воздух. Через стоянку, по дорожке к складу и в открытую дверь. Складское помещение было больше главного здания, просторнее. Но и здесь меня встретила тишина. Тут мы хранили старое оборудование. В передней части располагались кабинеты и несколько мелких кладовых. Дальше от дверей начинались большие ячейки в несколько этажей. Кладбище оборудования.
– Сатвик? – позвал я.
Я прошел по длинному коридору между конторскими дверями и толкнул дверь в хранилище. Я зажег свет.
Ничего. Просторная пустота. На всякий случай я прошел вдоль ряда ячеек, остановился на дальнем конце.
Ничего не понимаю. Где он, черт возьми?
На рабочем столе у дальней стены лежал блокнот с ручкой. Я вырвал лист и написал:
«Сатвик, позвони мне».
Оставлю записку в машине, решил я. Если не отзовется до утра, позвоню Джереми, в полицию, жене. Всем позвоню. А еще лучше, просто поставлю свою машину у ворот, стану ждать и наблюдать. Прослежу, кто подойдет к машине Сатвика. Я вернул блокнот на место и пошел к выходу.
Проходя через склад, я был так занят мыслями – о записке и о машине, – что не сразу заметил свет. Отблеск на краю зрения.
Я повернул голову.
В одном из кабинетов у входа. Свет лился из полуоткрытой двери.
Только что его не было, точно.
Я остановился.
Записка, выпав из руки, порхнула на пол.
– Сатвик, – позвал я.
Ответа не последовало.
Кто-то включил свет. Я был не один.
– Сатвик, это ты? – повторил я громче. И сделал шаг к открытой двери – всего один шаг.
Остановило меня молчание. Полная, абсолютная тишина.
Я застыл на месте. Я говорил достаточно громко, меня должны были услышать, но не откликались. И не отзовутся. Я вдруг, не знаю как, понял, что, кто бы ни был за дверью, это не Сатвик.
Я медленно отступил назад.
А потом мир взорвался.
* * *
Толчок я ощутил костями.
Ударная волна прошла сквозь меня, сбив с ног.
Меня швырнуло на пол, и снова стало тихо. Совсем. Даже в ушах не звенело, а под щекой я чувствовал холодный кафель…
Ванная в номере. Утренний свет льется в комнату, холодная твердая плитка под щекой, как во сне. Я хотел приподняться, чтобы вырвало в фаянсовый горшок, но не сумел. Пол был таким приятным, прохладным, а воздух таким горячим – и начался звон. В ушах зазвенело так, что мысли путались.
Я открыл глаза. Тусклый свет. Куски разбитой стены. Оранжевое зарево на заднем плане. Собраться с мыслями не удавалось. Я лежал на складе – не в ванной. Я закашлялся, выворачивая легкие от прострелившей грудь боли. Поначалу решил, что сломал ребра. Бывает такой момент после жесткого падения, когда тело еще решает, жить ему или не жить. Первые несколько глотков воздуха. Сердце либо бьется, либо не бьется. Кости двигаются гладко или скребут друг о друга.
Меня такой момент застал лежащим на полу среди разгорающегося пожара.
В глазах расплывалось – зарево, похожее на ауру, мутило зрение.
Поморщившись, я прикрыл веки. А когда открыл снова, все расплывалось по-прежнему.
Я попробовал перевернуться, и тело послушалось – боль не усилилась и не отступила, и тогда я уперся руками в пол, чтобы приподняться, попробовать хоть что-то понять, – а свет рос и ширился. Яркое рыжее пламя. А над ним и из него клубами поднимался черный дым.
Я снова закашлялся, когда дым накатил на меня. В голове была одна мысль: пожар. Господи, шевелись же! Но тело не слушалось.
Дым стал гуще. Огонь зашипел, раздался хлопок. Заработали разбрызгиватели. Это ничего не изменило.
Я снова попробовал встать, на этот раз приподнялся на колени. Брызги из огнетушителя промочили мне одежду, а воздух заполнило душное облако пара. Я уже стоял на одном колене. В легких горело. Глаза горели. Я ничего не видел, по лицу текли слезы.
Я качнулся к открытому кабинету, захлопнул за собой дверь, втянул воздух. Я сорвал с себя рубашку и забил ею щель под дверью – от дыма. Я протер глаза тыльной стороной ладони, но жжение не проходило. Почему так щиплет? Что за горючую жидкость они применили?
Я дошел до окна, оно не открывалось. Сплошное стекло – ни петель, ни задвижек.
Черт! Небьющееся стекло.
Я глубоко дышал, стараясь успокоиться. Мне надо было подумать. Чувствовалось, что воздух нагревается. Я распахнул дверь и, подгоняемый пламенем, рванул направо. В дальнем конце сквозь туман в глазах разглядел надпись: «Коммуникации». Если не ошибся.
Нащупав дверную ручку, я нырнул внутрь. Здесь наконец-то меня встретил прохладный свежий воздух. Ни звука, кроме моего рваного дыхания. Я достал из кармана мобильник, открыл крышку. Зеленый экран осветил темноту.
Я попал в узкий служебный коридор за рядом кабинетов. Кажется, он тянулся вдоль всего здания. Я не стал медлить. Дышалось здесь легче, но дымом уже пахло. Даже в закрытом коридоре становилось жарче. Чем бы ни плеснули поджигатели, пожар охватывал все здание.
Я миновал длинный ряд электрощитов. Я нырял под трубами и проводкой. В дальнем конце меня встретила еще одна дверь. За ней шумел огонь – как далекий прибой, с треском и щелчками радиопомех.
Я тронул стальную створку и отдернул руку. Здесь выхода не было. Огонь распространялся быстро – куда быстрее, чем я ожидал.
Озираясь в поисках решения, выхода, я заметил на стене лесенку-трап. Направив подсветку мобильного вверх, увидел, что ступеньки теряются в темноте. Узкая труба на крышу.
Особого выбора не оставалось, так что я полез.
Лесенка оканчивалась площадкой, от которой еще несколько ступеней вели к стальному люку в потолке. Я нажал на него плечом, но безрезультатно.
Я надавил еще, изо всех сил. По лицу катился пот. Люк не дрогнул.
Я, тяжело дыша, сполз на площадку. Поднимавшийся снизу дым душил меня. Я поднял мобильник над головой – и только тогда увидел засов. Обыкновенный стальной засов. Проклиная себя за глупость, я потянул его, и люк со звоном открылся, подался вверх и откинулся, и я очутился под темным небом, где дышалось так легко и сладко, что даже не верилось.
Сделав несколько шагов по крыше, я упал на колени. Каждый вдох и выдох отзывался в обожженных бронхах. Я точно ощущал форму своих легких.
Когда я встал, мир немного качнулся, но я добрался до края кровли и заглянул вниз. И наконец осознал ситуацию. Я стоял на крыше горящего здания. До земли было футов двадцать пять. Далековато для прыжка, разве что не останется другого выхода.
Подо мной опять что-то взорвалось, заклокотало, как в драконьей глотке. Я прикинул, сколько внизу оборудования. Кто знает, что там горело? Электронные микроскопы, по крайней мере, были в безопасности, в главном здании. И лягушки Забивалы, и десятки кабинетов. Потерю склада Хансен как-нибудь переживет.
Я обернулся. Дым валил из открытого люка, из которого я только что выбрался. Пожар разрастался.
Третий взрыв сотряс крышу, как удар бейсбольной битой по ногам, и на этот раз я упал. Зазвенело бьющееся стекло, дым теперь повалил и сбоку, из окон. Становилось жарче. Поднявшись, я прошел в дальний конец по липнущей к подошвам смоле. Посредине крыша медленно проседала, пришлось отвернуть к краю.
Вдали завыла сирена.
Крыша прогибалась. Слишком быстро все происходило. У меня на глазах середина кровли словно соскользнула сама в себя: отверстие, сперва всего в несколько футов, быстро расширялось, в черной дыре светился огонь, клубился темный дым – и я понял, что пожарных могу и не дождаться.
Я кинулся к внешнему краю, подальше от провала посередине. А потом вспомнил про сараюшки, которые заметил, когда на территории подстригали газоны, – постройки прилегали к задней стене склада.
Добравшись туда, я свесился через край.
Вот они.
Подо мной был серебристый прямоугольник. Покатая крыша. Все равно высота больше второго этажа, но выжить реально.
Я присмотрелся к крыше. И внес поправку.
Возможно, а не реально.
За краем прямоугольника виднелись бетонные бортики, деревянные ящики, мусорные бачки.
Развернувшись, я поискал взглядом что-нибудь подходящее на крыше.
Сирена стала ближе, звучала уже с территории. Разбитые окна внизу светились огнем. Пожарные обо мне не знали, а рисковать перебежкой по провалившейся крыше к фасаду, где они могли бы меня увидеть, я никак не собирался.
Это был не простой пожар – ад. Пылающее горнило. От жара у меня запекались подошвы. Время было на исходе.
Я свесился через край.
Смотрел вниз, выискивая, за что ухватиться – хоть на несколько футов сократить расстояние до земли.
Ничего такого не было.
Отвесная шлакоблочная стена. Темнота позади проросла светом. Я повернул голову. На крыше ближе к фасаду образовалась новая дыра. Меня ударила горячая волна. Время истекло.
Я свесил ноги с крыши, сдвинулся на самый край.
И упал в пустоту.
Меня спас уклон железной крыши – он перевел инерцию падения в круговой момент.
Я ударился подошвами, чуть согнув ноги, и колени сразу подкосились. Потом я грохнулся на зад и покатился под уклон – затем о листовое железо ударились плечи и голова, искры брызнули из глаз, а ноги уже сорвались с края, и я закувыркался в воздухе, достаточно светлом, чтобы разглядеть встречающий меня штабель досок. Приземлился я жестко, но плечами, что спасло череп, а потом с треском ударился правым бедром, расщепив доски, растянулся плашмя, так что из груди вышибло дух, перекатился и замер.
* * *
Я запекался в зареве пожара.
Прохладная рука легла на лоб. Я не понял.
Сирена орала все громче. Надо мной к небесам поднималось пламя. Склад. Что я делал на складе? Мысли разбились всмятку. Я припомнил стоянку. Машину Сатвика.
– Где Сатвик?
– Ш-ш-ш! – ответил мне голос.
– Где я?
– Лежите, – произнес женский голос, – скорая едет.
Лицо у нее оказалось в крови. Она была моложе меня. Не старше тридцати. Капюшон серого дождевика прикрывал светлые, песочные, волосы. Бровь рассечена старым шрамом. Другой шрам, посвежее, розовел на подбородке. Кровь шла у нее из носа; утираясь, женщина размазала ее по щеке. На дождевик капало.
Становилось жарче.
Она встала, ухватила меня за лодыжки и потянула.
Почувствовав бетон плечами, я приподнял голову. Она оттащила меня за мусорный бак, подальше от пожара и рева пламени. И упала рядом.
– Что случилось? – спросил я.
Женщина не ответила.
Она снова опустила прохладную ладонь мне на лоб. Двух пальцев у нее не хватало. Левого мизинца от второго сустава, и кончика безымянного. Старые, давно залеченные раны.
– Где он? – спросил я. – Где Сатвик?
– В нехорошем месте, – сказала она.
Снова накатило головокружение и боль, словно добела раскаленный нож воткнулся в висок. И мир почернел.
* * *
– Эй?
Я перевернулся, поднял голову. Голос поодаль.
– Эй, там!
Кричал бегущий ко мне пожарный. Крупное тело, юное лицо.
Я огляделся. Женщина исчезла.
– Вы в порядке? – спросил великан-пожарник, опускаясь на колени.
Я помолчал. Потом выдавил:
– Голова!
– Обгорели?
Я не отвечал. Вместо ответа поднялся на ноги и с его помощью обошел склад.
Дюжина пожарных боролась с огнем. Две машины стояли на безопасном расстоянии, на парковке. Шланги змеились по мокрой, исходящей паром площадке. Повсюду вращались красные фонари сигналов. Мне привиделась другая ночь – давняя, у нашего дома. Красные сигналы. Безликие полицейские и слова из-под воды.
Не считая пожарных машин, на стоянке была только моя. Чего-то не хватало, но я не мог сообразить чего.
Я оглянулся на склад, над крышей которого с ревом билось пламя.
– Вы обгорели? – спросил пожарный.
Я оглядел себя, увидел почерневший рукав. Оборванный, опаленный манжет.
– О… – сказал я, и мир закружился огоньками. Я сел.
Пожарный крикнул через плечо:
– Эй, здесь нужна помощь!
В глаза бил свет.
– Как вас зовут?
Говорил фельдшер пожарной службы. По-моему, он уже не раз повторял этот вопрос, хотя я плохо запомнил.
– Эрик Аргус, – ответил я.
– Как вы себя чувствуете?
Я не разбирал слов – только бессмысленные звуки. Попробовал сконцентрироваться.
– Вам больно? – Он склонился надо мной. Бледное круглое лицо, густая узкая бородка. Кожа – вулканический ландшафт в шрамах от угрей.
– Нормально, – отозвался я.
– Как вам кажется, встать сможете?
– Все нормально. Ничего не болит.
– Сколько вам лет?
Я задумался. Не мог вспомнить.
– Двадцать восемь. Или двадцать девять.
– Вас контузило.
– Нет, я в норме, – повторил я. – Ничего не болит.
Я попробовал сесть, но меня удержали.
– Нет, не в норме.
– Где мой друг?
– Кто?
– Я в норме, – сказал я ему. И огляделся. Горящий склад. Я пытался вспомнить. Случилось что-то ужасное.
– Двадцать восемь или двадцать девять, – сказал я.
* * *
Потом запомнилась машина скорой помощи.
Над головой свисали со стены стетоскопы.
Орала сирена, я сто раз слышал ее вой, но впервые – изнутри.
Я лежал на спине, смотрел в потолок, чувствовал движение машины в пространстве. На поворотах стетоскопы отклонялись от стены, словно менялся вектор гравитации – серебряные монетки на концах черных трубочек. Они раскачивались над моим лицом при каждом повороте – медленный танец стетоскопов. Феномен. Я его наблюдал.
На третьем повороте покачнулся и фельдшер, чуть не упал.
– Эй, – крикнул он водителю, – потише! Он никуда не спешит.
– Я в норме, – сказал я ему.
* * *
Так или иначе, это происходило.
Или уже произошло. Или должно было произойти. Звук сирены, скомканные, разрозненные воспоминания. Машина Сатвика на стоянке. Пожар.
Стетоскопы. Я их ясно видел, они раскачивались в такт.
Я попробовал сесть.
– Очнулись? – Лицо фельдшера было круглым, бледным, все в кратерах. Чужая луна. Фобос. Деймос.
Луна заговорила:
– Расслабьтесь, мы подъезжаем.
– Куда?
– К больнице.
– Сатвик тоже?
– Кто?
– Сатвик.
Стетоскопы снова качнулись надо мной, как длинная рука, упершаяся в борт машины.
– Не знаю, о ком вы говорите, – сказала луна.
* * *
Сон.
Мать в бело-голубом халате.
– Каждый скачок в размере мозга соотносится с колебаниями магнитного поля Земли. – Она говорит воодушевленно, спеша выложить все до конца. – Полюса смещаются, сейчас горячая точка – Южная Америка.
Звук текущей воды с кухни. Звон кастрюль и сковородок – сестра пытается навести порядок в хаосе. В окно льется свет. В доме беспорядок – нас не было несколько недель. На столе груда флаконов с лекарствами.
– Все не так, – говорю я ей. Моей разносторонне образованной матери. – Ты сама знаешь. Должна знать.
– А если я права и прямое питание митохондрий удлинит срок жизни хотя бы на пятьдесят процентов, каковы будут последствия для мира?
Я возвращаюсь назад, пытаюсь проследить ход ее мысли, но тропы не найти. Эти дебри принадлежат ей, мне туда нет ходу.
– Я пытаюсь оценить фактор потери веса, но не презрения к старости, потому что тут вмешается правительство. Ты должен помочь мне с проверкой. Я думала об этом со вчерашнего дня – свет и время сцеплены. Если свет замедляется, проходя через атмосферу, значит, есть способ и ускорить его. Ньютон говорит, что для каждого действия есть равная противоположно направленная сила. Если мы сумеем доказать, что время независимо от света, тогда, значит, скорость света может быть нарушена. Фотоны используют свою энергию для движения, значит, для них нет ни времени, ни массы, так? Черная дыра – одна масса, ни времени, ни движения, значит, должен существовать какой-то феномен, для которого есть только время – ни массы, ни движения, и…
– Мама!
– А они не хотят, чтобы люди жили по двести – триста лет. Я нашла способ принудительного питания митохондрий. Смотри, волосы у меня почти каштановые. Два ингредиента: кальций и фолиевая кислота.
– Мама, перестань.
Она не перестанет. Не может остановиться. Никто не в силах перестать быть тем, кто он есть.
– Бо́льшая часть Вселенной отсутствует, – говорит она. – Ученым это известно, затем они и изобрели темную материю, но темная материя – обман. – Я уже вижу, как в ней поднимается гнев, настоящая ярость в светло-карих, ореховых глазах. – Это как вводить летальные гены в решетку Пеннета, чтобы счет сошелся. – Она всплескивает руками. – Частотность генов не укладывается в теорию, и ты изобретаешь летали, чтобы объяснить, почему ответ не сходится. Куда девается наследуемость.
Я через стол дотянулся до ее руки.
– Темная материя – просто способ подогнать уравнение под ответ, – говорит она. – Трюк. Уловка. – Она наклоняется ко мне. – Черная магия.
– Мама, я по тебе соскучился.
* * *
Я проснулся рывком, потому что рвота подступила к горлу. Болела голова. Комната вращалась. Больничная палата. Я увидел врача. Я улыбнулся ему.
Я открыл глаза. Врача не было.
Палаты не было. Просто я всё перепутал.
Качались стетоскопы. Я лежал в машине скорой. Я почувствовал, как она останавливается.
– Я здесь?
Луна только светит на меня и молчит.
* * *
– Я мыла волосы кальцием с фолиевой кислотой.
Она через стол от меня и за миллионы миль. Сестра стоит у нее за спиной, смотрит на нас.
– Кормилицу Тутанхамона звали Майя, – говорит мать. – Это не совпадение. Майя и пирамиды строили. Я прошу тебя взять две чашки Петри и налить в одну эвкалипта, чтобы проверить, убьет ли он бактерии. Должно получиться, Эрик.
Она говорит и говорит, слова омывают меня, как река. Бормотание ручья. Белый шум. Пирамиды. Фолиевая кислота.
– Когда ваш отец вернется, мы снова пойдем под парусом. Отец прокатит нас за мыс.
Я киваю. Я держу ее за руку.
В конце концов я встаю – Мэри тянет меня за локоть.
– Пора ехать, – говорит сестра, но мать не сводит с меня глаз.
– Не забудь про эвкалипт. Когда Западный Нил выйдет из берегов, он может спасти много жизней. Ты меня слышишь, Эрик?
– Мне надо идти, мам.
– Ты меня слышишь?
– Да, я слышу.
– Мне не нравится жить здесь одной, – говорит она, и взгляд ее становится ясным и острым, и это хуже всего. Хуже всего остального. – Я хочу, чтобы он вернулся домой.
* * *
Прогремела дверь. Толчок отозвался у меня в позвоночнике – каталку толкнули через порог.
Надо мной скользили потолочные светильники. Я в белом коридоре.
Надо мной склонился человек с бородой, посветил мне фонариком в глаз. Врач приемного покоя.
– Зрачок сокращается нормально, – сказал он. – Кровотечения нет.
Он ободряюще улыбнулся мне.
– Как дела, сэр? Где-нибудь болит?
– Голова, – сказал я ему.
Коридор вывел к сестринскому посту.
– В шестую палату! – крикнул кто-то.
Кровать развернулась. С одной стороны вдруг оказалась занавеска, с другой стена. Кровать остановилась.
– Приехали, – сообщила сестра. Под потолком был подвешен телемонитор.
– Думаю, у вас сотрясение, – сказал врач.
Я вспомнил Сатвика. Если бы не я, занимался бы он своими схемами. Я вспомнил его дочку и помаду с блестками.
– Сколько вам лет? – спросил врач.
– Тридцать два.
– Дата рождения?
– Девятого января.
– Какой сегодня день?
– Суббота. – Ответы находились легко.
– Так что произошло?
– Не знаю. – Я снова вспомнил Сатвика, его машину на стоянке. – Я правда не знаю.
* * *
Мне поставили капельницу и сделали рентген.
– Повезло вам, – сказал врач, обматывая мне руку белой марлей. – Ожоги поболят, но большей частью они первой степени, шрамов почти не останется. Главный риск – заражение, поэтому держите их в чистоте и принимайте антибиотики.
– Еще кто-то к вам поступил? – спросил я.
Доктор, записывавший что-то в моей карте, повернулся ко мне.
– Работы сегодня хватало.
– Нет, я хотел спросить: с того же пожара. Еще кого-то оттуда привозили?
– Нет, – ответил он, – только вас.
На ночь меня оставили под наблюдением в больнице. Накачали болеутоляющими и прописали еще.
На следующее утро явились два непроницаемых детектива и принялись поджаривать меня на предмет вчерашних событий. Я все выложил им под запись. Слова «поджог» они не произносили, но упомянули, что пожар официально признан подозрительным – во всяком случае, пока не выдали своего заключения пожарные эксперты.
– Подожгли, – сказал я.
– Кто?
– Те, кто вызвал меня в лабораторию. – Я рассказал о звонке, о лестнице и прыжке с крыши. Я рассказал про женщину.
Они навострили уши:
– Эта женщина вам знакома?
– Впервые видел.
– Опишите ее.
Они все записали и углубились в расспросы о Сатвике. Я рассказал все, что было мне известно – не много. Через пять минут детективы сочли, что узнали все необходимое.
– Вы нам очень помогли. Мы с вами свяжемся.
В обожженной руке билась боль. Голова гудела. Я был еще замедленным, мысли будто выстроились в очередь, и те, что стояли впереди, не пропускали остальных.
Джереми пришел незадолго до часа посещений. Он бы сразу подъехал, но я уговорил его дождаться, пока меня выпишут.
– Хорошо бы меня кто-нибудь подвез, – объяснил я.
После четырех миллионов футов волокиты доктор подписал выписку, и меня отпустили.
Санитарка отвезла меня вниз в кресле, а на мои протесты ответила:
– Извините, в больнице так положено.
– Что положено?
– Мы завозим вас внутрь и вывозим обратно.
– Зачем так положено? – удивился я.
– Просто так уж есть, – веско отозвалась она, словно объясняя величайшую загадку Вселенной. Как разбираются между собой две спутанные частицы? А вот так, как есть.
– Больницы существуют для того, чтобы в них приезжали больными, а уходили здоровыми, – возразил я. – Пациент, выезжающий на каталке, – не лучшая реклама.
Санитарка промычала что-то неразборчивое и оставила меня с креслом возле выхода. Проверив телефон, я обнаружил полдюжины голосовых сообщений, но прослушивать их настроения не было. Я выключил аппарат.
Через несколько минут подъехала машина Джереми.
– Боже мой, Эрик! – первым делом воскликнул он. К лицу у него прилила кровь. Никогда не видел его таким возбужденным. – Мы найдем, кто это устроил!
Я влез к нему в машину и закрыл дверь. Он скороговоркой стал рассказывать. Слова лились ровным потоком: он уже переговорил с полицейскими, уже связался по телефону со страховой и пожарными, наметил встречу с высоким начальством.
– Мы нанимаем в лабораторию новую охранную фирму, – сказал он. – Круглосуточно семь дней в неделю. Такого не должно было случиться. Следовало сменить охрану при первых же угрозах.
Он уже мысленно связал эти события. Угрожающие письма и пожар. А почему бы и нет? Такой вывод напрашивался.
Он спросил о звонке из лаборатории, и я рассказал все с начала до конца.
– Ты и вправду прыгнул с крыши?
– Угу.
– Господи! – Он покачал головой. – В полицейском рапорте это было, но я думал – они чего-то не поняли. Там два этажа.
– До крыши сарая – один.
– А ту женщину, что оттащила тебя от огня, ты раньше видел?
В голове у меня почему-то мелькнул блеск дождя другой ночью – несколько месяцев назад. Блик тени на стоянке у моего отеля.
– Не знаю, – ответил я. – Не думаю.
– И самого Сатвика ты не видел? Только его машину?
Те же вопросы задавали копы. У меня упало сердце.
– Только машину, – подтвердил я. – Надо понимать так, что он не объявился?
Я-то надеялся, что Джереми откладывает хорошую новость напоследок. Но, дожидаясь ответа, я уже понимал, что хороших новостей не будет.
– Со мной он не связывался, – сказал Джереми.
– А с женой?
– Насколько я знаю – ни с кем.
Дальше Джереми вел машину молча. До меня понемногу доходили его последние слова. Если Джереми не тревожился насчет Сатвика прежде, то теперь забеспокоился.
* * *
Подъезжая к городу, Джереми спросил:
– Тебя куда везти? Забыл уточнить.
– Домой, – ответил я и объяснил, как ехать.
Несколько миль протекали в тишине. От поворота на въезд я увидел фламинго.
– Ты так и живешь в этой дыре.
– Мне здесь нравится.
– Тебе здесь нравится… – Джереми не поверил. – Здесь даже крысам не нравится.
– Дешево обходится.
– А на кой черт я тебе столько плачу?
– Сам удивляюсь.
Джереми заехал на полупустую стоянку и остановил машину.
Я нашел взглядом дверь своего номера – в дальнем конце второго этажа, у лестницы, – но, взявшись за дверную ручку, замешкался. Не хотелось одному встречаться с пустой комнатой.
Джереми меня понял.
– И как же ты? – спросил он.
– Что – я?
– Пожар… как ты с ним разберешься?
– Я в норме, – сказал я. Хотя понимал, о чем он спрашивает. Что стоит за вопросом. Не сломаюсь ли я, как в Индианаполисе, не напьюсь ли, не наделаю ли глупостей?
– Знаешь, все должно было быть иначе, – заговорил он, уставившись в ветровое стекло. – Легко, как в старые времена. А вместо этого сожгли склад.
– Извини, – сказал я. Я извинялся искренне. Все это навлек на него я. Вопросы. Внимание. Я вспомнил заснеженные дороги. Лед под колесами.
Он обернулся ко мне.
– Я не о том. Не за что тебе извиняться. Ты бы взял отпуск? На сколько хочешь.
– Мне не нужен…
– Оплаченный отпуск, – перебил он. – По крайней мере на неделю или на две. А может, и больше. И кстати… – Он достал с заднего сиденья пачку бумаг и конвертов. – Я позволил себе забрать твою почту. – Он вручил письма мне.
Я посмотрел. Рекламные рассылки. Извещения. Разные конверты.
– Оплаченный отпуск тебе, между прочим, полагается. Сверху распорядились. Всего на несколько недель, пока мы это разгребаем.
Я покивал. Несколько недель. Это можно понимать очень по-разному. Я подумал, не жалеет ли Джереми, что взял меня.
– Что сказала сестра, когда ты ей звонил? – спросил Джереми.
– Ничего особенного, – ответил я. И не соврал. В машине вдруг стало тесно. Я нажал ручку, открыл дверь. – Спасибо, что подвез.
Он всмотрелся в мое лицо.
– Ты ей не звонил, да?
– Не хочу ее волновать.
– Надо позвонить, – сказал он, включив зажигание. – Она уже волнуется.
Сестра. Похожа на меня и не похожа.
Поразительно, что иногда теряешь. А другие воспоминания остаются, как засевшая в мозгу игла. Звук отопления, включившегося в темном доме. Чувство, похожее на транс: семья спит, и все хорошо, и всегда будет хорошо – один случайный момент, когда все хорошо.
Есть и другие воспоминания. Зеркало в родительской спальне, два узких прямоугольника, приклеенных к стене, и из него на тебя смотрит разбитый надвое мальчик. Дитя граней, из дюжины отдельных коробок, собранный не совсем точно, и можно чуть передвинуться и увидеть себя под другим углом, так что лицо аккуратно укладывается в одно зеркало, а плечо в другое, и рука в другое, и весь ты разобран на составные части.
И еще воспоминание: сидишь ночью у окна, ждешь, когда войдет отец. Входит мать. «Что случилось?»
И нет слов объяснить. Только бессловесный страх. Страх, что однажды отец не вернется.
А мать никогда не волновалась. Не помнила плохих времен.
У нее была память собственного изготовления. Сверхспособность своего рода. Гибкость. И верить она умела в то, что ей было нужно. Как будто ее глаз подстраивал реальность под себя – она управляла памятью, как иные тибетские монахи управляют биением сердца. И при этом она умела сказать такое, что дух захватывало от глубины.
– Остеопороз – адаптивное явление, – объявила она однажды. – Ожидаемая продолжительность жизни падает с каждым дюймом сверх шести футов. Остеопороз к старости сокращает высоту, на которую нужно поднимать кровь, и тем помогает дряхлеющему сердцу.
Много лет спустя я искал об этом в литературе и не нашел. Ее собственная идея.
Она изобретала новые слова. Они скатывались у нее с языка золотыми монетами. Слова, которые должны были существовать. Такие как «кружноватый», «сарказмичный», «глетчеровать».
– Глетчеровать? – переспросил я.
– Заключать врагов в ледник, – пояснила она.
Мне только и оставалось, что кивнуть. Конечно же.
И еще когда я получил результаты экзаменов. Она погладила меня по голове.
– Мой умный мальчик. Мой матемагик.
Сестра только головой качала. Хорошая девочка. Здравомыслящая.
В номере я взялся за телефон. Набрал цифры номера – все, кроме последней. Палец завис над кнопкой.
«Поздно, – сказал я себе. – Мэри, наверное, уже легла. И что ей говорить? Разве она поверит, после того что было в Инди?»
Я так и слышал ее вопросы – с каждым словом все тревожнее. «Как так – здание загорелось? Эрик, что ты натворил?»
Что я натворил?
Я поискал ответ на этот вопрос. И отложил телефон.
* * *
Папка затерялась среди бумаг и конвертов, которые привез мне Джереми. Он, может, даже ее не заметил – просто прихватил с остальной почтой.
Тонкая папка. Бежевый картон. Я узнал небрежный почерк на крышке. «Инфа, которую ты просил по Брайтону».
Это от Забивалы. Я совсем забыл. Неужели всего несколько дней прошло, как я попросил его поискать, что сумеет?
Внутри вместе с несколькими страницами фотокопий лежала записка.
«Эрик.
Найти удалось немного, но я позвонил людям, которые мне кое-чем обязаны, и вот все, что нарыл.
Вкратце: Брайтон – призрак. Ни даты рождения, ни старых адресов. Имя появляется в базах только в девяносто втором и только в связи с учредительными документами. Консультационная компания под названием «Инграм». Купля-продажа, инвестиции – все как он говорил. Но фонды солиднее, чем ожидаешь. Ничего особенно интересного, кроме одного обстоятельства, а до него докопаться было не просто. Они контролируют премию «Дискавери». Слышал о такой? Извини, больше найти не сумел».
Да уж, я о такой слышал! «Инграм» в числе нескольких других групп предлагал денежные премии ученым, нашедшим ответы на застарелые проблемы в математике и естественных науках. Как «Икс-прайз» в аэронавтике и «Миллениум» в математике: премии, смысл которых – мотивировать к поиску нового.
Я перевернул страницу и нашел на следующей список правил и требований. Сто тысяч долларов предлагалось за широкий ассортимент научных тем. В основном по физике и программированию. За последние семь лет премию получили трое. На следующем листке были их имена. Ниже шел список тем, интересующих фонд. По спине у меня поползли мурашки.
* * *
Как-то, вернувшись после плавания с отцом, я застал мать в столовой, за письмом. Она так говорила, в единственном числе – «мое письмо», хотя записки становились все длиннее, и темы их менялись.
– Китов не видели?
– Нет, – сказал я, – мы наблюдали за берегом.
Она кивнула и продолжала писать – в тот раз на тему липидного обмена.
Замеры береговой линии – нерешаемая картографическая задача. Бухты, выступы, всяческие несообразности. Но меру неровности можно оценить – оценить конкретную степень непостоянства. То же и с моей матерью. Волнистая линия. Понимать ее можно было только приближенно. Звали ее Джиллиан, но это имя всегда казалось не совсем подходящим. Думая о матери, я все больше и больше принимал имя Джулия. Так Джулия и приросла. Об этом своем обозначении она даже не знала.
Мать не расстроилась, когда я не захотел вслед за ней заниматься иммунологией.
– Это замкнутая область, – сказала она однажды, как будто объяснила. И добавила: – Кроме того, физика – тоже естественная наука, верно?
– Ты о чем?
Мне тогда было двенадцать, и я уже ушел с головой в физику и числа. Повернулся спиной к ее безумию.
– Один был Дарвин, другой – Эйнштейн. Но по сути всё это просто религия.
– Это противоположность религии, – ответил я немножко резковато.
Она покачала головой.
– Мотив тот же самый. Потребность понять. – Ее взгляд ничего не выдавал. – Единственный вопрос – насколько тебе необходимо понимать.
* * *
Я взялся за телефон. Насколько мне необходимо понять?
Я набрал номер Забивалы. Два гудка.
– Алло?
– Я получил твою сводку, – сказал я. – Где ты взял список тем?
Телефон помолчал и взорвался словами:
– Боже мой, Эрик, ты здоров? Я слышал, что случилось, я звонил и оставлял сообщения, и я…
– Темы, – нажал я.
– А… – Он завис, сбившись с мысли. – Темы исследований? Ты, значит, получил папку. Их собрал один университетский знакомый. Но ты-то как? Мне рассказали про пожар.
– Это все открытые сведения?
– Да, все открыто, если знаешь, где копать.
– Там не проставлено дат.
– Насчет дат я не уверен. Почему ты спрашиваешь?
Я просмотрел бумаги. Тема, которая меня интересовала, значилась в середине списка.
– На сколько лет назад ты забрался?
– На семь.
– И до сего дня?
– Да, наверное. Не уверен. Слушай, о чем это все?
– В списке есть очень любопытный термин.
– Чем любопытный?
– «Ветвящиеся преобразования». Неважно, что это значит, – это такая математическая функция.
– Не уследил за твоей мыслью.
– Это мой термин, – объяснил я. – Я его ввел – вскоре после колледжа. Не столь уж многие ими занимались.
Телефон помолчал.
– И этот термин в списке тем, предложенных на премию?
– Вот-вот.
– Когда ты над ней работал?
– С прежним моим сотрудником. Еще до Хансена.
– Так это было… – Он сбился.
– Порядочно до того, как мы познакомились с Брайтоном, – подсказал я.
Еще несколько секунд молчания.
– С чего бы они заинтересовались этой работой?
– Хороший вопрос.
* * *
До Эйнштейна был Гастон Жюлиа.
Словарь определяет математическую функцию как разновидность системы. На самом деле функции – это преобразования: они – «если/то» вычислителя.
Я повесил трубку и положил телефон на стол. Тишина в номере была абсолютной. Я подошел к зеркалу.
Когда мать впервые рассказала мне, что такое рибосомы, я сразу узнал принцип. С одной стороны входит нуклеотидная последовательность, с другой выходит цепочка полипептидов – простое и упорядоченное преобразование данных. Математическая функция как она есть.
Под конец Первой мировой французский математик Гастон Жюлиа впервые описал поведение комплексных чисел при множественной итерации функции f. Подставляя любое z в функцию f, получаем результат. Затем применяем функцию f к этому результату и получаем вторичный результат, и так далее и так далее, до бесконечности. Так рибосомы поедают собственный продукт в замкнутом бесконечном цикле.
Трехмерный график преобразований Жюлиа выглядит красивой сложной структурой. Множества Жюлиа. Фракталы Мандельброта. Патологические кривые. И еще более удивительные штуки. Их даже математики называют чудовищами.
Мысли тоже бывают чудовищами.
– Я не вернусь, – сказал я темноте комнаты.
Я смотрел в зеркало и старался поверить себе.
Самолет в Индиану вылетал в восемь утра. Ожидая посадки, я запихнул в себя никудышный аэропортный завтрак. После посадки взял напрокат машину и к полудню был на шоссе.
Я обнаружил, что городские пробки – сито, через которые одни машины просачиваются, а другие застревают. Я не приспособился к местной решетке и двигался медленно.
Думал я о вентильных матрицах Сатвика – о том, как эволюция определяет самую эффективную схему. Вот бы городским планировщикам моделировать дороги тем же способом.
Свернув с шоссе, я повилял среди старых жилых кварталов. Одна из старейших частей города.
Дома здесь были низкими и тяжеловесными, как коренастые низкорослые борцы. Выглядели они практически несокрушимыми – ряд за рядом приземистых зданий из камня и кирпича. Изгороди теснили улицу. Люди здесь были однотонными – верная примета какого-то фактора, противостоящего диффузии.
Дальше застройка резко изменилась, словно я пересек прочерченную на песке линию. Пошли торговые центры, аптеки, заправки, отели. Для таких кварталов должно бы существовать особое слово. Особое определение, известное только распоряжающимся подобной застройкой чиновникам. Дальше новое преобразование – финальная фаза изменений. Большие дома-коробки, открытые пространства. Высотки. Маленькие, опрятные офисные строения, расположенные на пристойном расстоянии от дороги, в окружении стоянок. Я в последний раз сверился с GPS на телефоне и на указателе повернул налево.
Почти ровно в два часа пополудни я поставил машину на стоянку и выключил мотор.
Прибыл.
Этот офисный комплекс был ниже и протяженнее многих. Больше он ничем не выделялся. Типичное коммерческое здание, способное вместить с десяток компаний. Окна с золотистой тонировкой, много бетона. Роскошь открытых участков. Солончаковый блеск асфальтовых заплат – сложности парковки. Народу с побережья этого не понять. На Среднем Западе парковку рядом с другой машиной могут счесть грубостью. Все равно что сесть рядом с единственным посетителем в утренней столовой.
Но здесь даже по меркам Среднего Запада было необычайно голо. Дюжина машин занимала пространство размером со школьный стадион. Ближе к выезду я заметил на одном из зарезервированных участков «BMW». Зеленый. Любимый цвет Стюарта, как мне помнилось, хотя в последний раз я видел его в машине подешевле – за счет размера.
Я глянул на себя в зеркало заднего вида, вспомнил его письмо – то, что выбросил. «Надо поговорить».
Я вылез из машины и вошел в здание.
Стюарт поначалу не мечтал о собственной компании. Для него главным всегда была техника. Создание лучших мышеловок. Обсчет полигонов. А компания – просто способ добыть на все это денег. Техником он был хорошим, но к корпорациям сердце у него не лежало. Во всяком случае в те времена. Никогда его не вдохновляло правление империей. Я оглядел приземистое здание в гуще корпоративных дебрей и подумал, не то ли он получил, чего желал на самом деле.
Я вошел.
Внутри было торжественно и жутко. Большое открытое пространство, гулкое, как мавзолей; кривые деревца в горшках – внутренний двор, подделывающийся под наружный с намеком на восточные мотивы. Я прошел пустынный вестибюль и остановился перед доской со списком компаний. На первом этаже устроились несколько страховщиков и коммерсантов и еще пара компаний с названиями, напоминающими о витаминах. Второй, третий и четвертый этажи пустовали. На пятом числилась всего одна компания с памятным мне именем: «Высокопроизводительные технологии».
Я невольно улыбнулся – вспомнил, как в первый раз выговаривал это название вслух.
– Нельзя так называть фирму, – сказал я.
Но Стюарт доказал, что я был неправ. И вот, дюжину лет спустя, она значилась на указателе. «Высокопроизводительные» – слово одной ногой стояло на скрининге, другой на информатике. Серьезные дела, если глядеть в корень.
Я на лифте поднялся на пятый этаж. Лифт звякнул, и дверь открылась в коридор. Я нерешительно вышел и прошагал по коридору до раздвижной стеклянной двери, на которой мелкими черными буквами значилось: «Высокопроизводительные». Я толкнул, и дверь открылась.
Стены были бежевые, ковер серый, деловой – такие плотные ковры с коротким ворсом стелют там, где ходит много народу, – например, во врачебных приемных. Но здесь народу не оказалось. Не было кресел. Не было кофейного столика с последними выпусками Scientific American. Я ожидал увидеть секретаршу. Хоть что-то. Стол был, но за ним никто не сидел. За столом начинался новый коридор.
– Есть кто-нибудь? – позвал я.
Немного поколебавшись, я прошел по коридору, пока он не уперся в другой, а там свернул направо. Еще через тридцать шагов коридор раскрылся, словно тоннель пробил гору, и я вдруг оказался на просторе. Где же все?
Я понял, что попал в рабочее помещение. Здесь сидели технари и конструкторы – люди, на которых держится компания. Тот же деловитый серый ковер сменился кафельной плиткой, а еще дальше – цементным полом. Во всех этих комнатах стоял дух места, которое когда-то что-то значило, но пришло в запустение.
Я продолжал разведку. Нашел еще письменные столы, шкафы для бумаг с выдвинутыми ящиками, телефоны и компьютерные мониторы. В углу увидел копировальную машину с выдвинутым подносом для листов. Вокруг кишками выпотрошенного зверя рассыпались бумаги. Я нашел кофейные чашки и маленький призовой кубок с надписью «Папа-I». Наград за второе и третье место не обнаружилось. Здесь было все необходимое на тысячу рабочих часов. Учреждение, развивавшееся как цивилизация. Вдалеке послышался шум. Что-то сверлили.
– Эй, – окликнул я. – Есть здесь кто-нибудь?
Дрель смолкла. Я углубился дальше в лабиринт.
Я нашел его в боковой комнатушке. Он стоял спиной к двери, лицом к умопомрачительно сложной схеме, раскинувшейся на огромном верстаке, где хватило бы места на дюжину техников. Но он был один. Маленькая дрель лежала рядом.
– Стюарт.
Плечи у него дрогнули. Он обернулся. Дробовик, который он держал в руке, целил теперь мне в грудь.
– Ты пришел, – сказал он. – Я так и знал, что придешь.
– Он появился две недели назад.
Стюарт вел меня по пустым помещениям. Дробовик он с привычной легкостью нес на плече.
Часть комнат были пустыми. В других осталась мебель. В одной среди голых стен ровно посередине стояло одинокое вращающееся кресло. Я гадал, что здесь случилось. Мы как будто шли через город-призрак Старого Запада, брошенный, когда иссякло золото. Нет, подумал я, заметив плесневеющий на бумагах надкушенный сэндвич. Не Старый Запад, а Чернобыль. Жители не уехали – бежали.
– Сатвик был здесь? – спросил я. Старался говорить спокойно, но потрясение от этой новости просочилось в голос.
– Угу.
– Он ни с кем не связывался.
Стюарт кивнул, но шага не замедлил. Мне не было видно его лица.
– Тогда понятно, – сказал он.
– Что тебе понятно?
– Я ждал тебя раньше. – На ходу он переложил дробовик на другое плечо. – Кажется, он думал, что за ним следят.
– Кто – не сказал?
– Если честно, я мало что понял из того, что он говорил. Он был дерганый. Выглядел встревоженным.
Раньше он таким не был.
Мы подошли к стальной двери, и Стюарт набрал на кодовом замке несколько цифр. Раздался гудок, дверь щелкнула, и Стюарт толкнул ее от себя. Опять пустые комнаты. Отделка не закончена. Десятки голых камер.
Я смотрел то на пустоту, то на Стюарта с пушкой. У него всегда был угрожающий профиль – костистый, острый, как будто ему на пару процентов больше среднего досталось от неандертальца. С годами это проявилось еще сильнее. Его широкие плечи загородили мне вид на следующую комнату.
– Что у вас стряслось, черт возьми?
– Первые несколько лет мы быстро росли, – сказал он. – Пожалуй, слишком быстро. Нам требовалось место, вот я и взял в лизинг это помещение. В какой-то момент у нас было сто тридцать сотрудников.
– И где они теперь?
– Надеюсь, загорают на пляжах. Видит Бог, я им достаточно заплатил.
– Заплатил?
– Выкупил доли. Им до конца дней не придется работать, если сами не захотят. Помнишь Лизу и Дэйва?
– Угу.
В памяти мелькнули два лица. Были парой курсов старше нас, с самого начала работали в команде.
– Оба разорвали контракт и отправились на восток. Далеко на восток.
Я оглядел хаос. Здесь думалось не о раннем выходе на пенсию. Это выглядело массовым исходом. Бегством в спасательных шлюпках.
Я стал припоминать другие имена. Знакомых, с которыми начинал. Попробовал вообразить, как компания разбухла до ста тридцати человек. Пузырь надулся и лопнул.
– Как твоя жена? – спросил я.
– Понятия не имею.
В его голосе не было горечи – простая констатация факта. Как будто я спросил про погоду в день, когда он не выходил из дома.
– Жаль, – сказал я. – Давно?
– Год, может, чуть дольше. Несколько месяцев, как адвокаты все закруглили. Я не доставил им хлопот. Она получила все остальное, а я – вот это. – Он обвел рукой свое запустелое королевство. – А как твоя сестра и мама?
– Сестра хорошо. Мама несколько лет как скончалась. От удара.
– Соболезную. – Он развернулся ко мне лицом. – Послушай, Эрик, мне жаль, что между нами так вышло. Я наговорил всякого… время было трудное.
– Все в порядке.
– Я хотел сказать…
– Серьезно, Стюарт, – перебил я. – Все в порядке.
Я не собирался ковырять подсохшие болячки. Оглянулся, ища, на что перевести разговор.
– Когда вы закрылись?
– Мы не закрылись.
Распознав мое недоумение, Стюарт продолжал:
– А, ты думал…
– Здесь все немножко… через край.
– Можно и так выразиться, – засмеялся он.
– Что случилось?
– Вот… – Он повесил дробовик на плечо и поманил меня за собой. – Давай покажу.
* * *
Мы спустились по лестнице.
– Как Сатвик тебя нашел?
– Это нетрудно, – объяснил он. – Он сказал, что разыскал адрес в перечне корпораций. Мы же есть в Сети.
– Он не говорил, что сюда собирается. Ни слова не сказал.
– Друзья всегда сообщают тебе, куда собираются?
– Он и жене не сказал.
Я снова покосился на дробовик. Мне пришло в голову, что передо мной последний из видевших Сатвика. Я решил вернуть разговор к причине моего приезда:
– Ты слышал про компанию «Инграм»?
– Звучит знакомо, но вспомнить не могу.
Я остановился. Вытащил листы и протянул ему.
– А премия «Дискавери» ни о чем не напоминает?
– Ага, теперь вспомнил, – кивнул Стюарт. Просмотрел и вернул мне записки. – Любопытный список.
– Лауреаты прошлых лет.
– Премией ведает «Инграм», да?
Он пошел дальше, и я за ним.
– Они, – ответил я. – Я за тем и приехал. Когда увидел, что их интересуют наши ветвящиеся преобразования.
– Да, они здесь побывали. Четыре года назад, и вышло не лучшим образом. Собственно, странная ситуация. Они заявились целой командой, в костюмах с галстуками, сообщили, что мы в шорт-листе на премию, на которую не претендовали. Задавали много вопросов: над чем мы работаем.
– Шорт-лист?
– Да, и меня это сбило. Кто нас туда внес? Работа у нас закрытая – по крайней мере такой считается. Так и непонятно, где они о нас прослышали. Довольно быстро стало ясно, что премия – отличный предлог, чтобы влезть в работу претендентов.
– Ты о шпионаже?
– Возможно.
– И что дальше?
– Сперва мы поддались, но кое-что я запретил им показывать. Они были недовольны. В конце концов убрались.
Мы вышли с лестничной клетки на пустой этаж и перешли на вторую лестницу в глубине здания. Эта выглядела новой пристройкой – грубая винтовая лесенка сквозь отверстие в полу. Я вслед за Стюартом спустился уровнем ниже. Здесь все было так же.
– Сколько этажей твои?
– Мы сейчас на четвертом. Скупили лизинг у большинства остальных компаний.
– И на всех пусто?
– Ну почти, – кивнул он. – На первом этаже кто-то остался.
– Зачем выкупать этажи, если их не занимаешь?
– Нам нужна была буферная зона.
– Зачем?
– Вот зачем.
Миновав короткий коридор, мы через черную дверь вышли в темную комнату. В ней не было окон – только у дальней стены голубовато светились мониторы и прочая электроника.
– Он пришел точно как ты, – сказал Стюарт. – Твой друг Сатвик. Поднялся на лифте и сам себя представил. Сказал, что знаком с тобой, так что я его выслушал.
– Зачем он приходил? – Мой голос отозвался эхом, и я понял, что помещение намного больше, чем кажется.
Стюарт улыбнулся в слабом сиянии экранов.
– Затем же, зачем и ты, – сказал он, – только он об этом не знал.
Стюарт щелкнул выключателем у двери. Загорелся свет.
– Чтобы увидеть сферу.
* * *
– Прорыв случился, когда мы пытались считать состояние спина электрона в реальном времени, – объяснил Стюарт. – Речь уже не просто о заряде. Здесь сохраняется когерентность. У нас есть схемы наноспина и архив обработанных данных. Масштаб процесса – ты не поверишь!
Он провел меня в глубину комнаты.
Места в ней было много – чуть ли не весь этаж. Вдоль дальней стены выстроились в два ряда установки высотой восемь футов, с решетками для вентиляции. Напротив, у другой стены, раскинулась панель управления, перед которой бы взмок от пота пилот реактивного истребителя: кнопки, циферблаты, диодные лампочки, мертвые, потухшие экраны на фоне бетона. Из пустых гнезд змеились провода. Все пространство было занято оборудованием. Разобраться в нем казалось невозможно: сплошной хаос. Потом я заметил стекло. Осколки, рассыпавшиеся по полу миллионом крошечных алмазиков. Если во всем здании ощущалась заброшенность, то здесь будто бомба разорвалась. Стекло хрустело под ногами, пока я шел через комнату, а потом мой взгляд уловил, что располагалось в ее дальнем конце, и я застыл на месте. Вдруг понял, что вижу. Я увидел план, набросанный на салфетке дюжину лет назад.
– Ты ее все-таки собрал.
– А ты думал, не соберем?
В дальнем конце на вершине стального шеста держался большой стеклянный шар шестнадцати дюймов в диаметре. Над ним свисала с потолка огромная тарелка, от которой уходил вниз и в стену единственный кабель.
– И работает?
– Смотря что под этим понимать.
– Как ты сам понимаешь?
Его глаза под мясистым лбом будто сузились. Так он морщился.
– Тогда – не работает. На самом деле – нет.
Я понял, что это признание. Может быть, даже перед самим собой.
– Но кое-что она делает. Потому я и написал тебе с просьбой зайти. Я читал твою работу.
– Мою работу?
– И подумал, что тут есть связь.
* * *
Я уставился в стеклянный шар. Полупрозрачный хрусталь. Белый зернистый туман. Чем пристальней я вглядывался, тем отчетливее различал в нем порядок. Чуть наклонил голову, и свет преломился под другим углом. Внутри шара вдруг проступил рисунок: множество ячеек, возникающих из внутренних микротрещин. Похоже на зигзаг молнии, только сложнее и симметричнее.
– Там есть порядок, – сказал я.
Стюарт кивнул.
– Узор микротрещин. Сложная геометрия в высших измерениях. На самом деле – иллюзия, созданная разломами.
Я чуть повернул голову, и изображение сменилось новым сложным порядком, похожим на ограненный изнутри драгоценный камень.
– Ты сам ее сделал?
– Сферу – сам, а рисунок рефракции – нет. Это ведь не стекло – кварц, обработанный с точностью до микронов. Порядок образовался при первом же ее включении – какое-то эмерджентное свойство, связанное с перестановками внутренних молекул.
Я снова шевельнул головой, и внутренняя огранка пропала, внутренние разломы скрылись, стоило взглянуть чуть под иным углом. Я снова видел насквозь.
Я медленно пошел вокруг, проверяя другие точки зрения.
– Ты сказал, не работает, но что-то все же делает?
Он помялся, но сказал:
– Она делает снимки.
Я оглянулся на него.
– Снимки… чего?
– Пространства. Трехмерного пространства. Идеальное изображение. Больше она ничего не может.
– Трехмерного пространства? Значит, подобие фотоаппарата?
– Можно и так это понимать.
Я поднес руку к сфере. Прохладная.
– С какой степенью точности?
Он рассмеялся.
– Таким количеством полигонов не утруждает себя сама реальность.
* * *
Вырвавшись на свободу после колледжа, я развлекал себя разработками, которые никогда не удалось бы продать. Говорил себе, что занимаюсь теорией.
Мне не приходилось возиться с пользовательским интерфейсом и беспокоиться о себестоимости. Перегрев можно было сбрасывать, поставив вентилятор помощнее или водяное охлаждение. Установка могла получиться громоздкой и уродливой. Лишь бы нашелся подходящий материал.
Стюарт шагнул ко мне, встал рядом, так и не сняв с плеча дробовик.
– Когда мы только начинали, – заговорил он, – я думал, что года через два наука признает квантовую механику шаманством.
– Разве шаманство, если его изучать, не становится наукой?
– Тебя послушать, все окажется наукой.
Я вглядывался в прозрачный кварц, отыскивая в нем изъяны.
– Просто подумалось.
Я испытывал логические пределы теории, использовал ее порочные круги. Мысленные эксперименты – не более того. Опыт с двойной щелью тоже можно было назвать мысленным экспериментом. Меня, как кончик языка к больному зубу, тянуло к пробелам в теории. Хотелось ткнуть пальцем туда, где мир оказывался не таким, каким представляется.
В памяти всплыли мои же слова:
«Математика смертельно серьезна».
Стюарт долго ждал моего ответа.
Сфера – это сфера. То, что внутри, – ограненный кристалл.
* * *
– Вдохновил нас, как мне помнится, прорыв в фотографии.
А именно – фемто-фотография Рамеша Раскара – способ записывать свет на видео. Изображение замедлялось до миллионных долей секунды, так что даже фотоны на нем еле двигались. Я тогда задумался, не сработает ли тот же принцип для разбивки реальности на дискретные пакеты информации. Что, если удастся выявить зернистость самого реального мира?
Гениальность Раскара позволила ему с помощью фемто-фотографии заглянуть за угол. Изловить свет, замедлить его до измеряемой скорости, так что можно анализировать его скачки. Записать, как фотоны рикошетируют от твердых тел, обнаружить их отскок к датчикам. Ключом был временной интервал. Чем дальше расположен объект, тем больше времени требуется отраженному свету, чтобы вернуться к источнику. Летучие мыши создают для себя трехмерную картину мира с помощью отраженного звука – точно так же можно собрать карту по отраженному свету.
Я видел те снимки. Коридор освещается, компьютер ведет запись. На экране, за углом, медленно проявляется из помех изображение. Возврат срикошетивших фотонов – одного из миллиона, из сотен миллионов – создает изображение, по кадру в наносекунду.
Теоретически предполагается существование квантовых частиц-переносчиков, двигающихся не только в пространстве, но и во времени. Проследив путь частицы во времени, можно создать такую «карту рикошетов» и, реконструировав изображение согласно времени отскока, заглянуть за угол, в предыдущее мгновение. Воспроизвести его.
Теоретически при наличии достаточно сильного излучателя частиц и соответствующей компьютерной мощности можно продвинуться в прошлое вплоть до объединения четырех сил, действующих в мире, – до Большого взрыва и дальше вперед. Лишь бы нашелся способ измерить временной интервал. Так некогда морякам требовалось точное время для определения долготы. Время в данном случае определяется глюонами – переносчиками кварковых взаимодействий.
Стюарт снял с плеча дробовик.
– Попинаем шины? – предложил он.
– С удовольствием.
Он прошел вдоль стены, вдоль шкал и кнопок.
– Смотри в шар, – велел он и, прислонив ружье к панели, упал во вращающееся кресло.
Я смотрел в шар. Я прикипел к нему взглядом. Прозрачный, как пустой стакан для виски, пока не шевельнешь головой, – а тогда проявляется картина.
– Готов? – спросил Стюарт. – Тронь ее.
– Что?
– Коснись сферы.
Я положил ладонь на гладкую поверхность.
Миг спустя мелькнула вспышка – импульс света, но не просто света: от него у меня загудела голова. На миг я ощутил разряд, слабую ауру в поле зрения, как бывает при мигрени, но свечение быстро померкло и пропало.
– Ты как? – спросил Стюарт.
– Голова.
– Это побочный эффект, он сразу пройдет.
– Побочный эффект?
Впрочем, он не ошибся, голова у меня уже прояснилась, и зрение стало четким, нормальным.
– Теперь смотри, – сказал Стюарт.
Я обернулся и увидел в шаре себя. Кристально-четкое изображение, как на телеэкране с высоким разрешением. Моя застывшая рука, протянутая к шару.
– Черт побери!
– Идеальное воспроизведение, – сообщил Стюарт. – Вплоть до пряжи носков.
– Так изображение трехмерное?
– А ты смотри.
И тут я увидел, что картина меняется; меняется угол зрения, будто сфера поворачивалась, и размер – словно камера удалялась. Я осмотрел комнату, отыскивая объективы, способные дать такое изображение, – их не было.
– Объективы ищешь? – спросил Стюарт.
– Где?
– Нет их. Только сенсор. – Он кивнул на белую тарелку под потолком.
– Не понял?
– Она создает трехмерную модель всей комнаты. Как в видеоиграх. Ты в нее тоже попадаешь. Картину можно разворачивать, чтобы увидеть с любой стороны. Угол зрения регулируется вот так.
Он повернул маленькое колесико управления, и картина в сфере изменилась, открыв новую перспективу.
– Потрясающе.
– Это пустяки. Смотри дальше.
Он склонился к клавиатуре, отбил серию команд. Послышался шум помех, и картина в сфере дернулась. И начала раскручиваться назад. Я увидел, как отодвигается от шара моя рука. Увидел, как я поворачиваюсь от шара к Стюарту. А потом все затуманилось.
– Она движется!
– Да, черт возьми, она движется, и это еще не самое удивительное.
– Ты вел запись?
– Нет, тут другое. Давай покажу.
Стюарт вышел на середину комнаты. Дотянулся до свисающего с потолка кабеля.
– Это источник питания сенсора. – Он выдернул провод из гнезда. – Вот, сенсор отключен от питания. Никакой записи не ведется. Теперь коснись сферы.
Я послушался. На этот раз изо всех сил растопырил пальцы. Кварц стал теплее температуры тела. За несколько секунд работы прогрелся на дюжину градусов.
– Готов?
– Да.
Он снова вставил провод в гнездо.
– Теперь сенсор подключен. Вспомни, когда я его включил, твоя ладонь уже лежала на сфере.
Он коснулся панели, и снова мелькнула вспышка. Звук отдался в костях. Снова боль, снова размытость зрения. Все быстро прошло.
В сфере возникла картина. Я, стоящий у сферы, ладонь на кварцевой поверхности – как в идеальном зеркале.
– Руку не убирай, – предупредил Стюарт.
– Хорошо.
– Теперь смотри внимательно.
Он щелкнул по циферблату, и картина сдвинулась. Я увидел, как мои растопыренные пальцы соскальзывают, рука отодвигается, я отступаю от шара и отворачиваюсь. Картина замерла.
Он проиграл ее еще раз. Я все смотрел, отыскивая ошибку. Ошибки не было. В шаре был я, прокрученный задом наперед. Три секунды – пока рука тянулась к сфере. Стюарт крутил запись снова и снова.
– Но ведь, когда я это делал, сенсор был отключен, – напомнил я. – Как он мог записать движение?
– Тут много ограничений, – ответил он. – Пойми меня правильно. Продолжительность каждый раз другая, но обычно меньше пяти секунд. И дальность восприятия сильно ограничена – действует только в определенном радиусе.
Стюарт повернул ручку на панели, и изображение, отодвинувшись на десяток футов, выцвело. Новый поворот ручки – оно приблизилось.
– Легкой подстройкой сенсора можно изменять радиус восприятия. Поначалу было всего несколько футов – не многим больше радиуса самой сферы, – а теперь охватывает почти все помещение.
– Все равно не понимаю, как сенсор мог что-то записать без питания.
– Сенсор записывает не состояние фотонов, – сказал он, – а рикошет.
Я посмотрел на него. И я понял. Я понял, что он создал. Во всем величии.
– Черт побери! – вырвалось у меня. Стюарт вовсе не записывал движения. Он делал моментальный снимок: остальное собиралось по данным от рикошета частиц. – Ты научился проигрывать картины случившегося до начала записи.
– Потому я всех и разогнал, – кивнул он. – Всех, кто помогал собирать сферу и разрабатывал алгоритм анализа данных. Потому я и написал тебе. Это всего лишь прототип, но эта установка переменит все правила игры. Эта камера способна увидеть что угодно. Всё.
– Даже прошлое. – Стюарт кивнул. – Если мир узнает, кое-кто будет недоволен.
– Всякий, у кого есть что скрывать.
– Преступники, – подсказал я. – Власти.
– Это еще не худшее, Эрик.
Он подошел к кабелю и снова его выдернул.
– Ты сказал, запись длится пять секунд.
– Обычно, – напомнил он.
– Но не всегда?
Он улыбнулся.
– Если изучать шаманство, оно станет наукой?
Это было сказано так, что я задумался.
– Что ты видел?
– Один раз мы ушли в прошлое на восемь секунд. А один раз еще дальше.
– Насколько дальше?
– Достаточно, по-моему. – Он, кажется, хотел замолчать, но продолжил: – По-моему, она иногда путается.
– С чем?
– С тем, что видит. В какое прошлое заглядывать.
Он вернулся к панели управления. Подобрал прислоненное к ней ружье.
– Мне случалось видеть то, чего на самом деле не было.
Я ждал объяснений.
Стюарт положил дробовик на плечо и через комнату прошел к сфере. Встал рядом со мной.
– Я видел это в сфере, но не в реальности.
– Что?
– Точно не знаю. Это всегда на грани.
Я оглядел комнату. Хаос. Тяжесть достижения. Закрытие компании. При таких условиях человеку недолго сломаться.
– Может быть, ты видел отражения? – предположил я.
Стюарт кивнул.
– Я в первый раз так и подумал. – Он устало смотрел на меня. – Может, я бы и сейчас так думал, если бы не записал их. Хочешь взглянуть?
Он вернулся к панели, поработал рычажками.
Сфера осветилась. Я шагнул к ней и увидел внутри комнату. Увидел Стюарта с дробовиком в руках.
– Это было снято несколько месяцев назад, – сказал он. – На самом краю зрения я кое-чего не смог хорошенько разобрать.
Прищурившись, я склонился ближе. Ничего неожиданного, просто Стюарт. Изображение Стюарта, стоящего у самой сферы.
Тот продолжал:
– Если прокрутить сцену дважды подряд, получается отчетливее. И можно, приблизив, увидеть самого себя, заглядывающего в сферу. А еще приблизив, увидеть сферу внутри сферы. Так я увидел в первый раз – случайно. И стал смотреть дальше.
Я задумался о побочных эффектах, упомянутых Стюартом. Вспомнил головную боль при включении установки. Как она скажется, повторяясь раз за разом? Дюжину раз в день? Не увидишь ли то, чего нет?
– Вот, – сказал Стюарт.
Я взглянул, и у меня отвисла челюсть. В сфере виднелась фигура – легкая неправильность. Тень на грани восприятия. Ее можно было принять за что угодно или вовсе не разглядеть – пока она не шевельнулась. Когда она сдвинулась, сдвинулось и мое восприятие.
– Вот здесь я могу замедлить, – сказал Стюарт.
Картина вдруг приблизилась и стала раскручиваться, но я уже не видел тени – только ту же картину, а потом на ней появился Стюарт, приближающийся к сфере с дробовиком. Новое увеличение показало саму сферу – отчетливо и ярко, как если бы по телевизору показывали телевизор.
Я взглянул на настоящего Стюарта у панели. Я снова обернулся к записи.
Я смотрел, как Стюарт на картине вглядывается в сферу. Я видел, как он видит то, что видели мы: странную тень в комнате внутри сферы – тень его самого. Другую его версию, стоящую там, где он не стоял. А потом Стюарт-на-картине снял ружье с плеча. Отступил на три шага назад. Поднял ружье и выстрелил.
Кварц брызнул осколками, и сфера погасла.
* * *
Стюарт отошел от панели и присоединился ко мне.
– Я думал, что сумею исправить, – сказал он. – Думал, что, начав сначала, исправлю ошибки, но ничего не вышло. Два месяца я подбирал замену кварцу, а когда снова включил, увидел эту тень на краю. Вроде параллельной версии самого себя. Я знаю, он здесь. Где-то. – Стюарт обвел рукой комнату. – Или, может быть, здесь, внутри.
Я посмотрел на пол и понял вдруг, что осколки вовсе не стекло – это идеальная баллистическая картина на темно-сером цементе, с центром разлета на центральном возвышении. Я оглянулся на то место, где в комнате стояла тень.
Идеальная картина разлета осколков, за исключением двух мест. Два пустых от кварца пятна длиной в фут – словно там кто-то стоял.
– Что Сатвик надеялся здесь узнать?
Мы стояли на террасе, огибавшей третий этаж здания. Первые два были чуть шире верхних и образовывали кольцевую веранду со столиками для пикника и маленькими деревцами. Аккуратный, упорядоченный маленький парк резко контрастировал с хаосом внутри. Ветер то и дело ерошил Стюарту волосы, хлопал его распахнутой мятой рубашкой, глядя на которую я гадал, сколько дней он не переодевался.
Дробовик Стюарт держал на локте и выглядел заблудившимся охотником.
– Он хотел увидеть другие твои работы.
– Зачем?
– Сперва я сам не понял. Потом сообразил, что это в связи с вашим опытом. С двойной щелью.
– Ты не знаешь, где он сейчас?
Стюарт покачал головой, обвел темными глазами вечернюю террасу.
– Но он казался напуганным. Что-то его сильно напугало.
– Зачем тебе ружье?
– Затем, что я думаю, у него были причины бояться. – Несколько минут мы смотрели на заходящее солнце. – Покажи мне еще раз ту бумагу, – попросил Стюарт.
Я отдал ему листок. Он перечитал.
– Посмотри, какого типа здесь исследования. Что между ними общего?
– Из самых разных областей.
– Плохо смотришь. Победители – для отвода глаз. Те, кто получали премию, – на обочине.
– На обочине чего?
– Настоящих вопросов. Как ты не видишь? По-настоящему их интересуют другие работы. Те, что не получали премий. Кажется, – Стюарт нахмурился, – кое-кого я здесь знаю. Во всяком случае, знаю людей, работающих в тех же областях.
– И кто это?
– Предупреждение, – ответил он и вернул мне бумагу. – Двое из них погибли.
– Недавно?
– За последние несколько лет. Автомобильная авария. А второй прыгнул с крыши. Опасное дело – попасть в шорт-лист премии «Дискавери».
Стюарт, отвернувшись от меня, склонился на перила.
– Ночью здесь тихо. Так спокойно. – Он смотрел вдаль. – Мы этот кристалл в сфере не создавали – мы его открыли. Такое чувство, что он существовал всегда. Сокровище, зарытое в землю. Техника – просто лопата, чтобы его выкопать.
– Когда ты последний раз был дома?
– Неделями не был, – признался он. – Здесь у меня есть все, что нужно. Груды еды, электричество, вода, канализация. – Он опустил взгляд на дробовик. – Оружие.
– Тебя послушать, ты в осаде.
Он обратил на меня вдруг ставший сосредоточенным взгляд.
– Твоя статья меня впечатлила. Простой и изящный эксперимент. И то, что было потом, с тем доктором…
– Роббинсом, – подсказал я.
– Нехорошо вышло. – Стюарт, покачав головой, хихикнул. – И неспроста, а? Такое уж твое везение. Ты открываешь душу и тут же натыкаешься на бездушие.
– Нет оснований для такой интерпретации.
– Основания! Доказательств! По-твоему, народу нужны доказательства? Смотри туда! – Он показал. – Видишь площадку для машин у той церкви?
Я кивнул. Вдалеке, в двух кварталах от нас, виднелось здание, которое я бы принял за спорткомплекс или какую-то маленькую арену.
– Я наблюдаю за этой парковкой по воскресеньям. Так вот, в последние недели она забита как никогда. Все эти разговоры о душах и странных научных экспериментах. Твой Роббинс и просочившиеся видео. Может, люди и не вполне понимают, что показал твой опыт, зато знают, что открытие есть. – Он возвел глаза к небу. – А есть только шесть кварков и шесть лептонов – так? Вся материя Вселенной. Все состоит из двенадцати частиц. – Он перегнулся через перила. – Как ты думаешь, в этом кварце есть кварки и лептоны?
– Это образ, – возразил я.
Он снова взмахнул руками.
– Все – образ. Все на свете. Даже вопросов больше не осталось, а? Математика идет этим путем не первый год. Когда заберешься поглубже, находишь лишь пустоту, нечего пощупать руками – только иллюзия, ощущение прикосновения. Можешь, если угодно, называть это кварками и лептонами. Осталась одна тема для обсуждения – что все это значит.
– И что, по-твоему, это значит?
– Черт его знает, – рассмеялся он. – Картина в кварце нам о чем-то говорит, выжигает отпечаток на сетчатке. Когда я в первый раз включил сферу, она работала не идеально, а когда воспользовался второй раз, искажения исчезли. Я долго и усердно думал, что бы это значило.
– Пришел к выводам?
– Это может значить одно, – сказал он. – Думаю, картины в кварце – своего рода негатив.
– Фотографический негатив? Комнаты?
– Реальности. – Стюарт пожал плечами. – Трехмерного пространства-времени. Все это каким-то образом кодируется в едином образе с точностью до планковского масштаба. Не ты ли всегда толковал о попытках объединить квантовую механику с теорией относительности?
– Думаешь, твоим картинам это удалось?
Он пожал плечами.
– Реальности удается. Просто мы не знаем как.
После этого мы долго молчали, глядя в потемневшее небо.
– И что теперь? – спросил я наконец.
Он повернулся ко мне.
– Инвесторов больше нет. Деньги кончились. Все кончено.
– Наверняка что-то можно сделать.
– Нет, – сказал он. – Погляди вокруг. Интеллектуальная собственность кое-чего стоит, но она делится на доли, как любой товар. Я думал, что сумею собрать капитал, но мне перекрыли кислород. Инвесторы разбежались. Хорошо, что я все-таки успел ее увидеть. И тебе показал. – Он выпрямился. – Почему ты ушел?
– С тех пор десять лет прошло.
– А ты так и не объяснил. Сбежал от работы. Потом, я слышал, попадал в полицию, сходил с ума.
«Сходил с ума». Эти слова висели надо мной с детства.
– Я был пьян.
– Что-то про руку твоей сестры…
Я вглядывался сквозь сумерки в его лицо. В нем не было упрека. Только недоумение.
Я отошел от перил. Стало уже совсем темно. Стоянка машин осветилась.
– То было в другой жизни, – сказал я. – Она позади.
– Так ты себя уговариваешь.
Пора было уходить. Теперь я это понимал: кое-чему лучше оставаться в прошлом. Мы оба смотрели в сгущающуюся темноту и молчали. А когда он заговорил, то о другом:
– Твой Сатвик не сказал мне, куда собирается, но упомянул одно имя – Викерс. Спросил, не встречалось ли мне это имя.
– А тебе встречалось?
Он покачал головой. Я порылся в памяти, но и мне это имя ничего не говорило.
– Может, вспомнишь что-нибудь еще?
– Одна странная фраза. Прежде чем уйти, он посоветовал мне остерегаться.
– Чего остерегаться?
– Он говорил о каком-то мальчике. Сказал, чтобы я остерегался этого мальчика.
В самолете я закрыл глаза. Ночной рейс в Бостон.
Снотворное, но сон не шел. Вместо сна – бессвязный гул; чувство, что все это происходит с кем-то другим. Я наблюдал за собой со стороны – что собираюсь делать, что делаю. Наблюдал свое существование, как лежащие на коленях руки.
– Не верю своим глазам, – услышал я свое обращение к темноте.
Страшно хотелось пить.
Пришла темнота.
И с ней забытье.
Началось это в тринадцать. Мгновения на грани восприятия. Пространство ощущалось, но не виделось. Зияющая, огромная пасть. А объяснить я не мог, не было слов.
Бабушка обнимала и укачивала меня, а мне между тем открывалась, распространяясь, темнота – волна, вздымающаяся над миром, грозящая раздавить и унести, так что я иногда вскрикивал и называл это «тем чувством», хотя это вовсе не чувствовалось, а виделось сквозь закрытые веки. А потом на лице бабушки появилась забота, а там и страх за единственного внука. За мальчика, который слишком много повидал и слишком много потерял.
И я перестал рассказывать ей о темноте. Я больше не кричал и не говорил ей, что то чувство вернулось. А у себя в комнате ощущал, как растет она. Волна безумия.
Я должен был встретить эту кипящую тьму, которую не то чтобы видел – я как будто стоял под самым паровозным гудком, нестерпимо громким, только здесь был не звук, а что-то другое. Что-то большее.
А потом и я тоже пугался, и зажимал глаза ладонями, и защищался, выкрикивая числа: два, три, четыре, пять, и дальше, дальше, потому что ничего другого у меня не было, – и я узнал такое, чего никак не ожидал. Я мог его отогнать – это безумие, это темное ничто.
Я научился отгонять его числами.
Самолет приземлился. Яркие огни аэропорта.
В гараже я нашел свою машину. И записку на лобовом стекле за дворником.
Сперва я принял ее за квитанцию, потом вскрыл.
«Скоро».
В машине я принял две таблетки.
Долгая извилистая дорога. Фонари в городской темноте складывались в новые созвездия, и я выпытывал у отца, куда он подевался, шептал в пустоту, но не слышал ответа. Только смерть. Вот и Сатвик, может быть, мертв. Мертвые всегда молчат в ответ живым.
Я повернул баранку.
* * *
Среди ночи я вдруг проснулся и дернулся, как будто, споткнувшись, упал с высоты.
Проснулся в поту, сердце билось молотом.
– Ш-ш-ш, – прошептала она и провела ладонью по моему потному лбу. – Спи дальше.
– Я как будто поскользнулся.
– С каждым случается, – сказала она. – Это просто душа у тебя упала на место.
Я сел.
– Надо идти.
К ней я приехал несколько часов назад. Мне нужна была твердая опора, чтобы выбраться из собственной головы, но вышла ошибка. Голова последовала за мной.
– Останься, – шептала Джой, – все у тебя хорошо.
Она держала меня за голые плечи.
– Откуда ты знаешь?
– Все будет хорошо.
Я вспомнил ее слова, сказанные несколько месяцев назад.
– Нет. Почему-то мне кажется, что не будет.
* * *
Утром я проснулся больным.
Холодный кафельный пол. В туалете меня вырвало.
Снился тяжелый кошмар – разгорающийся пожар.
Во сне легкие у меня горели, и я проснулся рывком от того, что задержал дыхание.
Таблетку я запил молоком.
– Ты уверен, что это правильно?
Она стояла рядом со мной в темной кухне. Услышала, как я звеню таблетками во флаконе.
Я поцеловал ее в лоб и ушел с рассветом. За дверью ее дома небо падало на землю – ливмя лил дождь. Я по лужам добежал до машины.
* * *
У своего мотеля я сквозь дождь разглядел неприметный «краузер». Такой явно полицейский, что диву даешься. Впрочем, это могло быть нарочно. Машины такого рода во весь голос заявляют, что дело официальное. Черный седан средних размеров. Тонированные окна. Отойди от машины, нечего в ней разглядывать.
«Приехали допросить? – подумал я. – Опять о пожаре?»
Я не глядя проскочил мимо, но не завернул на стоянку мотеля, а подъехал к заправке напротив.
Я думал о записке на ветровом стекле. «Скоро».
Подъезжая к заправке, я оглянулся на припаркованную машину. Сквозь тонированное стекло ничего не было видно, но дворники каждые несколько секунд оживали, чтобы стереть потоп.
Я купил хлеба. Арахисовое масло. Упаковку коки. Готовые шампиньоны. Я провел в павильоне всего несколько минут. Когда вышел, машины не было. В потоке движения я ее не увидел.
Я вернулся к себе в автомобиль и проехал через улицу к мотелю. Уже спеша к лестнице, услышал шум мотора и плеск шин по лужам. Я не дал себе труда обернуться.
В этот момент мужчина в брюках хаки и темной рубашке поло вышел из-за лестницы и загородил мне дорогу. Он был рослый, тяжеловесный, лет тридцати с лишним. Походил на бывшего борца из команды колледжа – или, может быть, на сотрудника мелкой охранной фирмы, – толстая шея распирала ворот рубашки.
– Эрик Аргус, – заговорил он.
Я остановился. Смотрел на него, а дождь лил, заливал нас. Можно было солгать, отпереться, но какой смысл? Он явно знал, кого ищет.
– Ну да.
– Кое-кто хотел бы с вами поговорить.
Пока я решал, как ответить, за спиной открылась дверца машины. Я обернулся. Та самая. Черная тонировка. Значит, все-таки не копы, разве что этот, в поло, был копом, а это вряд ли. Они меня ждали. Я уронил сумку на мостовую.
– Кто хочет поговорить?
– Мы вас с удовольствием представим.
– Сейчас?
– С вашего позволения.
Он шагнул ближе. И я чуть не бросился наутек. Я мог бы сбежать. Такие здоровяки не отличаются выносливостью. Их мышцы требуют слишком много кислорода. Если прыжком вырваться вперед…
Словно прочитав мои мысли, из машины с водительской стороны вышел еще один человек. Выше, стройнее, несколькими годами моложе. Если из них двоих кто был бегуном, так этот.
Я снова повернулся к «Поло».
– А если я не хочу?
Он поднял бровь. Доходчивый ответ.
Я озирался, однако они хорошо выбрали время и место. Мы стояли за углом, из главного офиса нас не видели. Лестница загораживала вид с дороги, а дождь загнал почти всех прохожих под крышу.
– Легко я вам дался, а?
«Поло» махнул на открытую дверь автомобиля.
– Это всегда легко.
В студенчестве я видал, как вышибалы выкатывают драчунов в открытую дверь, – катят как перекати-поле. То же было бы и со мной, вздумай я отбиваться. Впрочем, оставался еще вариант рвануть со всех ног – проверить, кто быстрее.
Я глянул на дверь своего номера и решился. Темная комната. Вопросы без ответов. Тот, кто устроил эту встречу, не пожалел усилий. У него наверняка есть причины со мной увидеться. А где есть причины, могут найтись и ответы.
Я позволил усадить себя в машину. «Поло» забрался следом и закрыл дверцу. Машина тронулась.
* * *
Мы ехали полчаса. На юг, к городу.
– С кем у меня встреча? – спросил я. И, выждав несколько минут: – Куда мы едем?
Если у кого из них был язык, они этого не выдали. И мы поехали дальше в тишине.
К тому времени, когда мы добрались до съезда с эстакады, дождь перестал. Еще через пять минут мы оказались у подземного гаража. Деревянный шлагбаум открылся автоматически. Мы круто завернули за угол – шины протестующе взвизгнули, и в голову мне полезли запоздалые мысли. Снова подумалось о бегстве – распахнуть дверь и рвануть. На такой скорости можно было выскочить и перекатиться.
Решиться я не успел, потому что машина, миновав несколько дверей, остановилась носом в стену. Слева и справа тоже были стены. Мужчины выходить не стали – зато за нами закрылись двери. После мгновенного замешательства я почувствовал, что мы поднимаемся. Лифт для машины? Я о таких слышал, но никогда не видел. Это было что-то из жизни супербогачей. Тех, кто любит держать под рукой свой «Астон Мартин». Лифт поднимался быстро. Над дверями я не замечал сменяющихся цифр. И, проходя этаж, кабина не звякала. Другие остановки были не предусмотрены.
Когда подъем прекратился, в животе у меня засосало. Тяжелая дверь раскрылась – за ней я сквозь ветровое стекло увидел величественный вестибюль. Яркие лампы, люстры.
Двое выбрались из машины, и я за ними. Они молча провели меня в пентхаус. Высокие потолки. Мраморные полы. Это было не просто богатство – совсем другой мир. Квартирка мультимиллионера. Я никогда таких не видел. В следующую комнату надо было спускаться по ступеням, а потом меня повели в глубь дома через бадминтонную площадку, устеленную густым белым ковром. Посредине лежал красный мяч – таким мог бы играть ребенок.
Сквозь открытую в дверь на веранду я видел большой патио и за ним – поднимающиеся к темному небу другие высотки. Мы были на двадцатом этаже – если не на тридцатом.
– Эрик.
Я обернулся на голос.
У гигантского стола черного дерева стоял Сатвик.
– Сатвик!
Я бросился к нему, и мальчишеское лицо Сатвика расплылось в широкой улыбке – личико херувима под седеющей шевелюрой.
Он протянул руку – пожать, но я схватил его и обнял.
– Что ты здесь делаешь? – спросил он.
Я хлопнул его по спине.
– Живой!
– Конечно, живой. А ты как думал?
– Я уж не знал что и думать. – Я огляделся. Кругом было роскошно. Два больших дивана, камин из белого кирпича. Возможно, гостиная, но я бы не взялся утверждать. Мне не хватало словаря. В домах, где я рос, таких комнат не бывало. – Ты хоть представляешь… – Я не находил слов, слишком велико оказалось потрясение. – Где тебя носило, черт возьми? – Я старался не кричать, но из облегчения быстро вырастало что-то другое. Гнев. Возмущение.
Сатвик покачал головой:
– Две недели провел здесь. Все еще не понимаю, что происходит.
Только теперь я заметил порез у него над глазом. Рана зажила – или ее залечили. А была она глубокой и пришлась ровно между бровью и линией волос. Похоже, стоило бы зашить, но следа швов я не видел.
Злость моя отхлынула.
– У тебя лоб…
– А у тебя? – Он кивнул на мою все еще перевязанную руку. – Что стряслось?
Я посмотрел на собственную ладонь. Успел забыть о повязке.
– Пожар был, – сказал я.
– Пожар? – Он наморщил лоб.
– В Хансене. Склад сгорел.
Он округлил глаза.
– Сгорел? Кто-нибудь пострадал?
Я мотнул головой.
– Только я.
– Как это случилось?
С чего бы начать? Все, что приходило в голову, тянуло за собой то, что было раньше.
– Много всякого было, – заговорил я. – Но прежде всего надо позвонить твоей жене. А потом Джереми. За тебя беспокоятся. Надо известить людей.
Он изменился в лице.
– Прости, Эрик.
– За что простить?
– Здесь не то, что ты думаешь.
В этот момент отворилась двойная дверь, и из кабинета в комнату вытекла небольшая компания, шумно болтавшая на ходу. Когда я увидел первого, у меня екнуло под ложечкой. Брайтон. Он улыбнулся, подходя к нам.
– Смотрите-ка это кто!
Темный свитер Брайтона с воротом-хомутом резко контрастировал с его золотыми волосами. Следом шли двое мужчин и женщина, но все трое остановились поодаль. Мужчины, пожалуй, походили на телохранителей, а вот женщину определить было труднее.
На ней был темный деловой костюм, в руках портфель. Адвокат или, может, бухгалтер. Немного за сорок, слишком угловатая, чтобы назвать красавицей, но запоминающаяся. Глаза бледной, текучей зелени.
– Мистер Аргус… – начал Брайтон, протягивая мне руку, – рад снова вас видеть.
Я оставил его руку висеть в воздухе.
– Зачем я здесь?
Улыбка его изменила форму, превратилась в узкую щель.
– Прямо к делу, – кивнул он. – Мне это нравится. Обойдемся без обычных любезностей. Вижу, вы двое с ними уже покончили. – Он обернулся к женщине: – Будьте добры…
Та кивнула и молча вышла. Охрана осталась.
Когда женщина ушла, Брайтон обернулся ко мне.
– Извините, что заставил вас ждать, но я отвечаю за дело, – сказал он. – Я решил, что пора нам опять поболтать.
Поболтать… Вот как это называется?
– Я слушаю.
– Наедине.
Он дал знак телохранителям, и оба шагнули к Сатвику. Один словно невзначай положил руку ему на плечо. Жестом близкого друга. Сатвик не сопротивлялся.
– Идемте, – Брайтон поманил меня за собой. Мы вышли в дверь веранды в дальнем конце комнаты. – Вас трудно поймать, Эрик, – заметил Брайтон, выходя. Огромное патио. Белый мрамор полов, стеклянные перила. Прохлада и шум уличного движения снизу. Тридцатый этаж – решил я, рассмотрев обстановку.
– Не так уж трудно, – возразил я. – Вы легко меня нашли.
– Ну тогда вас трудно понять. Все в вас непросто, а? Потому-то я искал возможности поговорить.
– И для этого меня похитили?
– Похитил? – Он захихикал. – Вы приехали по своей воле. Вас вежливо пригласили, вы согласились. Я не ошибаюсь?
Конечно, он был прав. Я и перед судом не мог бы этого отрицать.
– А как насчет Сатвика?
– Его, признаться, приглашали не так вежливо. Но с ним иначе нельзя. Сатвик боец, хоть по его виду этого и не скажешь. – Брайтон покосился на меня. – А вы – не очень. Вы предпочитаете уклоняться от боя, не так ли? Вы беглец.
Я достал из кармана телефон, нажал «Набор» и поднес к уху.
Я ждал, что Брайтон кинется на меня. А он опять улыбнулся.
– Кому вы станете звонить? Что скажете?
Он и с места не двинулся. И охрана не ворвалась, чтобы отобрать у меня телефон.
Три секунды послушав тишину, я отнял аппарат от уха и взглянул на экран. Вызов не прошел.
– Заблокировать телефон проще простого, – заметил он. – Мне требуется ваше безраздельное внимание, так что поговорим, не отвлекаясь на звонки, пока не придем к душевному согласию.
– Хорошо, давайте поговорим.
Я опустил мобильник в карман.
– Напрасно вы видите во мне врага, – засмеялся он. – Все не так плохо, как вам чудится. Распространенная ошибка – не понимая чьих-то мотивов, толковать их в дурную сторону. Нам хочется точно знать, где добро, где зло, но в действительности их не так легко разделить. На самом деле это вопрос точки зрения. На самом деле важен только вектор Вселенной. Остальное просто… излишества. Орнамент, украшения.
– А премия «Дискавери»? Тоже украшение?
Брайтон резко прищурился – я застал его врасплох.
– В некотором смысле. В других – нет. Как я говорил, нет ни добра, ни зла, есть только вектор. Но кое-кто действует против его направления. А есть такие, чья цель – продвигать стрелку вперед. Хотел бы я знать, из каких вы?
– Совершенно не понимаю, о чем вы говорите.
– Отлично понимаете. Вы сами удивитесь, как много вам известно. – Он мерил шагами белый мрамор. – Кстати, как ваша сестра?
Угроза даже не скрывалась.
– Чего вы хотите?
– Хочу услышать ваше мнение по одному вопросу. По теме, в которой вы, по-видимому, специалист. – Он, не останавливая шагов, бросил на меня взгляд. – Если вы что-то сделаете, напившись до беспамятства, это считается?
Я уставился на него.
– Вы, конечно, должны были задумываться над этим вопросом, – продолжал он. – Сознание, что ни говори, такой ограниченный ресурс. Итак, если вы, хлопнув дверью, сломали руку сестре, будучи пьяным, – сломали так, что потребовалась операция… – Он оставил вопрос висеть в воздухе.
Лицо мне словно окатили кипятком.
– В сомнении должно найтись некоторое утешение, – рассуждал он. – Оправдание. Остаетесь ли вы на месте, позади собственных глаз, когда пьяны до беспамятства? По-прежнему ли отвечаете за свои поступки? – Он подошел ко мне и остановился рядом. Негромко проговорил прямо над моим плечом: – Это засчитывается вам в вину?
Кулаки у меня сжимались и разжимались. Я открыл рот, хотел заговорить, но не доверял словам.
Он тихонько хмыкнул.
– Итак, за этим наружным хладнокровием что-то есть. Я уж начал сомневаться. Скажите как профессионал – в пьяном беспамятстве вы вызовете коллапс волны? Это, знаете ли, можно проверить. У нас есть отличный бурбон. Из особых фондов, двойной выдержки. Вам всего-то и надо, что пить да пить, пока Сатвикова коробочка наблюдает за результатами. Отпустит она вам все грехи или нет? – Брайтон шагнул к перилам. Поднимался ветер. Издалека донесся автомобильный гудок, за ним другой. Голос города. Он склонился над перилами. Я подумал, что мог бы скинуть его. Обхватить за колени и приподнять. Он обернулся, словно подслушав мысли. – Хотел бы я знать, куда девается сознание, когда вы пьяны до беспамятства. – Он смотрел так, словно ждал от меня ответа. – Этот груз, который так тяготит вас… – продолжал он. – Сознание – великий дар, но иногда оно непереносимо. Вы на всё пойдете, лишь бы его погасить. Чего вы боитесь?
Он подошел вплотную.
– Говорят, чтобы узнать человека, надо узнать его страхи. Чего вы боитесь больше всего, Эрик? Того, что забыли? – Он будто читал у меня на лице. – Нет, этого боятся другие, не вы. Может быть, вы боитесь, что не сумеете закончить работу? – Кажется, его испытующий взгляд нашел что-то в моем лице. – А, вот оно, верно? Должно быть, случившееся в Индианаполисе вас сильно ударило.
– Зачем я здесь?
– Вы всё спрашиваете, а ответ прямо перед вами. Скажите, какой мне с вас прок? Какой прок с Сатвика?
– Не знаю.
– В странные времена мы живем. Никогда в истории еще не удавалось примирить плоть с духом. А мы этого достигли.
Я остро глянул на него. «Плоть с духом» – знакомый стиль.
– Вы говорили с Роббинсом.
Брайтон кивнул.
– Шептал ему на ухо. Нашептал достаточно, чтобы не сомневаться – он не создаст проблем. А вот вы… – он ткнул меня пальцем, – сколько же проблем вы создали миру!
Он снова обернулся к панораме города.
– Что за мир вы создали, Эрик? Вы хоть на минуту задумывались? Ваш экспериментик – ваш с Сатвиком, и его повторят все любопытные ученые, проверят и перепроверят, и узнают то, что обнаружили вы: что некая часть населения не способна вызвать коллапс волны. Вы думаете, это известие удастся остановить? Думаете, ваше открытие можно закрыть?
– Нет.
Он покачал головой.
– Во всяком случае, это будет непросто. Цивилизации уже случалось терять познанное, но не безболезненно. Думаю, все решила публикация вашей статьи. Мир вращается вокруг своей оси, но есть и другие оси, не видимые вам. Уже сейчас в каких-то лабораториях устанавливают аппаратуру, подают заявки на гранты. Уже сейчас кое-кто знает. Машина пришла в движение. Стоит мне закрыть глаза, я слышу, как движутся рычаги. Они не остановятся: все увидят то, что видели вы, и что тогда?
– О чем вы?
– Что тогда будет с теми, кто отличается? Вы должны были об этом подумать. – Он развернулся ко мне лицом. – Роббинс назвал это душой, так же назовут и другие, но, как ни называй, факт остается фактом: ваш опыт провел границу. Открыл парадокс скальпелю вивисектора.
– Какой парадокс?
Он озадаченно склонил голову.
– Парадокс свободы воли. Вы что, в самом деле не понимаете?
Я не понимал. Лицо Брайтона бледно светилось в полутьме. Он был очень серьезен.
– Каких проверок потребуют люди? Для политиков? Для судей? Для будущих супругов? Процесс уже пошел – его запустило открытие Роббинса. Вопрос задают в церквях и перед зеркалом. И куда он нас заведет? Те люди, которые не люди… что с ними будет? Можно ли им доверять? Или их место в трудовых лагерях? Они законная добыча геноцида?
– Вы сумасшедший.
– Это крайности, признаю, но подумайте: что в истории человечества наводит на мысль, будто оно сторонится крайностей? Люди убивают из-за расхождений в вере, культуре, расе. Что отличает одно племя от другого? Так уж велики различия? Любой повод подойдет, чтобы расчеловечить противника и найти оправдание любым своим действиям. Будут гореть селения – если не здесь, так где-то еще. Если не в этом году, так в будущем. Воскресят древнюю историю, вроде салемского суда над ведьмами, когда к спине невинных привязывали камни, чтобы проверить, всплывут ли утопленные. Такова наша природа. Вы хоть задумывались, чему положили начало, Эрик? Вы разбили мир. Вы разбили иллюзию.
По загривку у меня поднимался холод.
– Кто вы такой?
– А, теперь вы задаете вопросы. Я тот, кто прожил достаточно долго, чтобы набраться ума.
– А они кто? – спросил я. – Те, о ком вы говорите. Те, кто не обрушивает волну. Кто они?
– У них есть имя. Вы его еще не угадали, Эрик?
– Какое имя?
Он опять отвернулся от меня, уставился на город.
– Они рождаются, они живут, они умирают. – Он повернулся ко мне. – Мы зовем их обреченными.
* * *
Брайтон увел меня обратно в дом. Шел он неспешно, держась рядом со мной. После темноты снаружи освещение казалось ярким. Мы миновали библиотеку, где Сатвик сидел в кресле с высокой спинкой, а двое охранников стояли у открытой двери. Сатвик, уловив движение, поднял глаза. На мгновение наши взгляды встретились, потом я прошел дальше. Трудно было что-то понять за эту долю секунды, но мне в его глазах почудился страх. Страх за себя. А может, за меня. Сложно сказать.
Из дальнего конца коридора, пройдя несколько дверей, мы попали в большую, тускло освещенную комнату.
– Играете? – спросил Брайтон.
В других пентхаусах такое могло бы называться комнатой отдыха. В ней был бы большой телевизор, полный бар, несколько кушеток и сидений. В брайтоновской версии роскоши наличествовали четыре бильярдных стола. Окна притемнили черной бумагой. Сами столы были шедеврами искусства. Лиги мягкого зеленого сукна. Тонкая резьба по дереву. На стене висела коллекция киев. Там же обнаружился, наконец, и бар с напитками, размещенный со вкусом, в дальнем конце. Обещанный Брайтоном бурбон и другие виды спиртного. Стеклянные бутылки на стеклянных полках отражались в зеркальной полосе.
На первом от двери бильярдном столе лежал странный предмет. Я присмотрелся, силясь разобраться. Что-то похожее на опрокинутый динамик с белой тарелкой громкоговорителя. Одновременно я заметил на втором столе пятна. Да, лиги тонкого зеленого сукна, только местами оно потемнело. Я бы рад был придумать этим пятнам невинное происхождение, но в голову лезло иное. Крупные засохшие лужи. Большое круглое пятно на дальнем конце стола. Два пятна поменьше по центру. И еще у боковой лузы. Как будто на столе лежал человек, истекающий кровью из дюжины ран.
Брайтон поймал мой остановившийся взгляд. Обойдя стол с пятнами, он остановился у другого, с аппаратиком.
Он дал знак оставшемуся у двери телохранителю, и над первым столом, щелкнув, включился свет, так что теперь я мог хорошо рассмотреть устройство. И увидел, что это, собственно, не динамик – что-то другое. Черная коробочка с тумблерами и сетчатой верхней стенкой. По столу раскатилось несколько шаров. Над коробочкой в металлическом зажиме торчала белая тарелка – диск из твердого белого пластика. Из лежащего рядом двухфутового мешочка с черным песком просыпались, губя покрытие, песчинки.
– У каждого великого открытия свои мученики, – заговорил Брайтон. – За откровение всегда приходится платить. – Он подобрал со стола шар-биток. – Вернер фон Браун создал ракеты V-2. Они убили десятки тысяч людей во Второй мировой, но от них прямой путь к «Меркурию» NASA. – Подержав белый биток, он вернул его на стол, назвал: «Луна» – и покатил. Биток отскочил от бортика и, прежде чем остановиться, задел шестой шар. – До фон Брауна был Никколо Тарталья, отец баллистики. Несчастный изуродованный заика Тарталья, который ввел в математику знак скобки и доказал кривизну траектории снаряда. – Брайтон положил ладонь на шар два. – И для вас, в скобках: сколько народу погибло от этих траекторий? – Он покатил второй шар по столу – простучав по другим шарам, тот ударился в бортик, отскочил, стукнул по черной коробочке посередине и увяз в песке. – А потом открыли расщепление ядра – Лиза Мейтнер впервые теоретически задумалась о возможности цепной реакции. Спустя несколько лет мы узнали ответ – ведь узнали же? Так всегда бывает: изобретение стали неизбежно приводит к клинкам, и мученики истекают кровью.
Наклонившись, Брайтон перекатил лежавший у лузы седьмой шар. Потом, открыв мешочек с песком, высыпал его на белую тарелку.
– Это называется пластина тонических вибраций. Старое устройство, вы о нем, может быть, слышали?
– Нет.
Он дотянулся до черной коробочки.
– Вот это – модулятор частот. – Он повернул тумблер до щелчка, и я услышал тихое гудение. Еще поворот – и гудение стало громче, выше тоном. Песок на тарелке заплясал от вибрации, стал пересыпаться, перетекать. Постепенно образовался узор, картинка вроде нацарапанной ребенком спирали, как из инопланетного калейдоскопа. Песок собирался в изогнутые черные линии на чистой светлой пластине.
– Пространство вокруг нас пронизано волнами, – объяснял Брайтон. – Вокруг нас и в нас. Звуковые, радиоволны, световые волны. Волны самой материи. Бо́льшая их часть для нас невидима, и только наше сознание придает им материальную форму. Как этот песок придал материальную форму вибрации.
Он еще повернул ручку – гудение стало пронзительнее. Песок отозвался на новую частоту, переменив узор из детских каракулей в концентрические круги. Черные точки на белой поверхности. Это были математические кривые, фрактальные ловцы снов, мандалы. Линии сдвигались, перекатывались, как живые, одушевленные создания. Меняли форму при каждом повороте тумблера: ячейки сот, параллельные волнистые линии, абстрактные иероглифы.
– Эти волны распространяются вверх, – объяснял Брайтон. – Песок дает только срез в плоскости.
Он еще раз повернул ручку – до тона осиного жужжания, – и узор оформился в круги: словно я глядел в лицо револьверу: шесть маленьких кружков обоймы вокруг большого центрального – черного глаза револьверного ствола.
Брайтон выпустил тумблер и взялся за мешок. Он просыпал на тарелку еще песка – закрыл узор, не жалея стола, просыпал часть по сторонам. Пустой мешок отбросил на пол. Песок на тарелке вибрировал, кипел, интерферируя сам с собой, стремясь к порядку, но не образуя узора. Для него не хватало места. Безликая черная поверхность.
– Все на свете – просто волны и их формы, – сказал Брайтон. – Тоны вибрации – и фокус, помогающий их увидеть. Сделать горизонтальный срез. – Выпрямившись, Брайтон уставился на меня. Он теперь говорил не о тарелке. – Дело не в устройстве глаза – в устройстве сердца. В той странной искре, которая проскакивает в груди, пришпиливая вас к реальности. Она нужна, чтобы все это проявилось – то, что вас окружает. Вы религиозны, Эрик?
– Я допускаю разные точки зрения.
– Вы никогда не задумывались, почему Вселенная устроена так, как устроена? Гравитация, электромагнетизм, различные внутриядерные взаимодействия – относительные и абсолютные силы и величины уравновешены на лезвии ножа. Сдвинь их совсем чуть-чуть – получишь вакуум.
– Антропный принцип, – напомнил я.
Он кивнул.
– Да, не будь эти силы именно такими, не было бы нас, способных их вычислять, – конечно же! Но возможен и несколько иной взгляд: Вселенная должна быть именно такой, как она есть, чтобы оставаться наблюдаемой. – Он подался ко мне через стол. – А то, что не наблюдается, существует или нет? – Он повернул ручку на коробочке, и у меня над ухом зазвенела оса. – Что, если Вселенная нуждается в нас не меньше, чем мы в ней? Великое сотрудничество. А без нас… – он взглянул на пляшущие песчинки, – она просто взбаламученная корчащаяся масса.
Он вдруг ударил по столу так, что все устройство содрогнулось.
Песок стек с пластинки, засыпав все вокруг, а то, что осталось, медленно сложилось в новый узор, отчетливый и ясный на белой поверхности. Ряд плавных изгибов, как на крыле бабочки.
– Как вы думаете: Вселенная хочет, чтобы ее наблюдали?
– Вселенная не может хотеть.
– Вы так уверены?
– Если вы ведете речь о подобии сознания, то…
– Обладай Вселенная сознанием, она бы в вас не нуждалась. Нет, – продолжал Брайтон, – я имею в виду более тонкую мысль. – Обойдя стол, он выключил коробочку. Гул стих, и песок перестал двигаться, узор застыл, словно увековеченный тишиной. – Гейзенберг говорил, что частицы скорее потенциальны, чем действительны, однако вот они перед вами. – Он снова взял шар-биток. – Я заметил, что когда физики хотят точно описать действительность, они говорят о ней формулами: стоит им перейти к общим понятиям, их не отличишь от монахов.
– К чему все это? – Я не уловил связи.
– Есть одна пещера с признаками постоянного обитания на протяжении двадцати тысяч лет. Двадцать семь футов культурного слоя накапливались поколения за поколением еще до зачатия цивилизации, и ни одного нового артефакта, ни одного изобретения. Вы представляете? Неизменное селение – как в платоновской теории форм. Не просто селение – платоновский идеал, и картины на стенах в том же стиле, как рисовали восемнадцатью тысячами лет раньше.
Он совсем меня сбил.
– Это тут при чем?
– Теперь все меняется быстрее. Ускоряется. Внуки людей, живших без электричества, гуляют по Луне. У нас теперь есть атомная энергия, микрочипы, беспроводная связь со всем миром, умещающаяся в кармане. И что изменилось? Оглядитесь вокруг – увидите. Новое прорывается повсюду. Прислушайтесь – и вы можете услышать.
Он закрыл глаза, лицо безмятежно застыло.
– Что услышать?
– Трубу Гавриила. – Он смотрел на меня, расплываясь в улыбке. – Вы спрашивали, зачем вы здесь, Эрик, – вот вам ответ. Пришло время абераксии.
Охрана провела меня по коридору. Мы миновали библиотеку, где прежде сидел Сатвик, но его кресло опустело. В передней мы прошли по белому ковру, и я отметил, что красный мячик исчез. Поискал его глазами, но не нашел. Меня проводили в новый коридор и, свернув мимо кухни, подвели к тяжелой деревянной двери со стальным засовом. Высокий отпер ее ключом и втолкнул меня внутрь. За спиной щелкнул замок. Развернувшись, я пнул дверь так, что зазвенели петли.
– Эрик.
В темноте я различал только силуэт.
– Сатвик?
– Боюсь, что так. – Силуэт сдвинулся. – Здесь меня держат ночью, – пояснил он. – Моя комната. Теперь и твоя тоже. Я знал, что ты приедешь.
– Откуда?
– Они положили на пол второй матрас. Зачем бы еще?
– Что это за комната? – спросил я.
– По-моему, бывший чулан, только они убрали полки.
– Понятно, почему нет окон, – кивнул я. – И расположен он посреди квартиры, так что криков никто не услышит.
– Вчера ночью здесь кричали, – понизив голос, сказал Сатвик. – Довольно громко. Непохоже, чтобы их это волновало.
– Кто кричал?
– Из другой комнаты. Я не видел кто. Сюда его не приводили.
Я вспомнил пятна на бильярдном столе, но решил о них не упоминать.
– А что теперь?
– Будем спать.
– Нет, я хотел спросить, что с нами будет. Что они с нами сделают?
– Не знаю. Мне не говорили.
Темнота вдруг стала тесной. Воздух – горячим и душным. Пусть здесь и есть вентиляция, я усомнился, что воздуха хватит на двоих, и подумал, не найдут ли наутро два синих от удушья трупа. Эту мысль я отбросил – паранойя.
– Как они до тебя добрались?
– Взяли с улицы. Я пытался бежать. Они и машину мою заполучили.
Машину. Это объясняло ту ночь в лаборатории.
– И мальчика они использовали, – добавил он.
– Мальчика из Нью-Йорка?
– Он теперь с ними. Думаю, с самого начала был с ними. Брайтон заставил меня его проверить – хотел увидеть.
– И что?
– Мальчик, как и в прошлый раз, не вызвал коллапса волны. Были и другие такие. Брайтона я тоже проверял, он не сразу заметил. Я решил, что надул его, но, может быть, это он меня надул.
– Он такой же, как тот мальчик?
– Нет, – возразил Сатвик, – с Брайтоном другое.
– Какое еще другое?
Сатвик замялся.
– Трудно сказать. Он смотрел всего несколько секунд, у меня нет уверенности.
– В чем уверенности?
– Похоже, что у него был выбор, – сказал Сатвик. – Он мог выбирать, волна или частица.
* * *
После этого мы молча сидели в темноте. Потом он стал рассказывать о поездке по стране в попытке понять: что же проверяет двойная щель.
– А в «Высокопроизводительные» зачем ездил? Я так и не понял.
– Получил сообщение, – сказал Сатвик. – На машину прилепили записку с адресом. «Гугл» выдал, что они связаны с твоими прежними работами.
– От кого сообщение?
– Там было только имя. Викерс. Я думал узнать больше, но не узнал. Теперь думаю, это готовилась ловушка. На следующий день они меня поймали.
После новой долгой паузы я сказал:
– Надо искать выход.
– Охрана здесь проворная, – ответил он. – Посмотри на мой лоб. – Я почувствовал, как он шевельнулся в темноте. – Ты с моими говорил?
– Нет, – сказал я.
– Скучаю по дочке. Волнуюсь: что, если я не вернусь домой?
– Все будет о’кей, Сатвик.
– Чего мне больше всего не хватает – это почитать ей на ночь. Я рассказываю, а она лежит, слушает.
– Ты ей никогда не рассказывал свою сказку о четырех царевичах?
– Она ее знает во всех подробностях.
– Ты мне не всё рассказал?
– Далеко не всё.
– Вот тот четвертый, который стрелял в птичий глаз, – чем с ним кончилось?
– Это долгая история.
– Так чем?
Сатвик помолчал.
– Он умер.
* * *
Среди ночи я проснулся от шума. Не сразу вспомнил, где я, но потом все вернулось. Звук скачущего мячика. Я прижался лицом к вентиляционной решетке и увидел кухню. Увидел короткие ноги, пробегающие по полу. Отскочивший от пола красный мяч. Мальчик.
– Пст! – окликнул я.
Мячик перестал скакать. Мальчик обернулся. Лет десяти. Темные кудрявые волосы. Он нагнулся так, чтобы я мог его видеть через решетку, показал мне лицо. Пристальный невыразительный взгляд. Ни малейшего удивления.
– Ты можешь открыть дверь? – шепнул я.
Он чуть склонил голову к плечу. Лицо не изменилось. Обычный мальчик – типичный мальчик. Мальчик в синих джинсах и футболке. Такого можно увидеть в любом парке.
Я ждал, но ответа не получил.
– Можешь?..
Он швырнул мячик – попал в решетку перед моим лицом. Я отпрянул. Увидел его уходящие ноги.
* * *
На следующий день охрана разбудила нас лязгом засова. Выкатившись из постели, я вскочил к тому времени, как дверь открылась. Они по очереди сводили нас в уборную, где один из охранников караулил у двери.
– А где же Брайтон?
Сторож только посмотрел на меня и не сказал ни слова. Он был не из тех, что я видел накануне. Этот оказался высоким, темнокожим. В распахнутой на груди спортивной рубахе. Похоже, новая смена, сообразил я. Сколько же народа работает на Брайтона? Мальчика, если он был еще здесь, я не увидел.
– На завтрак надежда есть?
– Хватай что найдешь. – Мужчина махнул в сторону кухни. – У тебя пять минут.
Я ступил на кухонный кафель. Не сразу нашел холодильник, великолепно укрытый за потайной панелью рядом с плитой на шесть горелок. Влез на верхнюю полку и ухватил коробку апельсинового сока. Потом достал из верхнего шкафчика стакан. Стакан был тяжелый, я обхватил его пальцами. Веса достаточно, чтобы использовать как оружие. Если разбить его об пол, получу осколки, которыми можно перерезать яремную вену. Охранник вошел в кухню и пристально уставился на меня. Упер руки в бедра, приоткрыл куртку, так что мне стала видна кобура. Я налил в стакан сока, выпил и поставил стакан в раковину.
Через несколько секунд по коридору прошел Сатвик. «Поло» и еще один охранник следовали за ним по пятам.
– Бери ботинки, – велел «Поло». – Мы уходим.
– Куда уходим?
– На улицу. Вас выкинем в парке.
– Выкинете?
– Да. Отпустим.
Я моргнул. Уставился на него. Не понимаю. После всего, что было…
– Вот так просто?
– Я повторять не буду.
«Поло» подтолкнул меня к комнатушке, где мы провели ночь. Я вслед за Сатвиком завернул в нее. Мы нагнулись, чтобы обуться. Сатвик походил на контуженого. По его лицу я ничего не смог разобрать.
Оглянувшись, я увидел «Поло» в коридоре.
Склонившись к Сатвику, прошептал:
– Мне это не нравится.
Сатвик улыбнулся. Бессмысленное остолбенение прошло.
– Они нас отпускают.
– С чего бы это? – покачал головой я.
– Не знаю. – Он надел ботинки – черные туфли. – Может, они с нами разобрались.
– Сатвик, тут что-то не так.
Он выпрямился.
– Я слишком много работал. Вернусь домой – все будет иначе. Столько часов потратил, а зачем? Удобряй – стриги, удобряй – стриги.
– Ты о чем говоришь?
– Это как с газонами. Вносишь удобрение, и трава растет быстрее. А зачем? Никакой отдачи.
– Сатвик, соберись!
– Я собран. Я здесь провел две недели. Сегодня еду домой.
– Ты ему веришь?
– Он сказал, что нас отпустят.
Тут я вспомнил мать. Ее способность верить в то, во что она хотела верить. Такая сверхспособность. Может быть, она кроется в каждом из нас. Может, всякий способен к ней прибегнуть, когда надо.
Вошел новый охранник, забрал нас и препроводил к «Поло», стоявшему у частного лифта. Дверь открылась – я ожидал увидеть машину, но лифт был пуст. Голый металлический пол и четыре стальные стены. Большой, как гараж на одну машину.
– Туда, – приказал охранник.
Мы четверо вошли. Я встал рядом с Сатвиком, и «Поло» закрыл металлическую дверь. За ней медленно сомкнулась наружная. Я ощутил запах смазки от механизма.
Сатвик еще улыбался.
– Теперь все будет иначе.
– Да-да, – отозвался я.
«Поло» нажал кнопку, и лифт дернулся.
– Меня слишком долго не было. Вечером я увижу дочку.
Я только и мог что кивнуть.
– Она будет счастлива меня увидеть.
– Счастлива, – повторил я.
Человек в рубашке поло плавным движением поднял руку и выстрелил Сатвику в голову.
Закричал я после.
Брызги крови на стене – и тогда я бросился на стрелка, но тот этого ждал. Он развернулся, использовал против меня мою же инерцию, схватил за локоть и впечатал меня в двери. Ударившись о жесткую сталь, я почувствовал, как хрустнул нос. Перед глазами поплыли звезды. Темные пятна. Извернувшись, я вслепую взмахнул кулаком, но попал по воздуху, а меня резкий удар в челюсть отправил на пол.
Я замотал головой, пытаясь прочистить зрение. Когда приподнялся, меня отбросили обратно пинком по ребрам – вышибли дух, так что я не мог глотнуть воздуха, задыхался, как рыба. Потом был еще пинок. И еще. Я свернулся в комок, защищая самые уязвимые места. Сознание стянулось в белую точку, ускользнуло, и пинки прекратились.
Лифт вздрогнул и встал. Я боком ощутил рывок. И дрожь, когда открывались двери. Люди вышли, забормотали голоса.
Все это произошло за то время, пока шел лифт. Смерть Сатвика. Я на полу, разбитый, в крови.
Белый «рейнджровер» стоял задом к кабине лифта. Рядом со мной лежал ничком Сатвик, лужа крови расплывалась по стальному полу. Потом я ощутил приближающееся движение. «Поло» и еще один снова вошли в кабину.
Они завернули тело Сатвика в брезент.
Я хотел их убить.
Хотел так сильно, что закричал. Яростно заорал, пытаясь сесть на полу. Тот, что спустил курок, взглянул на меня сверху вниз.
– Выбирай куда пялишься, – предупредил «Поло».
Я смотрел на него и мечтал порвать в клочья. Мечтал разодрать ему зубами глотку.
Тогда он пнул меня ногой в лицо.
Голова у меня запрокинулась, губы треснули. Поплыла чернота.
– Я сказал, выбирай куда пялишься!
Когда муть перед глазами чуть расчистилась, «Поло» стоял надо мной. Я не отвел взгляда. Вместо этого я нащупал стену. Подтянулся, прожигая его глазами. Лицо охранника разгорелось от злобы. Он достал пистолет, нацелил мне в лицо. Я вспомнил узор песчинок. Шесть круглых патронных гнезд. Но у него был не револьвер – полуавтомат. Я продолжал подниматься, встал на колени.
Он взвел курок.
– Погоди. – Второй охранник придержал его за запястье, заставил опустить ствол. – Тебе что, самому рыть охота?
Злость на лице «Поло» осталась, но он взял себя в руки и убрал оружие.
Взглянул на меня сверху. Отвел руку так быстро, что я едва заметил движение. Хрустнула кость, и мир погас.
* * *
– Вставай.
Голос прозвучал из пустоты, и я почувствовал, что меня тянут за руку. Это было спустя несколько секунд или минут.
Я бы стал драться, но голова кружилась, и тело не слушалось. Меня протащили по полу лифта. Я перевернулся, чтобы подобрать под себя колени. Хватка на моей руке ослабла, и я растянулся плашмя на животе. Кровь из разбитого носа вытекала через рот. Пол был серебристо-серый, из гладкой стали. Я видел свои ладони, но ощущал их как чужие. Желудок взбунтовался, меня вырвало кровью на чистый пол, кровь и желчь забрызгала им ботинки. Хоть какое-то утешение. Единственный мой удар, попавший в цель.
– Давай уже засранца в машину.
Двое вздернули меня под руки, открыли багажник и впихнули меня внутрь. «Поло» хомутами стянул мне запястья за спиной, пережал сосуды. Оставь так подольше – и я лишусь рук. Вряд ли это имело значение.
Они забросили Сатвика прямо на меня и захлопнули багажник.
* * *
Мертвый вес придавил мне ноги, а когда машина накренилась на выезде из гаража, я почувствовал прижавшееся к спине плечо Сатвика и его бедро поверх своей икры. Кровь, просочившись сквозь брезент, впитывалась в мою рубашку.
Впереди негромко и спокойно разговаривали, но слов я не разбирал. Оно и к лучшему. Я не желал их слышать. Сатвик умер. Я тоже умру. Я подумал о сестре. О матери с отцом. О словах Сатвика: «Люди забывают, что когда-нибудь умрут». Хохот подступал как безумие. Я понял, почему забывают. Людям приходится забывать. Потому что это невозможно удержать в памяти. Не умещается. Собственное небытие. Конец всему. Что, мир мигнет и погаснет? Или что-то еще будет? Что-то после.
«Рейнджровер» остановился. Очень скоро мы снова двинулись, свернули, свет вдруг стал ярким, желтым. Дневной свет сквозь стекло. Мы выехали из гаража на городскую улицу.
Машина пошла быстрее. Я вспомнил слова «Поло» в пентхаусе. «Отпустим вас», – сказал он. Во лжи порой попадается частица правды. «Выбросим в парке». Я легко представлял, как нас с Сатвиком зароют, глубоко и темно, так что никто никогда не отыщет. Легко.
Поездка продолжалась, шумела улица. Только через несколько минут тихий разговор на переднем сиденье вдруг прервался. Внезапное молчание.
Я это заметил, но не сразу осознал. Молчание было не таким, как когда разговор окончен. Голоса отрезало, словно их что-то отвлекло. Как будто они что-то увидели. Я почувствовал, как машина замедляет ход.
Голос «Поло» тихо протянул:
– Что за хрень?
– Скажи, чтоб отвалила с дороги на фиг.
– Что она делает?
– Эй…
Визг шин.
– Осторо…
А потом удар, и мир опрокинулся набок.
* * *
Удар оглушил – меня отбросило на люк багажника и покатило от стены к стене, а сверху блестящим водопадом хлынуло разбитое стекло. Машина скользила, лежа на боку, из бывшего окна мне в лицо сыпались искры. Когда движение наконец прекратилось, я лежал на спине, зажав коленями собственную голову. Нет, не так – это были колени Сатвика, а не мои. Крушение смешало наши тела. Я сдвинулся и высвободил руку – хомут ослаб от толчков. Когда я вытащил из-под себя запястье, в нем забилась кровь. Сатвик так и лежал, навалившись на меня, отвернув лицо, словно от стыда. Я визжал. Заметил это, только когда голос сорвался. Я подавился собственным пронзительным визгом.
Я переполз к заднему окну. За ним была городская улица: с одной стороны склады, с другой – решетчатый забор. Какая-то стройка. Такое пустынное место выпало не случайно. На тротуаре, разинув рот, стоял единственный пешеход – старуха с полиэтиленовыми пакетиками из бакалеи в обеих руках. Ударившая нас машина, коричневый седан, остановилась дюжиной футов дальше. Она продолжала движение после столкновения и наткнулась на фонарный столб. Наша опрокинулась набок, усеяв улицу обломками крушения.
Меня насторожил хлопок листового металла – водительская дверца седана распахнулась. Я увидел ступивший на дорогу ботинок, а дальше не стал смотреть, извернулся и выкатился на мостовую. В ноздри ударил запах бензина, осколки стекла вонзились в ладони и колени. Я одолел дюжину футов и только тогда обернулся, услышав сзади шум. «Поло» успел выползти из машины – через ветровое стекло, оставляя за собой кровавый след. Ноги его торчали под странным углом, и он кричал. Старуха выронила пакеты и побежала. Упаковка коки ударилась о бетон и взорвалась. И тогда я увидел еще одного человека.
Он подходил с другой стороны улицы. Высокий, бледный, бородатый. На голове короткая щетина. В руках пистолет.
В глаза бросались шрамы. Они исчертили его кожу глубокими выпуклыми морщинами. Словно бомбист свел слишком близкое знакомство с собственными изделиями. Наши глаза встретились, и он едва ли не кивнул. Подходил, кривя губы в усмешке. Вдалеке завыла сирена.
Мужчина навел пистолет в разбитое ветровое стекло. Ничего не сказал. Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп. Все случилось так быстро. Пули ударили в плоть и металл. У водителя не было ни единого шанса. Адреналин хлынул мне в кровь, как из шланга. Я пополз, лишь бы оказаться подальше от бойни. Оглянулся, не идет ли за мной высокий. Он обошел машину и подходил теперь к «Поло». Тот еще двигался, рывками волоча переломанные ноги. Высокий опрокинул его пинком, и до меня донеслось рваное дыхание. У «Поло» на губах пузырилась кровь. Сломанные ребра проткнули ему легкое. А потом ботинок наступил «Поло» на горло, вдавив в мостовую. Глаза его выкатились из глазниц. Секунду спустя раздался громкий щелчок, дыхание оборвалось. Человек со шрамами перевел взгляд на меня, и я застыл. Не смел шевельнуться. Он обогнул «ровер» сзади. Присел рядом с Сатвиком, наполовину вывалившимся наружу, но все еще завернутым в брезент. Почти нежно отвел полотно от лица. А может быть, нежность мне почудилась.
Темные глаза Сатвика смотрели в далекую даль. На что-то не здесь. Я понадеялся, что на что-то хорошее.
– Уже мертв, – сказал высокий.
– А второй?
Я повернул голову, но не увидел женщины – только слышал ее голос. Человек со шрамами взглянул на меня. Наши глаза снова встретились. Сирены звучали громче.
– Еще жив, – сказал он, – но ранен.
Я видел, как он поудобнее перехватил пистолет, но ствола не поднял. Из дула тянулась тонкая струйка дыма.
– Проще прикончить, – сказал он.
– Нет, – возразил женский голос. Знакомый голос, сообразил я. И тут же увидел ее – она вышла из-за опрокинутой машины. Увидел рассекший ей бровь шрам. Эта женщина спасла меня от пожара. – Викерс велел его забрать, – сказала она, – значит, забираем.
Идущий во тьме со светочем знает лишь свет.
Чтобы познать тьму, иди в темноте.
Сирены миновали старый фургон. Он был из тех, что использовались для перевозки мебели, – квадратная коробка на колесах. Мы с женщиной ехали в кузове. Человек со шрамами сел за руль. Я прислонялся к борту у него за спиной и позвоночником чувствовал вибрацию.
Я смотрел на сидевшую напротив женщину.
– Кто вы?
– Друзья, – ответила женщина.
– Не ври ему, – предупредил водитель. – Плохое начало.
Она хмыкнула. Может быть, в знак согласия. Или засмеялась. В этот момент навстречу нам вывернула из-за угла еще одна полицейская машина с маячками. Я сквозь ветровое стекло кабины смотрел, как проскочили мимо копы.
– Хорошо, не друзья, – поправилась женщина. – Не совсем друзья.
– Кто же тогда?
Мне ответил мужчина:
– Мы не так хотим твоей смерти, как другие.
* * *
Я уперся руками – фургон вилял по улицам.
Водитель временами вытягивал шею, заглядывая в зеркальце, а мотор взвизгивал. Женщина угрюмо сжимала губы в прямую линию. Я смотрел на ее левую руку без пальцев – недостающий безымянный и кусок мизинца. Розовые сморщенные культяшки.
За ветровым стеклом мелькали машины и здания – пешеходы поворачивались в нашу сторону, провожали безрассудного водителя осуждающими взглядами. Но полицейских больше не встречалось.
Никто за нами не гнался. Или я не видел погони.
Женщина как будто думала о том же.
– Копы, – заметила она, – нас меньше всего волнуют.
На крутом повороте мне припомнились стетоскопы. Когда машина выровнялась, женщина, поднявшись, перебралась вперед. Человек со шрамами обернулся – у него не хватало верхней части левого уха, и по черепу сбоку тянулся розовый шрам: кривая черта, на которой больше не росли волосы.
Женщина, обернувшись, поманила меня:
– Сюда.
Она ухватила меня за шиворот, потянула, и я не стал противиться. Лицо мне закрыл мешок.
«Не так хотим твоей смерти, как другие».
– На всякий случай, – пояснила она.
– На какой случай? – спросил мужчина. – Думаешь, он уйдет?
Мешок был царапучий, темный, из жесткой ткани. С переднего сиденья тихо донесся голос водителя:
– Некуда ему уходить.
* * *
Мы прибыли на место, я услышал, как открывается дверь. Меня потянули за плечи, и я, выставив вперед ноги, встал. Позволил тянуть себя куда-то.
– Осторожней.
Был вечер. Я не видел, но узнал его по воздуху и стрекоту сверчков в стороне.
Мягкая земля под ногами сменилась твердым покрытием. Мы вошли в помещение. Наши шаги отдавались слабым эхом. Просторно, решил я. Аэродромный ангар? Меня куда-то увозят?
Мы шли несколько минут, когда прозвучал голос:
– Опять ступенька.
Я поднял ногу повыше и ступил на шестидюймовое возвышение. Звук изменился. Эхо пропало. Грубые руки снова взяли меня за плечи.
– Садись.
Я пощупал позади и нашарил прохладное дерево стула. Сел. Услышал бормотание, шарканье ног, даже разговор, но, о чем он, разобрать не сумел.
Шаги замкнули круг. Тяжелые шаги. И смолкли.
– Обыщи его.
Меня обшарили. Карманы, бедра, промежность. Забрали мобильный, но оставили бумажник.
– Оружия нет.
С головы стянули мешок. В углу на стене висела всего одна лампочка, слепила меня. Мы находились на каком-то старом складе. Нет, в старом цеху, поправился я. Комната была кабинетом управляющего – большое окно с усиленным сеткой стеклом выходило на цементный континент – вид напоминал набросок художника, отрабатывающего перспективу. Стекло растрескалось и держалось только на сетке. Дверей не видно. Дальняя стена была из погнутой заржавленной стали. Как будто все здесь забросили много лет назад, оставили гнить.
Мужчина и женщина стояли теперь передо мной.
– Я думал, он старше, – сказал тот, что со шрамами.
Я поднял взгляд. Высоко. На глаз в нем было шесть футов два дюйма. Со шрамами, с буйной бородой, он походил на пирата, который слишком давно не навещал берег. Не на мультяшного пирата и не на комедийного. На такого пирата, который выслеживает суда в нейтральных водах, ночью берет на абордаж и убивает всех, за кого не получишь выкупа.
– Где я? – спросил я.
Человек со шрамами без слов врезал мне кулаком в висок. Я повалился жестко, вместе со стулом. Мир погас и вернулся.
– Брось! – рявкнула женщина. Кулак был уже занесен для второго удара, отведен к правому плечу. Женщина толкнула мужчину в грудь: – Хватит.
Толчок будто выключил в нем гнев – он улыбнулся мне. Присел, опираясь локтем о колено.
Женщина пыталась поднять его, но мужчина резко отмахнулся:
– Я не собираюсь его мучить. – Он перевел взгляд на меня. – Но пусть знает свое место.
Он обшарил меня глазами.
– Я мог бы сказать, что ударил за то, что ты заговорил без спросу, но это будет ложью. На самом деле я решил, что все должно быть ясно с самого начала. – Он склонился ниже, заговорил прямо мне в ухо: – Мне не по вкусу, что от тебя столько неприятностей. Будешь делать, что мы скажем, или мы тебя убьем, понял?
– Хватит, – повторила женщина.
– Нет, пусть ответит. – Он сверлил меня взглядом. – Ты понял?
Я приподнялся на локте.
Я искал, за что бы ухватиться. Искал, чем бы его ударить. В ушах у меня еще звенело. Нос пульсировал болью. Я нашарил стул и сомкнул пальцы на ножке.
– Брось, – сказала женщина. Увидела, что я сжимаю деревяшку.
Она повернулась к мужчине, завела руку себе за спину, и тогда я увидел нож. Ее покалеченные пальцы сжимали рукоять.
– Я сказала, брось! – И голос теперь звучал иначе. Тихо, медленно, смертоносно. Почти спокойно. Такой голос означает, что больше слов не будет.
Он обернулся к ней. Оценил ее позу: боком к нему, одна рука скрыта от глаз.
– Пусть Викерс решает, – сказал мужчина. И повернулся ко мне: – Вставай.
Я старался, но в голове еще не прояснилось. С равновесием беда, но удержаться на ногах сумел.
Женщина подняла с пола стул, поставила как надо.
– Садись.
Я упал на сиденье. Человек со шрамами обошел вокруг меня.
– Кое-кто будет меня искать, – сказал я.
– Много кто. За твоим мотелем, наверное, уже сейчас наблюдают.
За мотелем… Значит, они знают, где я живу.
– Где бы ты, по-твоему, сейчас был, если бы мы не подоспели? – спросил он.
Кажется, он ждал ответа.
– Скорее всего, мертв, – признался я.
– Вот именно. Так что мы в любом случае ничего тебе не должны. Ты и жив-то в долг. Понял?
– Кто вы такие?
– О, – тихо проговорил он, – это на самом деле зависит от точки зрения.
Пообедали хлебом и бобами. Стемнело, и мы сидели у костерка в глубине склада, под высоким потолком, среди разбитых ящиков, баррикадой отгородивших нас от остального пространства. Одну стену нашего укрытия составлял старый полутрейлер без колес, другая терялась в тенях. Вместо задней стены подогнали фургон и набросили на него брезент.
Над нашими головами простирались лиги листового железа на стальных балках, с которых кое-где свисали пустые квадраты – возможно, бывшие лампы дневного света. Из далеких проломов в стенах налетали порывы ветра, раздували язычки нашего костра. Я прислушивался, но слышал только сверчков и стук ложек по тарелкам. Ни шума машин, ни городского гула. Где бы мы ни были – глухомань.
Я смотрел, как они заправляют еду в рот. Сначала на женщину, худую и беспокойную. Ее взгляд не знал покоя. Ела она быстро, словно изголодалась, но подгонял ее не только голод – казалось, она боится отвлечься на еду. Ударивший меня мужчина был медлительнее, сосредоточенно смотрел в тарелку. Женщина называла его Хеннингом. Подходящее имя для пирата, решил я. Он отправлял в рот большие куски и медленно пережевывал. Хеннинг Корноухий, подумал я про себя. Когда костер прогорел, он поднялся, вытащил из ближайшей груды несколько деревяшек и подкинул в огонь. На меня он не смотрел. И не заговаривал. Он уже покончил с едой и теперь занимался пистолетом. Пахло бобами, дымом костра и ружейной смазкой. Хеннинг чистил пистолет, а я глядел в огонь.
* * *
Они связали мне запястья липкой лентой – ритмичное: потянул-обернул, потянул-обернул, виток за витком. В поврежденной руке билась боль. Я знал, что, когда ленту снимут, придется распрощаться и с волосками на руках. Если ее снимут. Была вероятность, что с ней я и умру. Я слышал, как об этом рассуждали, стягивая мне ноги и волоча к поломанному трейлеру. Я не мог подложить руки, ударился головой и вскрикнул.
– Тихо, – приказал Хеннинг, – а то и рот заклеим.
Его непредсказуемость меня пугала. Но у этого страха имелась причина, с ним я мог совладать. В угрозе заклеить мне рот не было никакого смысла. При этих словах у меня задрожали руки – дрожь зарождалась прямо под кожей. Я представил, как меня вырвет утром, с заклеенным ртом, и я захлебнусь собственной рвотой.
Я молчал, как вакуум.
* * *
Следующие несколько часов они, сменяясь, обходили наш лагерь.
Я, лежа спиной к трейлеру, смотрел, как они приходят и уходят, пока оба не уселись у костра.
Когда огонь почти погас, женщина, поднявшись, обратилась к Хеннингу, который снова чистил пистолет. Может быть, уже другой. Она склонилась к нему, говорила в обрубок уха. В отблеске костра я увидел, что Хеннинг перевел взгляд на меня. Кажется, они спорили, потом Хеннинг кивнул.
Он прошел ко мне, а она стояла и наблюдала.
У него в руке был нож. Охотничий нож с рыжим отблеском углей на лезвии. Злобный кусок стали, слабо изогнутый, сходящийся к острию. Я представил, как клинок чисто входит мне между ребер, рассекает мышцы и плевру, дотягивается до сердца.
Хеннинг не заговорил. Он присел на корточки рядом. Сделал все быстро. Резкое движение, короткий щелчок, и мои лодыжки свободны.
– Вставай, – сказал он, – волоком не потащу.
Я, толкнувшись локтем, перекатился на бок, попробовал подтянуть под себя ноги. Сильная рука вцепилась мне в бицепс, дернула вверх, и я оказался на ногах. Я протянул к нему связанные запястья, но Хеннинг покачал головой.
– Так и останется. – Он указал на трейлер. – Спать будешь там. Ляжешь у задней стенки. Она, – он мотнул головой на женщину, – ляжет у передней, так что тебе не выйти, не наступив на нее. Ты – ее проблема, понял?
Я снова кивнул.
– Я буду спать здесь, – Хеннинг показал место у костра. – Даже если пройдешь мимо нее, споткнешься об меня. – Он подался ко мне. – Смотри, не стань моей проблемой.
Он подтолкнул меня к стальному ящику, и я залез внутрь. Такие фуры часто видишь на дорогах. Тридцать футов в длину, восемь в ширину, девять в высоту. Внутри может скрываться сотня тысяч куколок-покемонов. Или роскошная гостиная с обстановкой на заказ, изготовленной в Малибу. На эту ночь прицеп стал моей постелью. У задней стенки, где душно, нет ни света, ни тепла.
Я отошел в непроницаемую темноту. Нащупал заднюю стенку руками и сел. Стенка была стальной, но пол выстелен деревом, рыхлым от гнили. Я вытянул ноги, уставился перед собой, и мне показалось, что я сижу в узком конце подзорной трубы, обозревая мир из пятнышка темноты.
Через несколько минут женщина сделала мне знак перебраться поближе. Я высунулся наружу и принял у нее одеяло. Толстое, теплое и не слишком вонючее.
– Ящик только на одну ночь, – утешила она. – Завтра здесь будет Викерс.
– Викерс у вас главный?
– Можно сказать и так.
– Это вы спасли меня в лаборатории. Оттащили от огня.
– Да, пожар. – Она кивнула, качнув грязными светлыми волосами. – Не наша работа.
– Брайтона?
– Намек от него.
– Ничего себе намек.
Она улыбнулась.
– Надо было в ту же ночь удирать и не возвращаться. Был бы шанс.
– Так кто он такой?
– Не то, чем кажется. – Она помолчала. – Такие, как он, живут скрытно.
– Странно, мне он показался не из тех, кто таится.
Она покачала головой.
– Он скрывается там же, где всегда скрывались ему подобные. На виду.
«Подходяще, – подумалось мне. – Как с частицей, у которой можно знать либо координаты, либо скорость. Но не то и другое вместе. Мир стоит на тайне».
– А как вас зовут? – спросил я.
Она отвернулась от огня, затерялась в тени, и я не мог разобрать, что выражает ее лицо.
– Вот уж что тебя должно волновать в последнюю очередь. – Она замолчала, и я уже думал, что ничего больше не услышу. Но внутренний спор, который она вела, прорвался наружу. – Мерси[2],– сказала она. – Можешь звать меня Мерси.
Утром меня разбудили голоса. Потом отдаленное скворчание жира на сковородке. Я открыл глаза – в тысячи дырочек сквозь крышу лился свет. Может, это были пулевые отверстия. Или железо проржавело насквозь. В дождь наверняка протекает, как жалюзи.
Я сел. Одеяло в передней части трейлера оказалось сложено аккуратным квадратиком. Мерси уже вышла, разговаривала с Хеннингом. Я их слышал, но не видел – голоса доносились снаружи.
Усилием воли я заставил себя шевельнуться, приподнялся, опираясь на стальной борт. Плечи вопили от боли, но я не позволил себе издать ни звука.
Мерси вернулась. Выглянула из-за угла.
– Встал? Как себя чувствуешь?
– Жив, – только и сказал я. В животе у меня крутило, но не от голода. Секунды три я думал – вырвет, а потом и правда вырвало, выплеснуло желчь и кислоту, от которых защипало в глазах и забило нос. Я пытался дышать носом, но он был забит кровью. Я ощутил влагу на руке, на которую опирался.
– Ты в порядке?
Ей пришлось спросить дважды, пока тошнота прошла и я сумел ответить.
– Нормально, – сказал я. На долгие разговоры сил бы не хватило.
– Ты заболел? Грипп или что?
– Нет, – ответил я выгоревшим, ужасным голосом. – По утрам хуже всего.
Она подошла, осторожно переступила блевотину, держа в руке мясной нож.
– Можно снять и эту ленту.
Когда в семь утра к тебе приближается незнакомка с ножом, а ты провел всю ночь связанным, это не худшее, что можно услышать.
– Вытяни руки.
– Спасибо, – кивнул я.
Я сел прямо и держал перед собой руки, пока она занималась делом. Поднесла нож, прикидывая угол, под которым лезвие не рассекло бы мне запястья.
– Не меня благодари. Он позволил тебя развязать в основном потому, что я напомнила – тебе нужно в туалет. Сказала, что я не справлюсь, так что заниматься этим придется ему.
Будь во мне силы на улыбку, я бы улыбнулся.
– Хорошая мысль.
Но прозвучало это чуть слышно. С голосом становилось не лучше, а хуже. Мне бы воды. Ну и вид, наверное, был у меня: больной, растрепанный после ночи в ящике.
Нож проткнул ленту, и Мерси стала потихоньку пилить, а я старался пошире развести руки. Чувствовал, как холодная сталь задевает кожу.
– Теперь осторожно, – предупредила Мерси. – Без резких движений. Если что, зашивать придется твоими шнурками от ботинок.
Последний рывок ножа разрезал ленту, и руки мои разошлись в стороны. Занемевшие суставы не сразу поверили в свободу. Лента осталась на предплечьях, зато я снова мог шевелить плечами. Я медленно развел руки, поднял их над головой.
– Извини, что пришлось тебя связать, – сказала она. – Предосторожность. Идем, завтрак сделали и на тебя.
Я вслед за ней выбрался из трейлера на грязный цементный пол. Солнечный свет не украсил помещения. Разор был куда больше, чем мне вчера показалось. То, что я принял за груду мусора, днем превратилось в кустик, проросший в углу сквозь трещины пола. Люди отсюда ушли не годы – десятилетия назад. Ни в одном окне не осталось стекол, ветер свистал насквозь. За окнами виднелись другие здания, по ту сторону бывшей улочки. Куда ни глянь, я видел бетонные и стальные коробки. Старая фабрика, а может, какая-то военная база.
Я подошел к костру и сел.
Завтрак вышел куда лучше ужина. Яичница с беконом, приготовленная на стальном противне над открытым огнем. Все это походило на вылазку за город, только с жестяной крышей высоко над головами. Покончив с яичницей, я спросил:
– Насчет туалета?
– Покажи ему, – велела Мерси.
Хеннинг, поднявшись, провел меня сквозь узкий пролом в стене, мимо разномастных котлов в третье помещение – намного больше и отчасти открытое стихиям. Солнечный свет попадал сюда сквозь окна в крыше, а посередине выросло целое дерево. Повсюду тянулись трубы разной толщины и формы. Иные – по три фута в поперечнике – их когда-то рассек давно забытый сварочный аппарат. В старых казармах такого не увидишь, так что я переменил представление о том, куда попал. Явно промышленный комплекс, хотя его прежнее назначение осталось тайной.
Вдоль крошащейся кирпичной стены мы вышли к двери с полинявшей буквой «М», нацарапанной по крашеному дереву, но Хеннинг прошел мимо.
– Воды нет, – пояснил он. – Быстро переполнится.
Вдоль той же стены мы прошагали еще сотню футов и вышли к открытому проему. Я вслед за ним ступил на солнце и увидел на той стороне запущенной гравийной дорожки провалившееся в себя строеньице. Крыши не было вовсе и четвертой стены тоже.
– Туда, – сказал он. Мы остановились у бетонной перегородки. – Номер первый по эту сторону, номер второй по ту.
– Первый, – выбрал я.
Он указал на стену.
– Ну пользуйся.
Пока мочился, я успел оглядеться, попытался разобраться в окрестностях. Отсюда здания, похоже, тянулись во все стороны, варьируя все ту же тему. Настоящий лабиринт – понятно, почему им пришелся по вкусу этот район. Если дойдет до стычки, знакомство с местностью будет важным преимуществом.
Через три минуты, вернувшись к костру, я увидел, что после завтрака все прибрано. Остались фляги с водой и губка для мытья посуды.
Я увидел на столе оружие. Винтовку. Дробовик. Два пистолета. И эти люди, кто бы они ни были, внезапно из бродяг превратились в партизан. Хеннинг подобрал последнюю деревяшку, подложил в огонь.
Я возился с приставшей к коже лентой, подергивал на пробу. Боль подтвердила мои опасения.
– Лучше срывать разом, – посоветовала Мерси, – как пластырь.
Я дернул сильней – вспышка боли, и лента отошла, прихватив волоски с предплечий. Я осмотрел кожу. Крови, во всяком случае, не было. Я содрал ленту и с другой руки.
Хеннинг, прислонившись к столу и ковыряя под ногтями кончиком ножа, рассматривал меня. Потом уронил нож так, что он воткнулся в столешницу.
– От ленты ты избавился, но это не значит, что сбежишь.
Я промолчал.
Он взглянул на часы. Часы для подводного плавания с большим циферблатом. Широкий кожаный ремешок обхватывал толстое запястье.
– Скоро здесь будет Викерс.
* * *
– Пойдем поищем дров для костра, – позвала меня Мерси.
Я двинулся за ней через здание. Мы вышли в другую дверь, за которой волнами ходила выросшая по пояс трава. Ветерок набирал силу. Мерси показывала дорогу. Я думал, дрова придется поискать, но, стоило чуть отойти от здания, их оказалось полно. Сухие обрубки кустарника – превосходная растопка. И деревья побольше, еще зеленые, но Мерси ломала ветки и сдирала с них листья. За поворотом мы наткнулись на груду старых досок.
– Вот, помоги наломать.
Она оперла доску на подвернувшуюся шлаковую плиту, показала на нее:
– Ты тяжелее.
Я наступил, и доска с треском переломилась. Мерси подобрала кусок подлиннее.
– Еще, – велела она.
Я повиновался.
Я думал о побеге.
Возможно, я сумел бы ее обогнать. Я был тяжелее на шестьдесят фунтов, значит, вероятно, и сильнее. Не считая ножа, она вроде бы безоружна. Пистолет трудно спрятать так, чтобы нигде не выпячивался, однако возможно. Может, у нее «дерринджер» закреплен на икре под свободными джинсами. Я, словно невзначай, осмотрелся кругом. Увидел высокую колыхавшуюся траву и кусты, уходящий вверх склон, заросший деревьями. Со всех сторон разбомбленные здания. Вдалеке на вершине холма просматривалась сетчатая изгородь, поверху которой когда-то, наверное, тянулась колючая проволока, а теперь только свисали красно-бурые обрывки – то ли проволоку нарочно перерезали давным-давно, то ли сама проржавела и порвалась. Только скобки по верхнему краю напоминали, что оборонительная стена крепости была когда-то зубастой. Я мог бы добежать до изгороди, перелезть, и скорей всего они бы меня не поймали. Разве что Мерси очень проворна. Или вооружена. Или готова меня убить.
Она могла бы криками всполошить приятеля, но до него тридцать ярдов, он в здании, у догорающего костра, так что фора у меня будет.
Мерси посмотрела на меня так, словно знала, о чем думаю.
– В ту сторону на милю тянется лес. – Она махнула на изгородь. – Высокий холм, обрыв, а за ним заливаемая приливом равнина. Если сейчас прилив, попадешь в протоку, в холодную воду. Может быть и течение – достаточно сильное, чтобы унести в море, – а может, и нет. Если ты везунчик и сейчас отлив, вляпаешься в вязкий ил на три четверти мили – опасно, но перебраться можно, – а за ним подъем, лес, потом на вершине поселок. Дороги. Порт. Цивилизация.
Это даже рискованной попыткой нельзя было назвать.
Математический подсчет шансов. Предположим, я сбегу от них, а дальше что?
Моряки, случалось, гибли, покидая корабль, на котором могли бы спастись.
– Итак? – Она смотрела на меня.
Я бросил последний жадный взгляд на лес за изгородью.
– Не сегодня.
* * *
Мы набрали по полной охапке дров и направились обратно. Мерси выбрала другую дорогу, через руины.
– Когда-то здесь была плавильня, – рассказывала она. – Бог весть когда. Потом три десятка лет – газовый завод. Потом склад металлических болванок. Потом ничего. Наверное, рано или поздно все это снесут и возведут жилые кварталы. Просто удивительно, как постройка, предназначенная для одной цели, запросто переделывается под другую.
Мы пригнулись, ныряя в очередной пролом. Это здание было поменьше, но таким же пустым, как остальные.
– Это ваши наделали здесь дыр?
– Маршрут тактического отступления, как выражается Хеннинг. Эти проломы, если понадобится, обеспечат нам дорогу напрямик. Если мы сами не окажемся на виду, ни один преследователь этих дыр не заметит и пойдет в обход, длинной дорогой.
– А если попадетесь на глаза?
– Тогда нам придется двигаться быстрее.
– Быстрее чего?
– Того, с чем каждому приходится бежать наперегонки, – сказала она. – Того, что идет по пятам.
Мы перебрались через груду листов для крыши – они залязгали под ногами. Я поскользнулся на жести, но удержался на ногах.
– Мы зовем такие места схронами, – продолжала Мерси. – Этот – лучше многих. В стороне от всех дорог. Копы иногда объезжают его снаружи, но внутрь не суются. Труднее всего отгонять бродяг и бездомных. Забредают. Хеннинг их убирает.
– Охотно верю.
– Не так. Не навсегда. Он не злой человек.
– Тебе легко говорить. Не тебя били в зубы.
Она покачала головой.
– Ты даже не понимаешь, чего не понимаешь.
– Так просвети меня.
Руки, обнимавшие охапку дров, уже заныли.
– Скоро просветят.
Это было сказано так, что мне стало не по себе.
– Викерс? – наугад спросил я. – Когда?
– О, Викерс уже здесь.
Мерси остановилась.
Мы стояли перед зданием, где провели ночь. Теперь я понял, зачем была затеяна эта прогулка. Не только ради дров. Если Викерс ждет внутри и еще не решил, что со мной делать, не стоит обсуждать это при мне.
Мерси кивнула на пролом в стене:
– Я за тобой.
Так или иначе, особого выбора у меня не было. Я шагнул к пролому, пригнулся и выпрямился на той стороне. Мерси держалась сзади. Пожалуй, слишком близко.
Глаза у меня приспособились почти сразу.
Мы оказались на краю лагеря. Я рассмотрел трейлер и костер. Искал взглядом Хеннинга, но не увидел. Прячется за штабелем ящиков, готовится нанести удар? Или его отослали?
Я подошел ближе. Лагерь был пуст.
Но долго ждать мне не пришлось.
Из-за стены послышались голоса. Первым в дверь вошел Хеннинг, следом Викерс. Во всяком случае, я решил, что это Викерс.
Тень еще отчасти скрывала ее. Высокая, с короткими каштановыми волосами. Одета в мягкие темные брюки и пиджак. Белый воротничок блузы. Золотой браслет на левом запястье. В такой одежде можно выйти с важного совещания или из комнаты присяжных. Кем бы она ни была, одевалась она не для лесного тайника.
Не зная, что делать, я обошел костер и свалил рядом груду дров. Незнакомка оглядела меня, подходя; впервые отметила взглядом мое присутствие. Светлые зеленые глаза остановились на моем лице.
И тогда я ее узнал.
Я видел эту женщину в пентхаусе Брайтона.
Я в замешательстве оглянулся на Мерси, но та не стала ничего объяснять.
Женщина бесстрастно рассматривала меня. За непроницаемым лицом мог скрываться гнев, или разочарование, или просто оценка.
Не зная, что сказать, я молчал. Позволил ей обводить меня взглядом, раздумывая над каким-то решением. Или, может быть, решение она уже приняла и теперь обдумывала, как мне его сообщить. Мерси, обойдя костер, села у открытого кузова трейлера.
– Формально мы не представлены, – начала женщина и протянула руку. – Меня зовут Викерс.
Я шагнул ей навстречу и пожал изящную ладонь с длинными пальцами.
– Эрик Аргус.
Викерс оглянулась на Мерси:
– Это не Хеннинг ли обработал ему лицо?
– Не только, – ответила она.
Викерс снова смотрела на меня:
– Идем. Нам многое надо обсудить.
– Давным-давно жила-была женщина, которая рассчитывала бюджет корпорации, заполняла длинные таблицы, давала осторожные взвешенные оценки риска и выгоды, – а потом случилось ужасное.
– Что же? – спросил я.
Мы вышли наружу и прогуливались по старой дороге. Шины грузовика промяли колеи в высокой траве.
– Она обнаружила, что ошибалась в оценках. Мир оказался намного опаснее, чем она думала.
Мы добрались до особенно глубокой колеи и обогнули ее по траве, перейдя на другую. Солнце освещало нас косым лучом из-за высокого кучевого облака. Денек как с открытки.
– Точную оценку можно дать, только располагая информацией, – продолжала Викерс.
– А вам информации недоставало – вы к этому ведете?
– Нам всем ее в какой-то степени недостает. Я всегда была осмотрительной, но мир сделал из меня то, чем я никогда не думала становиться.
– Что же это?
– Игрока.
– Вот почему я здесь? – догадался я. – Рисковая ставка?
– В каком-то смысле, – кивнула она и, распахнув на ходу пиджак, достала два глянцевых снимка шесть на четыре. Передала их мне. – Что вы встречались с Брайтоном, я знаю, а второй на этих снимках не кажется вам знакомым?
Я узнал его с первого взгляда:
– Боаз.
– Когда вы впервые его увидели?
– Несколько недель назад на конференции.
– О чем говорили?
– В тот вечер? Большей частью о мечах, как мне помнится. – Я разглядывал фотокарточки. Похоже, их распечатали с камеры наблюдения. Брайтон заходил в здание с группой других мужчин. В какой-то старый банк или контору. Боаз шел рядом. Фаланга бизнесменов маршировала на корпоративную встречу высшего уровня – или с нее.
– Ах, о мечах! Должно быть, вы ему действительно понравились.
– Мне так не показалось.
Я вернул ей фото.
– Это снималось несколько лет назад. – Викерс убрала снимки во внутренний карман. – Теперь они стали осторожнее. Не так легко к ним приблизиться.
– Вам, кажется, удалось, – заметил я, размышляя над ее словами. Корпоративный бюджет. Таблицы… – Вы на них работаете.
– В некотором смысле, – поправила она. – Точнее, я работаю на фонд. Их вижу лишь изредка, в кабинетах, но я не обманываюсь. Все указания исходят непосредственно от них. Я – полезная маленькая пчелка – или была такой. Они, по большей части, набирают сотрудников прямо из Лиги Плюща[3], хотя, если попадется талант в другом месте, подберут и его. Ищут головы, способные к синтезу данных из широкого круга источников. Это особый дар, и я это умею лучше, чем они думают. Лучше, чем они ожидали – что и привело нас сюда. Я слишком хорошо сделала свою работу.
– И ушли с нее, как я понимаю?
– От них не уходят, – улыбнулась она. – Те, кто работал на фонд, из него не уходят. Сбегают. Закрываешь свой счет в банке и пускаешься в бега, потом тебя ловят. Так всегда кончалось.
– Значит, были и другие?
Она кивнула.
– За эти годы я нашла сведения о нескольких. Они требуют верности, а если ее не получают, обеспечивают молчание. Навсегда.
– Если так всегда кончается, какой смысл бежать? Почему было не остаться, как полезной и усердной рабочей пчелке?
– Потому что я узнала больше, чем они думают. Узнала, кто они на самом деле. – Она замолчала на полуслове и взглянула на меня. – В фонде я впервые наткнулась на ваше имя.
– В связи с экспериментом.
Она покачала головой:
– Гораздо раньше. – Отвернувшись, Викерс пошла дальше. – Я участвовала в сборе информации и оценке групп, готовила материал для премии «Дискавери». Мы следили за разными темами. Там сложная система оценки, выбора работ, требующих особого внимания. В список попадают сотни проектов и тысячи имен. Я поначалу думала – мы пытаемся отобрать достойнейших, но понемногу поняла, что там другое.
– И что же?
– Заявленные цели фонда – ложь. Мы не стремились награждать за достижения. Мы пытались их предсказать.
– Предсказать?
– Да.
– Зачем?
Она не ответила. Просто повернула обратно к трейлеру и сменила тему:
– Брайтон в пентхаусе о чем с вами говорил?
– Он много наболтал всякой бессмыслицы, – ответил я.
– Я бы попробовала разобраться.
– Он толковал о волнах. Об антропном принципе. О роге Гавриила.
– Ах, о роге, – протянула она. – У него слабость к классике. Еще что-то упоминалось?
Я стал вспоминать. В памяти мелькнул лифт. Металл под щекой. Я встряхнулся.
– О каком-то аберисе или абрексе.
– Абераксия.
– Точно, так и звучало.
– Значит, она все же существует. Что Брайтон о ней говорил?
Вот она, игра. Плати или пасуй. Я читал это в ее взгляде, в том, как она ждала ответа. Я остановился. Викерс сделала еще два шага и только тогда заметила, что идет одна.
Она обернулась ко мне. В любых переговорах, в любой торговле должна быть черта, которую нельзя переступать. Я до своей дошел. Викерс хватило ума это понять. Торговля – это когда не только даешь, но и получаешь. Пришла моя очередь задавать вопросы. Она бесстрастно ждала.
– Зачем Брайтон хотел меня убить? – спросил я. – Зачем убил моего друга?
Лицо ее не дрогнуло, но в глазах появилась усталость – усталость разбитого полководца.
– В мире есть тайны, – начала она. – И те, кто их хранит. Ваш ящик рассказывал о том, о чем следовало молчать.
Я вспомнил Сатвика. Минимизировать. Оцифровать. Превратить в товар. Я вспомнил его завернутым в брезент.
– Нет, – возразил я, – не так просто. Статья уже опубликована. Брайтон говорил о людях, у которых волна не коллапсирует. Назвал их обреченными.
– Слово не хуже других.
– Что он имел в виду?
– Вы физик, – напомнила она. – Как по-вашему, что?
– Не знаю.
– Это потому, что вы подходите не с того конца. Они, что ни говори, не тайна.
Что-то было в ее лице, в ее взгляде – как будто я не замечал очевидного.
– Вы хотите сказать, что тайна – мы?
– Конечно, – улыбнулась она.
Противоречие существовало всегда. Свобода воли в детерминированной Вселенной. Математика ведь смертельно серьезна. Она отказывает только на нас. Тайна не в тех, кто не способен вызвать коллапс волны. Тайна в тех, кто это может.
– Само сознание, – подсказала Викерс. – Оно ведь всегда было тайной.
– А что с обреченными? Кто они?
– Считайте их соединительными тканями мира, – предложила она. – Они работают, растят детей. Они голосуют в странах, где принято голосовать, и бунтуют там, где бунтуют. Они стоят за переворотами, или умирают ради переворотов, или подправляют результаты выборов. Они – молчаливое меньшинство, функционирующее в пределах сложного набора параметров. Они поддерживают общественный порядок, чтобы общество росло и процветало.
– Не понимаю.
– Антропный принцип требует всего лишь, чтобы Вселенная могла порождать жизнь, а давайте пойдем дальше. Не должна ли она еще и порождать культуру? Пропорциональное соотношение ролей? Обреченные помогают направлять порядок вещей соответствующим образом.
– Вы хотите сказать, стремятся к этому.
Она покачала головой:
– Нет, они не могут ни к чему стремиться. Их действия предопределены, они просто делают.
– С какой целью?
– Их влияние на пользу цивилизации. Считайте их смазкой между шестеренками общества. Без смазки металл скрежещет по металлу. Механизм стопорит, перегревается. Огромный двигатель останавливается. Но обреченные ничего не изобретают. Они не способны создавать. Для этого требуются такие, как вы.
– Кому требуются?
Викерс заморгала.
– Миру, само собой. Вы при первом знакомстве с Брайтоном с ним ели?
Я не сразу сообразил, у меня тоже заедало шестеренки.
– Да, ужинали.
Женщина развернулась и снова медленно зашагала. Явно ожидала, что я пойду с ней, и я пристроился справа. Ее туфельки оставляли в мягкой земле маленькие следы. Она покосилась на меня.
– Каково сидеть с ним за одним столом? Я никогда с ним не ела. Мы только о работе разговаривали. Еще не зная, что он такое, я чуяла в нем что-то ужасное. Если верить философам, зло существует для того, чтобы выявить добро. – Она смотрела на меня. – Как по-вашему, это верно?
– Откуда мне знать?
– Все записано, надо только знать, где прочитать. Уловишь намек в записях, и вдруг все становится понятно. Всегда есть две стороны. Возьмите любую религию – в самых древних мифах упоминаются воители. Неважно, как они называются. Я никогда не была верующей, так что представьте, как я изумилась, узнав, что эти старые сказки – правда.
Я понял, что уже ничему не удивлюсь. Уже ничему.
– Так Брайтон – один из этих воителей? Вы об этом?
– Да. – Ее зеленые глаза были пустыми, невыразительными. – Один из старейших.
– Чего он хочет?
– Чего всегда хотели такие, как он. Остановить движение. Прекратить прогресс. Замедлить наступление постмальтузианского роста. Они сеют хаос. Они – враги мира. Их цель проста – не дать нам выйти на следующую ступень общественного развития.
Это звучало бредом. Безумным бредом, которому место в маленьких белых палатах.
– То есть они – противоположность обреченным?
– Нет, – отмахнулась она. – Обреченные – всего лишь орудие мира, и, как любое орудие, их можно сломать. Они просто пешки в игре. Нет. Брайтон и ему подобные – противоположность вам: тем, кто движет мир вперед. Они его тормозят. Они – враги самой цивилизации.
– Вы говорите: «ему подобные». И Мерси так же говорила.
Она пристально взглянула на меня.
– На разных языках их называют по-разному.
– А вы как называете?
– Все те, кто видел их в действии, используют одно и то же слово. Мы зовем их мерцающими.
Я уставился на нее. Слово было мне знакомо. Из письма.
– Вы понимаете, каким безумием это звучит?
– Даже после того, что вы видели?
– Но зачем? Не вижу смысла. Эти люди… мерцающие… даже если они – то, что вы думаете, какие у них мотивы?
– Вы сомневаетесь. Это хорошо. Ученый в вас требует доказательств. – Мы как раз вышли на место, где колеи скрещивались, где в грязи остался свежий отпечаток шин. След, ведущий в наше расположение и из него. Лет тридцать назад здесь, может быть, проходила дорога с аккуратной разметкой. Теперь она покрылась землей и заросла травой – растрескавшийся асфальт ушел в глубину. Викерс повернула направо по колее.
– Расскажите, что вам известно о Брайтоне.
Я, свернув за ней, начал:
– Он богат. Он безумен. Он…
– Управляет, – перебила она, – странной организацией, которая отслеживает открытия в области математики и физики.
– Да, – кивнул я, – фонд…
– Прикрытие, – продолжала она. – Контроль над такой организацией дает ему доступ к научным работам. Позволяет подобраться к новым открытиям. Затем есть несколько вариантов. Можно подвесить морковку – так изящно, что никто не заметит, – и заманить исследователей в высокооплачиваемый тупик. Тщательно выстроенная карьера делает из блестящего ученого богатого и бесполезного администратора. Если это не сработает – а срабатывает не так уж часто, – в ход идет палка. Они обрубают финансирование. Иногда попросту выкупают новые технологии, чтобы их закрыть. И еще игра на патентах: суды превращаются в поле боя, карьеры вылетают в трубу, а технологии тихо хоронят.
Я вспомнил фирму Стюарта. «Финансирование иссякло».
– Они – враги цивилизации, – повторила Викерс. – Они всегда действуют наперекор общему благу. Применяют самые различные стратегии, а если ни одна не срабатывает, всегда остается последний вариант. Его они оставляют на крайний случай.
– Это какой же? – спросил я, хотя уже знал ответ.
– Ученые исчезают, – сказала она. – Брайтон осторожен и разборчив в средствах. Иногда все выглядит несчастным случаем. Да и происходит обычно до публикации результатов.
– Но мы с Сатвиком? Мы уже опубликовались. Даже если вы не ошибаетесь, было уже поздно. Наша работа у всех на виду.
– Дело не только в том, что вы уже сделали, – объяснила она, – но и в том, что могли сделать в дальнейшем. Брайтона испугала тема, над которой вы работали.
– Бред. Нет у меня никакой темы.
– Ваше имя попало в список до перехода в «Хансен». Из-за какого-то исследования, которое вы начинали. Или к которому подбирались.
– Вы на них работали и не знаете из-за чего?
– У меня не ко всем материалам был доступ. Другие аналитики отслеживали другие имена. На совещания, к решениям я не допускалась. Знаю только: он считал, что вы на пороге чего-то важного. Открытия, которое может двинуть все вперед. Вот почему вы должны были умереть.
Голова у меня кружилась. Слишком много всего. Слишком безумно.
– Вы мне рассказываете о тайном заговоре по убийству ученых? – съязвил я. – Не могли они просто исчезать – возникли бы вопросы. У нас есть закон, следователи, репортеры.
Викерс снова мотнула головой.
– Вы не представляете их могущества. Деньги и влияние – это далеко не все.
– Я был свидетелем убийства. Видел, как умер Сатвик. Его застрелили у меня на глазах. Я дам показания.
– Стоит вам выйти с этим на публику, и вы не доживете до утра.
Я всматривался в ее лицо, искал правды. Может, она запугивает меня, чтобы был сговорчивее? Или сама в это верит? Я вспомнил Роббинса за стеной охраны. «Не вы один теряли людей». Если Роббинс что-то знал, он не обратился с этим к слугам закона. Вероятно, у него были на то причины.
«Вы бежите, а они вас ловят».
– Вам нужны доказательства, – повторила она и снова полезла в карман пиджака. Достала газету, открытую на середине и сложенную заново. Викерс протянула ее мне. – Сегодняшняя, – пояснила она. – Вот почему я не встретила вас здесь вчера. Знала, что вы потребуете доказательств.
Заметка располагалась на середине страницы. Я прочитал заголовок.
«В автомобильной аварии погиб человек». Я выхватил имя Сатвика. Сердце у меня упало. Ни слова о стрельбе. Ни слова о других погибших. Ни намека на грязную игру. Газета утверждала, что он скончался от ударной травмы.
– Но его застрелили, – сказал я. – Я видел.
– Газета другого мнения.
* * *
Еще через двадцать ярдов мы вышли к крайнему зданию. Большой склад из шлакоблочных плит и стали. Я увидел под его стеной припаркованную машину. Серый седан, такой же как миллионы других серых седанов. Такая машина легко теряется в толпе.
Викерс повернулась к солнцу; профиль был резким и острым, как из камня высечен.
– Идемте. – Она поманила меня к проему в стене. Дверь, если когда-то и была, давным-давно пропала.
Мы прошли по узкому проходу. Глаза не сразу приспособились к темноте, а мы уже оказались в сумрачном коридоре.
Она посматривала на меня на ходу, но в тени не разобрать было выражения лица.
– Абераксия тоже известна под разными именами, – заговорила она. – Эберрин, эберекс, аксиерра. – Она отвернула лицо. – И еще – блуждающая ось, ось колебаний. По результату действия. – Мы вышли к новому дверному проему. – Входите.
От ее слов в памяти проскочила искра.
– Брайтон говорил об оси мира.
– Что сказал? – насторожилась она.
– Что в мире есть вещи, не видимые глазу.
Мы оказались в просторной комнате, и через секунду я увидел.
– Он прав, – сказала Викерс. – И здесь мы видим след одной из таких вещей.
У стены было устроено рабочее место. Завалы бумаг, карт. Даже если когда-то здесь находился склад, теперь он служил другой цели.
Мой глаз уловил быстрое движение. Серая тень мелькнула над самым полом.
Я проследил движение среди теней – с переменой направления, слишком размеренной для живого существа. Скорее механической. И тут я понял. В центре комнаты был подвешен на длинной проволоке тяжелый груз.
– Добро пожаловать к маятнику, – сказала Викерс.
Груз качался на подвесе длиной тридцать футов. Железный шар на одной тонкой нити.
– Большой… – выговорил я. Сказал первое, что пришло в голову. Маятник был так велик, что часть его дуги над полом выглядела почти прямой линией.
– Чтобы он работал как надо, проволока должна быть не меньше тридцати футов, – объяснила Викерс. – Хотя можно и короче, если устранить влияние воздуха. Но здесь оно не корректируется, пришлось компенсировать величиной. Груз почти в десять фунтов.
– Как я понял, это не просто маятник?
– В том-то и красота, что просто. Любой маятник на Земле будет действовать так же.
– Как именно?
– Описывать дугу в трехмерном пространстве. – Она прошла в комнату. – Пока качается, маятник отмечает прецессию Земли. Вот эти шпильки показывают сдвиг.
Она указала на чисто выметенный бетонный пол, и я увидел простые гвоздики, стоящие на шляпках, образуя большой круг. Стоунхендж из гвоздиков. Шагнув ближе, я рассмотрел, что дюжину гвоздей сбило движением маятника. Шесть на одной стороне круга, шесть на другой.
– Так он со временем сдвигается.
– Ошибаетесь, – возразила она. – Маятник точен, как штурманский компас. Смещается не маятник относительно комнаты; наоборот, вся Земля движется под маятником – описывает дугу в пределах спирального рукава Млечного Пути – как и сам рукав движется относительно… чего, собственно? Назовем это большим межзвездным фоном. Или тканью пространства-времени, если вы верите в ее существование. Вы никогда не задумывались, нет ли во Вселенной невидимых лей-линий? Координатной сетки, от которой можно отсчитывать остальное?
– Ничего подобного не существует.
Она кивнула на пронесшийся мимо железный шар – размытое серое пятно. Вушшш! – и порыв ветра.
– Вы считаете детерминированную Вселенную парадоксом, но попробуйте тогда объяснить Вселенную, где этот маятник каким-то образом знает, как она ориентирована. Эйнштейн жаловался на «жуткое дальнодействие», и вот оно, перед нами. – Она указала на маятник. – Никто на самом деле понятия не имеет, отчего так происходит.
– Брайтон говорил о волнах, – вспомнил я. – Волна подразумевает направленное движение.
Кивнув, Викерс перешла к рабочему месту. Таблицы и карты.
– Волны – понятно, а что насчет среды? Легко рассуждать о волнах, но, что мы, собственно, видим, когда видим материю? Вот почему физики иногда проговариваются, что рассматривают Вселенную как своего рода информацию.
Она взяла в руки книгу, лежавшую на стопке бумажных карт. Большой тяжелый том. Бросила мне.
Я поймал. Увидел закладку и открыл на отмеченной странице.
И удивился.
– Искусство Ренессанса?
На странице был изображен трубящий в рог архангел Гавриил. Все ангелы небес выстроились за ним, образуя круг, уходящий в забвение. В этом круге крыльев было нечто фрактальное и прекрасное – словно в орнаменте скрыли загадочную мандалу.
– Рог Гавриила, – напомнила Викерс. – Он протрубит в Судный день, когда каждого призовут к ответу за грехи. – Она повернулась так, чтобы видеть книгу. – Мне всегда нравилась эта картина. Рог архангела. Но есть и другой.
Она взяла со стола вторую книгу. Толстый том с затертыми углами. Труд по математике. Положив его передо мной, она перелистала страницы.
– Это тоже рог Гавриила. Парадокс.
Я придвинулся и заглянул ей через плечо. Рассмотрел рисунок: график функции, где х есть функция 1/х.

– Величина, обратная х, развернута вокруг оси, – напомнила Викерс. – Внутренняя поверхность оказывается больше наружной.
– Математическое чудовище. – Я отлично помнил этот график.
– Бездонный рог Гавриила. Его еще называют «трубой Торричелли». Конечный объем при бесконечной поверхности. Это – метафора Вселенной. О чем никогда бы не догадался Эванджелиста Торричелли, начертивший эту фигуру в семнадцатом веке.
– В каком смысле – метафора?
– Вселенная не сфера – это труба. Хотя и это не вполне точно, да? Метафора не совсем точной метафоры.
Я уставился на нее. Так я слушал, например, теорию струн. Даже не ошибка – просто игра воображения на тему: как могло бы быть.
– Это всё слова, – вырвалось у меня резче, чем хотелось. Мне вспомнились теории матери, даже не пересекавшиеся с реальностью.
– Слова, – согласилась она, – и факты. Если хотите, могу предложить иную метафору. Вы когда-нибудь слышали о Вселенной-матрешке?
– Это такие русские куклы…
За последние десятилетия умозрительная философия не раз теребила эту космологическую теорию.
– Теория Вселенных, упакованных друг в друга.
Она кивнула.
– Тот же принцип, что в трубе Торричелли. Конечный объем при бесконечной поверхности – рог Гавриила в большом масштабе. Наша Вселенная представляется одной из множества, гнездящихся одна в другой. И человечество оказывается в уникальной позиции.
– То есть?
– Каково во всем этом место человечества? Что его отличает? Наша способность наблюдать и отображать то, что наблюдаем. Воспроизводить окружающий мир. Сначала в рисунках, книгах, а теперь, с использованием техники, воспроизведение стало тоньше и сложнее.
Я вспомнил рисунки в упомянутой Брайтоном пещере.
– Это стремление заложено в нашей природе, – продолжала Викерс. – Мы видим, и мы отражаем. Представьте себе рисунок велосипеда; затем велосипед, изображенный скульптором. Наконец, представьте, что скульптор точен в каждой подробности, так что скульптура неотличима от оригинала. Разве не получится фактически новый велосипед? С развитием цивилизации мы совершенствуем в себе способность транскрибировать Вселенную, но в какой момент изображение становится изображаемым? И что, если внутри этого невероятно сложного изображения – цивилизации – возникает ее собственный двойник?
– Двойник? – переспросил я. – Вы говорите о конструировании реальности.
– Любая реальность так или иначе сконструирована, не так ли? Или воздействием некой воли, или как эмерджентное свойство основных законов системы. Один оксфордский ученый, Ник Бостром, рассчитал вероятность того, что мы существуем в подобной вложенной системе.
Викерс вытащила из книги закладку и развернула ее – на обрывке бумаги были набросаны числа и буквы. Она расправила листок на столе:
– Вот его формула.
Ее палец лег на последнюю строчку:
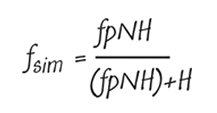
– В подобном каскаде возможно бесконечное множество Вселенных. Существование не циклично, а фрактально.
Я покачал головой. И эту формулу я уже видел. Завораживающая логическая игра, но, как и многие другие космологические теории, она нефальсифицируема.
– Доказательств нет, – сказал я. – Это все игра ума.
– На первый взгляд – да, но из этой теории следуют некоторые математические выводы, верно? Если возможна вторичная или третичная реальность, почему бы тем, кто живет внутри этих аналогов, не произвести собственные аналоги? И тем, кто внутри их, тоже? Число итераций не имеет верхней границы, так много ли шансов на то, что мы живем в первичной Вселенной? Сколько миров может располагаться выше по течению? Во сколько слоев упакован наш мир?
Я только головой покачал. Конечный объем, ограниченный бесконечной поверхностью.
Она обошла стол с другой стороны.
– Математический вывод ясен: в такой Вселенной может существовать бесконечный ряд Вселенных, но первичный мир только один. Значит, если последовательный ряд Вселенных возможен, мы, по всей вероятности, находимся в одной из ряда.
Я смотрел на нее во все глаза.
– А если мы в одной из ряда, – продолжала Викерс, – то знаем в которой.
– Каким образом?
– Наша Вселенная отличается тем, что мы еще не настолько продвинулись, чтобы разворачивать собственные реальности.
Я хотел заговорить, но сдержался. Потому что понял. Увидел, к чему она меня подводит.
Она, наверное, прочитала это у меня на лице.
– Во всем бесконечном ряду наша может быть только…
– Крайней, – перебил я. – Последней. Той, которая еще не расплодила потомства.
– На острие копья, – кивнула женщина.
Я вспомнил микроскоп, падение в приближающуюся картину. Дна не видно, потому что его нет.
Обернувшись к маятнику, следя за его движением, я обдумывал сказанное.
– Так вы говорите – всё это некая искусственная конструкция?
– Нет, совсем не то. Вы пока не добрались даже до правильных вопросов. Разве еще не все очевидно?
– Ничто не очевидно, – возразил я.
– Столько всего – а вы по-прежнему слепы. – Викерс покачала головой. – Вселенная – объект, совокупность волн, поскольку и всякая материя – совокупность волн. Это вам уже известно из физики.
– И?
– И к чему это вас приводит?
Я сцепил зубы. Не понимал, к чему она клонит.
– Вселенная – всего лишь среда, по которой ходят волны. Мы – в некотором смысле иллюзия. – Она мотнула головой. – Нет, просто: мы – иллюзия.
Я смотрел на нее, силился понять.
– Мы – творцы. – Она вглядывалась в мое лицо. – Сознание, – сказала она, – творит чудеса.
Я открыл рот, чтобы заговорить, но не сумел издать ни звука.
– Рябь волн – всего лишь картина. Способность разрушать эту картину – вот что такое сознание. Душа. Зовите как хотите. Каждая волна – потенциал действия, а мы, воспринимая его, передаем физической реальности.
– Вы сказали, что Вселенная – объект, среда для волн.
– Да.
– И что мы конструируем бытие из набора волн.
– Да.
– А кто создает волны?
Она опять улыбнулась.
– Вы исходите из того, что они должны быть кем-то созданы. А может, в каждой из ряда Вселенных его не создают – открывают. Эмерджентное свойство, которое надо только выявить.
– А что же с обреченными? – напомнил я. – Те, кто не вызывает коллапса волны, – что они видят, глядя вокруг?
– Вы хотите знать, видят ли обреченные мир таким, каков он есть?
– И как, видят?
– Они вовсе не видят мира. Они и есть мир. Или одна из его сторон, ни граном не выдающаяся вовне. Они ничего не видят, потому что в них нет точки, из которой можно смотреть.
Мне срочно потребовалось присесть.
– Они изначально ограничены тем, что они есть. Белые овцы мира, их назначение – поддерживать равновесие.
– Какое равновесие?
– Вообразите мир, в котором все – такие, как вы. Или я. Как каждый из нас. Будет ли этот мир функционировать? Может ли в нем существовать цивилизация? Общества пребывают в неустойчивом равновесии, их легко опрокинуть. Мы по природе непредсказуемы, а обреченные – противовес нам. Они то, в чем нуждается мир.
– Вы говорите как он, – заметил я. – Брайтон тоже говорил о мире так, словно он может в чем-то нуждаться.
– А он не может?
Я пропустил этот вопрос мимо ушей.
– А если бы он в них не нуждался? Что бы делали обреченные, не будь они нужны миру?
Викерс пожала плечами:
– Вероятно, вовсе прекратили бы существование.
Я долго молчал, осмысливая. Позволяя себе… если не поверить, то хоть привыкнуть.
– Тот мальчик, что живет у Брайтона. Он не вызывает коллапса волны.
– Обреченные большей частью белые овцы, но их можно перекроить. Если взять их молодыми, можно использовать их внушаемость, выучить их действовать против общего блага. У них нет совести. У них ничего нет. Представьте себе овцу, вскормленную мясом. Вот вам и тот мальчик. Все охранники Брайтона были когда-то такими мальчиками.
– Вот где он их берет…
Она кивнула.
– Если те, кто не обрушивает волну, называются обреченными, кто тогда мы? Как вы называете нас?
– Мы – заблудшие, – сказала она. – Мы тоже есть во всех старых мифах. Ожидаем воздаяния или суда. Не просто в пространстве между мирами – речь и о времени. Как мир существует в ином мире, так одно мгновение может уместиться в тысяче лет.
– А эти мерцающие? Так и не понял, как они вписываются в картину. Каково их место?
Она помедлила. Проследила глазами за качанием маятника.
– Они приходят из мира выше по течению. Не из нашего мира и не из следующего – выше.
Я выпучил глаза.
– Зачем?
– Там, выше по течению, что-то происходит. Что-то ужасное. Давным-давно к нам приходили светлые. И другие – те, кто сражался со светлыми.
– Другие, – повторил я.
– Одна сторона стремилась строить, другая – разрушать построенное. Мы были для них полем боя.
– И чем кончилось?
– Они убивали друг друга. Строители проиграли, история их сражений записана иероглифами. Долина Инда. Теотиуакан. Перу. И в других местах. Самые отважные погибли первыми – а потом и остальные, один за другим. Их борьба отражена во взлетах и падениях цивилизаций. Стороны уничтожали друг друга, пока из прежних не осталась лишь горстка. Самых осторожных. Самых коварных. Тех, кому проще других было скрыться.
– Таких, как Брайтон?
Она кивнула:
– Он – один из последних.
– А остальные?
– Пропали. Мертвы.
– Вы понимаете, насколько это невероятно?
– Что невероятно в масштабах Вселенной? В тысячах тысяч Вселенных.
– Пусть это правда, и вы всё это узнали, работая на Брайтона, – тогда с какой стати вы помогаете мне? Встаете у него на пути?
– Философы утверждают, что зло существует, чтобы добро могло проявить себя, но мне иногда думается, что зло умеет прокрасться внутрь и человек даже не замечает, что стал его частью. А когда заметишь, оказывается уже поздно, и ты продолжаешь делать зло из страха или потому, что приходится, и на этом пути изменяешь всей своей жизни, всему бытию – по одному выбору за раз. Я была иудой. Из-за меня гибли ученые. Лучшие, самые талантливые. Я решила, что хватит. Я пыталась спасти Сатвика – не вышло. Может быть, для вас есть шанс.
Она замолчала, глядя на маятник, – серый железный груз пронесся мимо с тихим шуршанием воздуха.
– Чуть меньше года назад этот маятник изменил направление, – сказала она. – Шпильки должны падать одна за другой, точно как часы. Но в прошлом году одна осталась стоять. Мелочь. Едва заметная, если не следить. – Она присела над кругом гвоздиков. – Равновесие сместилось. Что-то переменилось.
– Что это означает?
Маятник пронесся мимо нее, уходя в другую сторону, и скрылся в тенях.
Викерс обернулась ко мне.
– Что время теперь – против нас.
Вечером ко мне зашла Мерси с двумя чашками кофе. Одна для себя, другая для меня.
Из угла доносился разговор Викерс с Хеннингом. Голоса возвышались и затихали до шепота.
Умирающий костер отбивал атаку темноты. Я сидел, завернувшись в одеяло, прислонившись к стене трейлера. Мерси перекрыла косой звездный луч, падавший сквозь прореху крыши.
Кроме имени, я ничего о ней не знал.
Хеннинг тоже оставался тайной. Может, он был настоящим пиратом, с основательным опытом грабежей и похищений. Грозой мадагаскарского побережья. Может, он отправил на дно морское десяток яхт.
И Мерси. Имя, которое значило больше, чем просто имя.
Мерси подала мне чашку:
– Осторожно, горячая. Только что с огня.
– Не знал, что на костре можно сварить кофе. – Я потянулся за чашкой.
– Может, он и не заслуживает названия кофе, – призналась она. – Вот моя бабушка с кофе бывала просто опасна. Не скажу, чтобы у нее тряслись руки, но до дверей кухни она доносила не больше чем полчашки. Я научилась не подворачиваться ей под ноги. Надеюсь, ты любишь со сливками и сахаром.
– Люблю. Где остальные?
Мерси пожала плечами:
– Обходят территорию. Строят планы.
Она стояла вплотную ко мне. Я подумал, не спросить ли, что за планы, но не успел – она добавила:
– Вряд ли из этого будет толк.
– Почему нет?
– Потому что все планы провалятся, – объяснила она. – Ну пей же. – Я сделал глоток. – Как тебе кофе?
Я отодвинул от губ теплую чашку.
– Хорош.
– Похоже, тебя это удивляет.
– Так и есть.
– Дешевка – залили кипятком фабричный помол. Это только называется кофе. Викерс всегда привозит из города свежие продукты, так что хороших сливок нам хватит на день или два, пока не прокиснут. Сливки его спасают. Благая карма, ореховый! Вот уж назвали! Забавно, я научилась пить любой в колледже, общаясь с одним парнем. Не помню уже, как его звали, зато кофе врезался в память. Теперь, где бы ни была, ищу такой же. После него, пожалуй, и смола вкусной покажется. Правда, я обычно не пью так поздно – от кофеина не уснуть.
– Ну не стоит ради меня рисковать бессонницей. – Я силился представить ее в нормальной жизни: колледж, ссора с парнем. Картинка не складывалась. Ее изуродованная розовая рука сжимала керамическую чашку.
– Нет, ничего. Сегодня я не спешу уснуть. Дурные сны лучше отложить.
Я смотрел на ее пальцы, обхватившие чашку. Нежная розовая кожица. Может, полгода как зажило, может, чуть раньше. Я гадал, как это вышло. Рана, видно, была нечистой. Не ровные срезы, а вырванные куски мяса, словно у нее в руке взорвался фейерверк.
– Так ты считаешь, планы провалятся?
– Я считаю, мы умрем. Все мы. – Она села рядом, вытянула ноги к огню. – Так же, как этот мир умрет. И все миры умрут. Дай только побольше времени, ничто не уйдет от энтропии.
– Так ведь в том вся и штука, верно? В сроках.
Она промолчала. Мы посидели в тишине – я ждал, не скажет ли она что еще. Не сказала. Пила кофе и смотрела в огонь.
– Как тебя в это затянуло? Что случилось?
– Они случились. – Мерси встала и ушла в темноту. Нагнулась, подняла с земли что-то большое, а когда вернулась в отблески костра, я увидел, что это рваная картонная коробка. Из груды мусора.
– Мерцающие? – спросил я.
Мерси кивнула и бросила картонку в огонь. Сперва она погасила весь свет – накрыла костер, и мир стал черным. Потом снизу прорвалось желтое пламя, огонь рос с каждой секундой, пока не вспыхнула вся коробка. Мерси стала греть руки. Теперь вокруг было так светло, что я видел шелушащуюся на крыше трейлера ржавчину, темные прямоугольники бывших окон и ее лицо. Бледное, угловатое.
– Когда я в первый раз их увидела… потом не могла вспомнить, как все было. До сих пор не могу. Провалы.
– Провалы?
– Кое-что не могу вспомнить.
– Не понимаю.
– Она тебе и не сказала, да?
– Скажи, о чем?
– Что они такое на самом деле. Почему мы зовем их мерцающими. – Она подбросила в огонь прутик. – Думаю, мозг просто не в состоянии обработать то, что происходит, когда дела плохи. Заполняет пробелы задним числом. Я долго думала, что сошла с ума, но, когда подольше побудешь сумасшедшим, оно становится нормой. Ты, наверное, кое-что в этом понимаешь.
– Наверное, кое-что. – Я подумал, много ли ей известно обо мне. А может, она прочла это у меня в глазах.
– Я про то, что творят с тобой такие вещи, – продолжала она. – Такие ужасные, что их невозможно увидеть, и приходится потом заполнять пробелы.
– Не знаю.
– Иногда их предпочитаешь не видеть – и получается, если постараться. Думаю, большинство людей их так и видит. Или не видит. Большинство видит их такими, с какими можно управиться. Они такими и хотят казаться.
– А ты?
– Не всегда есть выбор.
Я вспомнил мать. Суперспособость к вере.
– Их питомцы еще хуже.
– Питомцы?
– Охотники, – сказала она. – Ты бы предпочел их не видеть. Есть вещи, которые хуже, чем кажутся.
– А я?
– Не воображай себя особенным. Некоторых в это затягивает только для того, чтоб они могли умереть. Я такое видала. – Помолчав немного, она добавила: – Хотя у тебя вроде бы есть талант.
– Какой талант?
– Выживать.
Я сделал еще глоток кофе.
– Викерс сказала, что работала на них. Ты тоже?
– Нет, – покачала головой Мерси. – Нет. Некоторых… затянуло. Вовлекло как участников, хоть и не было никакой связи. Что до меня, я тогда подумала, что оказалась в подходящем месте в неподходящее время. Но все было не так просто.
– Что еще?
– Может, у меня тоже есть талант.
Я услышал звук за спиной, обернулся и увидел в дверях наблюдающего за нами Хеннинга. Подумал, давно ли он там стоит. Может быть, с самого начала. Хеннинг небрежно придерживал правой рукой ствол винтовки, ее деревянный приклад упирался в пол. И лицо выглядело деревянным в теплых бликах углей. Он поднял винтовку и растаял в тени.
Когда он скрылся, Мерси шепнула:
– Его берегись.
– В каком смысле?
Она помедлила с ответом:
– Он был раньше их охранником.
– Телохранителем Брайтона? – Это известие меня оглушило.
Мерси кивнула:
– Они от него избавились. Думали, что убили, но Викерс оттащила его от края, сложила из кусков, сшила. Теперь он – ее бульдог.
Я уставился в темноту.
– Ей он верен, – продолжала Мерси. – Но других может и укусить.
Моя рука рассеянно шарила по цементному полу. Наткнулась на тонкий, плоский кусок металла. Обрезок из мусорной кучи. Я сложил его пополам, угол к углу. И еще раз сложил, согнул в остроконечный клин.
Я проснулся на рассвете. Разбудил меня звук – слабое эхо на грани восприятия. В желудке уже поднималась тошнота. Сон был хрупким и легко разбился. Вот почему я услышал первым.
Я открыл глаза. Мерси лежала в нескольких ярдах от меня, отвернув лицо в тень. Я перекатился на живот и подполз к ней по заплеванному полу. Сквозь карман меня уколола свернутая в острие полоска стали.
– Эй! – Я встряхнул ее за плечо. – Где Викерс?
Веки у нее дрогнули, открылись, обнаружив замешательство.
– Что?
Мерси села, протирая глаза.
– Где Викерс? – повторил я.
За прогоревшим пеплом костра приподнялся Хеннинг. Он тоже услышал.
Мотор шумел громче, ближе.
– Машина, – определил Хеннинг. – И не одна.
От лица Мерси отхлынула краска.
– Сюда?
– Где чертова Викерс? – рявкнул Хеннинг.
В этот момент она подала голос:
– Две машины.
Викерс стояла в тени у одного из выбитых окон, смотрела наружу.
На миг все замерли. Потом Хеннинг, вскочив, бросился к Викерс, вытянув шею, выглянул в пролом. Обернул к нам побледневшее лицо:
– Это они.
Развернувшись, Хеннинг кинулся к оружию.
– Грязное будет дело, – прорычал он.
Мерси молчала. Только скорчилась на грязном полу, дрожа, как от холода, хотя внутри было не меньше двадцати градусов.
– Что нам делать? – спросил я.
Меня не услышали. Викерс уже вытаскивала из-под стола пластиковый тубус, в котором хранились ружья. Тяжелый чехол проскреб по пыли. Викерс нагнулась и сняла пластиковую крышку.
– Грузитесь! – приказала она и бросила мне мешок.
Я закинул вещмешок на плечо. Он по виду был из армейских излишков. Фунтов на десять, полупустой. На дне мусорного бачка я заметил свой телефон – достал и запихнул в карман.
– Пошевеливайтесь, – приказала Викерс. – Держаться вместе. Если разделят, сходимся в другом схроне.
Хеннинг, ухватив и открыв мешок, принялся набивать его лежавшими на столе патронами.
– А это где? – спросил я.
– Некогда, – огрызнулась Викерс.
Хватая со стола последний пистолет, я ждал, что меня остановят. Хеннинг взглянул пристально, но промолчал. Мерси еще взваливала на плечо мешок, а Викерс уже устремилась к проему в стене.
– Держитесь за мной, – приказала она и бросила взгляд на меня. – Не отставать!
* * *
Мы пустились бегом. Двигались тихо, прятали головы, перебегая из помещения в помещение.
У очередного проема Викерс, вместо того чтобы нырнуть и в него, остановилась. Пригнулась и заглянула в дыру.
– Так какой у нас план? – спросил я.
– Не оглядываться.
– А если нас поймают?
– Лучше не думать.
Хеннинг, привалившись к стене, шарил глазами по оставшейся позади комнате, а Викерс смотрела вперед, в дыру. Ее сосредоточенное лицо застыло маской. Она подалась в ту сторону, посмотрела вправо, влево и отпрянула.
– Не нравится мне здесь. – Женщина выпрямилась. – Пошли!
Низко пригнувшись, она повела нас в другом направлении.
Мы миновали еще одну пустую комнату и, пройдя через дверь, оказались в длинном коридоре. Стены покрывали металлические панели. На полу лежал дюйм пыли. Здесь десятилетиями никто не появлялся.
Из коридора мы попали в новое большое помещение – видимо, бывший цех, но станки давно вывезли, превратив его в склад. На полпути через него мы услышали.
Прямо за спиной. Глухой хлопок автомобильной двери. И лай. Только в этом звуке было что-то необычное. Слишком низкий голос для собаки. Викерс застыла. Остальные столпились у нее за спиной.
– Опоздали, – шепнул Хеннинг.
Лай стал громче.
– Собаки, – сказал я.
Мерси тряхнула головой.
– Хуже.
– Их ищейки, – пояснил Хеннинг и покосился на мой пистолет. – Может, тебе хочется меня пристрелить, – начал он и встретил мой взгляд. – Если собираешься, предлагаю отложить на потом.
– Не буду в тебя стрелять, – кивнул я.
В этот момент я услышал новый звук – лязг металла. Что-то тяжело протопало по отвалившейся заржавленной пластине.
– Пошли, – позвала Викерс. – Сюда.
Мы побежали за ней.
Мы неслись через здание, перепрыгивая завалы кирпичей и протискиваясь в узкие двери, мимо труб и стальных баков, загромоздивших комнатки поменьше. Хеннинг, остановившись, губами и пальцами показал: «Ш-ш-ш!» Мы распластались по стене, в тени.
Позади простучали тяжелые шаги, миг спустя раздался грохот. Из комнаты, в которой только что были мы. Потом голоса нескольких человек и фырканье зверя. Тяжелое дыхание крупного животного.
С моего места через проем видна была часть той комнаты. Чуть погодя послышались легкие шаги, тихий смешок и невнятный ответ.
– Они здесь, – выговорил Хеннинг.
В дальнем конце комнаты показался человек.
Ребенком я играл на старом волноломе, рядом с причаленной отцовской яхтой. Из воды выплывали гнилые бревна: огромные, ободранные, обреченные догнивать на мели. Назвать это место причалом было бы большой натяжкой.
Со своего места на волноломе я видел полосы ряби на воде – они прерывались, обходя концы топляков. Вокруг бревен рябь изменялась. Прерывалась. В возмущенном потоке и волны двигались иначе. На фотографии этого не передать, но глазом было заметно, что отблески бегут быстрее – что эти места ведут себя не как остальные.
На долю секунды тень пересекла фигура, похожая на ту рябь. Человек, но и что-то иное. Возмущение среды. Область возмущения, где рябь была подвижней.
Он шел по нашим следам на грязном полу.
Хеннинг сорвался первым.
Он приложил дробовик к плечу, выстрелил, и фигура подняла голову – рябь развернулась в язычок пламени, – дрогнула слабая аура, и тень вдруг пересекла комнату, пожирая пространство длинными плавными шагами. Я замер, не в силах ни шевелиться, ни думать, а Хеннинг с воплем палил, и Мерси взвизгнула:
– Пошел!
Я побежал.
В слепой панике.
Ринувшись сквозь пролом, я метнулся через пустой склад и по коридору со всех ног. В новом проломе, выводившем под открытое небо, я за что-то зацепился ногой – и растянулся в грязи, ободрав лицо.
В сломанный нос ударила боль. Выдохнув, я открыл глаза.
Солнце отбрасывало поперек тропинки резкую тень. Нетвердо встав на ноги, я ощутил, как что-то теплое стекает по лицу. Утер нос тыльной стороной ладони и увидел кровь.
Я перебежал к ближайшему зданию, в дверь ангара. Внутри выбрал самую густую тень в надежде укрыться. Где остальные? Я терял сознание, голова кружилась. Когда не осталось сил бежать, я рухнул под груду щебня и вжался в стену.
Зрение как будто уступило место другим чувствам. Так было после пожара. Я услышал выстрел. И еще один. Далекий крик. В открытую дверь ангара увидел между зданиями Хеннинга. Лицо ему заливало кровью, в глазах бешенство.
Его настигла ищейка. Наверное, это была ищейка.
Крупная, как светлый ротвейлер, и даже больше – я таких собак не видел: непонятное создание, но Мерси была права – мозг заполнял пробелы.
Я мог видеть ее и по-другому. На долю секунды мелькнуло что-то вроде гиены – пятнистое, дикое – и оторвало человеку руку. Кровь хлынула наземь – и тут же картина изменилась. Просто большая мускулистая собака.
Тут я вспомнил про пистолет – тот, что прихватил со стола. Но руки оказались пусты. Я огляделся – на земле его тоже не было. Я вспомнил падение. Наверное, выронил, когда споткнулся.
Крик Хеннинга стал иным – я не знал, что мужчина способен так кричать. Лучше бы мне этого не слышать. Потом стало тихо.
Я закрыл глаза, слушал и ждал.
Наконец, через несколько минут, я поднялся из тени. Поляна за дверью была пуста, только неподвижное пятно краснело в траве.
Я, держась стен, двинулся дальше. Нашел пролом в дальней стене и пробрался в другую комнату. И еще в одну. Проломы складывались в дорогу через руины. А когда передо мной встала растрескавшаяся стена, я свернул направо по коридору. Впереди зашумело, и я застыл как вкопанный, с бешено стучащим сердцем. Что-то приближалось. Заметив справа проем, я нырнул в него. Маленькая каморка – может, комнатушка бригадира, с черными пятнами на стенах. Окна вылетели. Единственный деревянный стол завалился на пол. Тридцать лет назад он мог бы соперничать со столом Джереми, но теперь прогнил и ножки подломились.
Шаги приближались, и я забился за стол, сжавшись в комок. Шаги прозвучали ближе, и я вжался лицом в пол, подглядывая одним глазком сквозь щель в крышке. Между разбухших от влаги досок мне видна была соседняя комната.
Движение, которое я не сумел проследить глазом. Передо мной мелькнула пара ног, обозначились брючины.
Где Мерси?
Ноги скрылись за колонной, а я передвинулся, чтобы лучше видеть, и тогда рассмотрел его. Знакомый.
Человек, с которым я обедал. Рассуждавший о винах и музеях. Приказавший убить моего друга.
С точки зрения клинка…
Брайтон пересек комнату и открылся мне целиком. Темная охотничья куртка, на рукавах черным запеклись пыль и грязь. Светлые мерцающие глаза пошарили по теням, но не нашли, на чем остановиться. Брайтон скрылся за углом.
Когда он ушел, я выждал тридцать секунд, потом встал и двинулся в противоположную сторону. На бегу я высматривал Мерси, надеялся, что она мелькнет где-нибудь. Воздух снаружи был свежим и чистым, небо – голубым. Я чувствовал себя как на ладони – заметным со всех сторон.
Вдалеке опять стреляли – где-то впереди.
Я повернул в другую сторону – снова напрямик, через здания. Сердце колотилось молотом. Я несся вслепую, лишь бы подальше от этих звуков. Бежал, пока не загорелись огнем легкие, пока не подогнулись ноги.
Я чуть не споткнулся о Хеннинга.
От него осталась половина человека. Половина уха, половина тела – прямо перед дверями ангара. Глядя на него, я особенно остро ощутил, что безоружен. Нагнулся и поднял с земли его дробовик. Ствол был в крови, но, кажется, цел. Двумя руками сжимая оружие, я побежал.
Еще один порог, я не задержался и не замедлил бега – только в дверях повернул ружье вертикально. Опять склад. Опять пустые пространства. Я остановился, только попав в узкий проулок между стенами с полоской неба наверху. Съежился, прижимаясь спиной к стене. Хватал ртом воздух. Новые выстрелы. Хеннинг мертв, значит, это в Викерс или в Мерси.
Я переломил ствол и увидел единственный патрон.
В голове мелькнуло, что одной пули хватило бы покончить со всем. Я отогнал эту мысль. Усилием воли заставлял сердце биться ровнее, силился успокоить дыхание. Чтобы выбраться, мне нужно было ясно мыслить. Я ждал. Проходили минуты. Я следил за просветом между стенами и наконец услышал вдалеке лязг. Шаги по ржавой стали – легкие и быстрые шаги. Я метнулся туда.
Я нашел ее спустя две минуты. Викерс пряталась у стены на краю прогалины. Солнце отбрасывало за дома короткие тени, и я скрывался за грудами мусора, стараясь не выходить на открытое место. Руины показались знакомыми – я узнал место, где мы собирали дрова. До изгороди было сто ярдов по высокой траве, вверх по склону. Столько пробежал, а вернулся почти туда, откуда начал, за сотню ярдов от лагеря.
По колее выше что-то двигалось.
Викерс все жалась спиной к стене. У нее шла кровь из носа, голова была разбита. Шаря глазами по зданиям, она глянула в мою сторону, и я открыл ладонь – едва заметное движение, но она увидела. Хотела отступить от стены, но я махнул – нельзя.
Брайтон приближался. Она осталась на месте.
Брайтон медленно продвигался между зданиями, осматривая каждую тень.
Глаза у меня заслезились, и я моргнул от косого солнца над прошедшей по траве волной. За Брайтоном по колее шагал второй. Я услышал собственный шепот:
– Боаз.
Я понял, что они пройдут прямо перед прячущейся Викерс. Ее не могли не заметить.
Когда мужчины приблизились, Викерс с застывшим лицом вжалась в стену. Видеть их она не могла, но слышала шаги по щебенке.
Осталось тридцать футов.
Я предостерегающе махнул ей, но она не увидела. И все равно деваться ей было некуда.
Двадцать футов. Я видел, как шарит глазами Брайтон – поворачивается слева направо, двигаясь по дороге.
– Отвернись, – шептал я. – Сверни в другую сторону.
Десять футов.
– Черт! – вырвалось у меня.
Я покинул укрытие за кучей щебня и сделал три шага на открытое место. Поднял дробовик, заставив себя видеть, во что целюсь, – на самом деле видеть – черные промельки окружали его тело крылышками тысячи жужжащих ос. Я спустил курок.
Ружье оглушительно грохнуло.
Дробь вырвала клочья ткани из левого рукава Брайтона и почти одновременно выбила облачко пыли из стены за его спиной.
Он удивленно уставился на собственное плечо. Затем развернулся ко мне и взревел – нечеловеческий вопль ярости и боли.
Я выронил ружье и побежал.
* * *
Я несся к проломам.
У меня была одна надежда – оторваться и не подпускать их близко. В первую дыру я нырнул с разбега. Когда оглянулся сквозь узкий проем, взгляд Брайтона сомкнулся с моим.
Я перепрыгнул кучу обломков, заметил торчащий из бетона кусок арматуры. Дернул изо всех сил, и железяка оказалась у меня в руках. Приятно было снова держать в руке оружие. Хоть какое-то оружие. Пробежав через комнату, я нырнул в следующую дыру и тут же обернулся.
Я тщательно рассчитал бросок.
Все слышали рассказы о невероятных приливах силы – когда люди на всплеске адреналина поднимают машину, чтобы освободить раненых. Я вложил в бросок все силы своего тела, нацелив их в узкую дыру, из которой должен был показаться Брайтон, и увидел, как округлились его глаза, увидел в них боль и потрясение, когда арматурина врезалась ему в центр тяжести – и он попытался увернуться, но инерция увлекала его вперед, и он, падая, жестоко ударился плечом о стену.
Этого хватило – я уже несся за поворот, потом за другой, еще и еще – скрываясь в лабиринте переходов. Нырнул налево, потом направо, совсем затерялся и наконец вырвался на большую погрузочную площадку.
Вдоль стены уходил вверх стальной трап, и я не колебался. Бросился по нему, прыгая через ступени. Здание здесь было выше, а трап переходил в мостки.
Каждый мой шаг раскачивал их, и я остановился, перевел дыхание. Опустил взгляд вниз и стал ждать в надежде, что погоня пройдет мимо. Что тот не поднимет глаз.
Всего через несколько секунд вошел Брайтон.
Мгновение длилось молчание: он осматривал пустую площадку. Казалось, его смутила тишина. Он оглядел все углы, медленно поднял голову. И улыбнулся.
– Вот и ты, – сказал он.
Я бросился по мосткам к дальней двери, в следующее помещение. Оно было занято трубами и котлами, огромными пустыми баками и перекрученными стальными перилами.
В дальнем конце тесной комнаты виднелась дверь и новая лестница – уже вниз. Я почти добрался до нее. Но я понимал, что мне не уйти. Если буду бежать, он догонит и убьет. Вместо этого я скрылся в тени. Когда доходит до «дерись или беги», есть и третий вариант. Прячься. Я забился за один из баков – огромную стальную цистерну в углу. Одну ногу заклинил за толстой сливной трубой в промежутке.
Я ждал.
Бегущие шаги. Тяжелые удары от одной стены до другой.
Проходи дальше! По лестнице!
У дальней стены шаги смолкли.
Пожалуйста… Я закрыл глаза. Я спрятался сам от себя. Меня здесь не было.
Истекли секунды.
Шаги зазвучали снова – вниз по лестнице, удаляясь.
Я наконец выдохнул. В груди еще стучал молот. Брайтон ушел.
Я ловил слухом звук. Хоть какой-нибудь. Я гадал, спаслась ли Мерси. Я гадал, удалось ли ей уйти.
Потом послышался новый звук, с другой стороны. А я почти поверил, что этого не случится. Я стал считать про себя. Звук не повторялся. Три, четыре, пять, шесть… На десяти я чуть подался вперед, вытянул шею, чтобы лучше видеть, но ничего не увидел. Никого.
Я продвинулся чуть дальше. Как ужасно громко шуршат по полу мои колени!
Здесь было сумрачно и тускло. Я мало что мог рассмотреть из-за углового бака – только солнце, просачивающееся в открытые двери и ржавые дыры в потолке.
…Двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь…
Я все считал. Мысленно дошел до шестидесяти и только потом шевельнулся, утешая себя привычным ритмом. Я, как в детстве, швырял в темноту числа.
Я пополз на четвереньках, держась ближе к баку. Задел что-то бедром – звук будто взорвался в ушах. Когда я поднял взгляд, сердце чуть не выпрыгнуло из горла.
Брайтон ушел, но в дверях стоял второй.
* * *
Боаз стрелял глазами по теням.
– Выходи-выходи, кто ты ни есть! – проговорил он.
Этот голос я помнил по ужину в ресторане. Скрежещущий голос.
Я медленно попятился, отступил за бак, так что уже ничего не видел. Подошвы Боаза хрустели по полу, а я всем телом вжался в стену, постарался сделаться как можно меньше. Я понимал, что вряд ли выйду отсюда живым.
– Эрик, – прозвучал его голос, – я знаю, что ты здесь.
Шаги слышались от середины комнаты.
Я забился еще дальше в угол и почувствовал, что цепляюсь за что-то ногой. Отрезок трубы, торчащей между баком и чехлом большого насоса. Окружностью два фута, как автомобильная шина. От маленького автомобиля – а то и еще меньше. В более благополучные времена она соединялась с баком, откачивая то, что в нем варилось. С тех пор бак сдвинулся, опустел, почти развалился, и труба оказалась на виду. Я критически осмотрел ее, подсчитывая в уме. С трудом, но протиснуться можно. Проворно развернувшись, я готов был нырнуть в нее головой, но испугался. Адская чернота. Еше раз перевернувшись, я, стараясь не шуметь, полез ногами вперед. Места хватило впритык. Внутри труба была гладкой, покрытой скользким налетом, и я задумался, что по ней лилось раньше. Лучше, пожалуй, не знать.
Снова прозвучали шаги Боаза.
Слышал ли он меня?
Шаги приблизились, обошли бак.
– Я видел, как ты поднимался, – произнес его голос, – но не спустился.
Перед глазами появились штанины его брюк. На ногах были кожаные альпинистские ботинки.
– Методом исключения получается, что ты здесь.
Он нагнулся, заглядывая в угол; мимо трубы, в дюймах от моего лица, качнулись руки.
– Что же ты прячешься, мышонок? Твой дружок Стюарт не прятался, не то что ты.
Я похолодел. Стюарт. Сейчас я мог бы дотянуться до Боаза.
– Он храбро принял прописанное ему лекарство, – сказал тот.
Его рука снова качнулась перед отверстием трубы. Большая ладонь. Бледная. Ухоженная. Рука бизнесмена.
– Видел бы ты его на том столе. Он купался в крови.
Труба сжимала меня со всех сторон. Лжет? Я ощутил подступающую рвоту. Это уж было слишком. Сначала Сатвик, теперь Стюарт. Я губил все, к чему прикасался. Я опять задержал дыхание, протиснул руку вдоль тела, нащупывая карман и холодный металл в нем.
Бледная ладонь качнулась и исчезла. Ноги шагнули прочь. Я его больше не видел.
Сердце колотилось все так же.
Вдруг что-то мелькнуло, и передо мной возникло лицо Боаза.
– Вот ты где!
Я ударил его в лицо свернутой полоской стали.
Взревев, он словно вывернулся наизнанку: звук, будто тысяча ос разом зазвенели крылышками, – и мой взгляд соскользнул, уходя от непостижимого.
Я метнулся назад, но его протянутая рука схватила мою, дернула, а я извернулся и ударил клином, после чего лишился оружия. Его вырвали из пальцев. Я подался в глубину трубы.
Когтистая ладонь прошла в ударе мимо лица, смахнула мне волосы со лба – я оттолкнулся локтями и ушел еще глубже. Боаз яростно взвыл и полез за мной. Он был больше меня, но в трубу уместился, и я пополз назад, скользя животом по накипи, а в голове было, что такая смерть слишком ужасна: застрять и задохнуться на каком-нибудь изгибе трубы. Я вывернул голову, чтобы заглянуть дальше, но мое тело плотно заткнуло трубу, в просветах виднелась лишь чернота. Боаз уже втиснул в отверстие плечи и перекрыл свет. Он протискивался, скребя руками, и пыхтел, как локомотив в узком тоннеле. Вдруг настала тишина, а потом скрежет – он опустился на живот, и внутренность трубы осветилась сзади. На миг у меня в глазах вспыхнули серебристые огоньки – вроде кошачьих глаз ночью.
Нас разделяло двадцать футов.
Он улыбался. Его ладонь отрастила – шутки темноты – длинные, как клинки, пальцы. Мне представилось, как эти пальцы впиваются мне в лицо, пронзают глаза, вскрывают горло. Потом я рассмотрел, что это не пальцы-клинки, а мой стальной клинышек, который он крепко зажал в руке.
– Попался, мышонок, – прошипел Боаз.
Вот как выглядит безумие. Концентрированное безумие в самой своей твердой, алмазно-твердой сути. Кусок угля, спрессованный тяжестью всего сущего.
Я торопливо отползал задом, стараясь не думать, чем это кончится.
Боаз улыбнулся еще шире, приподнялся, заполнив проем – и снова стало темно. Я наполовину полз, наполовину скользил по гладкой смоляной трубе. Времени в темноте не существовало.
Скрежет кожи по стали. Десять футов. Двадцать. Мое рваное дыхание.
Ноги наткнулись на что-то твердое, и сердце грохнуло в груди, когда я понял, что это. Перегиб трубы. Я задергал ногами, нащупывая проход. И нащупал. Я думал, что труба изгибается влево или вправо, но мне не повезло. Она уходила вниз.
Я переломился как мог, выгнул спину, обдирая кожу с бедер, и ощутил, как они уходят в перегиб – мгновение паники. Сила тяжести брала свое, но я растопырил локти, упираясь в стенки, тормозя. Кто мог сказать, глубоко ли идет труба? Может, падать предстояло на десять футов, может, на целый этаж, а то и дальше, если сток шел в подземный трубопровод. От этой мысли зашевелились волосы на голове. Но возврата не было. Руки соскользнули, я услышал собственный вскрик и вжался в сталь в надежде удержаться.
Впереди больше не скребло. Боаз остановился.
– Что такое, мышонок? – Труба жутко исказила его голос. Он звучал как само безумие. – Добрался до конца?
И опять его глаза блеснули в темноте. Далекий свет снаружи превращал его в темный покачивающийся силуэт.
До него оставалось не больше десяти футов. Боаз выиграл расстояние. Как ни тесно было в трубе его громоздкому телу, он меня настигал. Он сдвинулся, и свет переменился, просочился над его плечами. И тогда я рассмотрел его глаза. Боаз прищурился, как будто вдруг что-то понял.
Он рванулся вперед.
В темноте я ощутил, как тянутся ко мне его руки.
Времени на размышление не осталось. Я расслабил плечи. Живот заскреб по дну, а ноги упали вниз – получилось! Почти.
Стальная хватка сомкнулась на моем предплечье.
Я взвизгнул и забился, но пальцы, впившиеся мне в кожу, были слишком сильны, я чувствовал, как меня вытягивают наверх. Я задергал ногами, нащупывая зацеп. Появилась вторая рука, вооруженная стальным острием, – ударила мне в лицо, целя в глаз, но я прижал подбородок к груди, чтобы рана пришлась на макушку, и уперся коленями, оттолкнулся. Почувствовал, как сталь ударила по кости. Боаз тянул, но меня не так легко было вытащить наверх – вес взрослого мужчины, заклиненного в трубе, – и все же силы ему хватало, а мне на лицо капала горячая кровь из рассеченной кожи на голове – меня как будто затягивало между лопастями пропеллера, и он, яростно взревев, снова ударил меня сталью. Я изо всех сил уперся коленями, но Боаз был сильнее и выдернул меня, а заодно и мое плечо из сустава.
Перегиб трубы вдруг оказался у меня под животом, а меня волокло дальше, и я уже знал, чем это кончится, – меня вскроют от макушки вниз в этом темном вонючем аду, и вдруг железная хватка разжалась, выпустила руку, чтобы перехватить за рубашку и подтянуть ближе.
Я дернулся в единственно возможный момент, отшатнулся и почувствовал, как застегнутая рубашка съезжает на голову, а сам я животом сползаю по изгибу, так что майка задралась до подбородка. А потом я упал.
Падение длилось три секунды, если не меньше.
Тело ощущало расстояние, кожа обдиралась о шершавый металл, а потом удар чуть не расколол мне кости.
Я стукнулся подошвами – ноги в полете выпрямились, – а потом в плечах полыхнула боль, и о железо ударилась моя голова. И стало тихо.
В ловушке, в полной темноте нет четкой грани между сознанием и обмороком.
Не знаю, надолго ли я отключился. Может быть, на несколько секунд. Или минут. Первое, что я услышал, очнувшись, – скребущий звук над собой. Я шевельнулся, и в плече скрежетнули кости – сустав встал на место. От моего стона скребущий звук оборвался.
Я услышал его дыхание. Снова заскребло…
Я вслушивался, не желая верить. Этого быть не могло.
Он спускался.
Нет!
Даже в полубеспамятстве я понимал, какое это безумие. Он никак не мог развернуться – значит, полз головой вниз. На такой риск никто бы не пошел. Даже если он меня убьет, назад ему не выкарабкаться – задом наперед это невозможно. А мое тело заткнет трубу, так что и пути вперед не будет. Боаз окажется в ловушке. Как я сейчас.
Скребущий звук стал громче.
Надо было спешить. Я пополз на брюхе, срывая кожу. Я задумался, много ли ее останется после этого наждака. Я вкладывал все силы в плечи, отталкивался локтями, протискиваясь в трубу и скользя коленями по стали. Время растянулось, мгновения длились веками.
Целую вечность спустя я задержался. Сперва засомневался, но сосредоточился и через две секунды убедился, что не ошибаюсь. Отблеск. Едва заметное свечение. И даже воздух переменился, стал не таким застойным. Я не знал, далеко ли, но где-то за моими подошвами труба заканчивалась.
– Пожалуйста, – взмолился я, – только бы не решетка!
Я ее представлял. Стальная сетка, в которую первыми упрутся подошвы. Ни выхода, ни возвращения. То, что называлось Боазом, все ползло за мной головой вниз, со стальным острием в руке. Я отогнал эту мысль. Что толку думать.
Труба загремела – Боаз приближался.
Еще дюжина футов покрытой налетом стали под животом, а дальше свет, просачивающийся из-за плеча, стал ярче, я уже различал свои пальцы в пятнах грязи и крови. Я видел глубокие раны на предплечьях, но предпочел не всматриваться. Что толку?
В трубе стало светло, моя правая нога не нашла опоры. Стали не было и под правым коленом, а потом ее не оказалось и под левым, и я выскользнул, цепляясь за стенки трубы, и даже не подумал, высоко ли будет падать, как уже падал. Ударившись о землю, я взглянул вверх. Пять футов.
Я втягивал в себя воздух, не веря свободе. Когда встал, труба оказалась вровень с лицом – двухфутовое отверстие в темноту. Ноги у меня подогнулись, я осел наземь, запнувшись за короткий обрезок металла. Огляделся: я находился в полуразобранном строении – кажется, снос забросили на полпути. На полу грудой валялись стальные трубки разной длины и диаметра вперемешку с кусками бетона. Высокую крышу частично сняли, оставив каркас и открытое небо. Я где-то читал про корпорации, которые обдирают крыши со старых зданий, чтобы уклониться от налогов. Может быть, и здесь такое начинали, а потом стало уже не до налогов.
Наверху зашумело, все сооружение надо мной содрогнулось. Когда звук стал громче, ноги у меня опять подогнулись. Боаз был рядом. Бежать я не мог, и спрятаться, казалось, негде.
Рука сжалась на первом, что подвернулось, – трехфутовом обрезке трубы. Когда-то он торчал из стены, а теперь тяжело лег в ладонь.
Я сумел встать.
Первой высунулась рука – длинная и красная, мокрая от крови – и схватилась за край проема. За ней вторая рука, зажавшая окровавленный клин. Следом показалась макушка продолговатого черепа, как будто Боаз рождался на волю из темного ада.
Лицо, когда оно обратилось ко мне, было сведено судорогой ярости и покрыто грязью. Глаза нашли мои.
Я стоял, занеся трубу, в позе палача. Я не дал ему времени опомниться. Все, что во мне осталось, я вложил в удар по его черепу.
Под трубой страшно хрустнула кость. Я ударил снова, и он дернулся – судорогой тела. Из раны хлынула кровь. Я бил снова, и снова, и снова.
Я бил, пока сталь в моей руке не стала мокрой от крови.
Я бил, пока его раздробленное тело не обмякло, вывалившись из трубы бескостной массой. И еще бил, пока мог поднять руку и мир не поплыл перед глазами.
Я посмотрел на него сверху. Раздроблен череп. Сломана шея. Ни следа от того, чем он был. Ни осиных крылышек, ни мерцающей ауры.
В глазах у меня прояснилось.
Я не убивал живого с тех пор, как рыбачил с отцом. Я ждал реакции. Ждал потрясения от убийства. Ничего. Я выронил обрезок трубы. До меня дошло: я не считал то, что убил, человеком. Это было что-то другое.
Перебираясь от пролома к пролому, я беззвучно проходил через застройку. Как частица сквозь щели. Легкие горели, потому что я надышался пылью, и пришлось остановиться, тихо откашляться в сгиб руки, выкашляв густую черную слизь. Я зашагал дальше. Сколько минуло времени, не помнил.
Я опять чуть не наступил на тело Хеннинга. Под ним расползалась красная жижа. Глаза несговорчиво уставились в небо. В дюжине шагов от тела я нашел его мешок. И двинулся дальше, ловя слухом каждый шорох.
Я тихо проскользнул в следующую дыру и перешел к дальней стене. Свет косо падал сквозь дыры в крыше, проливал на замусоренный пол золотые лужицы. Я тщательно выбирал дорогу, чтобы не наступить на листы жести.
Я не сразу понял, куда попал.
Свинцовый груз неподвижно висел в нескольких дюймах от пола. Маятник замер. Все шпильки были сбиты. Я подошел ближе и поднял глаза к балкам перекрытий, за которыми терялась проволока подвеса.
И не стал задерживаться.
На дальнем конце, у выхода на грузовую площадку, я остановился и выглянул наружу. Вот двери ангара – дюжина футов в высоту, двадцать в ширину. Они раздвинуты, между ними щель: только-только пройти человеку. За дверью начиналась гравийная дорожка, сворачивающая налево. Направо все заросло травой и кустарником – там мы собирали дрова. Дальше был холм с оградой вдалеке.
Я поторопился преодолеть открытое пространство. Потом, в траве и путанице веток, споткнулся о совсем старый фундамент, которого прежде не замечал. Одной стены не было вовсе, две другие, фута в три высотой, не поднимались над травой. Прижавшись спиной к раскрошившейся кирпичной кладке, я перевел дух. И услышал рычание. Поодаль, в просвете между домами, стоял Брайтон. Куртка его была в грязи.
На миг он как будто замельтешил солнечными бликами, решая, чем ему стать. За его спиной принюхивалась собака. Пятнистая шкура щетинилась на загривке – ни у одной породы я такого не видел. Ее ноги словно дрожали в мареве – опять глаза играли со мной шутки. С Боазом мне повезло, но с этой собакой на удачу надеяться не приходилось. Если догонит, порвет на куски, как Хеннинга.
Я пригибался, направляясь к ограде, и надеялся, что ветер дует в мою сторону. Добравшись до проволоки, присел на корточки и задрал голову. Ржавые куски колючей проволоки безобидно свисали в траву. Если лезть через верх, я окажусь на виду. От подножия холма всякий здесь будет заметен, как отставленный большой палец. Прохода низом не было. Разве что подкопать, а на это не осталось времени.
Я высунул голову, проверяя, где Брайтон с собакой, но те куда-то подевались с глаз. Может, зашли в здание или притаились в траве, высматривая каждое движение. Они могли оказаться где угодно.
Тянуть не было смысла. Лучше все равно не будет.
Я перебросил вещмешок через изгородь и полез сам. Хлопья ржавчины липли к ладоням. Подтянувшись наверх, я рискнул оглянуться. Вдали между зданиями хищная тварь повернула голову в тот самый миг, когда я перебросил ноги и спрыгнул вниз.
Подобрав мешок, я побежал.
Спуск был крутым. Я выбрал дорогу по лощине, осыпая под собой листву и сучья. Я телом проламывал себе тропу. То ли мчался, то ли сползал лавиной. Лощина открывалась в сухое русло ручья с валунами по берегам. Я двинулся по нему. Поднырнул под поваленный ствол и выбрался на шестифутовый уступ, с которого в дождливое время, должно быть, падала вода. Я на животе сполз с каменной полки и побежал дальше. Ложе ручья почти выровнялось, когда я услышал сверху собачий лай. И удар – что-то врезалось в сетку ограды. Я не знал, выдержит ли сетка. И не знал, умеет ли эта гиеноподобная тварь лазать.
Через второй ствол я перепрыгнул – и чуть не провалился в яму. Солнце поднялось уже высоко, но еще не проникло в узкую щель. Здесь, в лощине, стояли сумерки, и тени были глубокими, непроницаемыми.
Запах добрался до меня прежде, чем я увидел. Запах рыбы, соли и океана.
Я вспомнил слова Мерси: «Если повезет и будет отлив…»
Я пробился сквозь густую зелень, которой заросло русло.
Наверху снова задребезжала сетка ограды. Что-то пыталось пролезть или перепрыгнуть. Я взмолился, чтобы ограда выдержала. Или чтобы сам холм оказался препятствием.
Когда я был маленьким, дедушка с бабушкой держали большую собаку – ирландского сеттера, я играл с ним во дворе. В пределах двора я не мог за ним угнаться – четыре ноги обгоняли две. А вот на лестнице в подвал мы менялись местами. Я узнал тогда странный факт: на крутом спуске четвероногие не быстрее двуногих. Иногда даже медлительней.
Перебравшись через небольшой валун, я рванул вдоль русла, пробив гущу листвы, отводя ее руками. Еще один обрывчик всего в три фута, песок, и я, заморгав, остановился, чтобы оглядеться. Передо мной раскинулась заливная равнина – огромное блестящее поле темного, перемешанного с песком ила.
Мои ноги оставили на гладкой поверхности глубокие рытвины. Выбрался.
Несколько часов назад на этом месте стояла вода глубиной десять футов, но сейчас передо мной открывалось морское дно. Вдали, за илистой равниной, поднимался лесистый пригорок – зеркальное отражение холма, с которого я спустился. Я пошел к нему.
* * *
Залив был шириной полмили – узкая низина между холмами, которую приливы затопляли водой.
Мелкие лужи соединялись между собой канавками, и я тщательно выбирал дорогу по скользкой грязи. Вброд прошлепал по ручейкам – то глубоким, то широким; они сплетались в сложном порядке, менявшемся с каждым приливом. Приходилось соблюдать осторожность, чтобы не очутиться по колено в холодной воде с сильным течением. Вода была ледяной, а запах морской соли валил с ног.
Я брел по краю особенно глубокого протока, отыскивая разлив, где его можно было бы перейти, когда увидел следы. Человека загнала на ту же дорогу география – по илу тянулся ряд отпечатков поменьше моих.
Я присмотрелся. Следы уже наполнились водой и расплылись, но размер показался мне подходящим. Их оставили ступни женщины или малорослого мужчины. Может, час назад, а может, и минуту, хотя впереди я не заметил никакого движения. Равнина была пуста.
Я пересек русло по следам и шел по ним еще сотню ярдов, но потом попалась песчаная заплата, с которой блуждающие ручейки стерли все, как ластиком. Я пошел наугад, пока не услышал звук позади.
Как раз когда я обернулся, из-за деревьев выскочила собака и большими прыжками понеслась по равнине. Ее задние лапы взбивали песок – а там, где ударялись оземь передние, поднимались белые облачка пара. Может, на склоне она не обогнала бы человека, но равнина оказалась словно создана для нее. Очень скоро ищейка должна была догнать меня.
Отвернувшись, я побежал. Впереди сливались несколько ручейков, а времени искать безопасный брод не было. Я вошел в поток – провалился сперва по колено, потом по бедра. Течение сбивало с ног, от холода перехватывало дыхание. Грудь, сердце сжимало, словно тисками. Я одолел пятнадцать футов, двадцать – половину пути, – когда вода дошла до плеч, огнем обожгла ссадины, а потом дно ушло из-под ног, я погрузился с головой и поплыл. Холодная вода ударила в лицо. Невольно ахнув, я ощутил во рту вкус, навсегда памятный для каждого, кто раз побывал в океане.
Я плыл, спасаясь от смерти. Синее течение втягивало в себя воду из бессчетных луж – и меня заодно, угрожая унести в море. Я подумал, не случилось ли так с Мерси. Где она теперь – пропала на глубине или нашла безопасную переправу?
Подошвы задели дно, скользнули по камням, я занырнул и поплыл еще быстрее, пока не смог встать и пойти вброд. Выбравшись на тот берег, я сделал два шага и рухнул, перебирая руками, чтобы отползти от воды. Меня трясло от холода и изнеможения. А когда я обернулся, сердце замерло.
По ту сторону потока стояла собака. Стояла совершенно неподвижно, от влажной шкуры поднимался пар. Она пожирала меня хищным взглядом.
Но в воду не лезла.
Я уставился на нее. Она оскалила длинные кривые зубы.
– Не любишь холода? – хрипло пробормотал я.
Она глухо прорычала и шагнула к берегу. Когда светлая передняя лапа коснулась воды, от нее с шипением поднялся белый пар. Зверюга отступила.
«Они не просто то, чем кажутся», – сказала тогда Мерси. Чем бы ни являлась эта собака, море ей было не по нраву.
Хотя лучше ее не дразнить, решил я. И медленно, не делая резких движений, поднялся на ноги под ее буравящим взглядом.
Я попятился от воды. Собака вдруг навострила уши, словно уловила слышный только ей призыв. Застыла, а потом развернулась и унеслась туда, откуда пришла, взбивая лапами фонтаны песка.
Я обернулся и рванул к холму.
* * *
В гуще зеленых зарослей не было троп. Первые двадцать ярдов я ломился напрямик, потом подлесок поредел, и начались серьезные деревья. Еще дальше склон стал круче – скользкий глинистый подъем, присыпанный листьями, и я стал подниматься наискосок, цепляясь за стволы. Лезть было трудно, но через два часа я выбрался на вершину, где начинался ровный лес, редевший и дальше. Еще через полчаса я вышел на скошенную полянку, а потом в парк с качелями и лазалками. Цивилизация. Я рад был бы упасть на колени, но остановила мысль, что потом придется вставать.
Вечерело, и в парке оказалось пусто. Я быстро оставил его за спиной.
По краю парка проходила дорога.
А за ней светил огоньками городок.
Я пригладил волосы и привел в порядок одежду, чтобы не слишком привлекать внимание. Рубашки на мне больше не было, майку я порвал в клочья. На коленях брюк хаки светились дыры. Оглядев себя, я порадовался, что пришлось поплавать, – вода отчасти смыла кровь и грязь. Пятна остались, но расплывчатые, размытые – на беглый взгляд не заметные.
Улочка с окраины вывела меня на главную – с магазинами, ресторанами и закусочными. Люди ходили туда-сюда. Торговали недвижимостью, мороженым, готовым платьем.
Я на ходу высматривал знакомое лицо. Мог ли кто-то из них добраться сюда?
Если Брайтон знал, что я переплыл поток, он мог быть рядом. Я, зажатый с двух сторон водой, не имел большого выбора, в какую сторону двигаться.
Дальше главная улица пошла под уклон, и мне открылось море с огромным пирсом. Городок был туристским, набережная для таких – кровь жизни. В сотне ярдов впереди, среди прохожих и покупателей, я заметил женщину с влажными светлыми волосами. Вытянул шею, чтобы рассмотреть получше, но она уже затерялась в толпе. Это могла быть Мерси или мечта о ней. Я ускорил шаг, чтобы проверить.
Через несколько минут на главную улицу вывернула знакомая машина.
Таких машин полным-полно, сказал я себе.
Белый «рейнджровер». В такую затолкали меня люди Брайтона в день, когда погиб Сатвик. Водитель, прижимая к уху телефон, шарил глазами по толпе. Лет тридцати с лишним, темноволосый. Лица я не узнал, но это ничего не значило.
Я нырнул в магазин и пропустил «ровер». Здесь торговали бусами и бижутерией – я попытался изобразить заинтересованность. Когда машина проехала, выскочил на улицу и пошел так быстро, как можно было не привлекая внимания.
Я нашел переулок, куда свернула светловолосая женщина, но ее не увидел. Я перешел на другую улицу, ближе к морю и причалу. Пошел медленно, внимательно всматриваясь.
Она оказалась впереди меня. Все еще мокрая после купания. Мерси. Меня обдала волна облегчения. Она обхватила себя руками – явно продрогла. Но жива, спаслась!
Теперь, увидев, я задумался: не дать ли ей уйти?
Может быть, хватит? Мы оба на свободе. Я мог бы ускользнуть. А куда? И что делать потом? Я вспомнил заметку о смерти Сатвика. Автомобильная авария, говорилось в ней. В потоке машин передо мной снова мелькнул белый «ровер». Тот же водитель. Тот же мобильный в руке. Мерси, если бы не свернула, прошла бы прямо мимо него.
Я непринужденно пробирался в толпе, не поворачиваясь к проезжей части, пока не оказался прямо у нее за спиной и не взял за плечо. Мерси вздрогнула, но тотчас опомнилась, открыла рот, чтобы заговорить, но я не дал:
– Они рядом.
– Где? – Не поворачивая головы, она стрельнула глазами по толпе.
– Впереди, на дороге.
Я замедлил шаг. Мы проходили широкий бетонный спуск к воде.
Тогда я заметил, что Мерси хромает.
– Ты ранена. Тяжело?
Взгляд у нее был рассеянным, лицо бледным.
– Жить буду.
– Свернем сюда.
Я направил ее за плечо.
Мы по ступеням спустились к воде, пропуская «ровер». Внизу стояла билетная касса. Я взглянул на вывеску.
– Два, пожалуйста.
Сунув руку в карман за бумажником, я нащупал мобильный – промокший, бесполезный. Мерси протянула в окошко мокрые скомканные купюры. И вот мы уже прошли за турникет и по узкому трапу шагали к парому. Очередь машин выстроилась до холма, но пешие проходили свободно.
Мы поднялись на пассажирскую палубу и нашли столик у окна. Сели.
Электрический свет, гудение машины.
Я смотрел в окно, ожидая, что среди пассажиров мелькнет лицо Брайтона. Или того водителя. Если нас увидели и проследили, деваться нам будет некуда.
Но на трапе не было знакомых лиц.
Мерси опустила голову мне на плечо. Она промокла, вымоталась, продрогла. Я ее обнял. Штанины у нее порвались, одна туфелька была красной. Она перехватила мой взгляд и подтянула вверх дырявую брючину. На икре я увидел рваную рану.
– Не так страшно, – сказал я.
Она покачала головой:
– Это собака укусила. Хуже, чем выглядит.
– Что это была за тварь?
– Из их охотников.
– Где Викерс?
– Она добралась до своей машины.
– Уехала?
– Угу.
– Откуда ты знаешь?
Мерси помолчала.
– Видела. Она ранена, но к машине добралась.
– Хеннинг…
– Хеннинг мертв.
Она закрыла глаза.
Шум машины вдруг стал громче. Палубные матросы сбросили канаты, и паром отошел. И мы с ним. Никто больше не поднимется на борт. За окном проплывали огромные деревянные столбы, мелькали чайки.
Хотя бы на время мы оказались в безопасности.
Я протяжно вдохнул и выпустил воздух.
Адреналин схлынул, и с ним ушли силы. Усталость проняла до костей. Я ощущал грубую ткань одежды, мокрой, липнущей к телу. Штанины стали жесткими от соли. Я знал, что эту корку смоет только пресная вода. Меня затрясло. Я напряг мышцы рук и ног, приказывая себе не дрожать.
– Как ты спасся? – спросила Мерси.
Мы были одни в этой части судна, у самой кормы. До ужина оставался час, народу не много. У входа толпились несколько человек, но рядом никого.
– Я убил Боаза, – сказал я.
Она подняла голову с моего плеча, впилась глазами в лицо.
– Ты его убил…
Может, она ждала заверений. Я слишком устал – просто смотрел на нее.
– Как? – спросила она.
– Ударил.
– Ударил…
– Железякой.
После этого она долго молчала. Снова опустила мокрую голову мне на плечо, лицо отвернула к окну. Судно выходило на глубокую воду. Городские огни растянулись по береговой линии.
– Ты его ударил, – повторила она. – Только и всего.
Я опять промолчал. Волны плескались о борт. Мы шли, думаю, на восьми узлах. По меркам больших судов, не быстро, но ни одна парусная лодка нас не догонит. Интуиция не верит, что суда с более длинной ватерлинией ходят быстрее. Казалось бы, более длинная ватерлиния означает большее трение, более медленный ход. Но это не так.
Ветер вспенивал барашки на воде, и паром качнулся, встретившись с первой большой волной.
– Они смертны, – сказал я. – Так же, как мы.
– Не так, – возразила она.
Я рассказал ей о темной трубе и стальном клинышке. Рассказал о раздробленном черепе Боаза, превратившемся в кашу.
– Я колотил, пока он не умер.
Она кивнула, словно поняла наконец.
– Труба его связала.
– Он лез наружу, а я бил.
Я откинулся назад. Говорить больше не хотелось. Усталость проникла до костей. Я отвернулся от окна, отдался знакомому ритму волн. Я много лет не выходил в море. С тех пор как погиб отец. Корабль качался на волнах.
Мерси закрыла глаза. Проходили минуты, но я не был уверен, что она спит. Она повернула ко мне лицо – воплощение покоя. Идеальное, ангельское лицо. Я гадал, что ей снится. Прошлое? Темные ангелы, странные чудища?
Я смотрел в окно, паром качался на волнах. Ветер в открытом море стал сильнее. Уже видны были огоньки на том берегу. Еще один городок в бухте.
Спустя несколько минут меня заставил очнуться ее голос.
– Они не отстанут, – сказала Мерси. – Они будут искать, искать, и они нас выследят.
Оконное стекло задребезжало под ветром. Я закрыл глаза, выгнал из головы все мысли. Усталость спускалась на меня липким туманом. Немного погодя я уснул.
Когда ходишь под парусом, узнаёшь один факт. Вам никогда не захочется иметь лодку поменьше, пока вы в море. Вам никогда не захочется иметь лодку побольше, пока вы в марине. Наши мучения были достойны легенды – «Регата Мария» словно растопыривалась, когда отец подводил ее к причалу.
Почти все любят хорошую погоду. Солнечные дни, легкий ветерок. Мой отец любил шторма. Проливные дожди.
Среди моряков судачат о том, что тебя прикончит. О волне твоего имени. О ней толковал старикан, что помогал нам завести концы и декламировал историю «Нортерна» – своего первого корабля, потерянного в юности. Море было бурным, но не слишком, рассказал он, пока не набежала большая волна. Волна-гора, поднятая ураганом за тысячу миль от них – и пересекшая океан, чтобы найти, опрокинуть корабль, сбить мачты. Волна его имени.
* * *
Когда кто-то пропадает в море, береговая охрана соблюдает процедуру. Есть особые списки. Одни пропавшие корабли выбрасывает на берег. Другие уходят прямиком на дно. Никто их больше не увидит. Они стерты с картины мира, как резинкой.
Старое видео, смотреть которое слишком больно.
На нем мой отец – мальчишка – бегает по песку. Маленький, с каштановыми волосами, неузнаваемый. Пока не улыбнется. В улыбке видишь его.
Это был тот самый берег. Камни, как обломки кораблекрушения, остались на месте, как лежали вечно и будут лежать. Как будто мой маленький отец только вчера бегал по песку с той широкой кривоватой улыбкой. Видео – машина времени. И ложь. Потому что вернуться невозможно.
Искра погасла.
* * *
Когда отец пропал, береговая охрана провела поиски. Они очертили периметр, разбили участок на квадраты.
Нашли его в конце концов за сотню миль. В шторм, под двумя парусами. Не первый день пьян.
Думаю, он пытался. Пытался пропасть. Но море его не приняло. К тому времени с циррозом стало совсем плохо. Печень отказывала и зрение тоже. Пил по ночам, прятал спиртное под раковиной.
– Слепых моряков не бывает, – говорил он мне.
А мать укрылась за стеной отрицания.
– Он поправляется, – говорила она, когда отец в одиночку уходил в море.
Кое-что я запомнил из того последнего дня. Его кожу, больную, отечную. Как у восковой фигуры. Врач сказал, что он умрет, если выпьет еще раз, но в душе отец, наверное, подозревал, что ближе к истине другое. Он и так умирал. И ничто не могло его спасти. Цирроз зашел слишком далеко.
И он ушел с утра, вроде бы в контору.
Остальное я составил из обрывков. Из клочков информации, собранных за годы.
Думаю, она бы выдержала, если бы его нашел кто-то другой. Думаю, все могло быть иначе. Просто не повезло.
Он оставил портфель дома и не вернулся за ним, так что она решила сама завезти ему в контору. Или ее вело предчувствие. Подробностей мне никогда не рассказывали. Только обрывки. И одно слово – пистолет – повторялось снова и снова.
Она заметила его машину, проезжая по Вестерн-авеню. Могла бы проскочить мимо: девяносто девять из ста было за то, чтобы это произошло. Незачем ей было смотреть в ту сторону, разве что полюбоваться морем. Но на костях выпал сотый шанс, она взглянула на море и увидела его машину на песке. На стоянке с видом на океан.
* * *
Паром, взбивая пену из-под носа, ударился о причал. Толчок разбудил меня.
– Идем, – позвала Мерси. Она сидела прямо и протирала глаза. – Надо идти.
Остальные пассажиры уже встали. Мы вместе с ними спустились по эстакаде и по мокрым от дождя сходням. Я поднял лицо к небу.
* * *
Дождь шел, когда мать остановила свою машину рядом с отцовской.
Было холодно – промозглый октябрьский день, и, наверное, мать, выходя из машины, подняла воротник. Может, подставила лицо дождю. Я представил, как она обходит сзади свой красный «Шеви Кавалье». Может, она готовила слова. Собиралась посмеяться над его забывчивостью или спросить, зачем он встал на берегу.
Я представил, как она тянется к его дверце, уже согнув пальцы, чтобы ухватиться за ручку. А дальше я не видел.
Через несколько минут остановилась проезжавшая машина, ей помогли. Старый докер оттащил с дороги мою кричавшую посреди улицы мать. Она пыталась остановить и других, но те объезжали ее, не желая впутываться.
Полиция нашла его на переднем сиденье с пистолетом на коленях. В записке только и было: «Это волна моего имени».
* * *
В городе почти все было уже закрыто. Еще один прибрежный туристский район.
Я высмотрел на улице отель, показал Мерси, но та возразила:
– Не сюда.
– Почему?
– В первый, что мы увидели, нельзя.
Немного дальше светилась красным вывеска: «Свободные места. Кабельное ТВ».
Мы расплатились наличными.
– Морозилка в конце коридора.
Номер был чистый, без финтифлюшек. Одеяла с цветастым узором. Я включил отопление на полную мощность. Двуспальная кровать была мягкой. Я спал как покойник.
* * *
Когда я проснулся утром, Мерси, уже одетая, сидела за круглым столиком в углу. Она оставила мне кофе и пышки.
– Континентальный завтрак, – объявила она. – Я опасалась, что ты проспишь.
На кровати лежал маленький полиэтиленовый пакет.
– Зубная щетка и паста, – добавила Мерси, – и бритва. Купила в лавочке дальше по улице.
* * *
Она настроила телевизор на новости – монотонную скороговорку о внешней политике. Корея. Рынок акций. Грядущие выборы.
Я сел. Одежда прилипла к телу. Все болело. Рубашка заскорузла, засохла по форме спящего тела. Ободранная кожа горела. Надо было принять душ и побриться.
– Купить бы новую одежду, – сказал я Мерси.
Она кивнула.
– Рядом есть магазин. И аренда машин тоже. Чем скорее выедем, тем лучше.
– Возьмем машину напрокат?
– Если не берешься угнать.
Я поднялся и побрел через номер за своим кофе. Он был горячий и вкусный. Я выпил весь. Но пышки в меня не полезли.
– Когда они нас поймают – убьют, – сказала Мерси.
«Когда», а не «если».
– И что нам делать? Нельзя же просто так сидеть?
– Переберемся в другой схрон, как велела Викерс.
– Это далеко?
– Довольно далеко. Два дня пути. Там встретимся с ней и решим, что делать.
– А если ее там нет?
– Она там будет.
Мы ехали всё на запад, через два штата, в ночь. Сменялись за рулем, пожирая мили. Подъемы и спуски походили на волны небывалого моря. Гипнотический ритм мотора вынес нас к рассвету.
Равнины – зной и бескрайний простор. Тоска. Коневодческие фермы.
Мы поели в «Деннис» под Топекой и проспали шесть часов в «Супер 8» на краю шоссе.
До пустыни добрались к полудню. Сияло яркое солнце. Земля здесь была чужой. Голой и враждебной, как поверхность луны. Засушливая почва, овраги и голые холмы. Непокорная земля. Мы еще много часов гнали на запад, а потом свернули к югу.
* * *
– Викерс… – напомнил я.
Солнце зашло, и мир сузился до луча фар. Прерывистая белая линия разматывалась перед нами и пропадала позади.
– Угу, – промычала Мерси.
– Ты веришь ей насчет Брайтона? О том, что он такое?
– Ты их видел. Решай сам.
Она припала лбом к окну, уставившись в ночь.
– А в каскад? – спросил я.
– Во что?
– В мир-матрешку – вложенные друг в друга Вселенные: конечный объем с бесконечной площадью поверхности?
– Я ничего не понимаю в физике. Мне Викерс объясняла по-другому.
– Как?
– Мир – это остров, – сказала она. – Самое прекрасное место, какое можно представить, не менявшееся, пока однажды на его берега не попали крысы.
– Крысы? – переспросил я.
Мерси кивнула.
– Неважно, как они туда попали. Главное – появились. Эти крысы отличались от обитавших на острове животных и, если дать им волю, нарушили бы гармонию. Их надо было контролировать, понимаешь?
– Да-да.
– Блюстители острова пытались справиться с крысами, но те оказались слишком проворны. И так умны, что обходили ловушки. Тогда решили завезти хищников, которые питались бы крысами. И на остров выпустили змей. Больших ядовитых змей, убивающих крысу одним укусом. Как ты думаешь, что из этого вышло?
– Змеи не справились с крысами.
Она кивнула.
– Змеи пробрались в самое сердце острова и вели себя так, как ведут себя змеи. Так что теперь на острове было два вида паразитов. Думаешь, блюстители острова на этом остановились?
– Догадываюсь, что нет.
– Нет, не остановились. Завезли новых животных – хитрых мангустов. Те были проворнее змей и умнее крыс. Их завезли и выпустили на волю, и, как ты думаешь, что из этого вышло?
– Они не убили змей.
– О, они убивали. Самых неповоротливых и слабых. Но со временем мангусты стали такой же проблемой, как крысы и змеи. Погибало много мангустов и змей тоже, а вокруг них шныряли крысы. Поэтому со временем ввели закон – нерушимый и вечный. Больше никаких мангустов. Никаких чужаков. Век чудес окончен. Никаких новшеств на этом острове. Блюстители умыли руки и сказали: «Будь что будет».
– А Брайтон – из змей?
– Змеи есть змеи. Я веду речь об острове.
Я долго молча вел машину.
– Чего хотят змеи?
– Кто может знать, чего хочет змея?
– А как насчет мангустов?
– Все вымерли.
– А крысы чего хотят?
– Крысы хотят того, чего всюду хотят крысы. – Она подставила лицо солнцу. – Просто выжить.
* * *
День становился жарче. Мерси предложила меня сменить, но я отмахнулся:
– Поспи, я справлюсь.
На площадке для отдыха мы попили воды из фонтанчика и воспользовались туалетом. Нашли свое место на карте: «Вы здесь». С двух сторон нас обступали невысокие холмы. Я видел в зеркальце свои усталые глаза. Три часа, сказал я себе. Еще три часа, и позволю себе отдохнуть. Я достал мобильник в надежде, что заработала карта, но аппарат все еще глючил. Включился, что подавало надежду, но иконки не откликались. Я слышал, что помогает, если закопать его в рисовую крупу, но риса у меня не было, так что я отбросил телефон на панель в надежде, что солнце его просушит. Я вспоминал Джой.
Мерси, пока я вел машину, спала.
Эти места нельзя измерить. Невозможно описать. Пустыня. Разломанная земля. Ярко-красные стены вставали и падали вдали. Ветер вырубил из камня волны. Вместо гор были странные столы, на которых продолжалась пустыня. Жесткая основа планеты на сотни футов вздымалась в небо, словно сам Бог не мог решить, на каком уровне остановиться.
Дорога вилась по низменностям между плато – выбирала единственно проходимую полоску среди нагромождений камня. Временами она превращалась в мост над расселинами. В другие расщелины она ныряла, и тогда над нами поднимались стены каньонов. Бунтующий ландшафт. Я представлял, каково было здесь первопоселенцам. Сколько их добралось сюда и обнаружило, что пути дальше нет, что солнце запекло землю и возвратиться тоже невозможно.
От жары путались мысли. А может, от недосыпа.
Я жал на газ, сколько можно было без риска, но, когда вздумал проверить скорость, оказалось, что она снизилась до пятидесяти. Я снова поднажал, но каждый взгляд на спидометр показывал, что скорость падает. Где-то я ее терял. Как терял собственную жизнь.
Мерси на заднем сиденье что-то промычала и снова затихла. Уснула. Лежала так тихо, что я обернулся проверить, дышит ли. Ее грудь плавно поднималась и опадала, как земля вокруг.
Я снова стал следить за дорогой. За вьющейся серой лентой.
Через несколько минут я вскинул голову, проснулся – машина цепляла обочину, скорость зашкаливала за девяносто. Я притормозил до семидесяти и встряхнул головой в попытке смести паутину с мозгов.
Лента раскручивалась. Еще несколько миль. Бурые заросли на краю невысокой стены каньона наконец отступили. Красная пустыня без конца.
За рулем я постепенно начал ощущать, что нас двое. Один правил, а второй дремал, и я вдруг увидел скачущего по бурьяну зайца – он огромными прыжками шел вровень с машиной. Мистическая чернота в знойном мареве, неуловимая для глаза, но ощутимая иным чувством: толчки длинных ног, красный язык вывален из хитро ухмыляющейся пасти, а за ним, щелкая зубами, гнался койот, и я был этим койотом, и я был зайцем, и я был водителем, а женщина на заднем сиденье была никем и нигде, не была даже собой.
Шины взвизгнули на повороте, и я проснулся рывком, крутанул руль – слишком сильно. Меня отбросило на спинку кресла, и я, окончательно придя в себя, справился с управлением.
Мерси проснулась, но ничего не сказала.
* * *
Пока она вела машину, я спал.
Через три часа она меня растормошила:
– Подъезжаем.
Я открыл глаза на изломанную пустыню. Низкие холмы. Ничего не изменилось. Я не понимал, откуда она знает.
– Далеко еще?
– Двадцать минут, а может, и меньше.
– Сколько раз ты здесь была?
– Однажды, – ответила Мерси. – Год назад.
Притормозив, она свернула с большой дороги на пыльный проселок, терявшийся за гребнем. Каменистая почва поросла бурой травой.
– И не собиралась возвращаться.
Машина выбралась на следующий гребень. Дорога уходила вдаль – бурая пыльная полоска тянулась на несколько миль по перегибам, а потом растворялась в мареве. Мерси снизила скорость до двадцати миль в час, но не остановилась.
– Почему ты осталась с Викерс? Могла ведь уйти?
– В смысле жить обычной жизнью?
– Да. Не так уж это плохо.
Я наблюдал за ней. Мерси покачивалась в такт тряске на неровной дороге. Здесь бы ездить на полноприводных.
– Почему ты решил, что могла бы?
Я взглянул на ее кисть на руле. На обрубленные пальцы.
– Что у тебя с рукой?
Она проследила мой взгляд.
– Не помню.
– Как это можно – не помнить?
– Это не самое худшее. Я потеряла много больше. – Она вытянула перед собой искалеченную руку. – А вот что я помню. Помню, как они рвали меня на части. Играли со мной, как ребенок, отрывающий мухе крылышки. Помню, как умирала – постояла на самом краю.
Машина качнулась на подвеске – мы одолели еще одну глубокую рытвину. Я не понимал.
– Ты помнишь то, чего не было?
Мерси смотрела вдаль сквозь мутное ветровое стекло.
– Было. Там как будто трещина, а мир тебя тянет, и ты вдруг оказываешься на другом пути – на пути, где я выжила, а не умерла, и отделалась этой рукой, – которую теперь не узнаю.
Она угрюмо рассматривала собственную ладонь.
– Как «тянет»? Кто тебя вытянул?
– Мир. Он вроде как отредактировался. После раскола.
Мне вспомнился Стюарт. «По-моему, иногда она путается».
– В таких случаях, – продолжала Мерси, – запоминаешь в основном тот путь, с которого вышел. А не тот, на который тебя притянуло. Хотя кое-что просачивается. Вроде проблесков воспоминаний. Но они словно бы о том, что было не с тобой. Вот это… – она приподняла ладонь, – случилось с кем-то другим.
– А выглядит будто с тобой.
Она покачала головой.
– С другой версией меня. Со мной было намного хуже.
* * *
Мы миновали поворот и выехали на полого уходящую вниз равнину, которая открылась вдруг на много миль.
Рассказывают, как люди гибли в пустыне, когда у них ломалась машина. Я легко верил таким историям. Люди зависят от милости своих инструментов.
Ландшафт был пустынным – сухим, бесприютным. Бурьян, камни и низкие увечные деревья. Я прищурился, всматриваясь сквозь грязное окно.
Что-то стояло впереди, примерно в полумиле.
Мерси тоже увидела. Она остановила машину и плеснула на ветровое стекло моющим средством. Драгоценная жидкость стекала, оставив в пыли полоски.
Ярдов тридцать между низкими холмами – там земля была зеленее, поросла травой и цветами, а над ней зонтиком распростерлось огромное корявое дерево – редкость в этой засушливой стране, и под его ветвями притулился маленький ветхий трейлер, колебавшийся в летнем мареве.
Мы насмотрелись на такие трейлеры за последние дни – их было много на окраинах городков. Часто их окружали горы мусора и разбитые машины. Но этот стоял посреди пустыни.
– Ничего не изменилось, – сказала Мерси.
Она тронула машину с места, и мы стали медленно подниматься по пологому склону. Когда подъехали, я лучше рассмотрел трейлер. Первоначальный цвет замазали белой краской, чтобы он не перегревался на солнце. Никелированные части под слоем грязи стали матовыми от ударов песчинок. Даже окна помутнели – старческая глаукома, будто окна слишком много повидали на своем веку и больше не желали видеть. Вокруг валялись обломки. Лежало на боку широкое «кресло влюбленных». И стояли две машины, из которых только одна, казалось, принадлежала этой жизни – знакомый серый седан Викерс. На передней панели виднелась вмятина. Значит, она все же добралась. Колеса второй машины ушли в землю, она по брюхо увязла в красной пыли. Розоватые бока когда-то, наверное, были красными. Еще я заметил тачки, и велосипеды, и большие помятые железные ведра.
Передняя дверца трейлера оказалась открыта жаре. Жалюзи криво покачивались на ветру.
Мерси остановила машину в тридцати ярдах.
Я заглянул ей в лицо и увидел страх. Она не хотела подъезжать ближе.
– Что это за место?
– Последнее из наших укрытий, – сказала она. – Сюда Викерс привозила Хеннинга, здесь его выхаживала.
Мы остались сидеть. Мотор работал вхолостую.
– Мы не для того так долго ехали, чтобы здесь застрять, – напомнил я.
Она покачала головой.
– Машина пусть останется здесь – вдруг что-то пойдет не так.
– А если и правда пойдет не так?
Мерси поразмыслила над вопросом.
– Может, кто-то из нас до нее доберется.
Я покосился на нее.
– Вряд ли что-то изменится от того, где мы ее оставим.
Ей не хотелось подъезжать ближе, но и отказываться не было смысла.
– Все будет хорошо, – проговорил я. Конечно, это могло оказаться ложью. Ничего я не знал.
Она нажала кнопку управления окнами.
Было три часа, самый зной уже спал, но все равно в открывшиеся окна влился убийственный жар. Как бы не сто пять градусов. Страшно подумать, что творилось в трейлере.
Мерси нажала на газ и подала машину вперед. Остановилась в тени дерева и, выключив мотор, полезла под водительское сиденье, достала пистолет. Она сунула его за пояс на спине и прикрыла рубашкой.
Едва мы распахнули дверь и вышли, ветерок отлепил ото лба мои потные волосы. Он был сухой, как из духовки, и нес пыль пустыни.
– Идем, – позвал я.
Мы по тропинке подошли к трейлеру. На ветру покачивались поставленные много лет назад детские качели. Цепь с одной стороны заржавела до неподвижности, с другой лопнула и стекла на землю. Петли ржаво поскрипывали, когда ветер раскачивал выбеленное солнцем деревянное сиденье.
– Викерс не прожила бы так долго, не будь она осторожна, – сказала Мерси. – Хотя одной осторожности мало.
Лесенка к двери трейлера была такой же старой и выцветшей, как качели. Фанера и бруски стали серыми от солнца. Мы по покосившимся ступеням подошли к двери.
Чтобы постучать, Мерси пришлось придержать сетчатую дверь.
– Алло? – позвала она, стукнув в мутное стекло.
Ответа не было.
– Есть здесь кто?
Отодвинув сетку, она вошла внутрь.
Там оказалось не лучше, чем снаружи. Вытертый до основы ковер между кроватью и кухней. В гостиной маленький телевизор стоял на другом, побольше. И серый промятый диван. Кофейный столик. На полке у входа дешевые стеклянные рюмки и керамические щенки, котики, слоники. На стене я увидел распятие. И еще одно. Статуэтка Девы Марии на тумбочке охраняла диван. Еще были фигурки святых разной величины и происхождения – обдуманно расставленные по всей комнате. Среди них попадались пластмассовые, какие ставят на панель в кабине. Другие, керамические, были больше и раскрашены вручную или покрыты глазурью.
– Алло? – еще раз окликнула Мерси.
В дальнем конце прохода виднелась открытая дверь спальни. Кровать не застелена. Ярко-белые простыни стекали на пол. Но в трейлере было пусто. Никого.
– Викерс, ты здесь?
Словно в ответ, сквозь открытое окно донесся звук. Старческий голос. Я сделал еще несколько шагов по гостиной и развел руками занавеску за диваном. Задний двор не слишком отличался от переднего. Пустыня, заваленная мусором. Заросшая травой и бурьяном. Двадцатью ярдами дальше на легком подъеме был устроен навес из белого брезента на деревянных подпорках, и в его тени стоял столик для пикника. За столом трудилась пара стариков. Сгорбленный седой мужчина и рядом с ним женщина, оба в дырявых плетеных креслах.
– Люди, – сообщил я, – но Викерс не видно.
Мерси подошла и тоже выглянула в окно. Долго смотрела, не отрывая глаз.
– Она здесь.
– А это кто?
– Они тут живут. Это их дом.
Старик за столом, наморщив лоб, трудился над чем-то невидимым нам. Старуха тихо бормотала, вцепившись в пожелтевшую газету.
– Они нас не заметили.
– Заметили, – возразила Мерси. – Идем.
Я вслед за ней спустился по шаткой лесенке и обошел трейлер. Трава была гуще, чем мне показалось, и жестче. Высокая трава и низкие зеленые кустики. Когда мы приблизились, старик поднял голову. Заговорил со старухой на испанском. Она бегло, без любопытства, глянула на нас и вернулась к своей газете. Я посмотрел, чем занимался старик. Его узловатые пыльцы, напрягаясь, тянули мех, отходивший как туго натянутый свитер. Старик свежевал зайца. Перед ним лежал большой мясницкий нож.
Кроме ножа, на столе были еще два зайца. Один лежал плашмя, второй сидел в клетке. Не кролики – на вид дикие зайцы. Маленькие беговые механизмы, длинноногие, с узкими длинными телами.
Из трех зверьков один лишился шкурки и жизни, но два еще дышали, красновато-бурый мех вздрагивал. Тот, что был ближе к старику, раздувал ноздри.
Старик взял нож и срезал шкуру с передней лапы. Мех свободно отстал.
Эти двое могли быть мужем и женой – или родственниками. Старик выглядел старше, более продубленным. На его носу теснилось созвездие старческих пятен.
– Викерс здесь? – спросил я.
Он не поднял взгляда от работы, просто махнул окровавленной рукой. Только тогда я увидел тропинку.
Мы прошли по ней по склону и нашли Викерс у прудика, собравшегося в ложбине между холмами. У воды было прохладнее.
– Добрались, значит, – сказала она, подняв на нас светло-зеленые глаза.
Выглядела она ужасно. Опрятная прежде одежда в лохмотьях, в крови. Волосы запеклись колтунами. В руке она сжимала что-то темное и красное: что – я не разобрал.
Мерси упала рядом с ней на колени.
– Ты ранена.
Викерс словно не слышала.
– Без Хеннинга, – заметила она. – Он, значит, мертв.
Это не было вопросом.
Мерси кивнула.
Викерс прикрыла глаза, склонила голову. А когда подняла лицо, ее взгляд обратился ко мне.
– Теперь вам вдвоем справляться, – сказала она.
– И с тобой, – добавила Мерси.
Викерс мотнула головой. Хотела улыбнуться, но на ее окровавленном лице получилось что-то жуткое.
– Меня тоже можно списать. – Она села прямо, поморщилась от боли. Закашлялась в пропитанный кровью рукав. – Ищейки бегают быстро. Адские бестии. Как вы ушли?
– По приливным равнинам, – объяснил я. – Повезло.
Она снова кивнула, раскрыла ладонь – в ней лежала заячья лапка, вымазанная красным. Викерс перехватила мой взгляд.
– Подарок. Сказали, на счастье. – Она улыбнулась. – Хотя зайцу не повезло. Ты не думаешь, что за всякую удачу надо платить?
– Мы сами создаем себе удачу, – возразил я.
Викерс снова попыталась улыбнуться.
– Чистая правда. Создаем. – Она кивнула на трейлер, у которого стоял теперь старик. – Вот он и создает.
Нож отрубил зайцу лапу.
Викерс протянула ко мне ладонь с кусочком меха. С невысохшей кровью.
– Ну, – поторопила она, – бери. Либо ты заяц, либо у тебя его лапка.
Я взял. Она была тяжелее, чем выглядела.
– Ну-ка, помогите встать, – распорядилась Викерс. – Хватит мне тут валяться.
* * *
Мы с Мерси подняли ее на ноги, и Викерс заковыляла к вершине холма.
– Хорошее место, – сказала она, указывая на тень под коренастым деревом. Мы опустили ее наземь, Мерси села рядом. Трава, высокая и жесткая, тем не менее клонилась под ветром.
До стариков отсюда было двадцать ярдов. Мужчина все занимался зайцем. Еще удар ножа – и он скинул тушку в пятигалонное ведро, стоявшее у него под ногами. Утер тыльной стороной ладони лоб, и под линией волос осталась кровавая полоса.
– Ты тяжело ранена? – спросила Мерси.
– Достаточно тяжело, – ответила Викерс. Она отвела полу пиджака. Блуза под ним была вся в крови. Страшная рана. Я разглядел под порванной кожей белую кость ребра. Викерс опять закашлялась, и на подбородок пролилась свежая кровь. – Уже не просто тяжело.
– Мы отвезем тебя в больницу.
– Думаю, слишком поздно. – Она покачала головой.
Старик в двадцати ярдах от нас положил на стол второго зайца, распластал его перед собой. Мех подергивался, ноздри раздувались, но зверек не пытался бежать. В его больших круглых глазах не было страха. Поглаживая его одной рукой, старик другой поднял нож.
– Все мы видим то, что хотим увидеть, – заговорила Викерс, глядя на старика. – Видит ли животное нож мясника? Зачем ему это видеть? Он мог бы сейчас сбежать и до конца жизни рассказывать о чудесном спасении. Из этого рассказа могла бы вырасти легенда. Миф о жестоком боге с ножом в руке.
– Давай мы хоть под крышу тебя заберем, – перебила Мерси.
– Мне здесь хорошо, – ответила Викерс.
Старик с силой опустил нож – он воткнулся не в зайца, а в дерево.
Зверек дрогнул усиками. Он словно подобрался, натянулся как лук, напряг мускулы – и вдруг выстрелил, выбросив себя со стола одним мощным прыжком. Уже на бегу коснулся земли, перескочил куст и скрылся.
Мясницкий нож поблескивал в голом, выбеленном солнцем столе. Старик смотрел вслед зайцу.
– Что-то берешь, что-то отдаешь взамен, – говорила Викерс. – Может быть, завтра он попадется охотнику, но сегодня он унес лапы и чудесную историю. – Она обернулась к нам. – А что до меня, моя удача иссякла.
Я присмотрелся к ней. Бледное, восковое лицо. Поверхностное дыхание.
– В больнице есть лекарства, – сказал я. – Они могут спасти вас.
– Мне сейчас нужно одно лекарство – то, что поднимает мертвых. У вас такое есть?
– Я в последнее время забросил вуду.
Она улыбнулась.
– Тогда нам, похоже, конец. – Викерс надолго замолчала. – Не хочется умирать, но у меня нет выбора. Вы много видели там, в лагере?
– Достаточно.
– Хорошо. Значит, знаете, с чем сражаетесь.
– Да ведь я не знаю, – возразил я. – Толком не знаю.
– Он убил Боаза, – вставила Мерси.
Викерс взглянула на меня, не скрыв удивления.
– А говорят, век чудес миновал.
Улыбка перешла в приступ кашля.
Мерси тронула ее лоб ладонью.
– Она горит. Попробуем остудить.
Я спустился к пруду и набрал в ладони воды. Донес ее на пригорок и поднял руки над головой Викерс, капая ей на волосы.
Она повернула лицо навстречу воде, так что капли, стекая, промыли в крови чистые полоски.
– Настают последние дни, – сказала она. – Мир скособочился.
– Брайтон сказал, что я разбил мир.
– Да, разбил. – Голос Викерс сорвался. – Даже здесь чувствуется – он теперь лишен цели.
– Какой цели?
– Целью этого мира было то же, что у всякого другого. Создать следующий.
Она попробовала сесть прямо.
– Вообразите: миры в мирах, бессчетные как звезды. И все же боги сражаются здесь, и здесь они умирают. Спросите себя почему? Зачем они пришли? За что сражаются?
– Не знаю.
– Затем, что там пожар. – Викерс впилась в меня взглядом светлых глаз. – Все горит снизу доверху.
– Вы о каскаде, – понял я.
Она кивнула:
– Старые бегут. Каждый мир зажат в границах того, что над ним, и время тоже сжимается. Оно распространяется из мира в мир – порядок величины, миллисекунды раскладываются в тысячелетия, как подзорная труба. Но рано или поздно огонь поглотит всех.
Я сел в траву. Сказанное логически коррелировало с формулой, которую она мне показывала. Если логика допускает существование бесконечного каскада миров, что случится, когда умрет первый из них? А рано или поздно умирает любой мир. И тогда рухнет все – весь каскад. Куда бежать от такого? Как избежать конца?
И тут до меня дошло все целиком. Я разобрался в математике.
– Чем дальше ты заходишь, тем быстрее идет время.
Пространство и время взаимосвязаны. Если изобразить на графике течение времени в возрастающем количестве миров, при достаточно большом их числе выйдешь на асимптоту – из мира в мир стрелка будет стремиться к бесконечности.
– Это бег наперегонки с гибелью, – продолжал я. – Вот что такое каскад. Вот что такое цивилизация. Мы мчимся породить следующее поколение. И следующее, и следующее.
– Да, – кивнула Викерс.
И здесь тоже действует антропный принцип, сообразил я. Вселенные оптимизируются по скорости. Миры, достигшие критической стадии развития, быстро обгоняют остальные, и от поколения к поколению время раскручивается, как нить с катушки. Мгновение одной Вселенной становится веком для другой. Существует ли для них «вторая космическая» скорость – скорость отрыва? Можно ли создать вечность в пределах каскада? Мир за миром, миллионы или миллиарды лет свернуть в последнее мгновение изначальной Вселенной?
– А Брайтон?
– Он хочет оборвать каскад. Вокруг нас существуют невидимые вам трещины. В норме мир сам себя корректирует, выбирая те пути, что прямее ведут к цели.
– Выбирая?
– Корректируя, – поправилась она.
– Не понял. Каким образом?
– Представьте пространство-время бриллиантом, каждая грань которого – линия времени. Поворачивая кристалл, вы подставляете свету новые грани. Свет – наши души. И мы переходим от грани к грани, выбирая те, где наш свет нужнее.
Я качал головой, но уже соображал, возможна ли здесь оптимизация. Как с вентильными матрицами Сатвика, выбирающими наиболее подходящий для своей задачи путь. Что же, и мир на такое способен? Целая Вселенная?
Викерс продолжала:
– Но теперь здесь существует абераксия, и сломанного уже не исправишь. Абераксия охватила этот мир, пресекла временные линии. Прекратила коррекцию.
– Каким образом?
– Не знаю. Это гаечный ключ между шестернями. Нас с каждой секундой уносит дальше от истины. Пока…
– Пока что?..
– Разбитый мир не рассыплется.
Я уставился на нее.
– И этого добивается Брайтон?
– Да.
– Зачем?
Она не ответила, но мне вспомнились слова Мерси, сказанные в машине.
«Кто может знать, чего хотят змеи?»
– Может, он думает, что сумеет им управлять, – заговорила Викерс. – Но мы уже слишком удалились от линии.
– От какой линии?
– Вы нарушили равновесие. Вселенная держится на тайне. Как будет функционировать общество, где известно, что не у всякого есть душа? Существуют правила. Не всё дозволено знать. Чтобы выжить, мир должен исправить ошибку.
– Наверняка что-то можно сделать!
– Пришли последние времена, но надежда еще есть. Исправить все можно, если уничтожить абераксию. Но и это будет дорого стоить.
– И какова цена?
Викерс долго всматривалась в меня, прежде чем ответить:
– Дороже, чем ты можешь представить.
Потом она отвернулась. Взгляд ее на миг помутился и снова стал ясным.
– Следующей встречи с ними нам не пережить, – сказал я.
– Пока что вы живы.
– Говорю же, повезло.
– Только на удачу и остается надежда. – Она снова закашлялась с такой силой, что я решил – это уже конец. Ее бледная кожа загорелась, в легких хрипело. Откашлявшись, она часто задышала, глаза подернулись пленкой.
– Стоит отъехать отсюда, на нас начнется охота.
– Так окажись зайцем-везунчиком, – прошептала она.
Глаза ее закрылись, лицо стянулось, как перед приступом кашля. Но кашля не было. Черты лица разгладились, морщины разошлись.
– Викерс! – Я тронул ее за плечо.
Она больше не открывала глаз.
* * *
Я смотрел, как старик заворачивает тело Викерс в одеяло. Они со старухой похоронили ее под деревом, словно заранее сговорились, и, примяв могильный холмик, старик тихо и неспешно произнес несколько слов по-испански. Закончив, он под руку увел Мерси с холма. С травы мы перешли на гравийную дорожку и медленно приблизились к машине.
Я не успел сесть, когда старик заговорил по-английски:
– Не возвращайся.
Только это он мне и сказал.
На его лице не было гнева. Ничего не было. При виде его лица у меня мелькнула мысль: показать бы ему датчик. Обрушит ли он волну?
Я сел в машину, завел мотор. В руке у меня лежала кроличья лапка.
Я опустил взгляд на мохнатый обрубок – маленький, уже сухой. И сунул его в нагрудный карман рубашки.
Мерси подала голос с соседнего сиденья:
– Едем отсюда к черту.
* * *
Ухабистая дорога медленно шла на подъем. Я краем глаза заметил движение и, обернувшись, увидел несущегося по траве койота.
Мы выехали на асфальтированную дорогу – вокруг была вечерняя пустыня.
– Куда мы? – спросила Мерси.
Я вспомнил слова Викерс. Вспомнил мать.
Длинная качающаяся стрелка маятника – жуткое дальнодействие, спутанное с целой Вселенной. Я услышал слова Викерс: «Вселенная – среда, скопление волн. Метафора не совсем точной метафоры». Действительно не точной – не идеально точной. Вселенные были не просто набором матрешек, спрятанных одна в другой, но отдельных. Они связаны теснее.
Единое неделимое целое, информация, зашифрованная сама в себе.
Фрактал Мандельброта – узор в узоре.
Мир – это изображение.
И изображение изображения.
– Я знаю, что надо делать, – сказал я.
* * *
Через три часа дороги мой телефон вдруг застрекотал – что-то у него внутри просохло и воспрянуло к жизни.
Он обжег ухо после приборной доски.
Три голосовых сообщения. Все от Джой. Она беспокоилась. Последний возглас был просто отчаянным: «Пожалуйста, позвони!»
– Выбросил бы ты его, – посоветовала Мерси.
И она, конечно, была права.
Но я сперва позвонил. Попал на голосовую почту.
– Джой, со мной все в порядке. Я в другом штате и в дороге, еду в Индиану. Не хочу впутывать тебя больше, чем уже впутал, поэтому больше звонить не буду. Пока не закончу здесь. Просто хочу, чтобы ты знала: я живой. И все скоро кончится, так или иначе.
Я нажал «Конец» и выбросил телефон в окно.
Мы заехали на стоянку утром воскресенья. Та же пустая асфальтовая площадка – еще более пустая, чем в прошлый раз. Зеленого «BMW» перед входом не было.
Я заглушил мотор, и мы подошли к зданию.
Дверь оказалась заперта. Я позвонил. Вышла женщина в коричневом халате. Седые волосы. Тощая. Из бригады уборщиков.
– На выходные все закрыто, – объявила она через стекло.
– Я работаю в «Высокопроизводительных», – сказал я.
Она наморщила лоб.
– Там теперь все закрыто.
– Мне только вещи забрать.
– Пропуск у вас есть?
– Я не захватил. Могу назвать имя.
Она тряхнула седыми волосами. Строгая бабушка.
– Никого не велено пускать без документов.
Мерси достала пистолет и боком прижала его к стеклу.
– Вот его пропуск. С фотографией и всем прочим.
Женщина разинула рот.
– На что спорим, стекло не пуленепробиваемое? – продолжала Мерси.
Женщина открыла дверь.
– Мы вас не обидим, – успокоил я.
– Может быть, – добавила Мерси попятившейся уборщице. Та подняла руки. – Не останавливайтесь, – посоветовала ей Мерси.
– Здесь денег нет.
– А мы не за деньгами. Ключи у вас?
Она протянула мне черную магнитную карточку.
– Спасибо. – Я ее взял. – Тут чего-нибудь вроде веревки не найдется?
– Мы только убираем. Ничего такого нет.
– Ну и ладно, – кивнул я, достал из вещмешка моток изоленты и оторвал полоску. – Мы захватили с собой.
* * *
Мы не поехали на лифте, свернули на лестницу. На четвертом этаже я подергал дверь. Заперто. Рядом с дверной ручкой было считывающее устройство для пропусков.
Я провел по нему карточкой, но ничего не вышло. Замок не сработал. Я попробовал еще раз. С тем же успехом.
– Дай-ка мне.
Мерси выстрелила, выбив искры из ручки. В тесном тупике выстрел оглушил, а пуля срикошетила по ступенькам.
– Давай не будем повторять, – предложил я.
Дверной ручке пришлось плохо – ее своротило на сторону, кусок отщепился. Рядом с ней отскочившая пуля оставила в металле створки небольшую вмятину. Я повернул ручку, но она по-прежнему не подавалась.
– Черт, – ругнулся я, – нужен другой ключ.
– Попробуй этот.
Мерси показала. Пролетом ниже на стене висел пожарный топорик. Этот ключ сработал безупречно.
Ручка отвалилась от первого же удара и со стуком покатилась по лестнице. Еще три удара усмирили механизм замка.
– Прошу! – Я широко распахнул дверь.
* * *
Мимо лифта мы по коридору вышли к кабинетам. Все было примерно так, как мне помнилось. Хаос. Запустение. Столы, стулья и больше ничего. Бетон и ковер. Потом мы наткнулись на желтую ленту полицейского ограждения. На дальней стороне комнаты было выбито окно, осколки разлетелись по цементному полу. Стекло заменили фанерой. Ленточка трепетала.
«Он храбро принял прописанное лекарство».
Я пошел вперед.
Звук. Дальше по коридору. Мерси его тоже услышала. Мы разом повернули головы, но ничего не увидели. Все те же пустые кабинеты. Никакого движения. Звук не повторился.
– Держись рядом, – велел я.
Мерси взглянула на меня пустыми глазами, прикрыла веки. Мы бок о бок двинулись по комнатам – Мерси с пистолетом, я с топором.
Если не считать окна и полицейской ленты, все вроде бы осталось нетронутым. На вид точно так, как мне запомнилось. Кабинеты, лаборатории. Наконец мы вышли к винтовой лестнице.
– Теперь вниз, – сказал я.
Мы спустились. Следующий этаж выглядел так же: пустой, заброшенный, наши шаги эхом отдавались по железному колодцу лестниц. А потом короткий коридор вывел нас к черной двери. Последней.
Она была открыта.
Я взглянул на Мерси.
– Это там.
Сердце громко билось в груди.
Мы шагнули внутрь. В комнате было пусто и темно, но, едва мы перешагнули порог, включилось аварийное освещение. Комната не изменилась. Длинные ряды аппаратуры стояли в стороне, в тени. Кварцевая сфера по-прежнему торчала на шесте в дальнем конце. Топор сполз с моего плеча, ударил обухом об пол. Рукоять скользила в ладони. Я крепче сжал ее и прошел к панели управления.
– Держись подальше, – предупредил я и поднял топор. Мне вспомнился пробитый череп Боаза.
Топор опустился с громким треском, в панели появилась зияющая дыра. Я высвободил лезвие и снова замахнулся. Пластик панели рассыпался, потроха вывалились на пол к моим ногам.
Я перешел к аппаратуре, встал в позу бейсболиста и ударил так, что топор застрял в механизме. Его не сразу удалось высвободить, пришлось упереться ногой и дернуть как следует. Я отступил и снова глубоко вонзил топор. Выдернул и ударил снова. Провода, металлические и пластиковые детали посыпались на пол. Я пошел вдоль ряда, обрабатывая технику со всех сторон. Времени ушло много. Я вскрыл топором каждый кожух, плечи у меня горели, я запыхался.
Наконец я остановился, опершись на рукоять топора.
Мерси наблюдала за мной усталыми глазами. Путь вышел долгим и трудным.
– Всё?
– Еще одно, – сказал я.
Выйдя на середину комнаты, я остановился перед стальным шестом. Сфера переливалась даже в полутьме. Шестнадцать дюймов светящегося кварца. Не за нее ли погиб Стюарт? Венец всех наших трудов и моих страхов.
– Абераксия, – сказал я.
Изнутри сферы проступала странная геометрия. Ограненный кристалл. Он был выжжен в кварце, как световой блик на сетчатке.
Я перехватил рукоять топора двумя руками.
– Э, э, э! – прозвучало у меня за спиной.
Я обернулся и увидел в дверях Брайтона.
Он вышел на свет. За ним в комнату продвинулись другие тени. Две, четыре, шесть. Они держались у стен, обходя нас с флангов и блокируя выход. На свет не показывались. Я выронил топор. В руках Брайтона был дробовик Стюарта.
– Хорошую гонку вы нам устроили, Эрик.
Брайтон был в той же одежде, в которой я видел его в последний раз. Темная охотничья куртка, темные брюки. Светлые глаза будто сияли. На лице полуулыбка.
– Но теперь, – добавил он, – гонке конец.
– Как вы нас нашли? – еле слышно спросила Мерси.
– Хороший вопрос, – отозвался Брайтон. Он захрустел по обломкам электроники, обходя нас сбоку. Его люди выстроились вдоль стен. Полдюжины громоздких теней в тени. – Отойдите от сферы, и я отвечу.
– Сами знаете, что этого не будет.
Брайтон хмыкнул.
– В каком мире вы живете, если надеетесь, что выйдет по-вашему? – Он развернулся, с хрустом раздавив осколок кварца. – Впрочем, мы ведь все – создатели собственных миров. Мы лепим их по себе, как и наши боги. – Он обошел нас кругом. – Вы, Эрик, когда-нибудь задавались вопросом, что за мир вы себе вылепили? Если отдадите сферу, я вас отпущу. И не заставлю смотреть, как ее убивают.
– Он лжет, – предупредила Мерси. Она вытащила свой пистолет и навела его на Брайтона.
Тот только шире улыбнулся.
– Помилуйте… что это у нас?
– Не подходите!
Брайтон расхохотался.
– Я убедился, что эта форма общения универсальна. Язык хорош для ведения дел и проникновения в организации. И чтобы заводить дружбу, когда это выгодно. Но для дебатов фундаментальной природы он не годится. Когда доходит до сути, всякий раз возникают недоразумения. Ошибки коммуникации. Пока не обнажишь клинок.
Он поднял дробовик, но на нас его не наводил. Ствол был нацелен между.
Улыбнувшись еще шире, Брайтон блеснул зубами.
– Покажите, из какой вы стали, и все изменится. Все равно, на каком вы говорите языке. Я это видел в азиатских степях и в африканской пустыне. Я это видел на ледяных берегах Исландии, где тысячу лет назад долгий путь на восток сошелся наконец с долгой дорогой на запад. Обнажи клинок, и тебе не придется искать общий язык. Все иные средства человеческого общения отпадают как искусственные. Только сталь обеспечивает идеальную коммуникацию.
Он шевельнул стволом.
– Не поговорить ли нам с тобой, Мерси? Ты бы этого хотела, не так ли? – Брайтон развернулся к ней, и добродушие медленно стекло с его лица. Глаза вдруг стали глазами убийцы. – Обмозгуем?
Они уставились друг на друга. Мерси выдали глаза. Я уловил легчайший намек.
Брайтон тоже увидел. За миг до того, как Мерси шевельнулась, принятое решение отразилось в ее глазах.
В то мгновение, когда ее указательный палец нажал на спуск, Брайтон словно мигнул – тот же перелив ауры, и он ушел в сторону, развернувшись всем телом.
Пистолет в полутьме плюнул огнем, и одновременно Брайтон ударил Мерси по руке. Я услышал хруст кости и увидел, как он раздвоился. Брайтон – человек, и Брайтон – нечто иное. Больше человеческого роста, крупный вытянутый череп, как при болезни фараонов. Он поднял свое оружие, широко улыбнулся и взвел курок, нацелив ствол на Мерси.
И застыл.
Брайтон очень медленно перевел взгляд на меня. Дробовик в его руках не дрогнул.
Я держал сферу высоко над головой.
– Убьете Мерси, я ее разобью, – сказал я.
Мгновение он молчал.
– Так у вас все же есть зубки…
Он опустил ствол. Пропала и улыбка, и промельки света. Передо мной снова был человек.
– Но вам не понравится этот путь, – продолжал он. – Если вы это сделаете, все пойдет прахом. Для нас обоих.
Он говорил рассудительно, успокаивающе. Так обращается переговорщик к стоящему на карнизе.
– Положите сферу на пол.
– Разбей! – выкрикнула Мерси.
– Подождите… – Взгляд Брайтона перебегал от меня к Мерси. Он поднял пустую ладонь. – Нет нужды в поспешных решениях. Мы все здесь разумные люди. По правде сказать, вы даже не представляете, что держите в руках.
– Представляю.
– Если бы представляли, не держали бы ее над головой. Мы так долго этого ждали. Вы понимаете, каково видеть, что твои труды пущены на ветер? Что мир снова и снова перенаправляется на ложный путь? То, что вы держите в руках, с этим покончит. Для нас и для вас.
– То есть покончит с нами.
Он покачал головой.
– Мир разбит вашим экспериментом – и сейчас только эта сфера предотвращает коррекцию. В норме мир развивается медленно, но теперь все ускорится. Прежнего не вернуть. Поверьте, быстрый мир вам не понравится.
– Зачем вы это делаете? Зачем уничтожать цивилизацию? Не вижу причин.
– Вот что вам наговорили? Будто я стремлюсь уничтожить цивилизацию? – Брайтон усмехнулся. – Но я хочу гораздо большего. – На миг он мелькнул – кожа дрогнула осиными крылышками. – Я хочу прервать каскад.
– Зачем? Вы погибнете вместе с ним.
– Значит, я погибну как герой. Неужто вы в самом деле воображаете, будто этот каскад – единственный?
Я уставился на Брайтона, чувствуя, как его слова проникают в сознание.
– Есть такие слои, до которых вашим умам не докопаться, – продолжал он. – А теперь положите сферу.
– Нет.
Он направил ствол мне в лицо.
– Я мог бы вас просто пристрелить.
– Тогда я уроню сферу.
– И что будет? Что, по-вашему, у вас в руках?
Я не знал, что сказать. Что я держал в руках? Драгоценный кристалл? Ткань пространства-времени? Странный кварцевый шар?
– Детектор, – подытожил Брайтон. – Величайший из когда-либо созданных датчиков.
Я смотрел на него, силясь понять, лжет он или нет.
– Мы видели, что ваш друг вышел на след, потому и финансировали его затею. Что вы за чудо! Что за великие изобретатели! Мы не уставали вам изумляться, и вот вы наконец совершили то, что было невозможно для нас. Вы так и не поняли. Эта сфера делает идеальный снимок пространства-времени. С точностью до протона, до электрона, до мельчайшей подробности. Разве вы не видели ее в действии? Пока еще, может быть, нет техники, чтобы увеличить изображение, но сам снимок существует. Негатив. Информация в наличии, надо только найти к ней доступ. Вы умудрились определить состояние каждой квантовой частицы в пределах действия сферы. Как вы считаете, что из этого выйдет? Как среагирует на это большая квантовая система? Реакция невозможна…
– Хватит, – рявкнул я и еще выше поднял шар.
– Постойте! – заспешил Брайтон. Обернувшись, он что-то шепнул на ухо своему подручному. Тот вышел. – Если вы не слышите доводов разума, – объявил Брайтон, – у нас есть другие средства, чтобы помочь вам прийти к менее… разрушительному итогу. – Не отрывая взгляда голубых глаз от моего лица, он бросил через плечо: – Давайте ее сюда!
Его человек вошел с дергающимся телом в руках.
– Вы спрашивали, как мы узнали, что вы здесь, – продолжал Брайтон. – Пожалуй, вам следовало спросить об этом собственную помощницу. Вообразите наше удивление: мы вас повсюду ищем, а вы сами к нам едете.
Тогда я понял, что они меня достали.
Большая мужская ладонь зажимала Джой рот, другая рука обхватила ее за пояс. Охранник держал перед собой женщину, как мешок с мукой. Ее ноги на фут не доставали до пола.
– Джой… – сказал я.
– Так вот, меняемся, – проговорил Брайтон. – Вы нам – сферу, и все вы останетесь живы.
– Нет, – вмешалась Мерси, – он врет.
– Как я могу вам верить? – спросил я.
– Даю слово.
– Этого мало. – Руки у меня задрожали. Шар был тяжелым: что бы я ни решил, решать надо было быстро, или все решится само.
– Тогда вы трое умрете.
Джой билась и лягалась в руках здоровенного охранника. На миг его ладонь освободила ей рот.
– Эрик!
В пронзительном голосе слышалась паника. Широкая ладонь снова зажала ей губы.
Я смотрел на Мерси.
– Он врет, – упорствовала она. – Разбивай!
– Разбейте, и она умрет, – бросил Брайтон. – Голову на отсечение. Хотя необходимости в этом нет. – Он подошел и приставил ствол к виску отбивающейся Джой. – Вот спущу я курок, – заговорил он, – и куда денется ее сознание? – Ствол дробовика шевельнул прядь ее волос. – Вы, Эрик, любитель экспериментов. Проведем еще один? Решайте.
– Стойте… – Я пытался выиграть время. Пытался соображать. Отдавать сферу нельзя, но и допустить смерть Джой я не мог. Я уже в ответе за смерть Сатвика. И Стюарта. Еще одной я не выдержу.
– Нет времени, Эрик. Одна секунда…
– Подождите! – с этим криком я опустил сферу, прижал к груди.
– Нет! – взвизгнула Мерси и рванулась ко мне, попыталась выбить шар из рук. Я чуть его не выронил. Высвободился, перехватил крепче. Рука Мерси скользнула по моей рубашке и зацепила нагрудный карман.
Заячья лапка выпала и скользнула по полу. Все взгляды обратились к ней.
Я смотрел на Джой.
Случаются моменты, когда вам ясно открывается решение. Оно и находилось прямо перед носом, надо было только увидеть.
Заячья лапка остановилась на цементном полу. Глаза Джой проследили за ней. Потом она подняла глаза и встретила мой взгляд. И моргнула.
– Ты не слепая, – сказал я.
– Время вышло! – рявкнул Брайтон и крепче прижал ствол к ее виску.
Я в упор смотрел на Джой. Ее взгляд не дрогнул. Она в упор смотрела на меня.
– Не слепая… – повторил я.
На мгновение все замерли. Тишина ожидания. Охранник, державший Джой, покосился на Брайтона и обернулся ко мне.
Оцепенение разбила Джой. Дернула плечом, и здоровенный мужчина отпустил ее, поставил на пол.
Она размяла шею, встала прямо.
– Упс…
Брайтон опустил оружие. Огорченно покачал головой.
Мысли у меня неслись вскачь. Мое представление о Джой сдвинулось.
– Но тогда, в лаборатории, ты…
– Не вызвала коллапса волны, – подсказала она.
И мелькнула – мгновенная рябь света.
– Я тебе говорила, – мягко закончила она. – Глазам верить нельзя.
– Но… зачем?
Она отошла и встала рядом с Брайтоном.
– Мы следили за всеми обнадеживающими исследованиями.
Брайтон перебил ее:
– Когда вы поступили на работу в Хансен, нам несложно было подставить рядом наблюдателя.
Я молчал. Не находил слов.
Будь у меня в руках оружие, я застрелил бы обоих. Но оружия не было. Только сфера.
Наверное, Брайтон увидел решение в моих глазах. Так же, как с Мерси.
– По-хорошему никогда не выходит, – проговорил он и сделал короткий жест, повинуясь которому из тени метнулись двое. Я вскинул над собой абераксию и с силой швырнул об пол, но они были быстрее. Один подхватил сферу – она ударилась не об пол, а о его предплечье и откатилась, а я взвыл от боли, потому что второй плечом врезал мне в живот.
Я плашмя рухнул на пол – дух вышибло.
Сфера еще катилась, когда я, шатаясь, стал подниматься. Мерси вскрикнула, а Джой метнулась ко мне, сгребла за плечо и отшвырнула в сторону. Ударившись в стену, я съехал на пол. Мир стал серым.
Брайтон, поднимая ружье, шагнул к Мерси. Та попятилась и запнулась о сферу, упала.
Я бы поднялся, если бы ноги не превратились в студень.
Брайтон встал над женщиной.
Я хотел заговорить – не вышло.
Брайтон, не отводя ствола, присел на корточки. Свободной рукой потянулся к сфере. Его пальцы погладили шар, и хрусталь засветился изнутри. Без электричества. При разбитой, выпотрошенной аппаратуре.
– Помнит! – сказал Брайтон. Внутри сферы разыгрывалась сцена – объемное кино. Мерцающие фигуры, выстрелы, сталь. – Вот чего не понял ваш друг.
Только теперь я понял, что Брайтон обращается ко мне.
Он снова тронул гладкую поверхность, и шар показал, как Джой отшвыривает меня к стене.
– Раз созданная, сфера помнит. Безупречно воссоздает всё. Прошлое, настоящее, будущее. Инструмент огромной силы. – Он взглянул на меня. – Она помнит. А то, что считано, нельзя изменить – как нельзя изменить показания ваших датчиков. Вот почему мир больше не способен к коррекции. Он коллапсировал в точку. Пришпилен к бытию тем фактом, что результаты могут быть считаны. Хотите видеть, что будет дальше? – Он улыбнулся. – Не хотите? Вы уже знаете и без волшебного кристалла, а?
Он снял руку, и сфера снова потухла.
Выпрямившись, Брайтон подошел ко мне.
– Вам сказали, что каскад охвачен пожаром? – спросил он. – Сказали, что спасение – в вечности? Но есть и другой путь для бегства, Эрик. Другое неизбежное следствие растяжения времени. Каскад – не просто побег. Это еще и подкоп.
Он стоял надо мной.
– Подкоп в само время. Подкоп в будущее. Подкоп к идеям. Ваш мир несется так, что не ухватишь глазом, а тот, что выше него, еле движется. Это не ваша вина, но не о том речь. Вы были готовы создать формулу, которая сделала бы возможным следующий скачок. Вы собирались открыть дорогу новой технологии, использовав которую другие нашли бы выход на следующий уровень каскада. Но речь и не о том.
Я снова попытался встать – ноги подгибались. Я сел.
Брайтон склонился ко мне, зашептал:
– Сейчас речь об одном, Эрик, – что скоро вы будете знать больше меня. Вы узнаете, существует ли ад.
Он прицелился мне в голову.
За его спиной шевельнулась, с трудом поднимаясь на ноги, Мерси. Брайтон тоже ее заметил и раздраженно поморщился.
Вместо того чтобы застрелить меня, он, развернувшись, выпалил в нее. Дробь ударила ее в плечо, и Мерси скрючилась, оседая на пол.
Стоя над ней, Брайтон загонял в ствол следующий патрон.
– Второй раз не встанешь, – проговорил он.
Мерси была еще жива, корчилась в красном пятне на грязном цементе. Не отползала – придвигалась ближе, ближе к Брайтону, словно торопила пулю. Когда он поднял дробовик, она не отпрянула, а наоборот, извернулась всем телом и выбросила ноги, зацепив сферу. Хрустальный шар покатился ко мне – все глаза следили за ним.
Я упал на него – последний шанс! Гладкая поверхность обожгла кожу. Стоя на коленях, я вскинул шар над головой.
Я не дал им времени опомниться. Брайтон только и успел, что в ужасе округлить глаза и выкрикнуть отчаянное: «Нет!»
Он бросился на меня, но опоздал.
Я изо всех сил ударил шаром об пол.
Время будто замедлилось, свет стал не светом – своей противоположностью, разворачивающейся чернотой. Все картины всех эпох, концерт Моцарта во всплеске помех – Брайтон крепко зажмурился, когда сфера взорвалась, и гребень ударной волны вбил ее осколки в наши тела, терзая плоть, и кости черепа заскребли друг о друга, выпевая беззвучную ноту, между тем как окружающее пространство сдвинулось – для всех чувств, кроме зрения, как в те темные мгновения моего детства, как будто я стоял прямо под паровозным гудком, а из сферы хлестала тьма – вечная моя спутница…
Полная тишина.
Я очнулся в белой палате.
Лежал на спине. Голова кружилась.
Позже я сумел осмотреться. Заправленная постель. Белые простыни, белые подушки.
Что-то в белизне стен показалось знакомым. Так выглядит доска для маркера, когда смотришь на нее слишком долго. Я находился в больнице.
Или мертв.
Я проверил себя, провел рукой вдоль туловища – бинтов не было. Я пошевелил пальцами ног – одеяло зашевелилось.
Я медленно выпростал ноги и спустил их на пол. Я долго стоял, ощущая, как от подошв расходится вверх холодок. Держать равновесие было трудно.
Здесь пахло болезнью и дезинфекцией. Если такова смерть, то Брайтон не ошибся – я в аду. Только ад мог превратить вечную жизнь в больницу.
Я не знаю, долго ли простоял так, пока за открытой дверью не мелькнула медсестра.
– Сестра! – позвал я.
Она остановилась, обернулась ко мне. Темные волосы связаны в конский хвост. Открытое, внимательное лицо. Блокнотик в руке. Она ждала.
Я не знал, с какого вопроса начать.
На ней была голубая больничная форма, и выглядела сестра занятой. Она надеялась, что мой вопрос ее не задержит – по лицу было видно.
– Я давно здесь? – спросил я.
Нетерпение на ее лице сменилось озабоченностью, и сестра вошла в палату.
– Давно ли?
– Да.
– Почти неделю. Разве вы не помните?
– А куда я ранен?
– Мы несколько дней как сняли повязку с руки.
– Нет, – повторил я и стал разглядывать розовую кожицу на ладони. Старый ожог – это было не одну жизнь назад. – Нет, я о других ранениях.
– Каких – других? – удивилась сестра.
* * *
Я сидел в кабинете врача.
Он отгородился от меня столом с раскрытой медкартой. Он выглядел молодо. «Слишком молод для врача», – подумал бы я, но заметил седину надо лбом. Пожалуй, он был старше, чем выглядел. Он с привычной заботой рассматривал меня. Мне подумалось, что этот взгляд доктор старательно отрабатывает перед зеркалом.
– Насколько я понимаю, у вас опять проблемы с памятью?
– Да.
– Препараты, которые мы вам давали, вызвали нежелательную реакцию. Мы рады, что вы наконец пришли в себя. Кажется, новые лекарства вам подходят.
– Как я сюда попал?
– А вы не помните?
– Нет.
– Этот препарат часто вызывает проблемы с памятью, но вы оказались особенно чувствительным. Судя по истории болезни, у вас уже бывали подобные симптомы?
– Когда?
– Опять же судя по истории болезни, в Индианаполисе.
– Нет… Мне бы надо… – Ничего не вышло. У этой фразы не было конца. Что мне надо? Не найдя ответа, я повторил вопрос: – Как я сюда попал?
– Вас нам передала полиция. Вас подобрали, когда вы бродили по улицам. Вы бредили.
– Полиция… – Я пытался уместить это в голове. Не было такого.
– Пострадали многие, – продолжал врач. – Кое-кто перенес это событие тяжелее других. Для вас неудивительно, учитывая вашу историю.
– Не понимаю.
– Мы не задержим вас здесь, после того как ваше состояние стабилизируется, – успокоил он. – Помните, мы ведь с вами об этом уже говорили?
– Не помню.
Он чуть нахмурился и записал что-то в моей карточке.
– Ретроградная амнезия. Думаю, лекарства придется полностью отменить. Как у вас с настроением?
– Нормально, – заверил я.
– А тремор?
Я на пробу вытянул руки. Пальцы дрожали.
– Гораздо лучше, – кивнул он.
Я выпучил глаза. Если это – «гораздо лучше», что же было раньше?
– На краю зрения ничего не мельтешит?
– Нет.
– Навязчивые мысли? Тревожность?
– Нет.
– Бред?
Эта роль ему подходила. Я оглядел кабинет. Мило. Книги, приятный деревянный стол. Он старался: создавать впечатление – это важно. Окно, за ним приятная лужайка. За ней деревья и синее небо. Солнце светит.
– Только…
– Что только?.. – спросил он.
И я чуть не рассказал. Чуть не выложил все. Но сдержался. Смолчал потому, что за окном светило солнце, и мне хотелось еще разок подставить щеку его теплу.
– Кошмары, – договорил я. – Изредка снятся кошмары.
– О чем?
– О женщине. Ее зовут Мерси. У нее недостает пальцев на руке.
– На руке? – заинтересовался он и поднял перо, но записывать ничего не стал. – Мы беседовали о вашей семье, помните?
– Помню, – сказал я. Хотя предпочел бы не вспоминать.
– С тех пор прошло много лет. Пора простить себя. Расскажите свои сны подробнее.
– Не помню, – проговорил я как сквозь стекло.
Мне не нравился взгляд врача. Я встал. Я не хотел больше разговаривать. И думать об этом больше не хотел.
– Я арестован?
– Что? – Врач свел брови в искреннем недоумении. – С какой стати вас арестовывать?
– Значит, я могу уйти?
Озабоченный взгляд вернулся. Доктор что-то пометил в моей карточке.
– Скоро сможете, – ответил он. – Как только состояние стабилизируется.
Я склонился вперед, потер виски. Подумал, что так же сидела перед врачами моя мать. Не сомневаясь в своем бреде.
– Я должен уйти, – сказал я. – Не могу здесь оставаться.
– Думаю, пока это не лучшая мысль. Особенно учитывая последние события.
– Какие события?
Он выкатил глаза.
– Вы видели их в новостях последние пять дней.
– Что видел? – Я очень старался вспомнить что-нибудь, хоть что-то, о своем пребывании в больнице. Ничего не вспоминалось.
Взгляд врача стал жестче.
– Это показывали по всем каналам.
– Да что случилось? Что показывали?
Брови у него снова сошлись.
– Определенно назначения придется отменить. Впервые вижу настолько тяжелую ретроградную амнезию. Такая реакция ненормальна.
Я услышал голос Брайтона. «Вы разбили мир».
– Что случилось? – повторил я. Доктор молча продолжал писать, и тогда я ударил ладонью по столу: – Что случилось?
Подъехав, я оставил машину перед отелем. Движение было чуть меньше, чем мне помнилось, а больше ничего не изменилось. Казалось, год промелькнул, а ведь минуло всего несколько недель. Я вошел.
Дежурная взглянула на меня поверх очков. Женщина средних лет с голубоватыми волосами и без лишней косметики.
– Я здесь несколько недель назад снимал номер и кое-что оставил.
– Имя и номер?
Я узнал портье, а она меня нет. У нее перед глазами прошли, наверное, десять тысяч лиц.
– Эрик Аргус, номер 220.
– У нас есть отдел находок, – сообщила она. – Что вы потеряли?
– Конверты. Два конверта из манильской бумаги. Они лежали в сейфе в шкафу. И маленький рюкзачок.
На несколько минут женщина скрылась и вернулась с ранцем и конвертами.
– Эти?
– Да-да.
Она подтолкнула ко мне бланк.
– Подпишите здесь. Документы у вас есть?
Открыв бумажник, я показал ей права. Она переписала номер.
Подписав бланк, я получил конверты. Почти невесомые, а вот рюкзак тяжело стукнул по стойке.
– Удивляюсь, как они сохранились, – заметил я.
– Вам повезло. Мы храним находки ровно месяц.
– А потом куда?
Она пожала плечами.
– Работники разбирают. Кто первый схватит, тому и достанется.
За моей спиной тихо открылась автоматическая дверь, вошло семейство. Мать с отцом, мальчик и девочка. Мне они представились отдыхающими на берегу океана.
– Вам еще что-то нужно? – спросила портье.
– Да, – кивнул я, – я хотел бы снять номер.
* * *
Я остановился на стоянке.
Ветер дул с океана, по площадке бежали песчаные змейки.
Я открыл лежавший рядом бумажный пакет и сковырнул наклейку. Отвернул пробку и понюхал бутылку.
Хороший бурбон. 45 градусов.
В моем приемнике звучала музыка, женский голос вел нежную мелодию. Я представил свою жизнь другой. Представил, что я могу на этом остановиться. Не сделать первого глотка.
Руки у меня задрожали.
Прошло три месяца.
Я взглянул на манильские конверты и лежащий поверх отцовский пистолет.
Стану ли я снова пить?
Конверты знали ответ.
От первого глотка меня прошибли слезы. Потом я запрокинул бутылку и сделал длинный глоток. Я силился вызвать видение. Я вспоминал Сатвика.
«Знают ли они, что отличаются?» – спросил я его.
«Один из них, – ответил он. – Один знает».
Когда бутылка наполовину опустела, я перевел взгляд на пистолет.
Представил, как девятимиллиметровая пуля входит в череп – оставляя большую зияющую рану. Вскрывая жилище моего Я, открывая его воздуху, в котором оно, как жидкий азот, с шипением испарится, изойдет паром. Пистолет способен на многое – в том числе поставить вас лицом к лицу с импликатом.
Я взял первый конверт.
Мои руки, вскрывавшие его и доставшие листок, не дрожали. Дрожь прекратилась с первым настоящим глотком – нервы наконец дождались смазки. Никогда я не бывал в себе больше, чем после первого глотка. К концу бутылки становился кем-то другим.
Я развернул листок. Взглянул на него – тем самым наконец-то вызвав коллапс вероятностной волны в проведенном пару месяцев назад эксперименте. Как мне – с этого мгновения – всегда было предназначено.
Я открыл второй конверт, со снимком. Уставился на бумагу, где были две темные полоски – а теперь знакомая рябь света и тьмы.
Хотя, конечно, этот результат был здесь с самого начала.
* * *
Я прихватил пистолет с бутылкой и вышел на ветер.
Запах океана ударил в ноздри, едва я сделал первый шаг по гладкому песку. Здесь не видно было людских следов – все стерли ветер и дождь. Небо стало темным, зловещим.
Я по кривой тропке прошел к воде, обходя самые крупные валуны. Прилив еще не начался, низкие волны равномерно набегали на песок, гоняя полосы серой пены. Песчаный берег здесь был почти плоским, так что волны успевали потерять разбег. Надо мной кружила белокрылая крачка.
Можно было назвать случившееся СВНС[4] или иными именами. Использовать другие аббревиатуры. Подобрать такие названия, которые бы обуздали событие, сделали его доступнее уму. Как будто назвать – значит понять. Фактически все термины были описательными. Говорили еще: массовый психогенный синдром. Кое-кто заимствовал термины из религии.
Наверняка было известно одно: люди умирали. По всему миру в один день. Просто не просыпались. Миллионами. Падали посреди улицы. Другие – моложе, крепче – топились. Шоферы автобусов, медсестры, учителя, бухгалтеры. Итальянские банкиры и индийские крестьяне. По всему миру они десятками тысяч уходили в океан, в моря, в озера – и не возвращались.
По всей планете малый, но заметный процент населения испустил последний вздох. Статистики еще спорили над пиком кривой – на сколько смертей больше нормы случилось в тот день.
Я знал, что на кривой присутствует еще одна аномалия, но ее пока не заметили. Пока. Среди умерших не было ученых.
«Если набор случайный, почему никто из нас?» – спросил я у Сатвика.
«Зачем элементу недетерминированной системы становиться ученым?»
И еще кое-что я знал наверняка.
Воспроизвести работу Сатвика не удастся. Ученые не найдут ни одного человека, не вызывающего коллапса. Они не отыщут тех, кого нашел Сатвик. Доказательства исчезли. Просто одним невоспроизводимым экспериментом больше.
От края прибоя я дюжину ярдов гнался за отступающей волной, утекающей в море, а потом покрепче уперся ногами и пригнулся против ветра, вглядываясь в океан.
Мерси умерла. Хотя на поиск доказательств ушли недели. Веб-сайт, посвященный опознанию покойных. Люди без документов. «Джоны Доу»[5]. И еще одна жертва среди них. Полиция нашла тело, выброшенное волнами на берег.
Я вспоминал слова Викерс. Они ничего не видят, потому что внутри у них нет точки, с которой можно смотреть. Мерси была из обреченных с самого начала. Обреченных на что? Сражаться против Брайтона? В некотором смысле ее вовсе не существовало. Не было в реальности.
Волна добежала до меня, промочила ноги и покатилась дальше, на берег, оставив меня на глубине по щиколотку. Всегда здесь была холодная вода.
Я сделал глоток из бутылки и достал из кармана свитера пистолет. Тяжелое черное оружие. На боку маленькие выпуклые буквы: «ругер». Я, в том или ином смысле, носил этот пистолет с собой с того дня, как он выстрелил на той самой стоянке, где осталась сейчас моя машина.
Я подумал об отце и об океане. Волна моего имени. Я представил, будто уплываю так далеко, что не видно земли. Только голубая волна.
Ветер набирал силу – я пошатнулся. Дождался следующей волны и шагнул в нее глубже, по колено. Взглянул на оттягивавший руку пистолет.
Взгляд на импликат.
И забросил его так далеко, как сумел.
Я прохожу через кабинет и выглядываю в окно. Новый склад строят на месте старого, но чиновники приняли решение сменить название. Прежнее отправлено в отставку, как состарившийся жокей. Новое здание вместо С отметят на плане территории как Х, и администрация надеется, что это принесет ему удачу.
Я две недели как вернулся к работе, влился в коллектив. На моем столе значок от АА[6] – один месяц. Месяц как я не пью. Иногда мы с Забивалой в обеденный перерыв играем в баскетбол.
Он тоже вернулся к своим лягушкам и выглядит счастливым. События прошлого остались в прошлом. Пожар внушил управлению новый взгляд на систему безопасности: ворота теперь стерегут вооруженные охранники. А многие лаборатории задумались, благоразумно ли доводить людей до желания устроить вам поджог. Говоря о будущем в изучении квантового сознания, используют иногда термин: «замораживающий эффект». Работа, впрочем, продолжается.
Я хочу увидеть то, что видел Фейнман.
Я хочу увидеть больше него.
Иногда я заглядываю в лабораторию Забивалы и помогаю ему возиться с аквариумами. Дважды в неделю звоню сестре, и однажды под вечер мне приходит в голову мысль.
Если бы мы сами лепили свои миры, как бы выглядел мой? Может быть, как раз так.
В больнице Джереми рассказал мне, как нашли Сатвика. Погиб в автомобильной аварии. Я не успел на похороны.
Комната Джой пустует. Ее лаборатория тоже.
В первый день, как вернулся, я побывал в ее комнате, высматривая отпечатки личности. Нашел книгу со шрифтом Брайля. И музыкальную запись.
Джереми на мой вопрос, где она, ответил:
– Ушла без предварительного уведомления.
– Объяснила почему?
– Ни словом. Я надеялся, что ты мог бы что-то знать. Вы ведь были близки.
– Не так близки, как ты думаешь.
Невысказанное предположение. Ее захватил синдром. Одна из умерших. Хотя квартиру ее обыскали и ничего не нашли. Тело так и не обнаружили.
Джереми не сразу спросил меня, над чем я работаю. Выждал несколько дней. Проявил невероятную выдержку. А может, он в душе боялся услышать ответ. Когда наконец спросил, заглянув с чашкой кофе ко мне в кабинет, я ответил коротко:
– Квантовая механика.
– В каком смысле?
– Продолжаю работу, которой занимался до перехода к вам.
Он сдерживался изо всех сил. Он спрятал улыбку за чашкой кофе. Ради этого он меня нанял – сколько месяцев с тех пор прошло! Ради того, чем я боялся заняться.
Забивала, когда я рассказал об этом за обедом, выказал больше удивления:
– Почему бы вдруг?
Я подумал о лягушке в колодце. Чем больше изучаешь квантовую механику, тем меньше веришь.
Ты смеешься. Над чем ты смеешься?
Вот в чем дело. Вот что переменилось.
Я поверил в мир. Но теперь знал, что он – не единственный.
* * *
После обеда я вернулся к себе и уставился на доску для маркера.
Я стал выписывать формулу. Ту же, что прежде. Ту, что не сумел закончить. Ту, которая погнала меня прочь, обратно в Бостон, к холодной воде.
С левой руки, как нитки с катушки, разматывались символы. Их непререкаемая логика выстраивалась подобно башне. Все выше и выше. Заложенный мной фундамент был красив.
Маркер задержался. Я подошел к месту, над которым застрял тогда. Где кончалось изведанное и начиналась неизвестность.
Я уставился на доску, но в этот раз вышло иначе. Легчайший сдвиг – и я увидел путь вперед.
Поначалу узкий, как луч света из-под двери.
В какой-то момент я почти увидел себя в больничной пижаме, царапающим стену черным «волшебным маркером».
Но я отбросил эту мысль и уставился на доску.
А потом я понял, что делать дальше. Увидел ясно, как светящийся след, который вел меня через темноту.
И я стал писать.
Aczel, Amir. The Jesuit and the Skull. 2007.
Bohm, David. Quantum Theory. 1951.
Bohr, Niels. Niel’s Bohr’s Philosophy of Physics. 1987.
Bostrom, Nick. «The Simulation Argument». Philisophical Quarterly 53 (2003).
Feynman, Richard. The Feynman Lectures on Physics. YouTube.
Heisenburg, Werner. Physics and Philosophy: The Revolution of Modern Science. 2007.
Hughs, R. I. G. The Structure and Interpretation of Quantum Mechanics. 1992.
Kirmani, A., T. Hutchison, J. Davis, and R. Raskar. «Looking Around the Corner Using Transient Imaging». Computer Vision, 2009, IEEE 12th International Conference.
Meadows, Kenneth. Shamanic Experience. 1991.
Ottaviani, Jim, and Leland Myrick. Feynman. 2011.
Peitgen, Heinz-Otto, Hartmut Jürgens, and Dietmar Saupe. Chaos and Fractals: New Frontiers of Science. 1992.
Plato. B. Jowett, trans. The Complete Works of Plato. 2012.
Pribram, Karl H. Brain and Perception: Holonomy and Structure in Figural Processing. 1991.
Raskar, Ramesh. «Ramesh Raskar: Imaging at a Trillion Frames per Second». TED Talks. 2012.
Talbot, Michael. The Holographic Universe. 1991.
Я хочу выразить признательность всем ученым: математикам, космологам и философам, – которые своей работой стремятся раздвинуть границы человеческого познания. Если в этой книге есть что-то истинное с научной точки зрения, это их заслуга. Если что-то ложно, вина только на мне.
Еще я хочу поблагодарить свою семью, поддержавшую меня, когда я два года не находил себя за написанием этой книги.
Я хочу поблагодарить своего издателя Майкла Миньорелли, который вышел далеко за пределы своих обязанностей и светил мне, когда я заблудился в темноте. Вероятно, без вас эта книга осталась бы незаконченной. Вы помогли мне найти ее настоящий сюжет. Я хочу поблагодарить моего агента Сета Фишмана, без которой я бы вообще не сделал карьеры романиста. Я хочу поблагодарить Стеллу Тан, Джиллиан Бэйк, Стива Рубина, Брука Парсона, Кристофера О’Нелла и всю команду «Холт».
Я хочу поблагодарить отца и мать – великое счастье быть вашим сыном. О лучших родителях мечтать не приходится. И еще я хотел бы поблагодарить Ричарда Фейнмана.
И наконец, я благодарен моим сотрудникам по лаборатории и коллегам-микроскопистам – вы сами знаете, как вас зовут.
Тед Косматка родился и вырос в Честертоне, штат Индиана, и больше десяти лет работал в различных лабораториях, где иногда использовались электронные микроскопы. Он автор «Prophet of Bones» и «The Games», он был в списке финалистов премии «Локус» за лучший дебютный роман и в списке «Лучшая книга 2012 Publishers Weekly’s». Его рассказы номинировались как на «Небьюлу», так и на мемориальную премию Теодора Старджона и не раз печатались в антологиях «Лучшее за год». Сейчас он живет на северо-западе Тихоокеанского побережья и работает автором в индустрии видеоигр.
1
QSR International – компания по разработке программного обеспечения для качественного (не числового) анализа данных. Здесь и далее прим. пер.
2
Значение имени – милость, милосердие.
3
Союз высших учебных заведений США высокого уровня.
4
Синдром внезапной необъяснимой смерти.
5
Обычное обозначение неопознанных тел.
6
Общество анонимных алкоголиков.