Книга: Чернее ночи
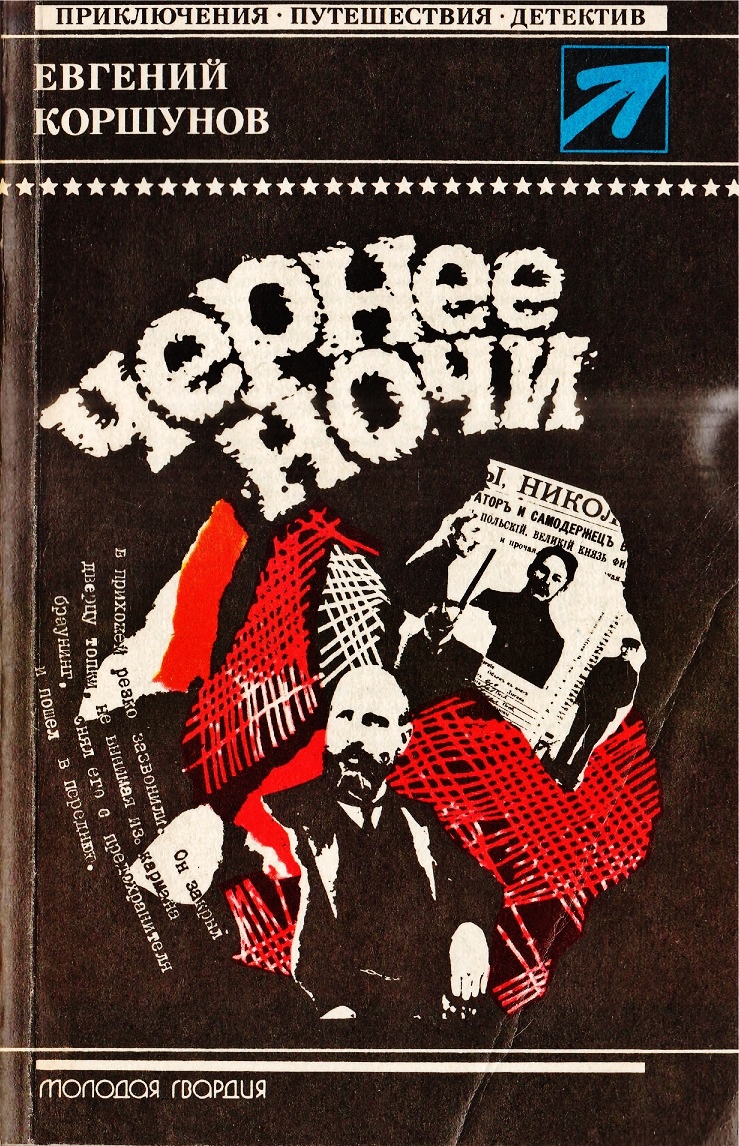
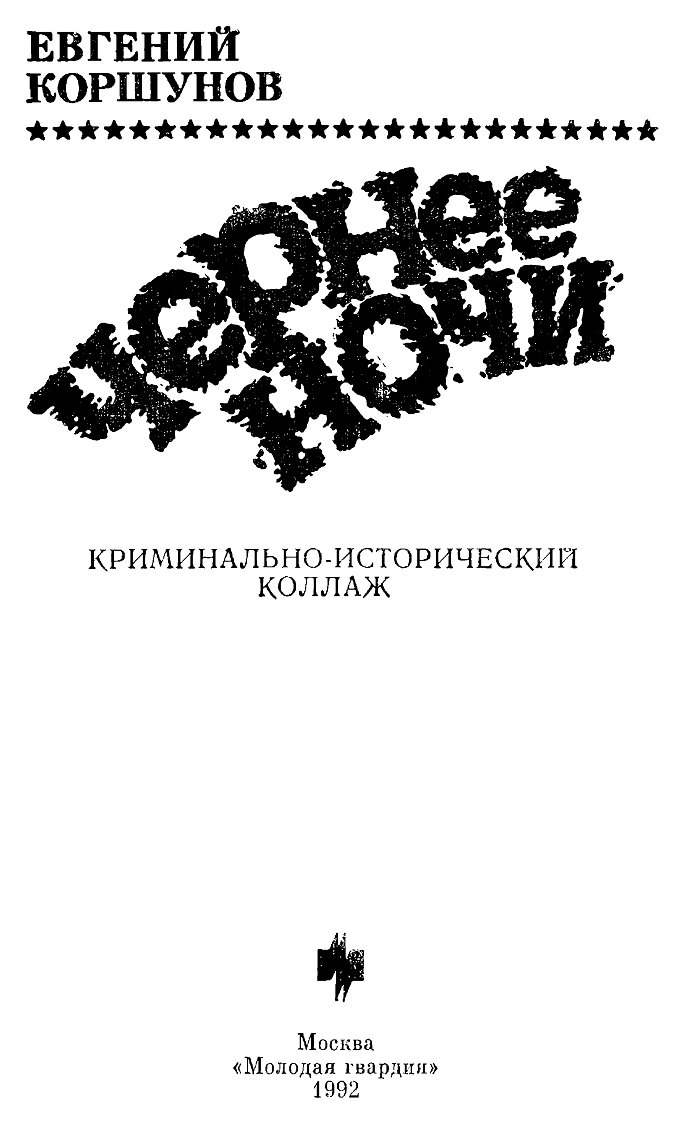
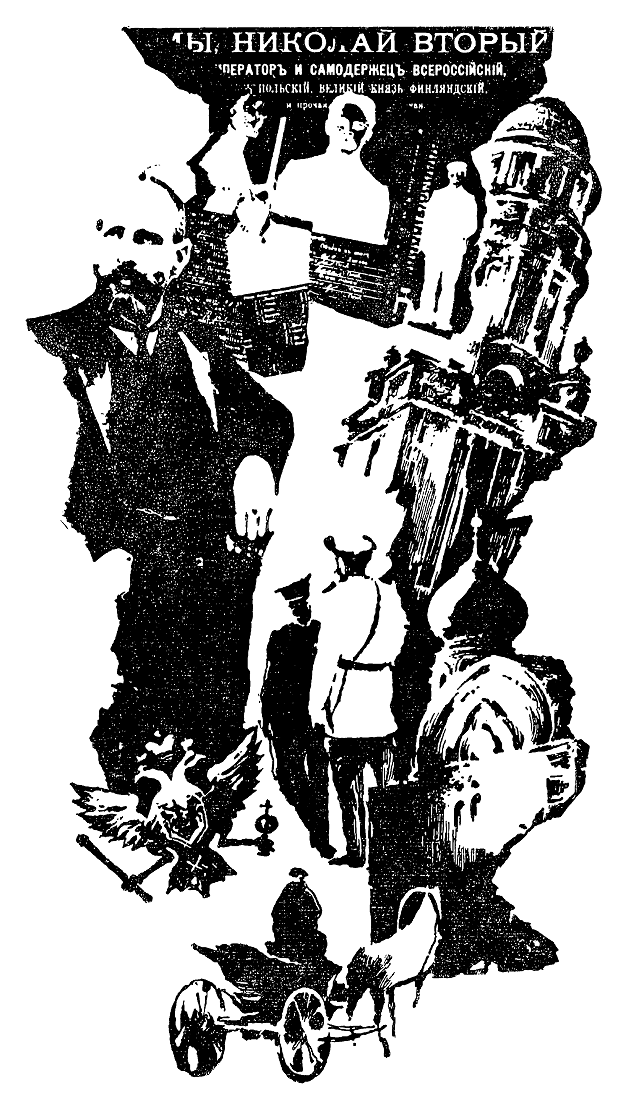
Она отвернула белую полоску манжеты и взглянула на циферблат «роллекса»: оставалось еще двенадцать минут, этого времени было достаточно, чтобы не торопясь спуститься со второго этажа по грязной, давно не убиравшейся лестнице и выйти на угол узкой, типичной бейрутской улицы, на которой ветхие, ободранные временем и событиями особняки в мавританском стиле жалко соседствовали с современнейшими доходными домами-башнями.
Она медленно обвела взглядом комнату, мысленно прощаясь и с этим кусочком своей жизни. Впрочем, своей ли? Она усмехнулась: можно ли назвать своею жизнь под разными именами и по чужой воле, жизнь без собственного «я», без собственных желаний и привычек, без права на колебания, сомнения, без прошлого и без будущего, только с одним настоящим — зыбким и ненадежным?
На низкой тахте, покрытой вытертым персидским ковром, — распахнутая пасть дешевого, изрядно потрепанного чемодана, а в ней комком нехитрые принадлежности ее туалета. Она вдруг представила себе, как грубые, бесцеремонные руки контрразведчиков будут копаться в ее белье, и ей на мгновение стало не по себе, но только лишь на мгновение — разве это для нее впервые — ускользать вот так, как ящерица, отвлекающая врага отброшенным, судорожно бьющимся хвостом? Будут они копаться и во встроенном шкафу, где висят на «плечиках» коричневые монашеские платья из дешевой простой ткани, а на полках аккуратно разложены стопки отутюженных черных косынок и белоснежных, по- монашески строгих воротничков и манжет. Они наверняка раздерут по листкам и старую, изрядно потрепанную Библию, надеясь найти в ней хоть что-нибудь, наводящее на след внезапно исчезнувшей сестры Фелиции, монахини, прибывшей из Лондона в Бейрут около года назад, занимающейся помощью осиротевшим детям, обездоленным многочисленными войнами в экзотических уголках земного шара.
Они изломают ее мольберты, растопчут ящик с красками, искромсают полотна, а блокноты с карандашными набросками увезут к себе, в штаб-квартиру Второго бюро ливанской армии. Конечно, первыми на место прибудут палестинцы, по главное расследование будет вести, конечно же, Второе бюро, один из немногих все еще функционирующих обломков развалившегося ливанского государственного аппарата.
Она подошла к трюмо, стоящему напротив широкого окна. Зеркало было поставлено так, что с помощью его створок, не подходя к окну, можно было видеть происходящее па улице. Сейчас там пристраивался серо-зеленый «джип», набитый увешанными оружием бородатыми парнями в защитной форме. У белого «мерседеса», припаркованного у тротуара, тоже стояли вооруженные бородачи.
Она иронически скривила тонкие, бескровные губы: сколько месяцев изо дня в день она наблюдала эту картину, ни разу даже не приблизившись к окну, чтобы неосторожно не наткнуться на чей-нибудь случайный взгляд! Говорят, что арабы не приемлют в силу своего темперамента европейскую пунктуальность. Но Абу Асаф, хозяин белого «мерседеса», шеф разведки и контрразведки одной из крупнейших палестинских организаций, был пунктуальнее любого европейца. Каждый день, ровно в пятнадцать тридцать, минута в минуту, он выходил из серого дома напротив, садился в машину и в сопровождении охраны отправлялся в свой штабной офис. Возвращался же обычно поздно, иногда под утро, охранники шли с ним вместе в подъезд дома, где постоянно дежурили их коллеги: к вопросу безопасности здесь подходили со всей серьезностью.
Однако сестре Фелиции поселиться напротив, снять небольшую квартирку в старом двухэтажном особняке, переданном под доходный дом, было после некоторых колебаний позволено. Эта чудаковатая, высокая и костлявая монахиня была известна в местных палестинских кругах. Впервые она появилась в Бейруте три года назад с коробками, набитыми одеждой для палестинских детей, и, распределив этот груз, осталась в одном из лагерей для беженцев в окрестностях Бейрута — стала работать учительницей рисования в местной школе. Она была ласкова, внимательна и добра и из тех небольших сумм, которые время от времени получала из Лондона, старалась помогать семьям беженцев. Христианство проповедовать в лагере она не пыталась, и даже самые правоверные мусульмане, косо посматривавшие поначалу на ее монашеский наряд, в конце концов к ней привыкли. Когда через несколько месяцев сестру Фелицию вызвали в Лондон, она уехала, оставив о себе самую добрую память. В Бейрут она вернулась через год, и опять со щедрыми дарами для детей. На этот раз не только палестинских, но и ливанских. И опять решила пожить в Бейруте, работая на этот раз учительницей рисования в одной из городских школ.
Ее часто можно было видеть в самых неожиданных уголках города сидящей на легком раскладном стульчике перед мольбертом. И всегда ее окружала небольшая толпа: дети и взрослые, не отрываясь, смотрели на холст, на который ловкая кисть чужестранки переносила кусочки окружающего их мира — улицы, дома, тенистые дворики. И все это было как на самом деле, только гораздо ярче, красивее. И зеваки с удивлением вдруг ловили себя на том, что и они теперь начинают видеть все вокруг не так, как видели до сих пор, а как нарисовано этой женщиной.
Напротив квартиры Абу Асафа она поселилась не сразу, сначала жила в скромном отеле. И лишь через два-три месяца стала подыскивать себе квартиру, чему никто из ее новых бейрутских знакомых не удивился: жизнь дорожала с каждым днем, цены росли все быстрее, да и комната в отеле никак не подходила под студию художницы.
Никто не удивился и тому, что сестра Фелиция в конце концов остановила свой выбор на небольшой и довольно дешевой квартирке, перестроенной в свое время под студию предприимчивым хозяином старого особняка в тихом районе Западного Бейрута.
Студия, в которой поселилась сестра Фелиция, долгое время пустовала, но отнюдь не потому, что ее было желающих ее арендовать.
Палестинская контрразведка тщательно проверяла каждого, кто имел намерение поселиться напротив дома, где жил Абу Асаф. Портить отношения с палестинцами хозяин особняка, старый эфенди, дошивающий век в своем горном поместье, благоразумно не желал и приказал своему управляющему учитывать мнение грозных соседей относительно каждого кандидата в квартиросъемщики. Когда же палестинцы дали «о’кей» на вселение в студию британской монахини, хозяин и его управляющий вздохнули с облегчением, сожалея лишь о том, что художница подписала контракт на аренду всего лишь на год. На этот же срок она арендовала себе и машину — серый «фольксваген», маленький и юркий, такой удобный, чтобы пробираться в бесконечной толчее узких бейрутских улиц. На удивление соседей, которым строжайше запрещалось ставить свои машины у дома Абу Асафа, серому «фольксвагену» разрешалось парковаться там, где будет угодно его хозяйке, и соседи преисполнились к мадам Фелиции самым глубоким почтением. Почтение это только росло, когда они видели искренние улыбки, которыми обычно угрюмые бородачи Абу Асафа встречали и провожали соседку-англичанку, неслышной тенью проскальзывавшую мимо них со складным мольбертом и ящиком с красками. О том, что монахиня-художница занимается благотворительной деятельностью в палестинских лагерях, соседи не знали. А узнай они об этом, реноме скромной и тихой монахини сильно бы пошатнулось: большинство горожан палестинцев не любило.
...Сестра Фелиция опять взглянула в зеркало. У подъезда, из которого вот-вот должен был появиться Абу Асаф, плотным коридором выстроились охранники. Она усмехнулась: да, теперь уже ей больше никогда не доведется лицезреть этого красавчика, тридцатишестилетнего плейбоя и террориста.
Она опять отвернула манжету на левой руке: «ролекс» давал ей еще две-три минуты. Из зеркала на нее смотрела бледная, аскетического вида женщина в коричневом монашеском платье с белоснежным воротничком. Черная с белой оторочкой косынка почти скрывала высокий, без единой морщины, лоб, из-под редких, чуть заметных ниточек-бровей тускло зеленели усталые глаза. Узкий прямой нос чуть горбился. А в общем ничего такого, что бы запомнилось с первого взгляда, в ее лице не было, оно было серым и бесцветным, как загрунтованный холст, ожидающий прикосновения чьей-то кисти.
Фелиция ободряюще подмигнула своему отражению, взяла сумку-мешок из грубой коричневой дерюги, стянутую толстым белым шнуром, и сунула туда руку, проверяя содержимое. Коробка с косметикой, большой мужской бумажник с документами, короткоствольный кольт-бульдог, еще одна коробка, продолговатая, с несколькими рядами утопленных в крышку кнопок, подобная пульту дистанционного управления телевизором или приемником. Поколебавшись, она достала эту коробку из мешка и, окинув ее быстрым критическим взглядом, сунула в широкий карман на правом боку.
Затем решительным шагом вышла из комнаты.
Прохожих перед домом не было. Наступил час сиесты, и хотя день был необычным для этого времени года — серым и прохладным, — бейрутцы не изменяли сложившемуся веками обычаю отдыхать после обеда. Вокруг было пустынно и тихо, и только у подъезда Абу Асафа топтались его бородатые телохранители.
Увидев выскользнувшую из особняка напротив соседку, они приветственно замахали ей руками.
Фелиция в ответ послала им ласковую улыбку, одно-временно ускоряя шаг. Улыбаясь бородачам, она успела удостовериться, что ее серый «фольксваген» стоит метрах в тридцати перед белым «мерседесом».
На то, чтобы дойти до ближайшего угла, отводилось две минуты, дистанция и время многократно и тщательно выверены и перепроверены, идти надо ровным, но быстрым шагом, достаточно быстрым и в то же время не вызывающим подозрений.
За несколько шагов до угла, на котором теснилась лавочка мясника, обычно успевающего к этому времени распродать свой товар и закрыться, она сунула руку в карман и вытащила из него пульт. Еще несколько секунд — и она оказалась у железного жалюзи, закрывающего вход в лавочку. Угол дома был похож здесь на острый нос боевого корабля: он резко выдавался вперед, врубая в улицу сквозной переулок.
Фелиция заглянула направо, в глубь переулка. Здесь тоже было сонно и тихо. Припаркованные у тротуаров машины терпеливо дожидались отдыхающих после обеда хозяев, и лишь одна из них, потрепанное синее «рено», при ее появлении вдруг резко отвалила от тротуарного бордюра и поспешно двинулась в ее сторону.
Сестра Фелиция оглянулась: белый «мерседес» медленно отъезжал от подъезда Абу Асафа, и «джип» с охраной пристраивался ему вслед.
Она закусила губу и, дождавшись, когда «мерседес» поравняется с ее «фольксвагеном», вдруг резко выбросила в его направлении руку с пультом, одновременно изо всех сил нажимая кнопку на его крышке.
Оранжевое пламя полыхнуло ей чуть ли не в лицо, ослепило до черноты в глазах, и сразу же навалился грохот, тяжелый, как тысячетонный горный обвал. Стиснутый каменным ущельем узкой улицы, он бился о бетонные стены, пронзительно звенел расколотым стеклом и отдавался эхом в соседних кварталах; он нес жар и кислый запах сгоревшей взрывчатки, черную копоть и предсмертные крики тех, кто еще всего несколько мгновений назад весело болтал, дожидаясь Абу Асафа.
Ее бросило спиной на шершавый бетон стены, ноги подкосились. Раскинув руки крестом, она медленно сползала по стене вниз, на тротуар, но чьи-то сильные руки уже подхватили ее...
— Дэвид, — выдохнула она и потеряла сознание.
Она пришла в себя только через четверть часа на переднем сиденье машины Дэвида, остановившейся среди развалин бывшего торгового центра Бейрута. Несколько лет назад, в начале гражданской войны, эти богатые старинные кварталы стали местом ожесточенных боев между христианами и мусульманами. Некогда нарядные, кипевшие людским водоворотом улицы заросли высокой жесткой травой, в которой шумно сновали голодные крысы. Здесь проходила «ничейная полоса» между Западным и Восточным Бейрутом, мусульманским и христианским секторами, пустыня в центре города, заброшенный всеми гигантский погост.
Дэвид втиснул машину между бетонными глыбами и заглушил двигатель. От внезапно наступившей тишины и пришла в себя Фелиция.
— Молодец! — услышала она характерный, трескучий голос Дэвида, заметившего, что веки ее дрогнули. — Прекрасно сработано!
Он включил автомобильный радиоприемник: радиостанция правых уже сообщала, что в районе, в котором находится личная квартира Абу Асафа, произошел взрыв «машины-ловушки», имеются многочисленные жертвы...
— И как они все так быстро узнают, — с одобрением покачал Дэвид своей тяжелой, похожей на львиную, головой. — Просто фантастика...
Фелиция промолчала, слушая, как радиостанция правых «Голос Ливана» повторяет свое сообщение. Кто такой Абу Асаф и чем он занимается, в сообщении не говорилось, это было известно всему Ливану...
— Нам только что стало известно, — вдруг заспешил диктор, и голос его задрожал от волнения, — что Абу Асаф, доставленный в Американский госпиталь, скончался, смертельно раненный осколком в правый висок, шестеро его телохранителей погибли на месте. Убито пятеро прохожих, одиннадцать прохожих ранено...
— Откуда же там взялись прохожие? — подумала Фелиция. — Там вроде бы никого не было...
Она нервно дернула головою и вдруг заметила восхищение в блестящих, похожих на крупные маслины, глазах смотрящего на нее Дэвида.
— Молодец, — радостно повторил он опять, — молодец!
Избегая его взгляда, она резко поднесла к глазам левую кисть: «ролекс» показывал, что с момента взрыва прошло двадцать минут, только двадцать минут! Но медлить было нельзя.
И, не стесняясь Дэвида, она принялась быстро срывать с себя этот ненавистный монашеский балахон, чужую, фальшивую шкуру, пахнущую кислой, сгоревшей взрывчаткой...
Черный свитер-водолазка, черные вельветовые брюки — все это оказалось заранее припасено на сиденье «рено». Сдернутая с головы монашеская косынка открыла коротко стриженные, подобные порыжевшей стерне, жесткие волосы.
Она распустила петлю на горловине своей сумки-мешка, достала оттуда револьвер и бумажник с документами, а туда запихнула ненужный теперь уже наряд монахини.
Потом, после мгновенного раздумья, бросила бумажник в мешок и рывком затянула шнур на его горловине.
Дэвид взял мешок у нее из рук, ни слова не говоря, вышел из машины и скрылся в развалинах. Вернулся он минуты через две-три, стряхивая с брюк штукатурку и отфыркиваясь.
— Все, — с облегчением выдохнул он, — копаться здесь будут лишь лет через сто, а то и больше.
Всю дорогу до Библоса они молчали. Зато все радиостанции Ливана, а за ними и «Радио Монте-Карло» без умолку сообщали все новые и новые детали гибели Абу Асафа, рассказывали о нем и о его недолгой жизни, о том, что он происходил из знатного рода палестинских шейхов, что оставил после себя красавицу жену и двух малолетних сыновей. Говорилось, что в последние годы он старался стать посредником между противоборствующими в Ливане сторонами — христианами и мусульманами — и даже преуспел в этом. Во всяком случае, радиостанции и тех и других говорили о погибшем с уважением и теплотой и задавали вопрос: а кому выгодна сегодня гибель Абу Асафа.
— Абу Асаф... Абу Асаф... Абу Асаф... — неслось из радиоприемника на любой волне, на какую бы ни настраивала Фелиция. И перед ее мысленным взором опять и опять появлялся этот европеизированный красавец араб с открытым правильным лицом и дружелюбной обаятельной улыбкой. Всякий раз, когда они встречались у своих машин, он чуть склонял голову и прикрывал в знак приветствия миндалевидные свои глаза. И весь он был воплощением джентльменства. Порою ей даже казалось, что она влюбляется в него, но она сейчас же спешила напомнить себе, что он враг ее Народа, один из тех, кто воплотил в себе вековое Зло, преследующее ее Народ па протяжении всей его истории. И ненависть черной волной захлестывала ее сердце, глушила разум, зубы ее стискивались, и она мысленно представляла, как взрывчатка, заложенная в ее «фольксвагене», скоро разметет кровавыми кусками тело этого журнального красавца.
Впереди, над широкой, похожей на взлетную полосу, лентой шоссе, на кронштейне осветительного металлического столба висел люминесцентный указатель со стрелкой, указывающей на съезд влево: «Жбейль».
Это было современное название Библоса, самого древнего из живущих сегодня на нашей земле городов. Всего лишь около тридцати километров отделяло этот маленький живописный городок от Бейрута, но здесь уже был совсем иной мир — мир тишины и покоя, глубокий тыл гражданской войны.
Узкая извилистая улочка вывела их к морю, к крохотной бухточке, защищенной дугою, некогда высокой, а теперь полуразрушенной дамбы. Позеленевшие от наросших водорослей глыбы ракушечника расступались, открывая выход в открытое море. И там, словно в прорези прицела, виднелась на голубом просторе неподвижная белая яхта, на корме которой полоскался в порывах ветра бело-голубой израильский флаг.
Яхта ждала их.
— Вот так, господин писатель. Всю жизнь мы бежали от революции и думали, что спрятались от нее наконец-то здесь, в Бейруте, а она докатилась и сюда — людей убивают среди бела дня прямо на улицах. А здесь, у меня? Вы только посмотрите...
Маленький, похожий на обезьянку старичок метался по тесной квадратной комнате, заставленной высокими книжными шкафами. На шкафах до самого потолка громоздились книжные полки — вереницы книг в серо-голубых кустарных переплетах. Такие же переплеты виднелись и за пыльными, давно не протиравшимися стеклами книжных шкафов, ветхих, испещренных ходами жуков-древоточцев. Белесый от времени неуклюжий стол, придавленный потерявшими от времени цвет тяжелыми переплетами русских эмигрантских периодических изданий, занимал середину комнаты. Здесь же пылились большие амбарные книги с каллиграфически выведенными надписями — «Библиотека русского технического объединения. Бейрут». Орфография была еще дореволюционной.
В комнате было сыро, пахло плесенью, бумажной пылью. По серому потолку тянулись бурые пятна протечек, давно вылинявшие обои неопрятными лохмотьями свисали с плохо оштукатуренных серых стен там, где они не были прикрыты тяжелыми книжными шкафами.
— Третьего дня я приходил сюда, и все было в порядке, — сетовал старичок, поеживаясь в похожей на женскую грубошерстной кофте-самовязке и нервно перетирая хрусткие пальцы. — А сегодня — вот... — и он, шмыгнув носом, ткнул костяшкой указательного пальца в направлении облупленной входной двери. — Замок выбили и влезли...
— Неужели же кому-то здесь понадобились русские книги? — не сдержал я удивления.
— Да какие книги! — тяжело, с отчаянием вздохнул он. — Вот что им нужно было, — и он кивнул в сторону другой двери, полускрытой книжным шкафом так, что от нее оставалась лишь щель, в которую мог бы с трудом протиснуться, пожалуй, лишь такой тощий человек, как мой собеседник, Лев Александрович Никольский, хранитель Библиотеки русского технического общества в Бейруте, вернее, остатков того, что в тридцатых-сороковых годах было действительно Библиотекой колонии русских эмигрантов в Ливане, в те поры богатой и процветающей.
По прошествии нескольких десятилетий колония почти вымерла, а остатки библиотеки нашли последнее прибежище в двух жалких комнатенках полуразвалившегося, заброшенного старого особняка. Хозяева особняка, тоже из русских эмигрантов, давно уже затерялись где-то в просторах белого света, но интересы их в Бейруте продолжала представлять баронесса Миллер, старуха-миллионерша, известная в Бейруте изумительными бриллиантами и большим камнем в почке, о котором она любила поговорить на церковных праздниках, еще собиравших (на Рождество и Пасху) обломки Российской империи и их уже почти не говорящих по-русски детей, внуков и правнуков.
Родня баронессы Миллер давно перебралась в США и американизировалась, но сама баронесса решила завершить свой жизненный путь в Бейруте, к которому прилепилась сердцем еще в молодые свои годы, найдя здесь долгожданный покой после долгих метаний по Европе и Америкам. Доставляло ей удовольствие и положение богатой патронессы, благотворительницы своих обнищавших в Ливане земляков. Она помогала им устраиваться в дома для престарелых и инвалидов, брала их па пансион, выдавая пособия на бедность и оплачивая похороны.
Взяла она на свое содержание и библиотеку вместе с библиотекарем Львом Александровичем, выплачивая ему жалованье в дополнение к тем жалким грошам, которые поступали в его пользу от немногих еще заглядывающих в его комнатушку книгочеев — русских старичков и старушек.
Я узнал об этой библиотеке от своих коллег, советских журналистов, работавших в Бейруте и делающих регулярные взносы за пользование библиотекой. Нам же, кстати, Никольский потихоньку продавал из своей библиотеки и кое-какие книги, не видя в этом никакого греха, так как считал, что библиотека все равно доживает свои последние дни, а так он хоть какие-то книги передаст в хорошие руки.
Узнав, что я не только журналист, но и литератор, Никольский стал выделять меня особо и обращаться ко мне не иначе, как «господин писатель», литературу он искренне любил.
Может быть, поэтому как-то в минуту нахлынувшей на этого одинокого человека откровенности Никольский открыл свою давнюю страсть — коллекционирование православных икон и старинных документов. И вторая комната библиотеки, даже не комната, а полутемный чулан с зарешеченным крохотным окошечком, служила хранилищем для того, что он считал ценнейшими сокровищами.
Честно говоря, я ничего не понимаю в иконах, и когда старый библиотекарь однажды допустил меня в свою сокровищницу, я лишь полюбовался его коллекцией, без окладов развешанной по стенам, и сказал несколько ничего не значащих вежливых фраз, чтобы не прослыть полным невеждой и не обмануть возлагавшихся на «господина писателя» ожиданий.
Здесь же, в комнатушке-чулане, я обратил внимание па старую, застеленную грубым серым одеялом железную койку и тумбочку с чайником и несколькими тарелками. На давно не мытом каменном полу, у самой койки, стоял старый, видавший виды телефонный аппарат.
Никольский, судя по всему, иногда здесь и ночевал.
И вот теперь... Объяснять мне ничего было не нужно. Хлипкая белая дверь, ведущая в чулан, взломана профессионально — несколько щепочек да вмятины на дверной раме — вот и все следы, что были оставлены взломщиком.
— Иконы? — почему-то решил я.
Библиотекарь отрицательно качнул головой.
— Взяли что-нибудь ценное? Лев Александрович, да не молчите же!
Он поднял лицо, морщинистое, обтянутое серой, в старческих коричневых пятнах кожей, и вдруг уголки его тонких синеватых губ дрогнули и растянулись в торжествующей улыбке:
— Не взяли, господин писатель. Ничего не взяли!
— Так это же здорово! — обрадовался я за старика. — Значит, дело не в книгах и не в иконах. Просто кто-то польстился па пустующий особняк и решил проверить, нельзя ли в нем чем-нибудь поживиться. Наверняка взломщик искал что-нибудь более, на его взгляд, ценное. И ничего не нашел. Сюда, я думаю, уже больше никто не полезет... Вам теперь бояться нечего.
Я говорил все это со всей убежденностью, чтобы успокоить взволнованного, продолжающего с хрустом перетирать высохшие пальцы Никольского, и чувствовал, что говорю в пустоту. Улыбка, еще несколько мгновений бывшая на его губах, вдруг исчезла, его пергаментные, лишенные ресниц веки мелко подрагивали...
— Более ценное, — вдруг повторил он мои слова раз и потом еще раз, растягивая, вслушиваясь в каждый произнесенный звук. — Более ценное...
Словно очнувшись, он вдруг вскинул на меня заискрившиеся глаза и вызывающе прищурился:
— Вы, господин писатель, наверное, считаете, что более ценное — это золото, серебро, камни? Что ни за чем другим ворам приходить сюда не было нужды?
Его дребезжащий старческий голос окреп от гнева. Я начал было убеждать его, что совсем так не считаю, но он отвернулся и, словно не слыша моих слов, задумался.
— Который час, господин писатель, не подскажете ли? — робко спросил он через несколько мгновений и указал взглядом на запястье своей левой руки — часов там не было. — Отдал в ремонт вот уже как две недели... И все не готовы, — почему-то стал объяснять он. — Вы ведь знаете, господин писатель, настоящие-то мастера из Ливана разбежались кто куда. Остались одни мазурики... вроде тех, кто залез в нашу библиотеку...
Он говорил все это, словно оправдывался, и я понял, что никаких часов он никому в ремонт не отдавал и что вообще часов у него нет, а если и были, то он их давно продал и проел.
— Без четверти пять, — ответил я.
— Ого! — заторопился он. — Пора закрывать библиотеку. Сегодня уже никто не придет, а мне еще нужно занести книги баронессе Миллер. Звонила, хочет почитать что-нибудь светлое. Тургенева к примеру.
Он кивнул на лежащую перед ним на столе небольшую стопку книг, перевязанную красивой атласной лентой.
— Вы, конечно же, на машине, господин писатель? — просительно продолжал он.
— Я подвезу вас, — кивнул я.
— Спасибо, — искренне обрадовался он. — Буду премного благодарен. Раньше бы, годика два-три назад, я и сам бы добежал. Здесь недалеко. А теперь вот ноги что-то сдавать стали. Да и то! Восьмой десяток заканчиваю, считайте — свое отбегал...
Мы выехали на предвечернюю набережную и поехали вдоль нее, мимо только еще зажигающихся реклам ресторанов и кафе.
Бейрут не желал отказываться от вечерней жизни, несмотря на гражданскую войну, рейды израильтян и взрывы машин-ловушек. По набережной двигались навстречу друг, другу потоки гуляющих, собравшихся сюда со всего города, чтобы подышать бодрящим морским воздухом.
— И ничего ведь не боятся, — вдруг высказал Никольский мысль, которая и мне пришла в голову при виде нарядных, веселых людей, беспечно прогуливающихся вдоль рядов торговцев мороженым, кофе и прохладительными напитками.
— А что им остается делать? — продолжал он разговор с самим собою. — Если жить страхами, о которых так много пишут сегодняшние газеты, можно рехнуться. Человек не может бесконечно жить в страхе и начинает искать спасение от психологических перегрузок, не так ли,господин писатель?
Он сидел рядом со мною, скользя взглядом по разноцветью вывесок, проплывающих за окнами нашей машины, и в лице его была тоска.
— Конечно же, Лев Александрович, — согласился я с ним. — Это инстинкт самосохранения. Как только начинается перегрузка, немедленно срабатывает механизм психологической защиты, и человек инстинктивно отстраняется от всего, что угрожает его душевному равновесию...
— И перестает читать газеты, слушать радио и смотреть телевизор, — продолжил старый библиотекарь. — Вот и они... — он кивнул в сторону толпы на набережной, — убегают от самих себя, скрываются в толпе. Но можно ли убежать от одиночества? Поверьте, на свете нет ничего страшнее одиночества! Когда вдруг — никого, ты никому не нужен и никто не нужен тебе.
— А что если мы с вами посидим часок-другой в кафе? — неожиданно для самого себя предложил я моему спутнику. — Спешить вам, надеюсь, никуда не надо? Или вас кто-нибудь ждет?
— Меня давно уже никто не ждет, — помедлив, ответил он. — Жениться я так и не собрался, прожил всю жизнь бобылем, а бобыль — он и есть бобыль. Так что...
— Ну вот и посидим, поговорим, — воспринял я его слова как согласие и продолжал, принимая его тон: — И меня дома никто не ждет. Вы, наверное, знаете, что наши семьи эвакуированы из Бейрута...
Он тяжело вздохнул, и кивнул, и тут же засомневался:
— А как же баронесса Миллер? Она же просила меня привезти Тургенева... Я не могу ее подводить, я обещал...
— Но мы же ненадолго. А потом я вас быстро довезу... Договорились? Тогда видите: впереди «Подкова», хорошее кафе, я его знаю — отличные кастальеты, шиш- кебаб, форель... А уж про арак и говорить нечего — привозят из Сирии, лучший на весь Ближний Восток.
Кадык, остро выпирающий на тощей, морщинистой шее Никольского, дернулся, словно он сглотнул слюну. И все же что-то мешало ему окончательно принять мое приглашение...
— Видите ли, господин писатель, — начал он смущенно, и тут я понял его смущение.
— Я хотел бы, чтобы вы стали сегодня моим гостем, — поспешил я, — Извините, что зову вас в кафе, а не домой. Но жена в эвакуации, а холостяцкие трапезы вам наверняка надоели так же, как и мне.
— Право же, мне так неловко, — вздохнул он. — Вот если бы на паритетных началах. Но...
Он отвернулся и с трудом выдавил:
— Но... я, честно вам признаюсь, сейчас на мели. А баронесса обещала мне выплатить сегодня вечером жалованье на следующий месяц...
...В «Подкове» в этот час никого не было, кроме двух бородатых, свирепого вида парней в пятнистой форме, занявших столик в дальнем углу. Они пили пиво, положив перед собою на красную топорщащуюся от крахмала скатерть автоматы АК-47. Их цепкие взгляды схватили нас еще па пороге и проводили до столика, избранного для нас самим Валидом, хозяином кафе, высоким человеком неопределенного возраста с кирпичным, словно нарисованным, румянцем на бледных, впалых щеках.
Валид, мой многолетний знакомец, был, как всегда, сама любезность.
— Мезу[1], месье? — склонился он в полупоклоне передо мною, как только мы уселись за стол подальше от окна, выходящего на набережную. — Большую? Малую?
Я переадресовал взглядом его вопрос Никольскому, и Валид сразу же переключил внимание на него.
— Нет, нет, — поспешно затряс головою Никольский, — на ночь это будет слишком тяжело, да и вообще... врачи запретили мне есть слишком много... Вот если бы хороший шиш-кебаб... помягче... — Он робко посмотрел на меня, как бы спрашивая разрешения на дальнейшее, — ...и... ладошку[2] арака.
Видя, что я одобряюще киваю, приободрился и продолжал уже увереннее:
— У вас что... «Пайян»? Из Эс-Сувейды?
— Сирийского больше не держим, — обиделся Валид. — Наш, ливанский. «Тума». «Ксарак».
И опять я увидел на лице Никольского смущенный вопрос — хозяин называл самые дорогие сорта арака, местной анисовой водки, славящейся своими целительными свойствами.
— По хорошему шиш-кебабу и пару ладошек «Ксарака», — заказал я, кладя конец душевным терзаниям старого библиотекаря.
И не успел хозяин кафе отойти от нашего столика, как перед нами появился официант — мальчишка лет пятнадцати в ладном костюме морковного цвета.
Он ловко расставил перед нами тарелки и небольшие стаканчики, разложил ножи и вилки, тугие салфетки и исчез, словно растворился в воздухе. А ему на смену уже несся другой официант — такой же мальчишка в таком же морковном костюме, лихо держащий на растопыренных пальцах поднятой над головою руки сверкающий никелем поднос с бутылкой минеральной воды и двумя плоскими, размером с ладонь бутылочками чистейшего арака — именно за размер и форму они и именовались в обиходе «ладошками».
За араком последовали овощи, а еще через четверть часа нам подали и блюдо с шиш-кебабом, нежнейшими кусочками мяса, зажаренного на вертеле и прикрытого, чтобы дольше не остывало, хрусткими лепестками хобза, пресной пшеничной лепешки.
Никольский ел медленно, маленькими кусочками, аккуратно работая ножом и вилкой и время от времени прикладываясь к стаканчику арака. После первого же стаканчика глаза его заблестели, серое, пергаментное лицо порозовело.
Мы болтали о погоде, о довоенном Бейруте, об общих знакомых в здешней колонии русской эмиграции. Постепенно мы добрались и до «событий», как здесь именовали гражданскую войну, считая почему-то неприличным именовать эту войну войною. Зашел разговор и об убийстве Абу Асафа, событии недельной давности.
Второе бюро и контрразведка палестинцев за это время успели восстановить ход событий, предшествовавших трагедии. Газеты сообщали, что имя Абу Асафа уже несколько лет значилось под номером один в списке палестинских деятелей, приговоренных Тель-Авивом к смерти. Сообщалось, что государственный прокурор выдвинул обвинения в заговоре с целью убийства против некой сестры Фелиции, чья начиненная взрывчаткой машина взорвалась, когда мимо проезжал со своими людьми этот палестинский деятель.
Отмечалось, что подозреваемая прибыла в Ливан несколько месяцев назад с британским паспортом и документами солидной международной благотворительной организации и была известна в палестинских кругах своей филантропической деятельностью.
После гибели Абу Асафа она исчезла. За сведения, могущие привести к аресту предполагаемой преступницы, прокуратурой предлагалось солидное вознаграждение. Газеты не сомневались, что следы ведут в Тель-Авив, и публиковали ретроспективные рассказы о террористической деятельности израильских спецслужб.
— Ловко все-таки они сработали! — вырвалось у меня, когда принялись за эту тему.
Никольский отодвинул недопитую чашечку кофе и иронически улыбнулся:
— Эффектно, ничего не скажешь. Политическая акция, сработано на публику. Да вот только что это изменит? Таких, как Абу Асаф, у палестинцев тысячи. А теперь он еще и мученик, погиб за дело своего народа.
Он откинулся на спинку стула и многозначительно замолчал, словно что-то знал и решил не договаривать.
Хороший ужин подкрепил его, и теперь передо мною был уже совсем другой человек, уверенный, знающий себе цену и в чем-то, как мне показалось, таинственный.
— Сколько же вам лет, господин писатель? — неожиданно спросил он, и в голосе его была снисходительность человека, прожившего долгую жизнь.
Я назвал свой возраст, и он вздохнул:
— Сгодились бы мне во внуки...
Я согласно кивнул, инстинктивно почувствовав, что захмелевший от хорошей еды и анисовой водки старый библиотекарь настроился на воспоминания.
— Да, у вас за плечами, наверное, интереснейшая жизнь, вам есть о чем рассказывать, — осторожно подтолкнул я его.
— Есть, — согласился он и, вдруг нахмурившись, окинул настороженным взглядом все еще полупустое кафе. Потом придвинулся ко мне и почти прошептал:
— Я хочу, господин писатель, предложить вам одну тему. Мне кажется, она для вас будет интересна.
И сразу же резко, без перехода:
— Вам известно что-нибудь о генерале Герасимове?
Генерал-лейтенант корпуса жандармов Александр Васильевич Герасимов, уходящий с политической арены, начальник Петербургского охранного отделения, был, как всегда, спокоен.
Что ж, эти высокопревосходительства из Департамента полиции, чинуши с куриными мозгами, решили наконец избавиться от него. Слишком долго он мешал им, «кухаркин сын», мужик, выбившийся в самые верха, советник Столыпина, лично известный его императорскому величеству, претендент на пост товарища министра внутренних дел (для начала), а затем...
Он иронически усмехнулся своим мыслям.
Для начала... Теперь уже никакого начала не будет, будет только конец. Хорошо еще, что Столыпин, убоявшись скандала, не выдал его этой скотине Курлову, подписавшему приказ о предании его, Герасимова, трибуналу за якобы организованное им убийство жандармского полковника Карпова, сменившего его на посту начальника Петербургского охранного отделения. Убоялся Петр Аркадьевич скандала, убоялся! Еще бы! Так защищать его в Думе, когда думские болтуны навалились с запросами о роли генерала Герасимова в деле Азефа, и на тебе — новый скандал, и все с тем же высокопоставленным жандармским чином, известным своей близостью к премьеру.
Герасимов прошелся по комнате, не вынимая рук из карманов уютного домашнего пиджака и лаская пальцами правой руки теплый шершавый металл рукоятки браунинга. Нет, он не застрелится, в его роду, в роду простых казаков, такое не принято. Пусть стреляются эти голубокровые мерзавцы, тупицы и интриганы, с которыми он боролся всю жизнь и будет бороться до конца своих дней. Подошел к теплой печке-голландке, украшенной изразцами, — с бегущими по волнам крутобокими талионами, с ветряными мельницами над чистенькими каналами, с дородными пейзанками в высоких чепцах и мясистыми коротконогими коровами, открыл дверцу и заглянул в нее. Бумажный пепел трепетал тонкими черными пластинками, разрушаясь в зыбких язычках огня, плясавших на догорающих поленьях. Взялся было за кочергу, стоящую у самой дверцы, и тут же отдернул руку: кованый металл был горяч, накалился от печной стенки...
— Ну и черт с ней, — отказался он от намерения пошуровать в топке, — сгорит все и так.
Да и кто придет сюда, чтобы рыться в осыпающемся пепле, сюда, на квартиру, адрес которой известен лишь самым доверенным его людям?
И словно в ответ на эту мысль в прихожей резко зазвонили.
Он закрыл дверцу топки, не вынимая из кармана браунинг, снял его с предохранителя и пошел в переднюю. Через минуту вернулся в комнату с молодым человеком в синих круглых очках с тонкими металлическими дужками, в надвинутом на глаза темпом котелке и плаще с пелериной. Руки гостя были в темных нитяных перчатках, он опирался на массивную трость.
— Опоздали на пять минут, Илья Семеныч! — укорил его Герасимов, указывая взглядом на золотистый циферблат башнеобразных напольных часов, стоящих в углу, рядом с плетеным креслом-качалкой.
— Виноват, Александр Васильевич. Показалось было, что хвоста веду, проверяться пришлось.
— И правильно поступили, молодой человек, — одобрил его генерал, — вам еще жить да жить, а жить надо незапачканным.
Его густые, тронутые сединой усы дернулись в быстрой улыбке, и он сделал левой рукой жест, приглашающий гостя к покрытому бордовой плюшевой скатертью круглому столу. На скатерти рядом с зеленой настольной лампой стоял серебряный подносик с хрустальным графинчиком и двумя серебряными чарками, украшенными чернью. Рядом стоял поднос с тартинками.
Два жестких кресла красного дерева с вырезанными на концах подлокотников и на вершинах высоких, прямых спинок свирепыми львицами головами, стояли за столом напротив друг друга.
— Прошу, Илья Семеныч, — повторил приглашение генерал и уселся в кресло спиною к широкому, набитому книгами шкафу.
Гость неторопливо снял котелок и плащ и, поискав глазами вешалку, аккуратно положил их на широкую, покрытую веселым восточным ковром тахту.
— Извините, что не предложил вам раздеться, — спохватился генерал, — да уж ладно, чай не чужие, сколько лет вместе проработали.
Илья Семенович, оказавшись в черной сатиновой косоворотке и такого же цвета плисовых штанах, заправленных в сапоги бутылками, был теперь похож на простого рабочего, и синие кружки очков на его широком скуластом лице выглядели частью какого-то нелепого маскарада. Словно чувствуя это, он сиял очки и положил их перед собою на стол, усаживаясь в указанное ему Герасимовым жесткое кресло.
Генерал взял с подноса графин и ловко наполнил чарки.
— Ну-с, — поднял он свою, — как говорится, со свиданьицем.
И подождав, когда его визави поднял чарку, со смаком выпил.
— А теперь — пыжом, пыжом, — настоятельно посоветовал он последовавшему его примеру гостю, — рокфорчиком рекомендую. Клюквенная с рокфорчиком — это вам не финь-шампань, от которой, извиняюсь, ни в голове, ни в заднице!
Илья Семенович послушно выпил, закусил тартинкой с рокфором и подпил взгляд на генерала. В глазах, прикрытых редкими рыжеватыми ресницами, было тревожное ожидание.
— Да, — словно в чем-то соглашаясь с ним, многозначительно заговорил Герасимов, — а пригласил я вас, уважаемый, для приватного разговора.
Он выдержал короткую, но полную значения паузу, давая собеседнику проникнуться ответственностью момента. Потом продолжал вдруг ставшим бесцветным, казенным голосом, от которого его гость сразу выпрямился в кресле и напрягся, ловя каждое слово, произнесенное генералом:
— Вы, конечно же, знаете, уважаемый, что фортуна повернулась ко мне... как бы это вам сказать покрасивее... задним местом. И не возражайте, скушали меня наши высокопревосходительства с куриными мозгами, слопали, сожрали шаркуны паркетные. Подставили, как мальчишку, пока меня в Питере не было. Пообещали этому придурку, эсеришке Петрову, что жить будет, если заявит, что теракт против Карпова с моей помощью ставил. А когда заявил, его, дурака, в одночасье и повесили. Еще и чернила на приговоре не высохли, а его уже — в Лисий Нос, на перекладину. Поди докажи теперь, кто прав, кто виноват — Карпова динамитом разнесло, Петрова негашеная известь дожигает, а мне, выходит, полный конец карьеры. Вот так-с!
И он, словно забивая гвоздь в конце своего полного обиды и злости монолога, пристукнул кулаком по столу так, что в графине заходила, заволновалась клюквенная настойка, а Илья Семенович вздрогнул и побледнел.
— Об этом говорит весь департамент, ваше превосходительство, — подтвердил он, — да и по Питеру разговоры идут. Не простили, мол, вам ни спасения Отечества в девятьсот пятом, ни верной службы его императорскому величеству.
— Да, не простили тупицы мне заслуг перед государем, перед Отечеством. Так уж, видно, у нас на Руси повелось, любят па чужом загорбке в рай въезжать. Вот и теперь. Вы вот, ваше превосходительство, иди в отстав-ку с позором да скажи спасибо, что не посадили... А людей своих, агентуру-то свою, нам оставь. Только...
Лицо Герасимова исказилось яростью, он резко подался вперед и выбросил правую руку, словно тыча кукиш в нос своим ненавистникам:
— Вот вам, а не агентура, не про вас она писана...
Илья Семенович побледнел и боязливо отодвинулся: он не привык видеть генерала в таком состоянии.
Но Герасимов вдруг стал спокоен, как хороший актер, умеющий владеть своими чувствами. Как-то совсем обыденно он подвинул к себе обе чарки, вновь наполнил их и слегка подтолкнул одну к гостю.
— Вот и получается, уважаемый Илья Семеныч, что выпьем мы сейчас по последней на прощание... В знак окончания совместных наших с вами многолетних трудов. И буду я теперь для вас отныне не высокопревосходительством, а обыкновенным Александром Васильевичем. А вас буду звать не по-агентурному, не по-полицейски, а как при рождении вас в церковной книге записали: Николай сын Петров Матрехин. Так ведь?
При последних словах агент побледнел еще больше и крутанул головой, будто проверяя — нет ли в комнате, кроме них, кого-нибудь еще.
Но комната была пуста, да и кто мог быть в конспиративной квартире еще совсем недавно всесильного начальника Петербургского охранного отделения?
— Не волнуйтесь, Николай Петрович, — успокоил агента генерал. — У нас все по-благородному. Не любил я, прости его господи, Сергея Владимировича Зубатова, а ведь золотые для нашего дела слова он говаривал своим сотрудникам.
Герасимов ловко опрокинул под усы содержимое чарки, крякнул, блаженно прикрыл глаза и почти пропел, откинувшись на высокую спинку кресла: «Вы, господа, должны смотреть на сотрудника как на любимую женщину, с которой находитесь в тайной связи. Берегите ее, как зеницу ока. Один неосторожный шаг, и вы ее опозорите. — Он нацелил указательный палец в потолок, сделал многозначительную паузу, а потом продолжал, опять цитируя своего бывшего неприятеля и соперника Зубатова: — Для меня сношение с агентурой — самое радостное воспоминание». Так вот, уважаемый.
Краска возвращалась лицу агента: повышение настроения жандармского генерала придавало кураж, и он с облегчением перевел дыхание:
— Поверьте, ваше превосходительство...
— Александр Васильевич, — милостиво поправил его Герасимов. — Отныне только Александр Васильевич, сугубо частное лицо!
— Поверьте, Александр Васильевич, — поспешил поправиться Матрехин. — Служил я вам со всей радостью, как говорится, не в службу, а в дружбу. И не только я, вся агентура на вас Богу молилась, каждый за вами, как за каменной стеной себя чувствовал. Неужто за такое неблагодарностью черной платить кто будет?
— Вот-вот, — растроганно вздохнул генерал, — таковы мои принципы: как сказал наш великий поэт, слуга царю, отец солдатам. А теперь видимся мы с вами в последний раз. Вот...
Он опустил руку под стол и достал оттуда элегантный портфель зеленого сафьяна с позолоченными застежками.
— Вот, — повторил он, извлекая из портфеля казенную папку с надписью по желтому картону: «Санкт-Петербургское отделение по охранению общественной безопасности и порядка». Положив папку перед собою на стол, слегка прихлопнул ее ладонью:
— Вот он, ваш формуляр, господин Матрехин... Состоите на службе в охранном отделении с... А, впрочем, теперь уже это не так и важно. Начинали вы не со мною, еще с Петром Ивановичем Рачковским... Он тоже мне в девятьсот пятом году немало кровушки попортил! Да кто старое помянет... Бог с ним! Зато агентов он мне кой-кого весьма интересных передал, весьма!
Матрехин тем временем тянул шею к формуляру — своему агентурному досье, прижатому тяжелой ладонью генерала.
— Любопытствуете? — продолжал томить его Герасимов. — Оно и понятно, тут ваша жизнь почти за десяток лет. И жизнь, и, можно сказать, смерть. Не дай ведь Бог формулярчикто в чужие руки попадет, например, вашим товарищам по партии. Знаете, как они с провокаторами-то... А ведь времена-то какие наступают... Революционные! Но вы не волнуйтесь, господин Матрехин, не пугать я вас сюда пригласил. Хочу, чтоб по чести у нас с вами было, как скажете, так и будет.
— Что... будет? — с трудом совладал с онемевшими от ужаса губами агент-провокатор.
— А вот что.
Голос Герасимова был теперь деловито спокоен, как у знающего себе цену солидного коммерсанта:
— Требуют от меня департаментские сдачи им всей агентуры. И тут моими руками загребать жар хотят. Только так я решил: вас прежде спросить — хотите ли этого или нет? Как скажете, так и будет. Хотите — передам, не хотите — сейчас формуляр в печку, и не было ничего у вас с нами, ничего и никогда. Никто вас не побеспокоит, никто не спросит ни о чем. Ну, решайте сами...
Лицо Матрехина просветлело.
— В печку, Александр Васильевич! В печку, — на одном дыхании выпалил он. — Пропади оно все пропадом! В провинцию уеду, поглубже куда забьюсь, по-новому заживу, не по-шкурному...
Его била крупная дрожь — то ли от бурной радости освобождения, то ли выходил подлый ужас, все эти годы днем и ночью леденивший его душу.
— В печку, — лихорадочно повторил он, — в печку все, в печку!
— Ну, как решили, так тому и быть.
Герасимов встал из-за стола, подошел к печке и сунул в нее картонную папку. Присев на корточки, поворошил в топке догорающие поленья, и они весело затрещали в разгорающемся пламени, жадно облизывающем плотный глянец картона.
— Сим отпущающе... — торжественно провозгласил Герасимов, прикрыл дверцу топки и весело подмигнул обмякшему от пережитого Матрехину.
— Отныне вы, уважаемый, чисты, как ангел.
— Спасибо, ваше превосходительство!
Матрехин вскочил, словно школьник, срывающийся с ненавистного урока, конца которого он едва дождался, и бросился к своему плащу.
...Тщательно заперев дверь за своим бывшим агентом, Герасимов вернулся к сафьяновому портфелю, запустил в него руку и извлек еще один полицейский формуляр.
«Евно Фишелевич Азеф» было написано каллиграфическим писарским почерком на аккуратном квадратике белой бумаги, приклеенном к обложке формуляра.
Герасимов легонько провел по надписи ладонью, словно прикасаясь к дорогим воспоминаниям. Как поразились бы подчиненные этого грозного жандармского генерала, увидев сейчас в его глазах что-то вроде нежности!
Помедлив, он раскрыл формуляр и побежал взглядом по пожелтевшей от времени странице:
«Азеф Евно Фишелевич, родился в 1869 году в местечке Лысково Гродненской губернии, в семье портного Фишеля Азефа, в 1874 году переехавшего из-за черты оседлости в Ростов-на-Дону и занявшегося торговлей. В семье, кроме Фишеля, еще шестеро детей: двое мальчиков и четыре девочки.
Несмотря на крайнюю бедность, Фишель Азеф провел всех своих детей через гимназию. Евно Азеф окончил ее в 1890 году, затем давал частные уроки, был репортером местной газеты «Донская пчела», писцом в торговой конторе, мелким коммивояжером. В 1892 году попал под наблюдение полиции в связи с распространением революционных листовок. В 1892 году уехал в Германию, поступил в политехникум в Карлсруэ... В 1893 году, 4 апреля, написал оттуда в Департамент полиции первое письмо: «Сим имею честь заявить Вашему превосходительству, что здесь месяца два назад образовался кружок лиц — революционеров...»
Сколько же раз Герасимов листал формуляр Азефа (он же — Раскин, Виноградов), вновь и вновь убеждаясь, что понимает каждый его шаг, каждое движение его души, что может верить этому толстому, внешне неприятному человеку, как самому себе.
Втайне он порою даже признавался самому себе, что в натурах у них есть нечто общее: оба — из низов, из плебеев. Отец Герасимова — простой украинский казак, чем он, в сущности, выше мелкого еврейского портного и купца Фишеля Азефа, владельца лавки «с красным товаром» в обезумевшем от алчности Ростове. У Евно — ростовская гимназия, у него, Саши Герасимова, харьковское реальное училище, у обоих — дань моде — влечение к революционным кружкам и мелкие в связи с этим неприятности. И бешеное стремление выбиться в люди, вырваться из нищей, обрыдшей своею беспросветностью среды, в которой они оказались по воле рока, предопределившего им место в жизни по низкому рождению. Евно решил стать инженером, Саша тоже попытался получить инженерный диплом, да не вышло, стал юнкером, тут казачье происхождение все же сработало. И опять совпадение: Евно стал тайным агентом полиции, Александр, после нескольких лет гарнизонной офицерской службы перешел в корпус жандармов, видя в этом единственную возможность выбиться из тоски дремучей обыденности и опостылевшей бедности. И финал: Евно Азеф, Евгений Филиппович, как называл его Герасимов, по примеру Лопухина, Зубатова, Ратаева и Рачковского — своих предшественников по руководству Азефом, стал человеком номер один в черном мире террора, а он — генералом корпуса жандармов...
Герасимов пустил аккуратно подшитые листки формуляра веером, словно карточную колоду, и из досье выскользнуло несколько незакрепленных, недавно вложенных им, Герасимовым, листков.
Генерал разложил их перед собою.
Да, вот он и финал, вернее, не финал, а прелюдия к нему, последнее, что связало их судьбы в общем деле. Письмо бывшего директора Департамента полиции Алексея Александровича Лопухина, человека и создавшего Азефа, и погубившего его, письмо премьеру Российской империи Петру Аркадьевичу Столыпину.
Герасимов знал его наизусть, но по привычке к обстоятельности начал перечитывать с даты.
21.11.1908 г. Милостивый Государь Петр Аркадьевич! — писал Лопухин четким, аккуратным почерком.
«Около 9 часов вечера 11 сего ноября ко мне на квартиру в доме 7 по Таврической улице явился известный мне в бытность мою директора Департамента полиции с мая 1902 года по январь 1905 года, как агент находящегося в Париже чиновника Департамента полиции, Эвно Азев и, войдя без предупреждения ко мне в кабинет, где в то время я занимался, обратился ко мне с заявлением, что в партию социалистов-революционеров, членом которой он состоит, проникли сведения об его деятельности в качестве агента полиции, что над ним происходит поэтому суд членов партии, что этот суд имеет обратиться ко мне за разъяснениями по этому поводу и, что вследствие этого, его, Азева, жизнь находится в зависимости от меня.
Около 3 часов дня сего числа ко мне при той же обстановке, без доклада о себе, явился в кабинет начальник Санкт-Петербургского охранного отделения Герасимов и заявил мне, что обращается ко мне по поручению того же Азева с просьбой сообщить, как поступлю я, если члены товарищеского суда над Азевым в какой-либо форме обратятся ко мне за разъяснениями по интересующему их делу...»
Герасимов поморщился: донос. И пишет донос дворянин, человек, род которого прослеживается в глубь седых веков, аж к самому косожскому князю Гедеде! Человек, в роду которого была даже императрица Евдокия Лопухина — супруга самого Петра I. Владелец тысячи десятин, унаследованных в Орловской и Смоленской губерниях. Аристократ, барин...
Герасимов по-простонародному выругался и тут же поймал себя на мысли, что и его местечковый друг Азеф тоже величайший матерщинник.
Да, оба они ненавидели белую кость, ненавидели голодной, завистливой ненавистью плебеев, понимающих, что как бы высоко ни вознесла их судьба, им никогда не избавиться от брезгливого презрения родовитых тупиц.
И тогда в барственно роскошном кабинете Лопухина Герасимов защищал своего друга и соратника, как только мог. Он прямо заявил, что весь ход суда над Азефом и все выступления на нем будут ему досконально известны, и что Департамент полиции постарается свести счеты с каждым, кто посмеет поставить под угрозу жизнь агента, пятнадцать лет прослужившего интересам Российской империи...
«...Усматривая из требования Азева, в сопоставлении с заявлением начальника охранного отделения Герасимова о будущей осведомленности его о ходе товарищеского расследования над Азевым, прямую, направленную против меня угрозу, — писал Лопухин Столыпину, — я обо всем этом считаю долгом довести до сведения Вашего превосходительства, покорнейше прося оградить меня от назойливости и нарушающих мой покой, а может быть, и угрожающих моей безопасности действий агентов политического розыска».
В конце письма Лопухин вежливо предупреждал, что на случай, «если Ваше превосходительство лично захочет объясниться», он предполагает 23 ноября уехать из Санкт-Петербурга недели на две за границу.
Герасимов с ненавистью прочел последние строки:
«Прошу Ваше Превосходительство принять уверение в совершенном моем почтении. А. А. Лопухин. 21 ноября 1908 года».
Он сложил листок и, сунув его между страниц формуляра, взялся за следующий, небольшой, карманного формата, типографский оттиск.
Никольский приподнял пустую чашечку и заглянул в нее.
— Еще кофе? — предложил я, по он отрицательно качнул головою:
— Нет, спасибо, у меня и так бессонница.
И, грустно улыбнувшись, добавил:
— Старческая... стариковская...
Мы помолчали.
— Так, значит, вы, господин писатель, ничего не знаете об Александре Васильевиче Герасимове? — вернулся к оставленной было теме Никольский. — И никогда ничего не слыхали о нем?
— Почему же? Имя мне это попадалось... в работах по истории революции. Но внимания на него не обращал. Честно говоря, меня больше увлекает современность...
Никольский укоризненно улыбнулся:
— Эх, господин писатель... А разве можно понять современность, не зная и не понимая истории? Разве не в истории ключ к пониманию того, что происходит с нами сегодня?
— И жандармский генерал Герасимов — тоже ключ к нашему сегодняшнему дню? — решил подзадорить я Никольского.
— А вдруг? — последовал мгновенно ответ, и на лице моего собеседника появилась загадочная улыбка.
* * *
...Герасимов сложил листок и, сунув его между страниц формуляра, взялся за следующий, небольшой, карманного формата типографский оттиск.
Большую часть его занимали две фотографии, одна помельче, другая покрупнее, и с обеих смотрел на Герасимова крупный, мрачноватого вида мужчина,
«Провокатор Евгений Филиппович Азев (Евно Азев)» — гласила набранная жирным шрифтом надпись над фотографиями, а под ними убористыми, помельче, строчками значилось:
«Партийные клички: Иван Николаевич, Толстый, Валентин Кузьмич.
Клички охранки: Раскин, Виноградов».
Герасимов усмехнулся: господа социалисты-революционеры знали отнюдь не все клички, под которыми целых пятнадцать лет и семь месяцев работал в самой верхушке их партии этот гениальнейший сотрудник российской охранки! Даже Владимира Львовичу Бурцеву, так глубоко проникшему в самые сокровенные тайны охранников и прервавшему блестящую карьеру Евно Азефа своими разоблачениями, так и не удалось вызнать о нем всю подноготную!
«Приметы: толстый, сутуловатый, выше среднего роста, ноги и руки маленькие, шея — толстая, короткая. Лицо круглое, одутловатое, желто-смуглое; череп кверху суженный; волосы прямые, жесткие, обыкновенно коротко подстриженные; темный шатен», — продолжал читать Герасимов столько раз уже читанные и перечитанные им строки.
«Лоб низкий, брови темные, внутренние концы слегка приподняты; глаза карие, слегка навыкате, нос большой, приплюснутый, скулы выдаются, одно ухо оттопыренное (какое же? — захотел вдруг припомнить Герасимов, и перед мысленным взором его предстало лицо Азефа: точно, оттопырено левое ухо, и он удивился: как это он, крупнейший специалист охранного дела, никогда раньше этой приметы в Азефе не отмечал!), губы очень толстые и выпяченные, чувственные, нижняя часть лица слегка выдающаяся. Бороду обычно брил, усы носил подстриженные».
И фотографии. На одной, той, что поменьше, Азеф без головного убора, в модном светлом костюме, толстые щеки подпирает высокий, стоячий воротничок белой рубашки, на толстой короткой шее галстук-бабочка, короткие жесткие волосы ежиком, франтоватые усы, нафабренные, вразлет, с лихо закрученными кончиками.
— Что ж, Евгений Филиппович был видный мужчина и всегда тщательно следил за своей внешностью, — с одобрением (в который за годы их знакомства раз!) отметил Александр Васильевич и улыбнулся вдруг пришедшему на ум объяснению франтоватости своего сотрудника: отец-то его, Фишель Азеф, был портным! И с какой завистью глядел, наверное, маленький, полуголодный оборвыш Евно на красивые, модные костюмы, которые шились его неудачником отцом для местных франтов, прельщаемых его дешевой и добротной работой! Именно тогда, наверное, у маленького Евно и появилась мечта: одеваться модно и красиво.
А вот другая фотография, раза в два побольше, чем первая.
На ней Азеф в темном, наглухо застегнутом пальто с воротником шалькой. На голове кепи с коротким козырьком и наушниками, пристегнутыми к полосатому верху. Снимок сделан в три четверти и подчеркивает оттопыренное, мясистое ухо. Мясистые щеки наплывают на воротник, усы пострижены коротко, без лихости, в выпученных глазах настороженность, тревожность. Тяжелая круглая голова лежит прямо на покатых массивных плечах.
— И где только эсеры раздобыли такие разные фотографии для этой листовки, — вздохнул Герасимов, — не иначе, как из семейного альбома... Ну, конечно же, Любовь Григорьевна Азеф, потрясенная разоблачением мужа и, стараясь доказать лояльность партии, выдала эсерам все, что могло бы помочь в охоте на их падшего кумира.
Листовка эсеров была последним документом в формуляре Азефа, последним штрихом его драматической карьеры в Департаменте полиции. Ее расклеивали в бедных парижских столовках и кафе, где собирались русские эмигранты, распространяли в Берлине, Вене и Лондоне, она ходила по рукам в Санкт-Петербурге и Москве, в Киеве и Одессе, в Ревеле и Гельсингфорсе. Азефа искали всюду и нигде не могли найти. Он исчез, словно его никогда не было, исчез, как дурной сон, оставивший после себя лишь мерзкое настроение и желание поскорее забыться.
Часы в углу принялись отбивать время. Бум, бум, бум, — голос их был хрипловат, надтреснут. Наступила полночь. Все. Сегодня сюда уже больше никто не придет, а завтра генерал Герасимов исчезнет, растворится в европейских просторах и будет ждать своего часа, часа, который обязательно придет!
* * *
... — Я знал генерала Герасимова.
Никольский произнес это почти с гордостью, плечи его по-военному распрямились, подбородок вздернулся.
— Да, я знал Александра Васильевича, — повторил он и замолчал, впившись острым взглядом в мое лицо. Он явно ожидал моей реакции, чтобы продолжать дальше, но я медлил, не зная, как реагировать на его почти хвастливое заявление.
— Интересно, — наконец подыскал я нужное слово. — Как же сложилась, в конце концов, его судьба? Разве вы успели застать его в живых?
— Да, господин писатель! Застал!
И опять в его словах мне послышалось какое-то хвастливое торжество.
— Мы встречались с ним в Париже, в тридцатых годах. Он был уже в преклонном возрасте, ведь родился он, господин писатель, если мне не изменяет память... в... в... одна тысяча восемьсот... восемьсот...
Лоб Никольского пошел мелкими стариковскими морщинами.
— ...восемьсот семьдесят первом году!
Справившись с одряхлевшей памятью, он с облегчением рассмеялся и уверенно продолжал:
— Он и в дни нашего знакомства был крепок, как в свои лучшие годы, собирал различные документы, хотел написать исторический труд о своей борьбе с революцией. И одновременно писал воспоминания. Я был тогда молодым и зарабатывал на жизнь журналистикой, писал всякую ерунду для эмигрантских газет, интервьюировал обломков империи, каждый из них в те годы хотел вновь оказаться на виду и урвать себе долю эмигрантского пирога. Я тогда был еще молод, он уже стар. Он по-стариковски любил говорить, я, по профессии, любил слушать и этим ему нравился, ведь и в те времена, как и в наши, умеющих слушать было гораздо меньше, чем умеющих говорить. И кроме того, в обществе еще жила память об Азефе. Опубликовал свои воспоминания Владимир Львович Бурцев... Его-то, надеюсь, вы знаете?
Я неуверенно кивнул головой:
— Эсеровский публицист, разоблачавший провокаторов в революционных организациях?
— По духу скорее народоволец, — поправил меня Никольский. — С эсерами, особенно в канун революции, он был чуть ли не на ножах, хотя, как и они, одно время считал, что монархию свалить можно с помощью террора. А вообще-то это был просто индивидуалист, одиночка, да и революция ему была не особенно-то и нужна. Вышла у него известная в ту пору книга «Воспоминания»... Так вот он о своей программе писал так...
Лоб Никольского опять пошел морщинами, лицо напряглось, веки опустились... И опять он справился с не-послушной памятью:
— Он писал... он писал... Да, он писал вот так: «Я постоянно твердил, что нам надо только свобода слова и парламент и тогда мы мирным путем дойдем до самых заветных наших требований». Нет, он не был революционером. А после Октября стал издавать в Париже белогвардейскую газету «Общее дело» и сколачивал контрреволюционный «Национальный комитет». Но именно он, Бурцев, разоблачил Азефа и нескольких других крупных полицейских провокаторов, таких, как шлиссельбуржец Стародворский и большевистский депутат в государственной думе Малиновский...
— Что ж, заметная личность тех лет, — согласился я с моим собеседником, все более недоумевая, куда же это он весь вечер ведет разговор...
— Разоблачение Азефа было звездным часом Бурцева, вершиной его политической карьеры, карьеры охотника за провокаторами. В тридцатые годы об Азефе писалось много, в эмигрантской прессе появлялись все новые и новые документы об этом черном эпизоде в истории революции, эпизоде настолько черном, что его называли «чернее ночи». Кто только тогда не писал об Азефе! Писали все, кроме... кроме Александра Васильевича Герасимова, последнего руководителя Азефа...
— Но почему же генерал Герасимов не хотел писать об Азефе? — осторожно заговорил я, инстинктивно почувствовав, что рассказ Никольского приближается к кульминации. — Не хотел ворошить старое? Чего-то боялся?
— Герасимов чего-то боялся? — с возмущением отшатнулся от меня Никольский. — Да знаете ли вы, господин писатель, что Александр Васильевич был смел до авантюризма! Энергии у него хватило бы на десятерых, а инициативы — на добрую сотню своих коллег по службе! Он был упрям и упорен, как и положено службисту-украинцу, честолюбив, как и положено плебею. Знаете ли вы, кто разгромил революцию девятьсот пятого года?
Я пожал плечами:
— В школе нам говорили, что революционные выступления подавили семеновцы, переброшенные в Москву из Петербурга...
— В Москву — да. Из Петербурга! Вы говорите о московском восстании. А почему тогда не произошло выступление революционеров в Петербурге? Почему стало возможным перебросить войска из Петербугра в Москву, это вы знаете, господин писатель?
Теперь на лице Никольского было ликование, словно он торжествовал собственную победу.
— Честно говоря, — смущенно признался я, — в школе мы в такие детали не углублялись, да и тот период нашей истории был у нас не слишком в большом почете. Так... все бегло... по верхам... Слишком много имен того времени не рекомендовалось даже упоминать.
— Я это знаю, — милостливо кивнул он и продолжал уже спокойнее: — Так вот, революцию девятьсот пятого года разгромил Александр Васильевич Герасимов, в те поры начальник Санкт-Петербургского отделения охранки.
* * *
...Министр внутренних дел Российской империи Петр Николаевич Дурново хмуро молчал.
За окном кабинета стыл декабрьский петербургский день, нагоняющий беспричинную тоску и уныние, внушающий ощущение безысходности, парализующий волю и желания. Какая-то липкая муть текла по стеклу, и казалось, что жизнь кончена и мир умирает, готовясь вот-вот испустить последний вздох.
Кроме Николая Петровича, в кабинете было еще два человека. Один в форме полковника корпуса жандармов, подтянутый, напрягшийся, как пружина, стоял, опираясь крепкими пальцами на спинку кресла, другой, в темном, хорошо сшитом сюртуке, с бледным и сонным лицом сидел в кресле напротив. Взгляд его был устал и скучен.
— У нас только один выбор, ваше превосходительство, — напористо говорил жандармский полковник, глядя в упор в лицо министра. — Или мы будем служить революционным украшением петербургских фонарей...
Он сделал многозначительную паузу:
— Или...
Дурново болезненно поморщился — с утра разыгралась мигрень, и он с удовольствием отказался бы от этой сегодняшней встречи с полковником Герасимовым, начальником столичного охранного отделения, и министром юстиции Акимовым. Но Герасимов настаивал с таким упрямством, что отказаться было никак, ну, никак невозможно.
Что ж, полковник был известен напористостью и привычкой добиваться своего во что бы то ни стало.
— Или их, — подчеркнул он с нажимом, — пошлем в тюрьмы и на виселицу!
Дурново покосился на Акимова, пытаясь понять реакцию на это заявление министра юстиции, но лицо министра было бесстрастно, словно происходящий разговор не имел к нему никакого отношения.
— Мы должны спасать империю, — продолжал Герасимов. — Неужели же вы не видите, что происходит в стране? Антиправительственная агитация ведется открыто. Революционеры подстрекают к восстанию, либералы гнут свое, стачки из экономических переходят в политические, даже эсеры приостановили террор, рассчитывая свалить нас с помощью того, что сейчас происходит в стране. Нужны действия, решительные, без колебаний. Еще немного, и время будет упущено — все развалится, рухнет. И восстановить все потом будет гораздо труднее, если вообще будет возможно! Действовать, действовать, ваше превосходительство — нанести решительный удар по Совету рабочих депутатов, обезглавить революцию...
— Революцию...
Дурново устало вздохнул и опять взглянул на полусонного Акимова, надеясь найти в нем поддержку.
— Но не упущен ли уже момент для того, о чем вы говорите, милейший Александр Васильевич? — Дурново положил тяжелую ладонь на лежащую перед ним папку, побарабанил по пей холеными пальцами:
— Вот видите... даже Департамент полиции вас не поддерживает в вашем... — он помедлил, подбирая слово, и вдруг энергично завершил фразу: — В вашем бонапартизме.
Герасимов кинул быстрый взгляд на папку, на ладонь министра, побагровел от закипающей в нем ярости, и продолжал, обращаясь уже не к начальству, а к папке под его рукою:
— Да, господа, Вуич и Рачковский представляли Департамент полиции на совещании по этому вопросу... На совещании, созванном, как всем известно, по моему требованию. Они руководят Департаментом полиции, но Вуич и Рачковский, даже вместе взятые, еще не весь Департамент. Вы знаете наши взаимоотношения, ваше превосходительство. Они ненавидят меня и стараются свести со мною счеты даже ценою гибели империи. Это безответственные, бездарные чиновники, только мешающие охранному делу.
Министр сухо кашлянул, выражая свое неодобрение горячности Герасимова.
— Мне все это известно, господин полковник. Абсолютно все!
И Дурново постучал ногтем указательного пальца по обложке лежащей перед ним папки.
— Из протокола совещания, которое вы упомянули, явствует, что его участники считают, что предлагаемые вами крутые меры еще больше обострят ситуацию, а то и вызовут революционный взрыв, для подавления которого у нас нет надежных сил. На одной позиции с вами стоит лишь представитель прокуратуры господин Камышевский.
Министр усмехнулся.
— Там же, на совещании, как вам известно, были намечены меры по умиротворению ситуации, но без каких-либо крутых мер.
— Но, ваше превосходительство, — смело продолжал наступать Герасимов, — полумеры будут только полумерами. В лучшем случае, они на время загонят болезнь вглубь. И, руководствуясь интересами Российской империи, я настаиваю на решительной и немедленной хирургической операции. План ее я могу представить вашему превосходительству уже сегодня вечером...
— Вы упрямый человек, полковник, и служебное рвение ваше похвально. Однако...
Голос Дурново дрогнул, словно он был не очень уверен в том, что сейчас собирался сказать. Лицо Герасимова напряглось, окаменело, он приготовился к удару. И удар последовал.
— Однако, господин полковник, я присоединяюсь к мнению большинства участников упоминаемого нами совещания...
И, стараясь не глядеть на искаженное яростью лицо Герасимова, Дурново перевел вопросительный взгляд на вдруг оживившегося Акимова:
— Вы, кажется, что-то хотите сказать, ваше превосходительство?
Министр юстиции выпрямился и развернул плечи, словно собираясь броситься в бой.
— А я, ваше превосходительство, целиком присоединяюсь к мнению полковника, — неожиданно поддержал он Герасимова. — Да, Петр Николаевич, положение действительно таково, что медлить нельзя: или мы их, или они нас!
— Но... — заколебался Дурново, не ожидавший такого поворота событий. — Брать на себя ответственность за возможные последствия... Это же... это же...
— Хорошо, — вскочил Акимов, — в таком случае я беру ответственность на себя...
С этими словами он выхватил из внутреннего кармана своего сюртука похожий на бумажник блокнот, вырвал из него лист с грифом министра юстиции и решительно шагнул к письменному столу.
— Позвольте, Петр Николаевич...
И, не дождавшись разрешения, откинул крышечку письменного прибора. Дурново растерянно смотрел, как он что-то быстро пишет на листке из блокнота. На лице Герасимова, читающего написанное из-за плеча Акимова, появилась злорадная улыбка, но он тут же постарался избавиться от нее.
— Возьмите, полковник... Это полномочия на производство всех тех обысков и арестов, которые окажутся необходимыми вам по долгу службы...
Никольский замолчал, наслаждаясь эффектом, произведенным на меня его рассказом. Потом, словно подводя черту, добавил:
— Так, по словам Александра Васильевича Герасимова, в декабре девятьсот пятого была решена судьба Петербургского Совета рабочих депутатов. Он был благополучно арестован, и никакого взрыва в Петербурге не произошло.
— Но в Москве восстание вспыхнуло, — напомнил я торжествующему Никольскому.
— И было подавлено с помощью войск, прибывших из умиротворенного Герасимовым Питера! — парировав он мое напоминание.
Некоторое время мы сидели молча. Никольский наслаждался произведенным им на меня впечатлением, а я, переваривая услышанное, грустно размышлял о том, как плохо мы знаем свою историю и как много нам еще предстоит в ней открыть.
— Но я, господин писатель, все еще не сообщил вам самое главное, — вновь заговорил наконец Никольский. — И я думаю, что вам, как писателю, как журналисту будет интересно то, что я сейчас расскажу...
Я выжидающе молчал.
— Так вот, — продолжал Никольский, и в голосе его опять появилась многозначительная таинственность: — Александр Васильевич Герасимов был умнейшим человеком и высочайшим мастером своего дела.
— Сыскного? — уточнил я.
— Охранного, — поправил меня Никольский. — Он создал и разработал совершенно новую для того времени систему охранного дела, собственно, если говорить по-сегодняшнему, контрразведку. Особенно в том, что касается агентов-двойников. Именно на них он и строил, можно сказать, свою работу. Но не это главное, господин писатель. А главное то... — Лицо его стало торжественным: — А главное в том, что Александр Васильевич, опять же говоря по-сегодняшнему, законсервировал своих лучших агентов в российском революционном движении. Да, да, господин писатель! Когда стало ясно, что придется оставить службу и все его предали, он стал вызывать своих агентов на секретную квартиру к себе и предлагать им выбор: если хотите продолжать сотрудничать с Департаментом полиции, пожалуйста, я верну ваши формуляры куда следует.
Если же не хотите, ваши формуляры я уничтожу в вашем присутствии, и никто никогда не узнает о том, что вы с нами сотрудничали, и вы будете в полной безопасности от разоблачения и сможете продолжать свою деятельность в революции... Многие выбрали последнее и не разоблачены до сих пор. — Он хитро рассмеялся: — Представляете, господин писатель, сколько сотрудников Департамента полиции встретило революцию в рядах честных борцов против самодержавия? А если допустить, что Евно Азеф был не единственной крупной фигурой из тех революционеров, которые служили Герасимову?
Представьте: а вдруг формуляры Азефа и таких, как он, не были уничтожены по какой-либо причине и теперь всплывут на свет божий? И признанные, уважаемые всеми вожди революции будут разоблачены, как многолетние сотрудники охранки? Это же политическая бомба! И всю историю русской революции придется переписывать заново!
— Конечно, — согласился я, с ужасом представив возникшую в случае таких разоблачений ситуацию: — Крушение исторических авторитетов, крах героев, которым поклонялись и в которые верили многие десятилетия... Но ведь Герасимов, как вы сказали, уничтожил все формуляры. И гипотеза ваша... ну, как бы это сказать... беспочвенна, фантастична!
— Вы так думаете? — многозначительно улыбнулся он, и я вдруг почувствовал, что эта его многозначительность начинает меня раздражать. Наверное, раздражение как-то отразилось на моем лице, потому что глаза его сразу же потухли, тонкие бесцветные губы сжались, торжествующая улыбка исчезла, как будто ее стерли одним движением ладони, — он опять стал самим собою, жалким, сломленным жизненными невзгодами, одиноким стариком.
— Однако, господин писатель... — робко обратился он ко мне. — Будьте так любезны, не сочтите за труд... который час? Мои часы в ремонте и...
— Без четверти семь, — постарался ответить я как можно дружелюбнее, боясь, что своей несдержанностью уже обидел этого беззащитного человека, в кои годы, наверное, почувствовавшего себя в центре чьего-то внимания, ощутившего свою значимость и пытавшегося самоутвердиться в ней перед собеседником.
— Без четверти семь? — испугался он. — Баронесса Миллер рано ложится спать... А я так и не принес ей книги!
И тут же поспешно вскочил, чтобы откланяться:
— Ради бога, господин писатель... Извините уж мою болтовню. Наплел я вам тут с три короба... какие-то бредни... фантазии... Извините уж, это все от арака... Нельзя мне спиртное. И здоровье, и годы, сами понимаете. И за ужин спасибо. Большое спасибо. Давно уж я так хорошо не кушал, признаюсь вам честно.
— Это я должен перед вами извиниться, — встал из-за столика и я. — Отнял у вас столько времени своими расспросами, задержал ваш визит к баронессе Миллер. Это не вы, а я должен благодарить и извиняться... Вы рассказали мне сегодня столько интересного, что хоть немедленно начинай писать книгу.
— Правда? — искренне обрадовался Никольский. — Вы думаете, что можно написать книгу?
— Конечно. Если только получить доступ к определенным документам, может получиться сенсационная вещь.
Лицо Никольского погрустнело, и он отвел глаза.
— Александр Васильевич Герасимов тоже хотел написать об этом книгу. Он мне не раз говаривал об этом. И даже писал воспоминания...
— И они были опубликованы? — в голосе моем прорвалось неожиданное для меня беспокойство.
— По-моему... нет, — неуверенно ответил Никольский, поднимая с пола у столика связку томиков Тургенева. — Но цитаты из его неопубликованных воспоминаний я встречал в книгах наших земляков в эмиграции.
Он бросил вопросительный взгляд на мою левую кисть, напоминая об уходящем времени.
— Да, да, — понял его я. — Сейчас я отвезу вас к баронессе Миллер.
— Спасибо, господин писатель. Но, может быть, не стоит вам рисковать. Уже темно, а время лихое. Я-то уж как-нибудь проскользну, взять с меня нечего, даже часов нет. А вы — на хорошей машине, да при деньгах... Зачем рисковать понапрасну?
— Нет уж, Лев Александрович, — возразил я. — Я же вам обещал! Не я — так вы давно бы уж дома были...
Официант, терпеливо наблюдавший все это время за нашей беседой у столика, подскочил мгновенно, стоило мне лишь бросить взгляд в его сторону. В руках его была тарелочка, на которой лежал счет и горка мелочи — сдача с круглой суммы, причитающейся с нас за ужин.
Я расплатился и вернул официанту тарелку с мелочью. Никольский взглянул на меня с осуждением: бедняга привык ценить каждый пиастр...
...Особняк баронессы Миллер располагался в старом бейрутском квартале, примыкающем к набережной неподалеку от портового маяка. Это было довольно обветшалое строение, вилла в мавританском стиле, появившаяся на берегу тихой бейрутской бухты, видимо, еще в конце прошлого века. Стояла она на вершине лысого, стираемого временем холма, огороженного полуразрушенной каменной стеной с остатками некогда нарядной чугунной решетки. Просторная терраса, украшенная тонкими витыми колоннами и выходящая на море, была в этот час ярко освещена. Створки старинных чугунных ворот распахнуты настежь, и сразу же за ними, при въезде стояло несколько плетеных садовых кресел. Трое парней с автоматами за плечами о чем-то оживленно болтали, сидя в креслах с кофейными чашечками в руках.
Подъехав к воротам, я притормозил, и парии сразу же насторожились. Я вопросительно посмотрел на Никольского, готовясь с ним распрощаться. Но выходить из машины он не спешил.
Тем временем один из охранников нехотя поднялся из своего кресла, поставил на его решетчатое сиденье кофейную чашку, снял с плеча автомат и направился к нам. Рука его, держащая оружие, была напряжена.
— Зажгите свет, — подсказал мне Никольский, и я не мешкая исполнил его просьбу.
Подойдя к машине, охранник бесцеремонно заглянул к нам в освещенный салон. Его цепкий взгляд скользнул по моему лицу и сразу же уперся в Никольского.
— Мархаба, ахлян васахлян![3] — улыбнулся охранник, узнав моего спутника, и левой рукою, свободной от оружия, сделал приглашающий жест в сторону виллы.
Я вывернул руль и, сопровождаемый идущим рядом с машиной охранником, медленно въехал в ворота. Сидящие в кресле вооруженные парни приветственно помахали нам и продолжали пить кофе.
Широкая аллея, покрытая асфальтом и обсаженная старыми кипарисами, уперлась в каменные ступени, расходящиеся пологим полукругом от входной двери виллы. И едва Никольский вышел из машины, как тяжелая, обитая резными бронзовыми полосами дверь на вершине каменного крыльца приоткрылась и из нее выскользнула легкая, стройная фигурка девушки в щегольски сшитом фартучке и с высокой белой наколкой на голове.
Никольский поспешно поднялся по ступеням и протянул девушке, сделавшей навстречу ему изящный книксен, стопку привезенных им книг.
Девушка приняла их, что-то сказала Никольскому, указывая взглядом на машину и меня, сидящего за рулем. Никольский согласно кивнул и поспешно спустился по ступеням к машине.
— Господин писатель, — смущенно обратился он ко мне. — Я, право, не знаю... не смею отрывать у вас драгоценное время... Но... так уж получилось, ради Бога только извините! Баронесса просит нас пожаловать на чашечку кофе. Уж и не знаю, что делать... Я и так отнял у вас целый вечер.
— Но... как она узнала, кто с вами в машине? — удивился я приглашению.
Никольский, поняв, что я не собираюсь отказываться, почувствовал себя увереннее. На лице его появилась почти снисходительная улыбка:
— Сразу видно, господин писатель, что вы плохо знаете нравы нашей русской колонии. Это вы, советские, с нами почти незнакомы, а у нас вы все на виду, ведь каждый из вас — это ниточка, тянущаяся к России... А про вас, господин писатель, я рассказывал баронессе много раз — она редко выходит теперь в свет... не те уже силы, а ум у нее до сих пор светлый, любопытствующий.
— Но как она узнала, что вас привез именно я? — по-другому сформулировал я все тот же свой вопрос.
— Я... я рассказывал ей даже о вашей машине, — смутился Никольский. — Надо же мне было ей о чем-то рассказывать... Она страдает от одиночества, ей нужен собеседник, и я...
Он смущенно кашлянул:
— Ей нравится со мною беседовать. А тем для бесед у нас, вы уж меня извините, не так-то сегодня и много. И потом вот...
Никольский сделал плавный жест, указывая рукою в сторону приоткрытой двери. Я поднял взгляд и увидел над дверью объектив телекамеры.
— У баронессы стоят телекамеры, она любит видеть, что происходит у ее дома. И конечно же, с моих слов, узнала вашу машину...
Миловидная смуглая горничная (похоже — филиппинка), взявшая у Никольского книги, провела нас по широкой, устланной коврами лестнице на второй этаж, кивком попросила подождать и скрылась за дверью драгоценного черного дерева. И почти сразу же вернулась, пропуская нас в жарко натопленную, ярко освещенную, пахнущую сандалом просторную комнату.
Первое, что бросилось мне в глаза, был большой нарядный камин, в котором багровели догорающие угли. На мраморной каминной доске между двух старинных бронзовых канделябров стояли такие же старинные часы с лукавыми амурами. По обе стороны камина грозными башнями громоздились рыцарские доспехи, собранные в фигуры грозных стражей с опущенными забралами и тяжелыми крестообразными мечами.
— Прошу, господа, прошу, — услышал я хрипловатый, надтреснутый голос: навстречу нам шла высокая, стройная женщина неопределенного возраста, в подчеркнуто строгом длинном черном платье. Седые серебряные волосы, уложенные в высокую прическу, открывали высокий лоб, тронутый легкими морщинами. Спокойные серые глаза были в ироническом прищуре, твердые губы приветливо улыбались.
— Здравствуйте, господа, — подошла она к нам и величественно протянула руку для поцелуя, сначала мне, потом Никольскому. Рука была холодная, холеная, пахла дорогими духами.
— Ах, господин писатель, — услышал я укоризненный голос. — Как же вам не стыдно? Вы у нас здесь, в Бейруте, так давно и за все это время не нашли времени, чтобы сделать мне визит.
Она улыбнулась мне одними губами, кроме них, ни один мускул не дрогнул на ее застывшем, словно маска, лице.
— Конечно, полвека назад, когда я была помоложе, вы бы и не подумали манкировать моим домом. А теперь баронесса Миллер уже никому не нужна, кроме горстки старых и верных друзей...
Она перевела иронический взгляд на уважительно склонившего голову Никольского и благосклонно ему кивнула:
— Разве я не права, Лев Александрович?
— Ради Бога, Ольга Николаевна! Господин писатель и думать не смел... манкировать... Прошу вас... не сердитесь на него, он...
Никольский запутался в словах, смешался и умолк, почтительно заглядывая в холодные серые глаза баронессы.
— Ах да, — великодушно пришла она ему на помощь. — У советских ведь все по-другому. Их нельзя винить за это...
И опять улыбнулась мне только одними губами, будто кожа ее лица была так натянута, что не позволяла шевельнуться ни одному мускулу:
— Я не сержусь на вас, господин писатель. И в самом деле — какой интерес вам, молодому человеку, убивать время с нами, обломками Российской империи!
Последние два слова она произнесла подчеркнуто гордо, почти высокомерно, и глаза ее при этом блеснули.
Я растерянно развел руками, не находя слов для ответа. Никогда, никогда в жизни мне не доводилось еще общаться с настоящими русскими аристократами, а то, что баронесса Миллер была именно такой аристократкой, я не сомневался.
— Но что ж мы стоим у двери, господа? — сменила гнев на милость баронесса. — Прошу...
И сделала величественный жест в сторону ломберного столика, из-за которого встала при нашем появлении. На столике в неоконченном пасьянсе лежали новенькие атласные карты, рядом стоял жесткий стул с неудобной прямой и высокой спинкой. Тут же теснились пуфы, обтянутые темно-синим бархатом и обшитые витыми шнурами.
Баронесса подошла к столику и величественно, словно на трон, опустилась на стул, приказав нам взглядом занять пуфики по обе от нее стороны. Когда мы уселись, она подняла стоявший на столике бронзовый колокольчик и небрежно качнула его раз, другой.
Дверь сейчас же растворилась, и горничная-филиппинка вкатила столик на колесиках с серебряным чайным сервизом и небольшим, тоже серебряным, самоваром. Осторожно подкатив столик к баронессе, горничная сделала книксен и бесшумно удалилась, предоставив хозяйке самой руководить церемонией чаепития...
— Премьер-министр поручил мне передать вам его личную благодарность за операцию в Бейруте!
Невысокий пожилой человек встал из-за письменною стола, обошел его и по очереди пожал руки — сначала Фелиции, затем Дэвиду. Седые волосы его были коротко острижены и торчали серебряной щетиной над узким упрямым лбом, из-под густых, взлохмаченных бровей смотрели бархатные — навыкат — блестящие глаза. Тяжелый, выдвинутый вперед подбородок я короткий широкий нос делали его похожим на старого боксера.
Бледное лицо Фелиции вспыхнуло, залилось густым румянцем.
— Мы выполнили наш долг, господин Профессор, — скромно ответила она и сразу же перевела взгляд на Дэвида, навытяжку стоящего рядом с нею.
— Долг перед нашим народом! — отчеканил тот и щелкнул каблуками.
Профессор поморщился:
— Все правильно, только не надо патетики! Наша с вами профессия зиждется на скромности...
Переваливаясь на коротких ногах, он вернулся за стол.
— Прошу садиться...
На столе, слева от Профессора, красовался дисплей персонального компьютера. Рядом — длинная металлическая коробка, заполненная картотечными бланками, и стопка исписанных листков бумаги.
— Ну вот, — с удовлетворением продолжал Профессор. — Теперь имя Абу Асафа отправится в самый дальний угол нашей памяти...
Он кивнул на экран дисплея, потянулся было к его клавиатуре, но передумал.
Фелиция и Дэвид с почтением взирали на него, осмелившись присесть лишь на кончики предложенных им кресел.
— Что ж, будем считать, что с официальной частью у нас покончено, — ласково улыбнулся им Профессор, — вы, дорогие мои коллеги, честно заслужили награды, отпуск... ну и все, что полагается у нас за блестящее выполнение задания. Но...
Он предостерегающе поднял указательный палец правой руки, заметив, что сидящие перед ним сотрудники при этих словах хотели было вскочить...
— Но, как мне помнится, я просил вас еще об одном. О совсем маленькой, лично для меня, услуге... Повторяю: лично для меня и только для меня. И...
Теперь в его колючем взгляде было ожидание, и смотрел он на побледневшего вдруг Дэвида.
— Извините, господин Профессор! — все-таки вскочил тот с места и виновато развел руками: — Пока что просьбу вашу мне выполнить, к сожалению, не удалось. Мы вышли на след, как мне кажется, нужного нам человека, но уже накануне «дня Икс», и побоялись поставить под угрозу главную операцию...
Профессор грустно улыбнулся и вздохнул.
— Главную операцию? Что ж! Ликвидация Абу Асафа, который числился в нашем списке как «террорист номер один», действительно была очень важной операцией. Но лично для меня... — Он помедлил, подбирая выражение, и продолжал: — И для нашей страны... то, что я просил вас сделать, может оказаться куда более важным.
Дэвид виновато потупился, губы Фелиции надулись, как у обиженного ребенка.
— Мы... — начала было она фразу, явно нацеленную на оправдание.
Но Профессор опять предостерегающе поднял указательный палец.
— Но не будем об этом сегодня. К тому же речь идет всего лишь об услуге лично мне, услуге, которая в ваши служебные обязанности отнюдь не входит
— Но, Профессор, — опять начала было Фелиция. — Мы постараемся... — ...все-таки оказать вам эту услугу, — закончил неоконченную ею фразу Дэвид.
Професор кивнул и встал, давая понять, что аудиенция окончена.
Оставшись один, он поудобнее устроился в кресле, отодвинул матерчатую шторку, закрывающую экран дисплея, положил пальцы на клавиатуру и задумался.
О, если бы молодые люди, только что покинувшие его кабинет, знали всю ценность услуги, которую они не смогли оказать ему там, в Бейруте! Впрочем, как они могли это знать? Ведь никто, никто, кроме него самого, не додумался до... Он попытался мысленно подобрать определение того, до чего он додумался. Гипотеза? Идея? План? Пожалуй, и то, и другое, и третье. И в самом ли деле он додумался?
Нет, это скорее была неожиданная, шальная и дерзкая мысль из тех, что внезапно, как молния, вспыхивают в мозгу, разряд перенакопившейся энергии, тот самый взрыв, которым количество переходит в качество! Другое дело, что мысль эта появилась не случайно, что появлению ее предшествовали многие годы труда, тяжелого, кропотливого и часто неблагодарного. Копание в архивах, в подшивках старых газет, в чудом сохранившихся документах давних лет — словом, настойчивый и кропотливый поиск, на который обречен каждый серьезный ученый, а он, Профессор (даже наедине с самим собою, даже мысленно он не назвал себя по имени, а только так, как называют его в возглавляемой им организации — Профессор), он действительно ученый. И что из того, что судьба толкнула его на иной, далекий от настоящей науки путь. Он был уверен — его время придет и коллеги-историки будут ссылаться на его открытия, будут цитировать его работы, сокрушающие всеми признанные авторитеты и заставляющие переосмысливать целый период новейшей истории. И ключ ко всему этому, если он существует, может храниться там, в Бейруте, так близко и в то же время так далеко...
Сердце его учащенно билось, и, чтобы унять волнение, он проглотил таблетку, которую достал из верхнего ящика своего просторного стола: лекарств там было множество, он привык неукоснительно исполнять все предписания медицины, а она с каждым годом ставила диагнозы все суровее и суровее. И он знал, что в скором времени прозвучит непререкаемое: отставка!
От этой мысли на душе посветлело, он улыбнулся. Что ж, это его не пугает. О нем, как и о его предшественниках, немного поговорят в газетах: мол, всплыло имя еще одного ушедшего в отставку шефа известной во всем мире секретной службы! Поговорят и забудут, как это бывало уже в подобных случаях, а он получит место в каком-нибудь тихом университете здесь, в его стране, или за рубежом и будет продолжать исследования по своей любимой теме: революционное движение в России на рубеже XIX и XX веков... Но до этого, пока есть возможность, нужно завершить операцию в Бейруте, его собственную, личную операцию, так много могущую значить и для него, и для исторической науки...
Сердце уже успокоилось, ритм его был четок и уверен.
Профессор включил дисплей, набрал известный лишь ему одному код, и на голубоватом засветившемся экране начали выстраиваться зеленые мерцающие строки. Электронная память холодно и беспристрастно повторяла все то, что он сам в свое время вложил в нее, концентрируя почерпнутое в архивах...
...Евно Фишелевич Азеф, — выстраивались в слова и строки мерцающие буковки — «Агент осведомительной службы» (термин правительства). Руководитель террористической боевой организации Партии социалистов-революционеров (эсеров), член ЦК этой партии. Партийные клички: Толстый, Иван Николаевич, Валентин Кузьмич.
Клички в охранке: Виноградов, Раския, Филипповский, Вилинский, Валуйский, Даниэльсон, Доканский. Полковник Герасимов и другие жандармские руководители Азефа называли его при обращении Евгением Филипповичем...
* * *
...Евно вздохнул и тяжело перевернулся на правый бок. Металлическая сетка расшатанной, продавленной кровати отозвалась противным скрипом — кровать была старой, на выброс, но владелица дома № 30 на Вердер-штрассе, сдававшая меблированные комнаты студентам, приехавшим учиться в политехникуме Карлсруэ, считала, что кровать послужит еще немало лет, и не одному поколению рвущихся к знаниям молодых людей.
— Дерьмо! — выругался Евно, и ругательство это относилось не только к хозяйке, ко всему, что его окружало, что было, есть и будет, ибо ничего хорошего ему не предвиделось и в будущем.
Он лежал на кровати в одежде, плюхнулся на постель сразу же, как пришел с лекций, сбросил только башмаки, грубые, дешевые, под стать тому ненавистному тряпью, в которое он по своей нищете вынужден одеваться.
Деньги, 800 рублей, с которыми он приехал в Германию год назад и которые казались тогда целым богатством, разошлись как-то неожиданно быстро. И опять надвинулась нищета, нищета, которая преследовала его с той поры, как он себя помнит, нищета, виноватая во всем.
Он зарылся лицом в тощую, похожую на блин, подушку и заскрипел зубами, давая выход накатывающейся на него ярости. О, что бы он только не сделал, чтобы избавиться от нищеты, навсегда забыть ее безжалостную унизительность, ее жгучий позор...
У него не было детства. Отец, местечковый портной, каждый день скандалил с матерью, не знающей, как свести концы с концами, и от того по малейшему поводу впадающей в истерику: она даже убегала из опостылевшего ей дома и, бросив мужа и вечно голодных детей, подолгу где-то скрывалась. Но потом возвращалась — с виноватыми глазами и трясущимися руками, жадно, истерично ласкала детей и как-то по-собачьи заглядывала в почерневшее от безысходности лицо мужа.
Евно было пять лет, когда Фишель Азеф решил перебраться в Ростов. По слухам, там делались миллионы из ничего, из воздуха, надо было только не лениться и иметь голову на плечах, и конечно же, не быть чистоплюем!
Да, Ростов — это был Ростов! Состояния здесь сколачивались молниеносно, впрочем, как и прожигались. Роскошные рестораны, разряженные дамы и господа, разъезжающие в сверкающих лаком, запряженных холеными рысаками колясках, сказочные, поражающие воображение витрины магазинов, балы-маскарады и благотворительные вечера, заезжие театры и афиши с именами столичных и европейских знаменитостей... Там, в Ростове, Евно вдруг открыл для себя совершенно иной мир, о котором и не подозревал раньше, открыл и понял — именно этот мир должен стать его жизнью. Иначе ему не жить, иначе он погибнет, уничтожит сам себя черной, безысходной тоской, днем и ночью изводящей душу и сердце завистью.
И еще он понял — он должен всего добиться сам, сам, любыми средствами, что никто ни в чем не поможет ему, ни в ком не найдет он опоры...
Евно перевернулся на спину, и под его массивным, громоздким телом опять противно запели пружины. На душе было муторно, постыло: жизнь кончалась, так и не успев, в сущности, начаться. Он закрыл тяжелые веки, стараясь совладать с приступом депрессии, расслабиться, ни о чем не думать, погрузиться в спасительную дрему...
В гимназии он учился плохо. Говорили, что ленив и неспособен к наукам. Но до седьмого класса дотянуть все-таки удалось, а затем — уход из дома, заезжая актерская труппа — и вместе с нею к морю, в Ялту. Казалось, вот оно — начало завоевания жизни! И сразу же отрезвление — за балаганной мишурой, за фальшивым блеском сцены — опять нищета, опять унижения, опять тоскливая зависть. И позор возвращения в ненавистный отчий дом. Что из того, что отец сумел приписаться к купеческой гильдии и открыл лавку с «красным товаром»? В миллионщики он не пробился, как был нищим, так и остался. И держать на шее этого здоровенного, прожорливого и вечно голодного «босяка» он не хотел и не мог. Впрочем, не хотел этого и сам Евно. Что из того, что в гимназии он получил не диплом об окончании, а только какую-то сомнительную справку. Кто ее будет спрашивать, тем более родители двоечников-гимназистов, старающихся подыскать для своих балбесов репетиторов посговорчивее. А к чему гимназический диплом копеечному репортеру местной газетенки «Донская Пчела»? Грамотности у Евно вполне хватит и для сидения за конторскими книгами знакомого еврейского купца, которому в Ростове повезло больше, чем местечковому портному Фишелю Азефу.
А вот и уже почти собственное дело по коммерческой части — коммивояжер! Франтовато одетый (профессия!), модная прическа, холеные руки... Правда, платят гроши, но это уже другой, столь желанный ему с самых юных лет, мир больших денег и сытой жизни...
...Евно облизал пересохшие губы. Они были толстые, по-негритянски вывороченные.
«Хорошо бы сейчас полдюжины сарделек, — подумалось ему. — Да с тушеной капустой, да пару темного пива! Эх, понимают немцы толк в жратве, понимают!»
В животе заурчало. Как хочется все-таки есть! Были бы деньги, сходил бы, нет, побежал бы! сейчас же в «бир-халле» — и сразу полдюжины, нет, дюжину жирных, лоснящихся сарделек!
Он сглотнул заполнившую рот слюну.
Но денег нет. И не предвидится. Отец ничего не пришлет, даже если бы и захотел — взять неоткуда, в делах ему, как всегда, не везет. Как орал он на сына, когда Евно впервые сказал ему, что хочет учиться дальше, все равно на кого — на адвоката, на врача или инженера.
— Но ты же уже пошел по коммерческой части! — возмутился отец. — Зачем бедному еврею университет? Там, в столицах, ты будешь всем чужой. А здесь... разве мало евреев выбилось здесь, в Ростове, в люди? Здесь тебе не дадут пропасть, всегда поддержат. Вот и сейчас у тебя уже настоящее дело — купец из Мариуполя поручил тебе продать партию масла и пообещал хорошую комиссию! Что тебе еще надо?
Отец задыхался от волнения, видя, как равнодушно слушает его сын. Плоское лицо Евно было непроницаемо, глаза тусклы, широкие скулы придавали ему сходство с ликами каменных баб с курганов южнорусских ковыльных степей. И Фишель Азеф понял, что сын не слушает его, что в тяжелой, грубо сколоченной голове Евно, где-то за узким, упрямо выставленным вперед лбом текут какие-то трудные, непонятные для него, бедного местечкового портного, вязкие мысли.
Он растерянно замолчал и бессильно вздохнул. Веки Евно дрогнули, тяжелый взгляд темных глаз медленно прошелся по бледному от волнения лицу отца.
— Мне нельзя оставаться в Ростове, отец.
Голос Евно звучал глухо и в то же время решительно:
— Меня могут со дня на день арестовать... по политическому делу.
— Ай, да что ты говоришь! — взмахнул руками старый Фишель. — Если ты связался с какими-нибудь байстрюками, которые бесятся от безделья и ругают царя, то тебя сразу так и нужно арестовывать? Да кто сейчас с ними не связывается? Кружки, сходки... Кто из молодых хоть раз этого не попробовал! Видно, время такое, никуда от этого не денешься...
Он говорил что-то еще и еще, но Евно его не слышал. Решение было принято, и отступать Азеф-младший был не намерен.
А через несколько дней ростовские купцы заговорили о позоре, обрушившемся на седую голову невезучего Фишеля: его сын Евно обманул доверившегося ему торговца из Мариуполя, продал принадлежавшее тому масло, а деньги присвоил. Восемьсот рублей, сумма немалая. Присвоил и был таков — бежал за границу!
...Нет, угрызениями совести Евно не терзался, ведь деньги ему были нужны гораздо больше, чем какому-то там мариупольскому толстосуму. Сама судьба вручила ему эти деньги и указала путь в жизни — первые ступеньки этого пути: Германия, Карлсруэ, политехникум.
Был 1892 год.
...В животе бурлило не переставая, голод подступал спазмами, и терпеть его больше не было никаких сил. И, поняв, что вот-вот потеряет сознание, Евно решился. Встав с кровати, подошел к окну и взял сверток вощеной бумаги, прислоненный к холодному весеннему стеклу. Апрель только начинался, и, хотя снега уже не было, весна по-настоящему пока еще не наступила.
Выдвинув из-под кровати обитый жестью сундучок, купленный на рынке перед бегством из Ростова, Евно достал из него спиртовку и сковородку. Хозяйка строго-настрого запрещала пользоваться всем этим в комнатах, но готовить еду дома было студентам куда дешевле, чем питаться даже в самой захудалой городской столовке, и Евно, как и все, обзавелся спиртовкой и сковородкой, которые и хранил в запертом (от хозяйки) сундучке под кроватью. Впрочем, жарил он себе только мясо — большие, толстые куски третьего сорта, те, что обычно оставлял соседский мясник для владельцев собак.
Последний кусок такого мяса, купленный на последние деньги сегодня после лекций, Евно хотел растянуть на несколько дней, до тех пор, когда его земляки, русские студенты из Ростова, как и он, грызущие науки в политехникуме, отдадут ему долги за пользование его книгами. Как хорошо все-таки, что, будучи еще при деньгах, он смог собрать довольно неплохую библиотечку революционных изданий! Теперь за пользование ею он брал с товарищей некоторую плату.
С товарищей? Он зло усмехнулся. Какие они ему товарищи! Сытые болтуны, регулярно получающие денежки из далекой России, сынки заботливых родителей, хорошо устроившихся в этой жизни и помогающих устроиться в ней своим честолюбивым отпрыскам. Конечно, от сытости и безделья, когда надоели кабаки и девки, можно собираться вечерами и за бесконечными кружками пива упражняться в щенячьем глубокомыслии и пустопорожнем красноречии, играть в революционеров-конспираторов. А потом, через несколько лет, превратившись в солидных господ инженеров с заграничными дипломами, процветать и посмеиваться над этими тайными грешками своей веселой молодости.
Он не заметил за этими мыслями, как поджарил и съел мясо, не съел — проглотил, разрывая его на куски крепкими, крупными зубами, а когда обнаружил, что уничтожил весь свой небольшой запас, окончательно пришел в ярость...
Швырнув спиртовку и сковородку обратно в сундучок, тщательно запер его и запихнул ногою на место — под кровать. Затем подошел к столу, смахнул с пего оставшиеся после еды крошки, сел на старенький венский стул — единственный стул в комнате! — и достал из-под стола потертый портфель, в котором хранил свои учебники и конспекты. Пузырек с черными чернилами и ручка с металлическим пером были тут же.
Вырвав из тетради пару листков, разложил их перед собою и принялся писать.
«Сим имею честь заявить Вашему Высокопревосходительству, — складывались в слова зелененькие буковки ни экране дисплея, — что здесь месяца два назад образовался кружок лиц — революционеров, задающихся целью...»
Профессор мысленно представил себе, как выглядели эти строки в письме Азефа, написанном 4 апреля 1893 года в Департамент полиции, — крупные, четко выведенные черными чернилами буквы. Ошибки только синтаксические, с запятыми недоучившийся ростовский гимназист был не слишком в ладах, то и дело забывал ставить точки, да и прописные буквы в начале предложения порою не были похожи сами на себя. Работая в архивах, Профессор привык к неряшливым строчкам своего героя настолько, что даже непроизвольно перенял у него манеру написания некоторых букв и порою ловил себя на этом. Это раздражало, начинало казаться, что даже через многие разделяющие их десятилетия Азеф таким образом подчиняет его своей воле, диктует, навязывает нужное ему отношение и к себе, и к своим поступкам.
Впрочем, Профессор не позволял себе поддаваться эмоциям и не спешил оценивать личность и деяния этого человека с точки зрения общепринятой морали. Азеф был для него фигурой из Истории, и только История имела право судить его.
Вот и это письмо в Департамент полиции с предложением услуг по «освещению» настроений своих товарищей из России, изучающих науки в Германии. И не в одной лишь Германии — беспутный Евно бежал из Ростова, не только влекомый жаждой образования, там за ним действительно водились кое-какие грешки по части нелегальщины. И теперь в письме в Департамент он называл фамилии и тех, кто брал у него напрокат крамольные сочинения в Карлсруэ, и тех, с кем был знаком по подпольным кружкам в Ростове.
Нет, он не требовал за свое верноподданническое рвение никакого вознаграждения и просил Департамент лишь об одном: в случае, если его сведениями заинтересуется полиция, сообщить ему об этом заказным письмом — на чужую фамилию и по чужому адресу...
Порядок в Департаменте был образцовый, работали там педанты и аккуратисты. Бумаги входящие, как положено, регистрировались, изучались и докладывались по инстанциям, и не просто так, а с проработками, с рекомендациями. Серьезно отнеслись и к письму из Карлсруэ от добровольного информатора...
(«Инициативника», — уточнил про себя Профессор,— в современной разведке таких агентов называют «инициативниками», то есть начинающих работать по собственной инициативе.)
Наверное, чины Департамента посмеялись над наивностью своего корреспондента, решившего было укрыться от политического сыска под чужой фамилией. Компьютеров тогда не было, но банки информации существовали достаточно богатые. Были в них и списки российских студентов в Карлсруэ, в том числе и связанных так или иначе с Ростовом. Правда, со связью тогда было похуже и на переписку потребовалось некоторое время. Но бюрократическая машина была зато, пожалуй, поворотливей современной. Не прошло и полутора месяцев, как в Германию пошло письмо, одобренное самим вице-директором Департамента.
Получив письмо и убедившись, что поблизости не было никого из знакомых, Азеф засунул его поглубже во внутренний карман и заспешил к себе на Вердер-штрассе. Он знал, что в квартире, кроме него, сейчас никого не будет — сосед Козин, тоже студент из Ростова, отправился в этот час в библиотеку, и никто ему, Азефу, не помешает узнать, что приготовили ему судьба и Департамент полиции.
Сердце гулко колотилось, когда он взбежал по крутой лестнице к себе на четвертый этаж, во рту пересохло.
Оказавшись в квартире и убедившись, что она пуста, прошел к себе в комнату и достал из кармана не распечатанный до сих пор конверт.
Строки, выведенные рукою казенного писаря, потекли перед глазами, не проникая в замутненное сознание. Ему показалось, что к двери приблизились чьи-то осторожные шаги. Он судорожно смял письмо в кулаке и сунул кулак в карман брюк, прислушался, потом осторожно подошел к двери и резко распахнул ее... На пороге никого не было, и все же страх, маленький, гнусненький страх продолжал судорогой сжимать его пальцы, в которых горячим комком топорщились смятые бумажные листки.
В коридоре тоже было пусто. Он осторожно прошел мимо незапертой двери комнаты Козина, там никого не было, и тут взгляд его уперся в дверь уборной.
Он подошел и распахнул дверь в тесную, не рассчитанную на его громоздкое тело кабину и заперся изнутри. Только теперь, на унитазе, он почувствовал себя увереннее... И уже потом, все долгие годы своей двойной жизни, такие письма, как это, первое, он читал, только запершись в сортире.
...В Департаменте полиции ловцы «заблудших душ» недаром получали казенное жалованье, наградные и прочие материальные вознаграждения. Такие письма, как пришедшее от студента из Карлсруэ, были им не в новинку — кандидатов в провокаторы, или, как их скромно именовали в Департаменте, «секретных сотрудников», было хоть отбавляй, оставалось только выбирать самых подходящих. Но студенты-заграничники представляли особый интерес. Опыт показывал, что они могут быть особенно полезны — революционная эмиграция набирала силу.
Похоже, что примерно так и рассуждал полицейский чиновник, заводивший формуляр на «неизвестного информатора» из Карлсруэ и готовивший доклад о нем по начальству. И вице-директор Департамента согласился с предложением нижестоящего чина навести справки и установить «самоличность» корреспондента, а пока ответить, как просит, по названному адресу и указанной им фамилии, да чтобы без особого интереса. Мол, о кружке в Карлсруэ нам все досконально известно (если бы только было так на самом деле!), и большого интереса он для нас, господин хороший, не представляет...
...У Евно потемнело в глазах: мерзавцы! Человек для них жизнью, можно сказать, рискует, а они...
Он вцепился глазами в последние строчки:
«Но прежде всего назовите себя, ибо мы люди с твердыми принципами и с неизвестными людьми сношений не ведем».
Он перечитал еще раз, громким шепотом, сильно шевеля пересохшими от волнения губами, и спохватился. Позвольте, милостивые государи, а почему вы пишете «но прежде»? Прежде чего? И на какой хрен я должен вам открываться, если услуги мои вам не нужны? Он громко выматерился — виртуозно, с загибами (мастерство это он пронес через всю свою жизнь). Вот ведь словеса-то все ради чего накручены: мол, нового вы нам ничего не осветили, а потому дорожиться вам не приходится... (опять выматерился!), но... платить мы вам готовы, надеюсь...
То-то! Он победоносно вскинул голову и внезапно почувствовал очистительные позывы... Письмо после этого сразу же пригодилось. И, дергая цепочку сливного бачка с экзотической чугунной вязью «Ниагара», он уже знал, что ответит в Петербург. Для начала запросит по-божески, 50 целковых в месяц, важно зацепиться. А уж коготок увяз, всей птичке пропасть. Только вот насчет открываться — это мы посмотрим, подумаем, спешить пока не будем...
Он покинул квартиру — сосед все еще не вернулся — и поспешил в ближайшее кафе (благо, что вчера должники рассчитались за пользование его библиотечкой!), занял столик и попросил подать вместе с кофе бумагу, чернила и ручку.
Он писал — и выводимые им буквы были, как всегда, крупны и тверды, выражения решительны и в то же время просты. Он начинал свою большую игру.
А в это же, возможно, время чиновник Департамента полиции аккуратно выписывал на обложке формуляра, на линейках, отведенных под имя, отчество и фамилию секретного сотрудника — Евно Фишелевич Азеф.
К письму, написанному «неизвестным» из Карлсруэ, было приложено письмо аналогичного содержания и написанное тем же почерком — из Карлсруэ в ростовское отделение охраны. Тут же была и справка начальника отделения:
«Евно Азеф человек неглупый, весьма пронырливый и имеющий обширные связи между проживающей за границей еврейской молодежью, а потому и в качестве агента может приносить существенную пользу, и надо ожидать, что, по своему корыстолюбию и современной нужде, он будет дорожить своей обязанностью».
Что ж, ростовские жандармы, оказывается, мнения об Азефе были подходящего. А то, что «незнакомец» из Карлсруэ так легко выдал себя, появившись на виду ростовской охранки (имена студентов из Ростова, находившихся за границей, и другие их данные были ростовским охранникам хорошо известны, автора же обоих писем легко установили по почерку!), так это ничего страшного.
— Молодо-зелено, — по-отечески ухмыльнулся в усы чиновник, готовивший доклад о вербовке нового агента товарищу министра внутренних дел.
«Может принести значительную пользу, и цена, которую просит, совсем не высока», — приложил он записочку к докладу.
Доклад вернулся от начальства с резолюцией: «Согласен. 10 июля 1893 года».
* * *
...Профессор выключил экран дисплея, аккуратно задернул его шторкой и только тогда взялся за трубку стоящего на столе черного, без наборного диска телефонного аппарата.
— Люди, которые у меня недавно были, еще здесь? — услышала секретарша его глухой голос. — Разыщите их и попросите, пожалуйста, зайти ко мне. Нет, не обоих, только мужчину. Кажется, его зовут Дэвид...
Положил трубку, откинулся на спинку кресла и, смежив коричневатые веки, погрузился в ожидание...
* * *
...Пятьдесят рублей — деньги небольшие.
Евно перевернул на сковородке бифштекс и принялся вслух считать: раз, два, три, четыре, пять... На счет «пять» он шумно дунул на пламя спиртовки, оно метнулось, сорвалось, словно пытаясь улететь, и превратилось в ничто, в пустоту. Он приподнял сковородку над дешевой фаянсовой тарелкой, заранее поставленной рядом со спиртовкой на столе, и жадно втянул жаркий запах полусырого мяса. Бифштекс был с кровью, Евно называл его «бифштексом по-женски»: пять секунд на раскаленной сковороде на одной стороне, пять — на другой.
Вывалил сочащийся кровью кусок мяса на тарелку, полосанул его ножом и, предвкушая удовольствие, заглянул в темно-красный разрез.
Ел он жадно, торопливо глотая непережеванные куски, словно боясь, что с кем-то придется вдруг поделиться. Но в квартире было пусто, Козин, как всегда, работал в библиотеке политехникума, увлеченный вершинами будущего, электротехникой.
Теперь, когда стали регулярно приходить деньги из Петербурга, можно было есть досыта. Но как было объяснить появление денег однокашникам, по-прежнему испытывающим унизительную нужду и перебивающимся случайными заработками. И потому ел свои любимые бифштексы он тайком, чтобы не вызвать ненужных расспросов...
Проглотив остатки мяса, он расположился за столом с приготовленными заранее письменными принадлежностями, вынул из стопки дешевой бумаги листок и лениво зевнул — теперь бы всласть поваляться на кровати, просто так, ни о чем не думая, в расслабляющей полудреме. Впрочем, можно было и думать — о чем-нибудь приятном, например, о деньгах, о больших деньгах, о красивой и модной одежде, о кутежах в роскошных отелях, о дорогих, неутомимых в любви женщинах. Или о власти, о всесильной, все подчиняющей власти, о том, что слово его будет законом и, подчиняясь его приказам, люди будут трепетать и благоговеть перед ним.
О, грезы, грезы! А пока...
Он вывел своим твердым, крупным почерком несколько строк на грубой, тормозящей перо бумаге и задумался, подбирая слова пожалостивей и послезливее.
Писал он в очередную еврейскую благотворительную организацию, прося вспомоществования для нищего, умирающего с голода студента-еврея из России. На таких письмах руку он успел набить сравнительно легко, дело было верное. Толстосумы-благотворители во вспомоществовании единоверцу не отказывали, да и как иначе? Вырвался парень из-за черты оседлости, терпит, светлая голова, отчаянную нужду, пытаясь выбиться в люди. Один, без родителей и родственников, в чужой стране. Вот и немецкого-то как следует не знает. Ошибка на ошибке, хотя явно видно, что просил кого-то прочесть и ошибки исправить.
Азеф усмехнулся собственной хитрости, немецкий-то он освоил быстро и неплохо, а ошибки?
Попросишь кого-нибудь прочитать прошение о денежной помощи, мол, посылаю, да вот плохо у меня с немецким, исправил бы ты мне, товарищ, ошибки...
Товарищ не откажет, ошибки исправит, а заодно и вспомнит при случае где-нибудь в студенческой компании: вот, Евно-то, как за кусок хлеба бьется — у богачей-единоверцев пособие выпрашивает. И ведь наверняка что-нибудь получает, вроде бы чуть получше зажил, с деньгами посвободнее стало. А главное, посмотрите, и повеселел, активнее стал, что значит, нужда отпустила, в кружке-то нашем — совсем другой человек!
Да, политические настроения Евно менялись круто. Трудно было поверить, что из «умеренного марксиста», противника всяческих крайностей в революционной борьбе мог получиться такой яростный сторонник антиправительственного террора. И члены крохотного студенческого кружка в Карлсруэ все больше попадали под его влияние. Нет, он не был краснобаем-оратором, говорил тяжело, медленно, но что-то в нем завораживало собеседников, именно собеседников, перед аудиторией даже в несколько человек он терялся, начинал сбиваться и в конце концов обрывал свою речь чуть ли ни на полуфразе... Даже председательствуя на собраниях кружка, ухитрялся не сказать ни одного лишнего слова, а закипавшие время от времени страсти кружковцев умел гасить двумя-тремя властными фразами, исключающими возражение или тем более уж неподчинение. Да, он умел подчинять людей своей воле, и умение это было похоже на гипнотическое внушение.
— Наш Евно — светлая личность, идеалист, — говорили одни кружковцы.
— Личность, безусловно, выдающаяся, народный печальник, — вторили им другие.
— Человек с порывом борца, проникнутого пламенным идеализмом!
А несколько лет спустя, уже в России, один из околдованных Азефом студептов-идеалистов, Николай Крестьянинов, писал о своем кумире: «...угловатый, неинтеллигентного склада, голова с темными подстриженными щетиной волосами, низко набегавшими на узкий лоб, большие выпуклые непроницаемые глаза, медленно скользившие по лицам присутствующих, производили какое-то странное, несколько неприятное впечатление... Но от всей грузной, тяжело поместившейся на стуле фигуры, от бронзового, как мне показалось, неподвижного лица веяло силой и хладнокровием...»
— ...Ах, Лев Александрович, — укоризненно посмотрела на Никольского баронесса, — вы опять об этом, и сами терзаетесь, и других терзаете. Сколько уже нами говорено-переговорено, а где мы и где Россия-матушка, с каждым годом от нас все дальше и дальше по столбовой укатывает дороженьке. А мы с вами сидим на краю дорожной канавы и стенаем, как нищие на паперти...
Никольский печально улыбнулся:
— Не смею перечить, Мария Николаевна. И то всю жизнь на чужих берегах просидели, в тепле и в сытости, а теперь о Родине вспоминаем, нужна она нам теперь, а мы-то ей нужны ли? С грехами-то со всеми нашими?
Баронесса перевела взгляд на меня, оставив без ответа патетический вопрос Никольского:
— Вот так, господин писатель, мы здесь меж собою все время и беседуем. Когда-то чуть не до кулаков, не до оскорблений взаимных доходило — так по-разному думалось и говорилось. Да кто поумирал, кто в Россию уехал, — вздохнула она. — А нам, которые пока остались, Россия — последний свет в окошке. Погасни он — и все погаснет. Тут у нас тоже есть кое-кто, из третьей иммиграции их называют. Не приняли мы их — злобные, жадные. Ненавистью захлебываются.
Она взяла давно опустевшую чашку Никольского и наполнила ее чаем.
— Лев Александрович, миленький. Вы уж извините меня, ради Бога, за невнимание...
И опять обернулась ко мне:
— До сих пор вот так — заговоримся о России и не только о гостях, о самих себе забываем.
Она наполнила и мою чашку и улыбнулась — одними глазами. Ничто не дрогнуло на ее холодно-красивом, без единой морщинки, неподвижном лице.
— Вы, господин писатель, наверное, смотрите на меня и про себя удивляетесь: мол, чего эта немецкая баронесса в российские патриотки подалась, какое ей до России дело? А какая я немка? Одна фамилия — Миллер? Наш род еще при государе Петре Великом в Россию перебрался из земель германских, с тех пор и служил верой и правдой государству и народу российскому. Конечно, всякое бывало, история — она и есть история, но присяги никто не нарушил, никто изменой наш род не запятнал. Вот и муж мой покойный, царство ему небесное... — Она с чувством осенила себя крестным знамением. — ...барон Миллер... — И поспешила пояснить:
— Это ведь я по мужу баронесса Миллер, а в девичестве была... Но это неважно — тоже немецкая фамилия, хоть и не из аристократии... Так вот, супруг мой покойный, Иван Петрович, говаривал бывало о покойном государе Николае Романове: неумный, мол, человек император наш был, не в предков своих венценосных... Ему бы взять Ленина в премьер-министры, и никакого бунта, никакой бы революции не было. Повыгонял бы Ленин дураков, да лихоимцев, да и жили бы мы, как в Англии: богу богово, кесарю кесарево... Вот, правда, Лев Александрович с этим не соглашается... такой уж он у нас спорщик, сколько знаю его — все не меняется...
И она улыбнулась Никольскому — опять одними глазами.
Он в ответ склонил почтительно голову и вскочил, будто улыбка баронессы означала окончание данной нам аудиенции.
Мы вышли из ворот особняка баронессы, провожаемые внимательными взглядами угрюмых охранников, и остановились у моей машины.
— Ишь, как смотрят-то, — кивнул в их сторону Никольский, — запоминают вас. Меня-то они хорошо знают, я здесь гость частый, а вы впервые и, даст Бог, не в последний раз.
— Что ж это Мария Николаевна — за богатства свои боится? Эких абадаев держит! — не удержался я от насмешки.
Но Никольский моего тона не принял:
— Время у нас сейчас такое, господин писатель. Даже банку доверять нельзя. Разве не слыхали, как только эти события у нас начались (следуя принятому бейрутцами правилу, он избегал выражения «гражданская война» и заменял его эвфемизмом «события»), комбатанты- то наши, и правые, и левые, первым делом банки грабить бросились, личные сейфы брать — золото там, камешки... Такого, слава тебе, Господи (он привычно и быстро перекрестился), даже в семнадцатом у нас на Руси не творили...
— Что ж, и баронесса пострадала?
— Как все. И ее сейф вычистили. Только она женщина дальновидная, жизнью битая... Всегда и под рукой кое-что на всякий случай держала. Ну и в Швейцарии — для надежности. С того и живет. А охрана — для безопасности содержится. У нее этих абадаев, почитай, с роту, самое безопасное от налетов место во всем Бейруте.
Он доверительно приблизил ко мне свое лицо и понизил голос:
— Так что, господин писатель, если вам что понадежнее припрятать надо будет, идите прямо к Марии Николаевне. Ей все доверить можно — женщина благородная... А какая красавица когда-то была!
От волнения у него перехватило дыхание:
— Это сейчас у нее лицо как маска — сколько подтяжек, извините за интимную подробность, сделано, наверное, и сама не помнит. Я-то с нею у Александра Васильевича Герасимова впервые встретился. Хоть и в возрасте был он уже, а красоту дамскую ценил. Ох как ценил!
— Вы, — говорил он Марии Николаевне, — для меня, как для Гёте, последнее вдохновение... В чувстве к вам силы жизни черпаю...
Он с сожалением вздохнул:
— А теперь? Кто его и помнит-то, Александра Васильевича? Будто он одним этим своим Азефом только и прославился. А ведь ему деликатные миссии даже и после Азефа поручались! Вот хотя бы в 1912-м! За границу отправили — самого великого князя Михаила Александровича освещать, браку его с госпожой Вульферт воспрепятствовать...
Ой, — вдруг спохватился он, — совсем я вас, господин писатель, заговорил. Да и мне спать пора, я ведь, как жаворонок, птичка ранняя — с закатом ложусь, с рассветом встаю...
Я открыл перед ним дверцу машины:
— Так давайте подвезу вас, Лев Александрович!
— Ни, ни, ни! — замотал он головою. — И так вы на меня целый вечер убили, россказни мои слушали да чаи со старухой из-за меня распивали. Недалеко мне здесь, дворами да переулками — шасть-шасть — и в норку. Так что спокойной вам ночи, господин писатель!
И, быстро поклонившись мне на прощанье, юркнул в темноту, сразу же в ней растворившись, будто никогда его рядом со мною и не было.
В этот не поздний еще вечерний час улицы города были уже пусты. Лишь редкие прохожие, опасливо оглядываясь, спешили по домам, да вооруженные патрули местных партий и организаций двигались по середине улиц, провожая настороженными взглядами почтительно объезжающие их машины. Подъезжая к патрулю, водители предупредительно зажигали в кабинах свет и сбавляли скорость, дожидаясь, пока кто-нибудь из патрульных не даст им знак проезжать — обычно это было небрежно-снисходительное помахивание кистью свободной от оружия руки.
Иначе, не дождавшись такого знака, можно было и получить автоматную очередь по машине. И каждое утра местные газеты сообщали о гибели все новых и новых неосторожных автомобилистов, напоминая, что в городе давно уже действует самоустановившийся комендантский час — с наступлением темноты и до рассвета.
Дипломатический номер на моей машине, доставшейся мне от преждевременно и неожиданно уехавшего на Родину сотрудника нашего посольства, и опыт езды по ночным улицам, накопленный за несколько лет жизни в этом ни на что не похожем ближневосточном городе, пока что спасали меня от неприятностей.
Я старательно подчинялся всем правилам игры. При приближении к патрулю притормаживал, освещал кабину изнутри и глушил свет фар, а поравнявшись с патрульными, высовывался из машины и твердо объявлял по-арабски:
— Сафара руссия! (Русское посольство!)
Иногда у меня вырывалось это в несколько другом варианте:
— Сафара советия! (Советское посольство!)
Но лучше было все же говорить «руссия». «Русских» здесь знали хорошо, а вот «советские» — для вчерашних крестьян, только начинающих осваивать политические азы, — «советия» мало что говорило, и они требовали остановить машину для выяснения с помощью своих, более грамотных товарищей смысла этого слова.
Без приключений добравшись до многоэтажного дома, где я жил и где располагался мой корпункт, я въехал под арку, ведущую в огороженный каменной стеною и отведенный под стоянку машин небольшой двор, и с облегчением вздохнул. Здесь наконец можно было считать себя в относительной безопасности. Отпер своим ключом решетку, загораживающую проход к лифту, вошел внутрь крохотного холла, запер решетку изнутри и вызвал лифт.
Ложиться спать я приучился рано, с птицами. Да и что было еще делать долгими, полными одиночества вечерами, в темноте или при свечах — перебои с электричеством были скорее правилом, чем исключением.
И засыпал я обычно быстро, накрыв голову подушкой, чтобы не просыпаться в течение ночи от грохота то и дело вспыхивавших уличных перестрелок.
Но в этот раз сон не шел. И виною тому были не только кофе и чай, так неосмотрительно выпитые мною за прошедший вечер. Мне снова и снова слышался голос Никольского...
Жандармский генерал Герасимов, провокатор Евно Азеф, тот самый, о котором писал Владимир Маяковский, — «ночь черная, как Азеф...».
...Департамент полиции денег на ветер не выбрасывал. Освещение Азефом революционного кружка в Карлсруэ и связей кружковцев с Россией втуне не оставалось. Когда информации накопилось достаточно, пошли аресты — и в первую очередь в Ростове...
..Уже с утра Евно чувствовал себя подавленно. Проснулся в пять часов и, как ни пытался, заснуть больше не смог — давило ощущение неизвестно откуда надвигающейся опасности, крушения с таким трудом налаженного спокойного, рутинного бытия. Он попытался успокоить себя, противопоставив смутности недобрых предчувствий трезвый, холодный расчет, на который всегда старался опираться в своих делах и поступках.
— Ну, что может мне грозить? — выстраивал он логическую цепочку.
— Связь с Департаментом надежная, проверенная. Сведения через господина Рачковского уходят в Россию регулярно, как регулярно поступают оттуда и деньги — 50 рублей ежемесячно, да премия к Рождеству — месячный оклад. В кружке — уважают. Упрекают, правда, что пренебрегаю революционной теорией, особенно трудами марксистов, но — каждому свое, он же, Евно Азеф, не терпит интеллигентской болтовни и не скрывает этого, он человек дела, революционной практики. Да, он не теоретик, он — практик, а это сейчас куда важнее для революции. И он тверд в своих убеждениях, не боится отдать за них жизнь. «Народный печальник», «борец», «идеалист» — он знает: так называют его кружковцы. Для них он — символ беззаветной борьбы против самодержавия и произвола, за свободу и демократию.
Азеф продолжал мысленно рассуждать в том же духе, но беспокойство не оставляло его, и маленький, гаденький страх никак не заглушался успокоительными, логически выверенными построениями. Страх был мучительным, как зубная боль, он изматывал душу, леденил мозг, и не было от него спасения.
Тогда, как загнанный в угол зверь, Евно вдруг пришел в ярость. Да кто они, кто те, которые так терзают его душу, даже не ведая этого, внушают ему чувство жалкой вины и беззащитности. О, как он ненавидит их всех, болтающих об идеалах и знающих, что, поболтав и поиграв в революцию, спокойно пойдут по тропе, заранее предопределенной их средой: состоятельными родителями — профессорами и доцентами, чиновниками и инженерами, врачами и адвокатами. Он насмотрелся на таких еще в Ростове, нищий, полуобразованный еврей без прошлого и без настоящего... Он оборвал свою мысль, не завершив ее словами «...без будущего».
Нет, будущее у него, сына местечкового портного, есть. И отныне он будет грызть глотки тех, кто окажется на его пути. Какие могут быть сомнения? Кто и в чем его может обвинить? В жизни побеждает сильнейший, Дарвин доказал это. И он, Евно Азеф, будет делать в жизни только то, что выгодно лично ему, и эта выгода стоит над всем, что окружает его и будет окружать. Да, он добьется всего — денег, власти, права решать, что такое добро и зло, отнимать жизнь или даровать ее.
Часы в комнате соседа пробили семь раз. Тяжело, глухо, как будто сама судьба священными семью ударами одобряла его мысли, и он почувствовал, как на душе становится легче, слабость и сомнения исчезают, а страх тает, уходит. Так чувствуют себя, когда отпускает долгая и безнадежная зубная боль.
И когда он пришел на собрание кружка, назначенное в этот раз в мансарде у одессита Петерса, никто не заметил и следа пережитого им сегодня под утро.
Как всегда, он занял место председателя во главе дешевого, сколоченного из простых досок стола, покрытого серой унылой скатертью.
Так уж повелось: поначалу на каждом собрании председательствовали по очереди, потом получилось как-то так, что все чаще и чаще на председательском месте стала появляться тяжелая фигура Азефа. Председателем он был хорошим: никого никогда не перебивал, всем давал выговориться и всех внимательно слушал, делая карандашом какие-то пометки на листках принесенной с собою бумаги. Казалось, что принцип «молчание — золото» руководит им даже при самых бурных и яростных спорах, случавшихся среди кружковцев. Но когда он начинал подводить итоги дискуссии, все страсти разом остывали. Фразы его были тяжелы, неуклюжи, но и в словах, и во всем облике его было что-то такое, что подчиняло, овладевало волей слушателей и диктовало им волю этого крупноголового некрасивого толстяка. В кружке за ним само собою закрепилась и подходящая под его внешность кличка — «Толстый». Но не насмешливая, а уважительная и даже ласковая. И лишь через полтора десятка лет бывшим кружковцам стало известно, что «Толстый» одновременно имел и другую кличку, полицейскую — «Раскин».
К приходу Евно почти все кружковцы были уже в сборе. Нет, он не опоздал, он никогда в жизни не опаздывал, если только это не было ему выгодно. Просто сегодня все почему-то пришли раньше, до его прихода, и, видимо, о чем-то уже жарко поспорили, ибо в настроении их явно скользило тревожное беспокойство. Это Евно почувствовал сразу, его организм был всегда настроен на ощущение приближающейся опасности.
И, еще не открывая собрания, Евно обвел кружковцев, рассевшихся кто где смог, строгим и требовательным взглядом:
— Что-нибудь случилось, товарищи?
Он переводил свой тяжелый, гипнотизирующий взгляд с одного лица на другое, стараясь заглянуть в глаза то одного кружковца, то другого, но сделать этого не удавалось, товарищи прятали от него глаза, словно боясь, что он узнает то, что они решили хранить от него в тайне.
И Евно почувствовал, как грудь и спина у него становятся мокрыми от холодного, липкого пота. И опять вернулся тот самый мерзкий, откровенно физиологический, парализующий волю страх, который так безжалостно терзал его сегодня под утро. Он непроизвольно втянул голову в плечи, будто ожидая удара, и почти в отчаянии взглянул на Петерса, хозяина мансарды, в которой они сегодня собрались.
— В чем дело, товарищи? — изо всех сил стараясь, чтобы голос его не дрогнул, повторил он свой вопрос, адресуя его на этот раз непосредственно Петерсу.
Тот отвел глаза и тяжело вздохнул, словно собираясь с силами для ответа.
— Плохие новости, товарищ... В Ростове прошли аресты...
— Ну и что? — голос Азефа все креп. — Разве это впервые? Разве только в Ростове хватают наших с вами товарищей? А Шлиссельбург, а Восточная Сибирь, а каторга, тюрьмы, централы? Разве они не переполнены жертвами царского террора?
Это мы тут с вами спорим о какой-то теории в то время, как царские сатрапы измываются над попавшими в их кровавые лапы нашими братьями по борьбе. Сколько раз я говорил уже здесь, повторяю и буду повторять: террор! Только террор отомстит палачам и разбудит спящую в вековой лени, темную Россию! Главное в нашей борьбе — террор, все же остальное — пустяки, мягкотелость, интеллигентщина!
Голос его уже гремел, и, глядя на лица кружковцев, он видел, как они светлели, как загорались глаза и исчезала из них подавленность, встретившая его в первые минуты пребывания в мансарде.
Только глаза Петерса оставались все более тусклыми, только его волей пока не мог овладеть Азеф.
«Дерьмо вонючее», — злобно обругал он про себя Петерса и мысленно добавил пару грязных ругательств из лексикона ростовских извозчиков. Что же, пусть только появится в России! Для Департамента он уже освещен, как никто другой: опасный террорист, фанатик, призывает к цареубийству и намерен ставить покушения на министров и генерал-губернаторов!
Азефу вспомнилось, какое сладостное чувство водило его пером, когда он освещал Петерса, посылая очередные сведения в Департамент. Что из того, что Петерс всего лишь «массовик», отрицающий террор и призывающий идти работать в массы? «Массовики» Департамент не интересуют: ему подавай террористов, да покровожадней, да пофанатичней! Больше освещенных террористов — лучше работа, лучше работа — дороже она и ценится. Из Департамента так и намекнули: вами, де, господин Раскин, начальство довольно, обещает удвоить оклад жалования, но и вы уж извольте постараться, сто рублей в месяц еще ведь и заработать надо!
— Так что же вас всех так разволновало? Аресты в Ростове?
Азеф теперь прочно держал в руках собрание. В груди пело: вот она, власть над человеком, и это только начало, он пока только тренируется на этой безвольной черни, на этой бесхребетной рванине... Придет время — и о нем заговорят, ему подчинятся куда более уважаемые господа!
— Из Ростова сообщают, что аресты там производятся по сведениям, поступающим из Карлсруэ, — ворвался в его мысли упрямый голос Петерса. — Считают, что среди нас, живущих здесь, работает провокатор...
Он вздрогнул и сразу почувствовал, что взгляды всех сидящих в этой неуютной, холодной комнате устремлены на него и во взглядах этих не любопытство, нет, настойчивое ожидание, товарищи ждали от него чего-то, но чего?
Он обернулся к побледневшему Петерсу, выкинул в его сторону похожий на сардельку указательный палец:
— А если в Ростове известно, что среди нас здесь действует провокатор, так почему же они не сообщают нам — кто он? Или, может быть, сообщают, да вы боитесь его назвать? Может быть и так, а?
Взгляд его буравил лицо Петерса. В наступившей тишине не было слышно даже дыхания оцепеневших кружковцев — и только яростное сопение ожидающего, требующего ответа Азефа.
— Нет, — неуверенно ответил ему наконец Петерс. — Ростовцы провокатора не называют. Просто они так считают...
Слово «считают» он выделил нажимом голоса:
— И просят быть поосторожнее...
Теперь голос его звучал неуверенно.
— Поосторожнее, — издевательски подхватил Азеф. — Они, видите ли, просят!
Лицо его было по-прежнему багрово, но ярость уже отступала, а с ней опять отступал, исчезал и мерзкий, панический страх: нет, он не провален, напрасно он думает об охранке так плохо, сотрудников они своих берегут, без сотрудников им с революцией не сдюжить!
— Что ж, товарищи, ростовцы не так уж и виноваты. Окажись мы в таком, как они, положении, запаниковали бы куда больше. А из нас пока, слава Богу, никто не арестован, кончаем курс, возвращаемся в Россию с хорошими дипломами и на хорошие места. Был бы в нашей среде провокатор, было бы все по-другому. Вот и выходит — нас от этой нечисти судьба пока избавила!
Он торжествующе оглядел кружковцев, лица их просветлели, они ловили его взгляд и кивали, выражая свое с ним согласие. Лишь Петерс сидел потупившись, и Азеф уже не сомневался, что именно он заварил всю кашу и даже собрал кружковцев заранее, до того, как придет он, Азеф, чтобы бросить на него тень. Теперь все было ясно — «массовик» хотел скомпрометировать его, Азефа, чтобы самому захватить главенство в кружке, чтобы диктовать этим недоучившимся баранам свою политическую линию.
И от этой мысли Азеф почувствовал себя увереннее и даже повеселел: да, знать, и в самом деле ему предстоит большое плавание, если оппоненты уже воспринимают его так всерьез.
— Что, товарищи, будем считать, что с этим маленьким инцидентом покончено навсегда?..
И опять он упер взгляд в бледное лицо Петерса:
— Ты согласен, товарищ?
Петерс скривился, но утвердительно кивнул:
— Да...
Это «да» Азеф запомнил на долгие годы. Иначе быть и не могло. Впервые тогда, в Карлсруэ, он был на волоске от провала, от крушения всей своей блистательной и фантастической карьеры крупнейшего провокатора русской революции. И «да» Петерса убедило его в том, что испытания, которые встретятся на его пути, он преодолеет, обязательно преодолеет, в силах преодолеть.
Уже потом, через годы, Петерс будет вспоминать, что после случая с сообщением из Ростова кое-кто из кружковцев стал все-таки относиться к Азефу сдержаннее. Были потайные разговоры и о недоверии — кружковцы словно оправились от азефовского гипноза, но дальше этого дело не пошло. А потому участники кружка стали потихоньку разъезжаться, в кружок поступали студенты-новички, для которых Азеф был уже ветераном, внушающим самое искреннее уважение, стоящим над всеми и надо всем. Его библиотека революционных авторов была подобрана с большим толком и знанием дела, а деньги, которые он брал за пользование книгами, шли на приобретение новинок (Департамент полиции был в «постановке» библиотек опытен, как и в других приманках для зеленой революционной молодежи).
Я забылся только под утро. Сна, собственно, не было, были какие-то провалы в нечто смутное, дерганое, мешанина реального и фантастического. Мне казалось, что я вижу Азефа, слышу его голос, читаю его мысли... Он вновь и вновь возвращался в мое сознание, настойчиво, навязчиво, как тяжелый кошмар, и я был перед ним беззащитен.
И наконец, измученный всем этим, я вынырнул из кошмарного полубреда, ища спасения в реальности.
Зарядка, душ, завтрак, обработка материала для передачи по телефону в редакцию — все это помогло мне восстановить душевное равновесие, но вскоре я поймал себя на том, что с нетерпением ожидаю второй половины дня, когда Никольский откроет свою библиотеку и можно будет к нему отправиться.
И всю дорогу, пока я ехал в библиотеку, мне казалось, что я найду ее закрытой и никогда не узнаю чего-то важного, ради чего Никольский затеял вчера весь этот разговор в кафе на набережной и вызвал из далекого небытия дух самого Азефа.
Но Никольский, когда я приехал в библиотеку, был уже на месте. Он сидел за своим рабочим столом в сырой полутемной комнате в толстом домашнем халате, на голове вязаный шерстяной колпак неопределенного цвета, на скрюченных подагрой руках — коричневые нитяные перчатки с обрезанными пальцами.
— A-а, господин писатель, — встретил меня довольной улыбкой Никольский. — А я жду вас, уже с полчаса, как жду... Милости просим!
И он встал мне навстречу.
— Вы меня ждали? — удивился я. — Но почему? Я ведь не должен был сегодня к вам приехать — книги, которые я взял у вас вчера, не могли быть прочитаны за ночь.
— Да вы и не за книгами приехали, — рассмеялся он дробным стариковским смехом. — И, заговорщически подмигнув мне, продолжал: — А приехали вы, господин писатель, ко мне за Азефом. Ну, признайтесь, ведь сегодня он вам небось всю ночь спать не давал. Так ведь?
Он заглядывал мне в глаза, и взгляд его был полон нетерпения.
— Растравили вы меня вчера своим рассказом, Лев Александрович! Сам не знаю почему, а загорелся я. Уж больно все у вас жизненно получается, слушаешь вас, а будто сам все видишь.
Он польщенно кивал головою:
— Вот и я, господин писатель, понял вчера — зажег я вас, зажег! Да и как не зажечь...
Он повел рукою в сторону лежащих на столе книг.
— Как не зажечь, если сам всю жизнь горю этим. Вот сколько об Азефе писали — негодяй, провокатор, сколько людей на виселицу да на каторгу отправил, и как только его земля, сукиного сына, носила. Горы бумаги на него перевели, а чтоб поглубже в него заглянуть, в этого самого негодяя, тут Достоевский нужен, это для него такие характеры на свет появлялись.
Он выдвинул из-за стола облезлый венский стул и стряхнул руками пыль с его треснувшего сиденья:
— В ногах, как у нас на Руси говаривали, правды нет, вот и присядьте пока, а я вам кое-что сейчас покажу...
И, не дожидаясь, пока я устроюсь на шатком стуле, он ускользнул через узкую дверь между стеллажами в соседнюю комнату.
Вернулся Никольский лишь через несколько минут, держа обеими руками, как нечто чрезвычайно ценное, тонкую папку рыжего картона с отпечатанной типографски казенной надписью «Дело».
— Вот, с гордостью произнес он, усаживаясь на место.
Мы сидели за столом друг против друга, я спиною к двери, он — лицом. Пальцы его с трудом совладали с тесемками, он аккуратно отвернул верхнюю обложку, полистал лежащие в папке листки бумаги, выбрал один из них, поднес к сильно прищуренным глазам, пошевелил бесцветными, тонкими губами, читая строки, выписанные черными чернилами, и протянул листки мне:
— Вот, господин писатель, вам еще одна приманка...
Это было письмо, подколотое к небольшому почтовому конверту.
Адрес написан по-французски:
«Мадам Л. Менкин, Париж, 130, Бульвар Монпарнас».
И сразу же, на первой страничке:
«Люба
Не знаю, получишь ли ты это письмо. После долгих исканий мне удалось достать твой прошлогодний адрес. Не раз я писал тебе по старому, но от тебя ничего не получал. Я знаю, что я не в праве ожидать от тебя известий. Я знаю, что и ты, как и все без исключения, веришь всему, что обо мне писали, говорили и печатали. Доказывать, что девять десятых или еще больше из того, что обо мне распространяли, неправда, я не в силах. Я своим отъездом или бегством создал себе это невыгодное положение. Я действовал с начала до конца глупо!
Другого слова я не нахожу для определения своих действий. Я совсем не оценил серьезности моего поступка, уезжая тогда».
Никольский внимательно следил за выражением моего лица, но пока что вряд ли мог прочесть на нем что-нибудь, кроме недоумения. Откуда мне было знать, кто такая мадам Л. Менкин (по-русски ее фамилия звучала, наверное, как Менкина) и кто писал ей, судя по почтовому штемпелю, из Гамбурга 28 декабря 1910 года, то есть между католическим Рождеством и Новым годом. Письмо было неряшливым, кое-где виднелись потеки, будто на чернила капнули водою.
— Не понимаете? — удивился моему спокойствию, почти равнодушию Никольский.
Я лишь пожал плечами.
— Да ведь это Азеф! — не выдержал Никольский. — Вы читаете письмо самого Евно Азефа, написанное им уже тогда, когда он был разоблачен, бежал и скрывался от эсеров в Германии. Его ведь приговорили к смертной казни, и за ним охотилась вся революционная эмиграция! И не только эмиграция. Даже сам Карл Либкнехт направил своих людей на его поиск.
Я с невольным уважением посмотрел на листки, находившиеся у меня в руках.
— Оригинал?
— Оригинал! — с хвастливой гордостью отчеканил Никольский. — Больших денег сегодня стоит... у коллекционеров. — И заторопил: — Да вы читайте, читайте!
Я хотел было продолжить чтение, но любопытство остановило меня:
— А... мадам Л. Мепкин? Кому пишет Азеф?
— Мадам Л. Менкин — Любовь Григорьевна Менкина, по мужу — Азеф, или Азева, как некоторые в то время ее называли.
В голосе Никольского прозвучало такое презрительное снисхождение к моему невежеству, что я поспешно уткнул глаза в странички письма.
«...Для меня было бы несравненно лучше остаться и раскрыть своим все, и я, вероятно, вышел бы из всей истории не таким, каким меня изображали, не выслушав меня. Виноват, конечно, во всем один я. Легкомыслие и глупость мои. Тогда мне казалось, что вина не моя, а тех, которые так грубо ко мне явились тогда. Теперь мне ясно, что они, пожалуй, не могли действовать иначе.
Конечно, я не тот, каким меня изображают, — я остаюсь и есть тот же Евгений, которого ты знала 14 лет и которого ты может быть, любила и который всегда искренне радовался и печалился, когда и другие радовались и печалились. (Он опять забыл поставить точку — с точками и запятыми он все время был не в ладах.) Изменение во мне если и произошло только в том, что я теперь сознаю, как легкомыслен я был. Основной недостаток мой — это легкомыслие. Если ты дашь себе труда на одну минуту забыть все, что произошло с точки зрения политики и воскресить меня в своей памяти лишь как человека со всеми его недостатками и достоинствами, то я уверен, что ты согласишься со мною, что я не животное, и не бездушное фальшивое лживое существо, — каким меня изображают, а человек, как другие, и если меня и любили — то это было и заслуженно».
Да, в синтаксисе ростовский гимназист был явно не силен, зато как энергичен, наступателен его стиль!
— Что? Пронимает? — понял мою мысль Никольский. — И это всего лишь письмо. А представьте, как он действовал на людей, когда говорил — особенно один на один, оратор он был неважный и перед несколькими сразу говорить не любил.
«...Какая нелепость думать, что все с моей стороны было комедиантство, — продолжал я читать становящиеся все размашистее строчки. — Разве ты не видела моих с глазу на глаз — слез, которые не у всякого являются. Это комедия перед тобой что ли?! И это комедия когда я теперь встречаю несчастных детей — то я плачу, плачу о судьбе своих Лоло и Вали.
Все это пишу тебе не для того, чтобы вернуть твое уважение ко мне — на это я не рассчитываю.
Я хочу подействовать на тебя лишь на столько, чтобы ты подумала, что я человек и не лишен человеческих чувств и сказала себе, что может быть с твоей стороны немного несправедливо пользоваться своим положением и не давать мне ничего знать о детях...»
Я невольно остановился, чувствуя, что к горлу подступает ком, и Никольский мгновенно уловил мои чув-ства.
— Читаете про детей?
Я кивнул.
— Да, очень трогательно, — прокомментировал Никольский. — А вот, к примеру, Герман Александрович Лопатин, старый народоволец, честнейший революционер, назвал Азефа после вот таких его писем — чадолюбивым Иудой! — Он иронически ухмыльнулся: — Ну, как, господин писатель, разве это не герой для вашей новой книги?
Я неопределенно улыбнулся и продолжал читать:
«...Я не имею права и желания тебя упрекать, — ты в моей душе навсегда останешься самым чистым человеком, но мне временами кажется, что ты слишком сурова ко мне, когда ты лишаешь меня единственно возможного светлого луча в моей несчастной жизни — сообщения о детях. Умоляю тебя делать это время от времени...»
На строке — пятно, черные чернила размыты, будто слезой или каплей воды. А дальше вдруг конец эмоциям и совсем по-деловому: «...Главная цель моего письма — спросить не найдешь ли ты возможность устроить так, чтобы мне дали возможность явиться на суд перед прежними (слово подчеркнуто!) товарищами. Я понимаю это так, — мне дается полная возможность оправдаться от всей лжи, которая на меня возведена. Все что было мною сделано должно быть отделено от выдуманного. Моя честь, насколько она была загрязнена неправдой и (слово зачеркнуто Азефом) восстановлена и очищена. Я же со своей стороны совершенно подчиняюсь решению, которое вынесет суд мне вплоть до смертной казни. Мне только важно, чтобы суд состоял из старых товарищей, которые меня знали. Желательно мне твое присутствие на этом суде — не в качестве судьи, а человека, мне дороже всего и человека, который воспоминания обо мне передаст моим несчастным детям. Конечно прежде всего ты должна убедиться, что это будет суд, а не ловушка для меня. Сейчас я смерти совершенно не боюсь — но мне не хочется умереть без восстановления своей чести по крайней мере в тех рамках, в каких это еще возможно после всего сказанного обо мне. Надеюсь, что ты на это письмо мне ответишь и о до... (дальше неразборчиво).
Будь немного мягче ко мне — я вовсе не скверный и моя совесть не так уж загрязнена. Целую детей. Евгений.
Еще раз хочу тебе сказать, что с моим желанием оправдываться перед бывшими товарищами и подчиниться их суду — надо серьезно посчитаться. Но кроме того надо осторожно за это взяться. Для многих может быть соблазнительна будет мысль устроить таким образом (опять исправление рукою Азефа) мне ловушку. Если через два года сам возбуждаю этот вопрос — то должно быть ясно — что только мои внутренние побуждения, вопрос моей чести и моя личность для моих детей и для тебя, Люба, играют роль. Для других может более важно — убить провокатора, чем выяснить истинный характер всей этой трагедии. Конечно, я мог (опять исправление) это сделать тогда, но я уже сказал — это была моя глупость и легкомыслие. Не забудь, Люба, что судьба наших детей требует установления того, кто был их отец в действительности и отнесись к делу серьезно и осторожно.
Пиши на то же имя: (неразборчиво) до востребования в Вену».
Я аккуратно сложил листки письма, вложил их в конверт и передал Никольскому.
— Что ж! Впечатляет. Одинокий, затравленный, раскаивающийся человек отдает себя на суд бывших соратников по партии, требуя восстановить свою честь!
И тут мне в голову пришла неожиданная мысль:
— Позвольте... А вдруг...
И опять Никольский предугадал то, что я хотел было предположить:
— Вы хотите сказать... а вдруг Азеф и в самом деле пи в чем не виновен? А вдруг все его дело — провокация, с помощью которой было задумано деморализовать не только эсеров, но и все революционные силы России?
Я кивнул.
— Что ж! — ухмыльнулся Никольский. — Не вам первому это пришло в голову. Азеф несколько раз был на грани разоблачения и был бы разоблачен гораздо раньше, если бы... Если бы эсеры, те, кого он предавал, не верили бы так фанатично, что оказывавшиеся у них сведения о провокаторстве Азефа подброшены самой полицией именно с теми целями, о которых мы с вами только что высказались. Нет, господин писатель!
Никольский решительно сдвинул брови:
— Против Азефа — факты. Слишком много достоверных, проверенных фактов, что бы он ни твердил в письмах к этой несчастной женщине — своей жене.
— И все же... Письмо поражает искренностью. В нем столько любви, столько отчаяния! Горе, тоска, одиночество... Это же крик души!
— Да, я бы тоже, господин писатель, ему поверил, если бы не знал, что, когда он писал это письмо Любови Григорьевне Менкиной, он уже достаточно долго жил с некой немкой, знаменитой в начале века в Петербурге кафешантанной дивой. Кстати, открытка с ее изображением и подписью «Ля белла Хедди де Херо» у меня тоже имеется. Дамочка, надо признать, была довольно пышная и не любила себя утруждать излишней одеждой. Но это тема уже для другого нашего с вами разговора.
— Хорошо, а суд? Азеф пишет, что готов явиться на суд товарищей и согласиться с их приговором!
— Один суд над ним уже состоялся. В конце девятьсот восьмого года. Тогда он отказался предстать перед лицом судей и бежал, как только понял, что разоблачен. И приговор тогда был — смерть. Так неужели же вы, господин писатель, верите, что он почти два года метался по Европе, меняя адреса и фамилии, чтобы вдруг раскаяться и сдаться своим бывшим товарищам, знающим, вернее — узнавшим за это время всю его подноготную?
— И все же он пишет жене, просит ее помочь ему получить возможность явиться на суд...
Никольский поморщился. Он не сразу ответил мне. Аккуратно поправив бумаги, разворошенные было, когда он искал в папке письмо Азефа к Любови Григорьевне Менкиной, он принялся завязывать своими старческими, плохо гнущимися пальцами тесемки картонных обложек, сосредоточившись, казалось, только на этом. И, только хорошенько завязав их, решил ответить на мой вопрос.
— В первые месяцы после разоблачения Азефа эсеры были настолько потрясены и деморализованы, что долго не могли прийти в себя. Они создали специальную следственную комиссию, чтобы разобраться в случившемся и понять, как такое могло произойти...
Никольский встал, намереваясь отнести папку в соседнюю комнату. Лицо его было бледным, на серой, пергаментной коже выступили капельки пота. Было видно, что он устал и его одолевает слабость.
— Вам нехорошо, Лев Александрович? — поспешил я к нему.
Он виновато улыбнулся:
— Ничего... это со мною бывает... возраст!
И, отстранив меня, скрылся за дверью.
В комнате он появился лишь минут через пять. Лицо его порозовело, видимо, принял какое-то лекарство. И сразу же поспешил закончить наш разговор ответом на мой вопрос о суде над Азефом.
— Любовь Григорьевна Менкина, тоже член партии эсеров, давала письма, получаемые от мужа, на прочтение в Центральный комитет. Там приняли решение — дать Азефу возможность встретиться с представителями ЦК. Как я понимаю, с надеждой все-таки захватить провокатора. Но Азеф, как известно, никогда не был простаком и сколотил себе крупный капитал совсем не для того, чтобы после исполнения своей мечты погибнуть от браунинга Савинкова, Карповича или еще кого-нибудь из своих бывших соратников. Там... (Никольский кивнул на дверь между стеллажами)... есть кое-что и об этом.
Он стоял, держась обеими руками за спинку стула, па котором перед этим сидел, и я понял, что ему трудно продолжать наш разговор.
— Спасибо, Лев Александрович. Честно говоря, к Азефу вы меня теперь привязали. Накрепко. Но еще один вопрос... на сегодня последний.
По лицу Никольского я видел, что он доволен моим признанием, глаза его блеснули, и он согласно кивнул.
— Я догадываюсь, что историей Азефа вы занимались, наверное, многие, может быть, очень многие годы и, вероятно, собрали о нем интереснейшие материалы. Во имя чего все это?
И опять в его глазах я увидел победоносный блеск добившегося своего человека.
— Во имя чего я почти всю свою жизнь занимаюсь делом Азефа? Коротко ответить не просто, к тому же, вы заметили, мне сегодня что-то неможется. Вчера мы с вами выпили слишком много кофе и крепкого чая. Так что поговорим в следующий раз. А вот о документах по делу Азефа, вы правы — у меня, я думаю, самая большая и самая полная коллекция в мире. И жаль... но я не смогу уже сделать то, о чем мечтал всю жизнь, написать по ним книгу.
— Ну что вы! — стараясь быть искренним, возразил я, но он словно не расслышал.
— Обидно будет, если все пропадет напрасно, — сказал он вполголоса, уже для самого себя.
Мне показалось, я понял, к чему он клонит.
— Если у меня будет возможность работать с вашей коллекцией, я напишу книгу об Азефе! — вырвалось у меня. — И, конечно же, расскажу о том, кому я обязан этой темой...
Он нахмурился и отвернулся.
— Продайте мне вашу коллекцию, — шуткой решил я смягчить свою напористость.
— Нет, — в тон мне ответил Никольский.
— Тогда подарите...
— Нет, я вам ее завещаю... — последовал неожиданный ответ, и пока я оторопело хлопал глазами, он смотрел на меня и наслаждался произведенным эффектом.
Профессор поморщился и поскреб свой тяжелый, по-бульдожьи выставленный вперед подбородок. Щетина недельной давности противно трещала.
«Надо бы все-таки побриться, — подумал он, — не отращивать же бороду как у фанатика».
И скривился в саркастической улыбке: докатились! На весь мир кричим о своих демократических идеалах, а политические убеждения человека определяем по растительности на его лице: бритый — значит либерал, отрастил бороду и не стрижет висков — пошел к ультраправым. А что делать, если у тебя раздражение, экзема и тебе не до бритья? Да и как тут не быть экземе, нервы сдают все больше и больше — политиканы грызутся за власть, интригуют. Правительство на грани падения, и тогда...
Что будет тогда, хорошо известно, так бывало уже неоднократно: новый премьер приведет с собою собственную команду, уволив всех, на кого опирался сваленный им соперник. Сначала чиновников второстепенных, потом тех, кто попривлекательнее, в том числе и руководителей спецслужб.
Нет, он, Профессор, этого не осуждает. Таковы правила игры, и он сам в свое время занял кресло именно таким образом — его предшественник ушел в большой бизнес и (есть сведения!) пишет мемуары...
Да, великое это дело — уйти вовремя и с честью, остаться уважаемым человеком, личностью, ценность которой определяется не должностью, не занимаемым постом. И он, Профессор, позаботится, чтобы все было именно так: он всего себя посвятит истории, прошлому, тому, где нет неожиданностей, где давно устоявшиеся оценки можно лишь уточнять и обогащать.
Впрочем, так ли это?
Он опять саркастически улыбнулся.
А тема, которой он сейчас занимается? Тема Азефа? Казалось бы, что в ней нового, История давно уже вынесла свой вердикт — и в то же время, сколько в ней может оказаться неожиданного! Ведь если Герасимов все же сохранил... для себя списки своих лучших агентов, тех, кто не оказался разоблаченным, как Азеф, а продолжал работать в российских революционных партиях, поднимаясь с годами на все более и более высокие посты... И если эти имена вдруг всплывут сегодня... сколько революционных кумиров может пасть, оказавшись вдруг платными агентами охранки! И тогда уж историю революционной России придется переписывать заново, таких разоблачений она не выдержит! И весь мир заговорит о нем, о человеке, имя которого все эти годы так тщательно скрывается, будто этого имени и вовсе не существует. Профессор. И только Профессор.
На панели интеркома зажглась зеленая лампочка. Он коснулся одной из кнопок.
— Господин Профессор, — послышался из аппарата бархатистый, завораживающий голос секретарши: — Господин Дэвид пришел...
— Пусть войдет, — разрешил он.
Появившийся на пороге Дэвид по-военному вытянулся, щелкнул каблуками и чуть ли не собрался рапортовать о своем прибытии, но Профессор, поморщившись, махнул рукою:
— Ну, ну, ну, молодой человек... Вы же знаете, я не люблю солдафонства. Садитесь и рассказывайте. Что вам удалось раздобыть в Бейруте?
— Пока ничего... господин Профессор, — смутился Дэвид.
— Ничего? — В голосе Профессора прозвучало искреннее удивление: — Ведь еще в прошлую вашу поездку в Бейрут вы вышли на нужного нам человека. И до сих пор — ничего?
В его словах слышалось раздражение.
Дэвид выпрямился и вскинул голову:
— Я считал своей задачей изучение объекта и его ценности в связи с поставленной вами задачей. И я...
— Ну и что же? — еще раздраженнее перебил его шеф.
— Это пожилой, очень пожилой человек, — заторопился Дэвид. — Работает хранителем библиотеки русских эмигрантов. Крайне нуждается и, если бы не подачки баронессы Миллер, наверняка давно бы оказался в приюте для бедных.
— А коллекция? Есть ли у него коллекция бумаг, которая нас так интересует?
— Мне кажется... — И, уловив недовольство во взгляде шефа, Дэвид поспешил поправиться: — Скорее всего — да.
В глазах Профессора вспыхнул насмешливый огонек:
— Но... почему же это вам... только кажется?
— Сейчас он наладил дружбу с одним советским и подолгу рассказывает ему о каком-то Азефе и русских жандармах начала нынешнего столетия.
В последнюю их встречу в библиотеке, которую мне удалось прослушать и записать, речь шла о ценных, по словам библиотекаря, документах. Николаев, так зовут советского, он журналист и писатель, просил дать ему возможность поработать с этими документами. Он даже готов купить их...
— И библиотекарь, конечно, отказался расстаться со своей коллекцией? — рассмеялся Профессор. — Да и как иначе? Откуда у советских деньги, да еще в валюте. О покупке Николаевым коллекции даже смешно говорить — библиотекарь знает ей истинную цену. Кстати, кто он?
Не поняв вопрос шефа, Дэвид недоуменно пожал плечами.
— Я спрашиваю, удалось ли вам узнать, кто он по убеждениям? Ну, просоветский, как это сейчас модно у эмигрантов первой волны. Монархист, тоскующий по убиенному большевиками царю-батюшке Николаю Кровавому? Или...
— По сведениям, которые мне удалось собрать в Бей-руте, он — националист. Русский националист...
— Такие себя называют патриотами, молодой человек! — назидательно поправил своего подчиненного Профессор. — Это общая болезнь русских эмигрантов первой волны — ностальгия, тоска по российским снегам, по звону колоколов на храмах, которые уже давно разрушены, по всяким там елочкам-березкам. Примитивное чувство примитивных, выживших из ума существ!
Дэвид с удивлением смотрел на шефа, потерявшего было над собою контроль. Но это продолжалось всего лишь несколько мгновений.
— Итак, молодой человек, — продолжал он уже совсем другим, спокойным и деловым тоном, — наш библиотекарь... кстати, у него же есть имя... что это мы все — библиотекарь да библиотекарь...
— Никольский, — поспешил уточнить Дэвид, — Лев Александрович Никольский. Окончил перед самой Октябрьской революцией Пажеский корпус в Петрограде, в звании подпоручика. В эмиграции в Париже занимался журналистикой, был близок к генерал-лейтенанту жандармерии Александру Васильевичу Герасимову...
Профессор останавливающе поднял ладонь:
— Не пересказывайте мне то, что хранится в памяти наших компьютеров, молодой человек. Пойдем дальше. Вы говорите, что коллекция Никольского, видимо, существует. Что там — нам пока неизвестно. Товарищ Николаев неизвестно с какими намерениями тоже, как и мы, интересуется коллекцией и даже хотел бы ее приобрести, но наш библиотекарь на это пока не идет.
— Он обещал ее Николаеву... завещать! — вдруг вырвалось у Дэвида, будто он только что вспомнил последние слова разговора в бейрутской библиотеке.
— Да?
Лохматые брови Профессора сошлись на переносице и приподнялись:
— И вы упустили такую важную деталь? Это уж, молодой человек, непозволительно. Совсем непозволительно. Скажу больше — непрофессионально! И не делайте виноватое лицо, у нас работают не кающиеся грешники. Но я вас особенно и не виню — профессионализм приходит со временем, вот только время это было бы покороче. Ладно, подумаем лучше, как нам использовать вашу информацию...
...У Профессора было твердое правило: подчиненных не распекать ни в коем случае, ибо это парализует волю сотрудника и лишает его инициативности. Вот и теперь Дэвид покинул его кабинет полным желания действовать: ему опять предстояла поездка в Бейрут — решающая и, значит, последняя.
Едва дверь за Дэвидом закрылась, Профессор позволил себе расслабиться. Лицо его расплылось в широкой улыбке, которую никогда не видел у него на лице никто — ни из подчиненных, ни из начальства. Так улыбаться он позволял себе лишь наедине с самим собою.
Жил на свете Старый Лис,
Старый Лис, Старый Лис.
Очень хитрый Старый Лис,
Хитрый Лис, Хитрый Лис... — замурлыкал он песенку, сохранившуюся в его памяти с самого дальнего детства. В песенке говорилось, что Старый Лис жил в норе, у которой было несколько потайных выходов, и, когда охотники с глупыми собаками обкладывали нору, Старый Лис всегда уходил от них через какой-нибудь из потайных выходов, каждый раз оставляя преследователей с носом.
И сколько Профессор себя помнил, он всегда следовал примеру этого Старого Хитрого Лиса: что бы он в жизни ни предпринимал, он всегда готовил на всякий случай запасные выходы из любой ситуации. И «Операция А» (так он закодировал про себя акцию, порученную Дэвиду) была одним из очередных таких выходов. Это была его, только его одного собственная, личная операция. Впрочем, в такого рода делах, не имеющих особой государственной важности, он не был обязан давать кому-либо отчет, даже премьер-министру или президенту. Относительно же того, что подведомственные ему люди и деньги использовались им в своих, можно сказать, приватных целях, сомнения его не мучили — он слишком хорошо знал, что поступает так не первым и не последним.
— Как и Азеф, — пришло ему на ум, и его вдруг с неудержимой силой потянуло вновь — в который раз! — окунуться в жизнь человека, о котором поэт-футурист писал: «Ночь, черная, как Азеф».
Набрать личный шифр на панели компьютера и вызвать на экран дисплея дьявольские зеленые знаки нужной программы было минутным делом. И вот в глубине экрана бесшумно побежали фосфоресцирующие строки, вызванные из глубин бесстрастной электронной памяти компьютера:
«Действуя в двух мирах — в мире тайной политической полиции, с одной стороны, и в мире революционной террористической организации, с другой, — Азеф никогда не сливал себя целиком ни с одним из них, а все время преследовал свои собственные цели и соответственно с этим и предавал то революционеров полиции, то полицию революционерам».
И ниже источник цитирования: название книги, ее автор, выходные данные, страница, абзац по счету сверху.
Еще одно касание пульта управления. И по экрану побежали строки другого высказывания современника об Азефе:
«Этот «суровый террорист» и «непреклонный революционер», этот «азартный игрок» человеческими головами, как рисовала, а порой и теперь еще рисует творимая легенда, — в глубине души был жалким, физиологическим трусом, влюбленным в маленькие радости жизни и судорожно за них цепляющимся».
Снова касание клавиш на пульте — и новый текст на экране дисплея:
«...именно Россия дала миру и тот конкретный пример провокации, которому суждено войти в историю в качестве классического примера провокации вообще». Профессор усмехнулся — на сегодня хватит.
Ничего нового, кроме того, что он сам заложил в электронную память, экран ему не расскажет. Ведь это он и только он месяцами копался в архивах, готовил и составлял электронную программу, радуясь каждой находке, каждому новому найденному им документу. Конечно, он не мог убивать все свое драгоценное время в архивах. Но в его распоряжении были люди, специалисты, натасканные на поиск, тщательный, скрупулезный, методичный... Они привыкли держать язык за зубами и не задавать вопросов. Приказ есть приказ, его надо выполнять четко и быстро. Может быть, кто-нибудь в глубине души и удивился теме, над которой они работали по приказу шефа, но разве что лишь в глубине души, ведь им приходилось готовить для своей организации и не такое. Кто знает, какую на этот раз операцию готовит шеф, этот неутомимый генератор самых дерзких и неожиданных идей.
Профессор ожесточенно поскреб щетину на подбородке. Кожа назойливо чесалась, так бывало всегда, когда он начинал нервничать.
Но теперь-то, спросил он сам себя, почему он нервничает теперь, ведь все идет хорошо: объект операции установлен, какие-то нужные ему, Профессору, документы у Никольского есть. Так что же его беспокоит?
И тут же пришел ответ: Николаев! Журналист, который вдруг так неожиданно сблизился с Никольским, а может быть, и вошел уже к нему в доверие! Эти впадающие на старости лет в патриотизм русские эмигранты способны на все. Одни переводят в Россию свои миллионы, если они у них, конечно, есть. Другие завещают Москве недвижимость, третьи...
И все, видите ли, желают загладить свою вину перед русским народом! Кто знает, что может сделать со своей коллекцией этот старый дурак Никольский. Живет в нищете, почти на милостыню, на подаяние какой-то там баронессы Миллер, а ведь мог бы продать свою коллекцию — хотя бы через Лондон, на аукционе Сотбис, старые документы сейчас в хорошей цене. Так нет, держит их при себе и ждет, когда их сожрут крысы. Эх, никогда из русских ничего толкового не получится, нет в них предприимчивости, нет коммерческой жилки. Оттого-то и наживается на них каждый, кто половчее...
И опять мысли вернулись к Николаеву: нет, это не соперник, пальцем не шевельнет, чтобы заполучить коллекцию. Так вот и будет ждать неизвестно чего.
И сразу вспомнилось: а ведь Никольский обещал завещать этому советскому...
Профессор нахмурился: что ж, получается, что Николаев не такой уж и простак. Наберется терпения и будет охаживать старика, пока тот и в самом деле не составит завещание в его пользу. А потом все будет гораздо сложнее — из советского посольства коллекцию уже не выцарапаешь. Что-что, а уж о системе безопасности русские заботиться умеют.
И сразу же мысли заработали с привычной четкостью, как всегда бывало, когда он, приняв решение, переводил его в план конкретных действий.
Первое. Немедленно прослушать привезенную агентом запись разговора библиотекаря с Николаевым и самому разобраться в ее содержании.
Второе. Изучить досье на Николаева. Раз он работает на Ближнем Востоке, такое досье наверняка ведется.
Третье. Ускорить заброску агента в Бейрут и поручить ему добыть коллекцию Никольского любыми средствами.
Он мысленно подчеркнул любыми средствами!
Конечно, если бы старик уступил документы по сходной цене, было бы лучше. Они бы стали его, Профессора, законной собственностью и в будущем, когда он уйдет в отставку, «уйдет с холода», как говорят англичане об уходящих в отставку разведчиках, и станет частным лицом, ученым, историком, никто не посмеет усомниться в его законном праве на коллекцию Никольского. Кстати, заплатить можно и щедро — отчета в расходовании специальных фондов с него никто не спрашивает. И тут же подвернулась мысль:
— Вот так и Центральный комитет партии социалистов-революционеров никогда не спрашивал финансовых отчетов с Азефа, руководителя эсеровской Боевой Организации (БО). И кто знает, сколько десятков тысяч франков (Азеф предпочитал французскую валюту) осело в бездонных карманах Евно Фишелевича!
Профессор помотал головой, чтобы отогнать наваждение. Образ этого человека все навязчивее преследовал его. О чем бы он в последнее время ни думал, Азеф обязательно всплывал вдруг из его подсознания, вызывая странные аналогии, навязывая свои решения. Да, похоже, что он, обладая гипнотическим даром внушения, мог навязывать окружающим свою волю, но ведь он давно мертв и похоронен в безымянной могиле второго разряда. Так почему же он действует так убеждающе, почти диктаторски теперь? Или его неприкаянная, погрязшая в кровавых грехах душа до сих пор бродит по свету, отыскивая себе подобных и заставляя их продолжать свое дело?
Чертыхнувшись, Профессор сделал несколько глубоких вдохов и выдохов, это входило в его систему восстановления душевного равновесия. Нет, он не был религиозным человеком, он не верил ни в Бога, ни в черта, ни в бессмертие, ни в переселение душ. Все это — обскурантизм, мракобесие! Он просто переутомился. Просто слишком долго жил мыслями об Азефе, сжился с ним, с этим неординарным человеком, дерзко поставившим себя над всем — над общепринятой моралью и человеческими законами, над жизнью и смертью, над людьми и государствами, из ничтожного, нищего местечкового мальчишки ставшего демоном!
И опять пальцы скользнули на пульт дисплея. И опять по экрану побежали зеленые дьявольские огоньки.
«Азеф — натура чисто аферистическая... на все смотрящий с точки зрения выгоды, занимающийся революцией только из-за ее доходности и службой правительству не но убеждению, а только из-за ее выгоды».
И подпись: Сергей Васильевич Зубатов.
— Зубатов? Сергей Васильевич? О, это был очень порядочный, интеллигентный и благородный человек.
Холодное лицо баронессы словно осветилось изнутри, когда она произносила эти фразы. Раз за разом бывая вместе с Никольским у Марии Николаевны на чае, я привык к тому, что гостеприимная хозяйка, несмотря на возраст, отличалась живостью характера и блестящей памятью. Правда, блестящая память демонстрировалась ею в том, что касалось прошлого, в настоящем же она частенько путалась и тогда, с коротким горловым смехом и холодным бесстрастным лицом привычно оправдывалась.
— Ах, господин писатель, стоит ли запоминать настоящее... Что в нем для меня? Одни потери и разочарования. То ли дело — прошлое. В нем все было ярко и романтично. А какие тогда были люди! Благородные рыцари, настоящие мужчины и кавалеры! Нет, я не осуждаю современную молодежь, наверняка и в ней есть благородные люди. Но, извините, этот дух стяжательства, когда каждый норовит урвать все, что может, себе и только себе...
Об этом противно даже говорить. Вы уж извините, господин писатель, но у меня здесь свой собственный мир, свой шато, и я хочу дожить в нем свои дни так же красиво, как прожила всю мою жизнь.
Никольский одобрительно кивал в такт ее словам, и на лице его было умиление. Это он завел разговор о Сергее Васильевиче Зубатове, как бы случайно, без какого-либо явного для того повода. Впрочем, никакого особого повода для этого и не потребовалось. С того раза, как он представил меня баронессе Миллер, мы стали бывать у нее почти каждый вечер, и не нужно было быть прозорливым, чтобы понять, что эти ежедневные встречи за русским самоваром спасают баронессу и Никольского от тоскливого стариковского одиночества. И, стараясь, чтобы я не скучал, Никольский каждый раз стремился разговорить хозяйку на тему, которая, как он уже был уверен, разожгла интерес «господина писателя»: об Азефе и его далеких днях.
Баронесса с удовольствием переносилась в мало кого интересующее сегодня прошлое. Как большинство поживших людей, она больше любила рассказывать, чем слушать, заново переживать в своих воспоминаниях некогда пережитое и, как ведется, слегка подправлять и приукрашивать свое прошлое, дофантазировать его, искренне веря при этом в правдивость своих воспоминаний.
А между тем жизнь ее не была богата событиями. В эмиграции она оказалась совсем юной девушкой. Ее родители: отец — инженер-путеец, мать — выпускница Смольного института благородных девиц — оказались во Франции отрезанными от России сначала фронтами мировой войны, а затем революции.
Барон Миллер, вдовец и бывший жандармский полковник, появился в Париже сразу после февральской революции. Сюда же он успел заблаговременно перевести и кругленький капиталец, человек он был благодаря своей профессии информированный и в силу природного ума — предусмотрительный. Имея касательство к заграничной агентуре Департамента полиции, он ловко использовал получаемые сведения не только для защиты престола, но и для собственных нужд — через подставных лиц крупно поигрывал на зарубежных биржах, и, как правило, удачно.
В Париже богатый жандармский полковник присвоил сам себе звание генерал-майора, справедливо полагая, что при выходе со службы он имеет право на повышение в звании точно так же, как повышались в звании его коллеги, выходившие со службы еще до февральского переворота. Бравому генералу не было и сорока. Благородная внешность, незаурядный ум, знание захватывающих историй — от придворных интриг до кровавых акций — все это покорило сердце юной и доверчивой Машеньки. Богатство же и титул барона настроили в его пользу папеньку и маменьку. А близкое знакомство генерала со многими деятелями дофевральской России, чьи имена особенно часто появлялись в русских и заграничных газетах на грани уходившего и наступавшего веков, сделало брак Машеньки с генералом не только респектабельным, но и по-своему пикантным.
Именно так новоиспеченная баронесса Миллер вошла в круг бывших сослуживцев супруга и познакомилась с таким знаменитым человеком, как Александр Васильевич Герасимов, завязав с ним долгую и нежную дружбу, особенно окрепшую после неожиданной и скоропостижной смерти супруга, погибшего как истинный романтик. «Мотор», который он «лидировал», сорвался с горной дороги в пропасть.
Все это я узнал у Льва Александровича Никольского, который, как я уяснил, давно уже играл роль наперсника страдающей от одиночества баронессы.
И, умело подталкивая свою приятельницу на воспоминания, Никольский все сильнее «завязывал» меня на Азефа и его окружение, как теперь вот в разговоре о Сергее Васильевиче Зубатове, о котором, как мне казалось, людям моего поколения было достаточно известно из школьных учебников и институтских курсов по основам марксизма-ленинизма.
— ...Мария Николаевна лично Сергея Васильевича не знала. Он застрелился в феврале семнадцатого, — тактично подсказал мне Никольский.
— Да, барон Миллер говорил мне, что он умер как герой, проигравший дело всей своей жизни, — печальным эхом отозвался голос баронессы. — Генерал-лейтенант Герасимов тоже очень высоко отзывался о Сергее Васильевиче, хотя, как он говорил, во многом с ним не был согласен.
Никольский отодвинул стоящую перед ним чашку с недопитым, остывшим чаем и чуть заметно улыбнулся. Он был доволен — разговор на начатую им тему получался.
— Да, господин писатель, то были интересные времена, — решил он углубить тему. — Интересные и ох какие непростые! В советских учебниках по истории — они есть в нашей библиотеке — слово «зубатовщина» означает самую примитивную, рассчитанную на дураков, полицейскую провокацию. Но ведь если бы все было так просто, вряд ли бы Ленин уделил Сергею Васильевичу Зубатову столько внимания в своих работах. И судьба господина Зубатова не была бы столь драматична. Или вы не согласны со мною, господин писатель?
Я пожал плечами:
— Почему же? То, что нам многое подавалось если не в извращенном, то, во всяком случае, упрощенном виде, это не наша вина, а наша беда, Лев Александрович. Но я никогда не стеснялся повторить за философом: чем больше я узнаю, тем меньше я знаю. Вот и теперь...
— И конечно же, вы не знаете, что Сергей Васильевич Зубатов после Рачковского был первым, если говорить всерьез, начальником Азефа, его, так сказать, наставником и духовным отцом?
Мне оставалось лишь смущенно улыбнуться...
...Они встретились осенью 1899 года в Москве. Азеф после почти семилетнего отсутствия вернулся в Россию окрыленный, уверенный в себе. Позади годы учения в Германии — сначала в Карлсруэ, затем в Дармштадте, и вот наконец получен диплом — сын нищего неудачника портного — инженер-электрик, господин инженер! Профессия передовая, перспективная, за ней и деньги, и положение в обществе, словом, будущее.
Недаром, особенно в последние годы, в Дармштадте, куда он перебрался из Карлсруэ, ибо там лучше было поставлено преподавание, он прослыл одним из самых старательных студентов — фирма Шуккерт предлагает ему место в Нюрнберге!
Что может быть почетнее и заманчивее после всего того, что выпало на первые три десятка лет его жизни! Правда, господа из Департамента полиции своим ежемесячным жалованием несколько облегчили его студенческие годы, но и он не оставался все это время перед ними в долгу. По их советам он не сидел на месте, не бездействовал. Германия и Швейцария ему теперь были знакомы не хуже Ростовской губернии, по которой в свое время он разъезжал неумелым, начинающим коммивояжером, пытающимся всучить провинциальным простакам залежалый, неходовой товар. Теперь, перебираясь из одного европейского города в другой, появляясь то в одном революционном студенческом кружке, то в другом, он иногда с усмешкой в душе сравнивал себя с тем, кем он был до отъезда в Германию: что ж, по сути дела, он и сейчас был коммивояжером, только куда более высокого класса, и торговал он товаром куда более престижным — идеями!
Выступления его всегда были коротки, четки, энергичны. И те, кто был с ним знаком еще в Карлсруэ, отмечали, что Евно Азеф сильно полевел, хотя и по-прежнему обрушивался на революционные политические доктрины, особенно на социал-демократическую.
— Мы вязнем в теориях, — рубил он решительные фразы. — Они связывают нас по рукам и ногам. Это о нас сказал поэт: «Суждены нам благие порывы, но свершить ничего не дано!»
И каждое его выступление заканчивалось призывом:
— К действию, товарищи! К делу! И дело это — террор. Террор и только террор поразит самодержавие в самое сердце, всколыхнет и поднимет на борьбу против него лучших сынов России!
Его голос завораживал, и слушателям казалось, что их потные от волнения ладони уже сжимают шершавые рукоятки браунингов, ставших вскоре любимым оружием боевиков-террористов, они видели себя маскирующимися в толпе прохожих, поджидающих с бомбами за пазухой кареты ненавистных царских сановников.
И когда товарищ Толстый уезжал в другой студенческий город, искры, зароненные им в молодые и наивные сердца, не гасли, дожидаясь лишь подходящего момента, чтобы вспыхнуть всесжигающим жертвенным пламенем во имя Революции.
Все знали, что, когда Владимир Львович Бурцев, известный народоволец и публицист, выпустил первый номер своего «Народовольца» с призывом к убийству царя, товарищ Толстый направил ему открытое письмо с поддержкой этого призыва. Это было дерзко и смело, и все знали, чего может стоить товарищу Толстому одно лишь это письмо. Были, конечно, и ответные акции царской охранки.
В Карлсруэ один из членов кружка, некий Коробочкин, молокосос, недавно прибывший из России, вдруг вспомнил о давних предупреждениях из Ростова и прямо на заседании, при всех кружковцах, бросил в лицо товарища Толстого гнусное слово:
— Шпион!
Ни один мускул не дрогнул на лице Азефа, он даже пе моргнул глазом. И когда кружковцы потребовали от перепуганного собственной смелостью Коробочкина доказательств этого мерзкого обвинения, Азеф продолжал гордо молчать, наблюдая, как его обвинитель путается и тонет в каком-то бессвязном детском лепете.
Решение кружковцев было единодушным:
— Поддержать невинно оскорбленного товарища Толстого, а Коробочкина исключить из кружка как клеветника.
Слово «провокатор» произнесено тогда не было, но мало кто сомневался, что выходка молокососа инспирирована Департаментом полиции, чтобы бросить тень на такого опасного борца против царизма, как сам Азеф. И это еще только больше укрепило его авторитет народного печальника и пламенного борца, не теоретика, но практика, человека действия, светлой личности, идеалиста, преданного революции. Так говорили тогда об Азефе в кружках революционной российской молодежи. И его присутствие на всех мало-мальски значительных собраниях революционеров, на обсуждении всех более-менее важных докладов и рефератов на революционные темы считалось уже чуть ли не обязательным. В Цюрихе в 1893 году его видели на заседаниях международного социалистического конгресса, на собраниях российских студентов и политэмигрантов, на следующий год он приехал в Берн и явился к супругам Житловским, занимавшимся созданием «Союза русских социалистов-революционеров за границей», людям пылким, доверчивым, но непрактичным. Деловитость и решительность, которые они разглядели в характере этого некрасивого, властно притягивающего к себе человека, покорили Житловских: именно из таких людей, верили они, и будет состоять «Союз русских социалистов-революционеров», сначала за границей, а потом и в России, и сам Бог послал к ним этого студента, рассказы о котором доходили до них еще и раньше.
Департамент полиции одобрил вступление Азефа в «Союз русских революционеров-социалистов», тем более что ниточки из Берна уже тянулись в Россию и предполагалось, что «Союз» может стать зародышем новой российской партии — Партии социалистов-революционеров. Письма из департамента шли ободряющие, кроме пятидесятирублевого жалованья стали поступать и наградные, в размере месячного оклада. И советы — умные, тактичные, полные заботы о его, Азефа, безопасности. И порою Азефу казалось, что в далеком Петербурге у него появился какой-то искренний доброжелатель, почти друг, это прельщало, радовало и в то же время настораживало — друзей у Евно никогда в жизни не было, он привык быть всегда один, только один, надеяться только на себя одного, доверять только одному себе. Людям он не верил и ничего хорошего от них не ждал, а в душе, про себя, даже бравировал этим: так уж устроена человеческая натура — подчинять или подчиняться, быть господином или рабом. Себе в этой жизни Азеф давно место определил: он будет Господином, он будет повелевать людьми, определять их судьбы, решать — жить им или умирать.
И теперь, когда первую часть пути к вершине можно считать пройденной, появилась возможность перевести дух, приостановиться, оглядеться и поразмыслить.
Получение диплома инженера-электротехника совпало с приятной новостью: все тот же неизвестный петербургский друг-благожелатель выхлопотал ему увеличение оклада сразу вдвое: сто рублей в месяц вместо пятидесяти. А кроме поощрительного вознаграждения к Новому, 1899 году, пришло денежное вознаграждение и к Пасхе. Но и на этом петербургский доброжелатель не остановился: в очередном письме он дружески, но настоятельно, приглашал новоиспеченного инженера-электротехника приехать в Россию, в Москву, где ему будет предложено хорошее место по специальности, а кроме того, за особые заслуги перед империей увеличено и государственное жалованье.
Отказываться от такого было бы грех, и осенью 1899 года Евно Фишелевич, полный самых блестящих надежд прибыл в Россию, в Москву.
...Начальник Московского охранного отделения Сергей Васильевич Зубатов понимал толк в агентурной работе и любил ее. Нет, он не был казенным ловцом «усталых душ», сломленные натуры его не интересовали — куда интереснее и труднее было превращать вчерашнего идейного противника, если не в друга, то по крайней мере в сознательного помощника, соучастника в нелегкой работе против безответственных, родства не помнящих разрушителей основы основ российской государственности — самодержавия.
А цену этим разрушителям Сергей Васильевич знал по личному опыту. Как и многие молодые люди, гимназист Зубатов грешил в свое время революционностью, состоял членом социал-демократического кружка, за что и был исключен в 1882 году из московской гимназии за десять лет до того, как пришлось покинуть учебное заведение и Евно Азефу. Из революционеров оба стали секретными сотрудниками полиции, ее платными агентами.
...И вот теперь, ожидая на тайной квартире встречи с Евно Азефом, секретным сотрудником, так хорошо зарекомендовавшим себя на работе за границей, Зубатов мысленно перелистывал страницы его формуляра, переданного Департаментом ему, Зубатову, начальнику Московского охранного отделения. И чем подробнее ему вспоминалась агентурная карьера Азефа, тем сильнее возрастало его презрение к этому «корыстолюбивому и пронырливому» агенту — эти определения, записанные в формуляре, теперь уже и не найдешь чьей рукой, врезались в память Зубатова своей беспощадной откровенностью.
Зубатов вытащил из жилетного кармана часы-брегет и щелкнул крышкой. Стрелки показывали семь минут пополудни. Азеф опаздывал, он должен был явиться ровно в полдень.
Зубатов досадливо поморщился: плебей — он и есть плебей. И хотя сам Сергей Васильевич к аристократам не относился, духовное плебейство он презирал всей душою.
И опять мысли вернулись к формуляру Азефа. Что ж, в архиве Департамента хранится и его, Сергея Васильевича Зубатова, полицейский формуляр. Менее десяти лет понадобилось ему, чтобы из заурядного секретного сотрудника стать начальником Московского охранного отделения. Мог ли он об этом подумать тогда, в 1883 году, когда стало известно, что Дегаев, отставной офицер-артиллерист, возглавлявший «Народную Волю», оказался провокатором, агентом Петербургской охранки, марионеткой в руках начальника особого отдела Департамента полиции Судейкина, нанесшего такие удары по «Народной Воле», после которых она так и не сумела оправиться. Сколько людей отправил в тюрьмы, на каторгу, в ссылку этот убежденный революционер Дегаев, а потом в довершение своей мерзости покаялся во всем этом перед Исполнительным Комитетом «Народной Воли». Покаялся и выполнил ее решение — убил с помощью двух подручных самого Судейкина — на его квартире, железной трубой.
Сергею показалось тогда, что весь мир, что все вокруг него — кровавая грязь, предательство и цинизм, ложь и беспринципность. И все это происходит прежде всего от тех, кому он так верил, за кем шел, в ком искал идеалы, в ком видел подвижников и мучеников. Да, видел. Да, верил! И вот крах. Крах всему, ради чего он собирался жить. И тогда он возненавидел тех, кто растоптал эти идеалы, тех, кто называет себя революционерами и отправляет на виселицу своих товарищей. Вот против кого надо бороться, вот чью преступную руку надо останавливать!
С этими мыслями молодой Зубатов и явился в Охранное отделение. Уже потом, по прошествии лет, он объяснял свое решение намерением «подводить контрконспирацию под конспирацию революционеров» и тем не допускать связанного с их деятельностью кровопролития. Он решил выбиться наверх, чтобы поставить дело политического сыска и охраны безопасности и общественного порядка в России на уровень современной цивилизации и криминальной техники. И выбился — с помощью одного только собственного интеллекта, без связей и поддержки, чужак в погрязшем в интригах и кастовости мире «голубых мундиров». Он дослужился в конце концов до звания полковника, но в элитный корпус жандармов его так и не пустили, для них он так и остался пришедшим со стороны презренным чужаком. Иудой, продававшим своих соратников за грязные полицейские сребреники. И, понимая и переживая все это в глубине души, Зубатов всего себя отдал работе, находя в ней спасение от полного душевного одиночества. У него было дело, которое требовало неиссякаемой энергии и новых, неожиданных смелых идей — своего рода «охранная реформация». Это он первым стал внедрять систему формуляров-досье, полных и подробных, ведущихся постоянно. Это он перенял уже использующуюся за границей дактилоскопию и фотографирование в трех ракурсах, задержанных, арестованных и осужденных. Но главной своей заслугой он считал постановку на небывалый доселе уровень работы с агентурой. «Сексоты» (секретные сотрудники) при нем превратились из всеми презираемых в охранной системе ничтожеств в героев, рискующих жизнью во имя блага, спокойствия и стабильности общества. И это была его моральная месть высокомерным «голубым мундирам».
— У меня есть кое-какие высказывания на этот счет Сергея Васильевича, — прервал свой затянувшийся рассказ Никольский. — Но я уже, наверное, наскучил, а вы меня не останавливаете.
— Похоже, Азеф ему был неприятен, — подтолкнул я Никольского. — Ведь если считать Зубатова идеалистом, алчный Азеф не мог быть ему близок.
— А вот и ошибаетесь, господин писатель, — не согласился со мною Никольский. — Если по-зубатовски сравнивать секретных сотрудников с любимыми женщинами, то самой любимой женщиной у него был Евно Фишелевич Азеф, который к тому времени выступал уже как «инженер Раскин». Евгений Филиппович Раскин.
И, словно поставив этой фразой точку, Никольский поспешно вскочил, указывая мне взглядом на бесстрастное лицо баронессы. Наша хозяйка спала, хотя глаза ее были полуоткрыты, как будто она пребывала в глубокой задумчивости, вызванной неприлично длинными и монотонными психологическими изысками Никольского. Но как только он поднялся со стула, голова баронессы шевельнулась, веера искусственных иссиня-черных ресниц вскинулись, и она произнесла голосом капризной, избалованной вниманием девицы:
— Ах, господа! Ради бога, извините, у меня ведь режим, и я так утомилась...
Азеф постучал в дверь условным, известным ему заранее стуком, и она почти сейчас же бесшумно растворилась. В глубине тускло освещенной прихожей стоял невысокий человек в наглухо застегнутом темном сюртуке. Белоснежный стоячий воротничок плотно охватывал его шею, подпираемый темным в светлый горошек галстуком. Высокий интеллигентский лоб подчеркивался гладко зачесанными назад волосами. Небольшая каштановая бородка, аккуратные усы, со свисающими над уголками рта заостренными кончиками, дымчатые очки, оседлавшие прямой, правильной формы нос... Именно таким увидел впервые Сергея Васильевича Зубатова Евно Азеф, увидел и сразу подумал: а ведь это он, именно он, тот неизвестный друг и благожелатель, который вел с ним переписку последние два года и к которому Департамент полиции настоятельно посоветовал явиться в первые же дни пребывания в Москве.
— Господин Раскин? Евгений Филиппович?
Голос Зубатова был мягок и бархатист и звучал скорее утвердительно, чем вопросительно:
— Проходите же... Я вас жду...
Он протянул гостю небольшую холеную руку и сразу же отдернул ее, когда понял, что Азеф собирается пожать ее, еще не войдя в прихожую.
— Нет, только не так, не через порог, уважаемый Ев-гений Филиппович. Не будем ссориться, хотя бы с самого начала...
А когда Азеф поспешно переступил порог и они обменялись вежливыми рукопожатиями, приятно улыбнулся, показав красивые белоснежные зубы. Затем отступил к оклеенной дешевенькими обоями стене, пропуская гостя мимо себя в глубь квартиры:
— Так проходите же, проходите... Добро пожаловать в первопрестольную, в нашу матушку-Москву...
Тяжело ступая и стараясь не задевать широкими, массивными плечами стены узкого коридорчика, который вел к двери в гостиную, Азеф последовал приглашению Зубатова. И тут же отметил про себя: а квартирка-то дешевенькая... Видать, прижимист господин начальник московской охранки. Мог бы конспиративку держать и поприличнее, соответственно положению.
Квартира действительно была из недорогих. И хотя в гостиной было все, что для нее полагалось: стол, буфет с посудой, диван и мягкие кресла, тюль и гардины на широком, давно не мытом окне, пара пейзажей на унылых стенах, — все здесь казалось каким-то бутафорским, как на сцене прогорающего провинциального театра. Не спасал положения и большой плюшевый медведь, брошенный на диван так, как будто им только что играл живущий здесь ребенок, а дорогая, инкрустированная перламутром шахматная доска на подоконнике казалась здесь чужой, случайно попавшей сюда из совсем иного, живущего совсем иной жизнью далекого мира.
Азеф остановился посредине комнаты, всем своим видом демонстрируя ожидание развития событий и готовность им подчиниться. Зубатов легко и изящно обошел его и сел на диван рядом с плюшевым мишкой, одновременно сделав рукою жест, приглашающий Азефа садиться в кресло напротив.
— Так вот вы какой, господин Раскин, — сказал он, не сводя внимательного взгляда с устраивающегося поудобнее в кресле Азефа.
Да, симпатии с первого взгляда этот человек не вызывал. Рыхлая, расплывшаяся фигура казалась неряшливой, несмотря на новенький, добротного материала (в елочку), сшитый у дорогого портного костюм. Волосы стрижены коротко, под бобрик, приплюснутые виски подчеркивали большие, с мясистыми мочками, оттопыренные уши, прямо из-под которых оплывали толстые, расширяющиеся вниз жирные щеки. По-негритянски вывернутые, чувственные губы подпирали плебейски толстый, приплюснутый нос. И все лицо было отечное, желто-серое, как у человека, страдающего заболеванием внутренних органов. Но в выпуклых, почти вытаращенных темных глазах Азефа светилась завораживающая притягательная сила, в них были уверенность и спокойствие, которые невольно передавались собеседнику, заставляя его забыть неприятную, почти отталкивающую внешность Азефа и внушая к нему даже нечто подобное симпатии.
И Зубатов вдруг поймал себя на том, что симпатизирует этому человеку, любуется им: как любуются такими уродливыми на первый взгляд собаками, как французский бульдог или бассет.
«Да он, пожалуй, еще и гипнотизер», — подумал Зубатов, поймав себя на том, что начинает уже испытывать на себе подавляющее влияние Азефа. И сейчас же внутренне воспротивился этому.
Он, которого подчиненные и начальство считают честолюбивым, властным и смелым, умным и рисковым, любящим играть с огнем и выдвигать неожиданные, оригинальные идеи, он, начальник Московского охранного отделения, фактически хозяин всего охранного дела в России, подчиняется воле какого-то секретного сотрудника?
И, собрав свою волю, он уставил взгляд в нацеленные на него полные странного блеска глаза Азефа. Теперь они молча смотрели в глаза друг другу, это продолжалось несколько секунд, и, когда Зубатов уже почувствовал было, что слабеет и Азеф вот-вот сломит его, тот шумно, как загнанная ломовая лошадь, выдохнул всей своей широкой, похожей на подушку грудью и отвел взгляд. Плечи его сразу опустились, он весь обмяк, и лицо вдруг стало жалким и заискивающим, как у проигравшего, побежденного и сдающегося на милость победителя.
Зубатов тоже перевел дыхание, внутри все ликовало, он победил, победил, как это уже бывало много раз в подобных поединках с господами революционерами: нет, он не ломал их волю, он щадил их, и они понимали, что не могут противостоять ему, понимали и, отпущенные на свободу — успокоиться и обдумать, что делать дальше, возвращались к нему укрощенными, но не обиженными, не оскорбленными.
Азеф, или сидящий теперь перед ним Евгений Филиппович Раскин, — иное дело, кстати, надо напрочь забыть, стереть из памяти его настоящее имя: Раскин, только Раскин... Даже в этом он должен помнить о своем подчинении ему, Зубатову. И это хорошо, что секретный сотрудник Раскин — не какой-нибудь интеллигенствующий слюнтяй. Да, он груб, он корыстолюбив, но это тоже сильные черты характера, на которых можно уверенно играть...
И Зубатову вдруг вспомнились строки из формуляра Евгения Филипповича Раскина, переданного Департаментом полиции в его Московское охранное отделение. Агент был передан по-честному, со всеми характеристиками, собранными на него с 1893 года, с июня, когда он был официально зачислен в секретные сотрудники Департамента полиции. Заграничная агентура Рачковского, перепроверявшая тогда студента Азефа, отмечала, что «как человек он не принадлежит к числу хороших, надежных друзей, злопамятен, мстителен, любит зло подтрунивать над недостатками чужих и близких, способен на все, если это ему выгодно...».
Что ж, в положительные герои господин Раскин явно не годился.
«Впрочем, на эту роль он и не претендует». — усмехнулся про себя Зубатов и опять повторил вслух, раздумчиво:
— Так вот вы все-таки какой, господин Раскин...
Азеф набычился, выставя вперед узкий лоб. и это можно было понять и как подтверждение, дескать, да, я — вот такой, и как демонстрацию задетого самолюбия, мол, каков есть, таков и есть!
Но Зубатов решил на этот раз пренебречь его эмоциями.
— Итак, господин Раскин, — сухим, деловым голосом начал он заранее продуманную беседу, — с этого дня вы поступаете в полное распоряжение Московского охранного отделения. Мои коллеги из Департамента полиции высоко оценивали ваше усердие. Впрочем, как вам известно, это нашло и достойное материальное отражение.
Азеф угрюмо кивнул, уловив в тоне Зубатова начальственные нотки — будущее в подчинении этого холеного российского барина его никак не устраивало, не в этом виделась ему его судьба, не к этому он стремился, поспешно покидая Ростов с чужими деньгами, не об этом мечтал, предлагая свои услуги Департаменту полиции. Нет, роль рядового секретного сотрудника была не для него.
Но Зубатов словно читал его мысли:
— Последние два года я имел возможность следить за вашей работой и понял — вас нельзя больше оставлять на попечении этих полицейских чинуш, этих тупиц из Департамента, способных погубить, утопить в казенщине даже самые гениальные умы, когда-либо рожденные для охранного дела.
Угрюмое, окаменевшее лицо Азефа смягчилось, в темных, выпуклых глазах сверкнуло любопытство...
«Э-э... да он еще и позер», — привычно отметил все это Зубатов и продолжал развивать нащупанную линию.
— Именно поэтому я добился передачи сотрудничества с вами мне, мне и только мне. Не скрою, из всех секретных сотрудников Департамента я считаю вас самым талантливым и самым перспективным и буду польщен, если отныне вы будете работать только со мною, не как с начальником, а как с коллегой, соратником по общему делу.
Азеф довольно засопел: вот так-то, теперь можно и разговаривать. А вслух произнес, подражая украинской мове:
— Зачем идти к пану секретарю, когда есть пан голова.
— Совершенно верно, — поддержал его Зубатов. — Если бы все строилось у нас на народной мудрости, сколько ошибок в этой жизни мы благополучно бы избежали! Не так ли, господин инженер?
И это обращение попало в точку. Инженерный диплом, этот первый шаг к новой жизни, прекрасной жизни-мечте, наполнял душу и сердце сына местечкового портного безграничной гордостью. И то, что сам начальник московской охранки видит в нем дипломированного инженера, человека своего круга, не могло не польстить его душе, истерзанной многолетними сомнениями, неудовлетворенными желаниями и грозившими не сбыться мечтами.
Одна солидная немецкая фирма предлагает мне хорошее место в Нюрнберге, — как бы к слову небрежно обронил Азеф. — Им нужен инженер моей специальности...
— Евгений Филиппович, Евгений Филиппович, — тут же ласково укорил его Зубатов. — Давайте начинать нашу дружбу с откровенности: мы знаем об этом предложении, но считаем, что здесь, в России, вас ожидает куда более блестящая карьера, чем на чужбине. И к вашему приезду мы кое о чем для вас постарались. Как вы, скажем, отнесетесь к месту инженера в московской конторе Всеобщей электрической компании? Хороший оклад, положение, членство в «Обществе вспомоществования лицам интеллигентных профессий», знакомства с цветом московской интеллигенции, а?
Азеф прикрыл веки, чтобы не выдать своего волнения: вот она, Мечта, сама идет к нему прямо в руки! Что скажет теперь отец, чуть не проклявший его за то, что он не стал выбиваться в ростовские торгаши, которых любой пьяный офицер мог принародно отодрать за пейсы! Что скажут соседи, эти голодранцы, в нищете своей потешавшиеся над Неудачником Фишелем и его вечно голодным семейством!
— Конечно, — продолжал тем же ласковым тоном Зубатов, — поскольку уровень теперешней вашей работы будет куда выше, чем был у вас в Германии, казенное жалованье вам тоже будет соответственно повышено... так сказать, авансом.
Последние слова Зубатов произнес как бы вскользь, решив вдруг из психологического озорства проверить, как будет реагировать на такое торгашество новоявленный господин инженер, но Азеф только кивнул, показывая, что относится к делу со всем пониманием и серьезностью. И это было последним штрихом его образа, почти сложившегося уже в уме начальника московской охранки.
— Вы сообщили, что сблизились в Берне с Житловскими, — внезапно заговорил уже совсем по-другому, по-казенному сухо и деловито, Зубатов.
— Я поддерживаю с ними отношения еще с 1894 года, — ответил в тон ему Азеф. — Считаюсь членом «Союза русских социалистов-революционеров за границей». Только...— Он иронически скривился: — Это не организация, а одно лишь название. Несколько самовлюбленных болтунов, старающихся держаться подальше от любого конкретного дела.
— И от ваших постоянных призывов к террору они, конечно же, были в ужасе?
— Не сказал бы, — возразил Азеф. — С теорией террора они согласны, пока не заходит речь о постановке конкретных актов. Тогда их уже ни на что не подвигнуть.
— И все же... как вы считаете, если взяться за дело серьезно, с должным размахом, с необходимым техническим отношением... можно ли все же поставить громкое... я имею в виду политически громкое... дело?
Взгляд Азефа был тяжел, лицо непроницаемо. Зубатов не мог и предположить, что творилось сейчас в тяжелой некрасивой голове сидевшего напротив него инженера Раскина. Узкий лоб, словно стальной щит, скрывал его мысли от начальника московской охранки.
Молчание длилось с минуту, и наконец тяжелые челюсти Азефа шевельнулись, он облизал пересохшие, по-негритянски вывернутые, толстые губы:
— Я найду нужных нам людей, — услышал Зубатов внезапно охрипший голос своего секретного сотрудника, — людей, готовых на все.
Сергей Васильевич одобрительно кивнул. Сколько раз за последние годы, мечтая о полной реформации охранно-сыскного дела, он приходил к мысли о том, что он называл про себя «двусторонней политикой», «политикой кнута и пряника», и одной из сторон этой политики был террор. Это с его подсказки Азефу советовалось призывать к переходу «от теории к практике», от теоретических споров к постановке боевых акций, к замене дискуссионных кружков боевыми группами, к ставке на боевиков, а не на «массовиков»-агитаторов, к постановке динамитных мастерских, а не к отправке транспортов нелегальной литературы.
Для этого нужны были люди энергичные, отчаянные, беспрекословно выполняющие приказы своих руководителей и не сомневающиеся в правоте того, что они делают. А таких руководителей, надежных, преданных делу охраны, предстояло подобрать и тщательно проверить самому Зубатову.
«И тогда, — размышлял Сергей Васильевич, наедине с самим собою, — мы вызовем вас, господа революционеры, на террор и раздавим!»
Он понимал, что это будет игра с огнем и вторая сторона его «двусторонней политики» — то, что он пока еще тщательно продумывал, взвешивая риск, на который собирался пойти этак через годик или два. Но пока говорить об этом было рано, тем более — Азефу, так презирающему (по внушению из Департамента) «массовиков» и «теоретиков».
Разговор продолжался без малейшей паузы, и если бы Зубатов смог сейчас заглянуть в душу Азефа, то увидел бы в ней ликование: да, переход от одного столетия к другому, от девятнадцатого века к двадцатому был для инженера Раскина таким победоносным, что, если бы кто-нибудь предсказал ему это, он не поверил бы ни за что: никакие карты не могут лечь так хорошо для начала хоть и опасной, но дерзкой и сулящей крупнейшие выигрыши игры.
Они, Азеф и Зубатов, были словно рождены друг для друга.
— Я был уверен, что не ошибаюсь в вас, Евгений Филиппович, — понизил голос Зубатов, не сводя испытующего взгляда с остающегося бесстрастным, как у каменной курганной бабы, некрасивого лица своего собеседника. — Мы несомненно обопремся на вашу помощь, но только не сейчас, в таком деле нельзя спешить, надо действовать наверняка.
Азеф кивнул. Спокойная уверенность Зубатова показывала, что все, о чем он говорит, продумано и реально в осуществлении, и это вселяло уверенность в том, чем им предстояло заниматься вместе к их обоюдной выгоде.
— В Москве вы пока что человек чужой, неизвестный, можно сказать — провинциал, хоть и провели несколько лет за границей. Но Европа — это Европа, Россия — не Германия и не Швейцария, извините уж, Евгений Филиппович, меня за труизмы... то бишь, ба-нальности.
Азеф согласно хмыкнул, давая понять, что внимательно слушает своего визави.
— Так что первой вашей задачей будет устроиться в нашей первопрестольной, осмотреться, освоиться и людей посмотреть, и себя показать. Мы вам, естественно, поможем, подскажем, в случае нужды — убережем, да и на людей нам нужных выведем, слава Богу, не зря казенное жалованье получаем. Впрочем, вы и сами человек уже опытный, осмотрительный, кое о чем, как вы нам сообщали перед отбытием из-за границы, и сами уже обеспокоились.
— Житловские дали мне кое-какие рекомендательные письма...
Азеф сунул руку во внутренний карман, достал оттуда и протянул Зубатову пачку исписанных убористым почерком мятых листков.
Зубатов, не сумев скрыть охватившее его при виде непрезентабельности чувство брезгливости, с беглой небрежностью проглядел письма и вернул Азефу.
— Что ж, адресовано все это персонам, нам известным — руководителям «Союза социалистов-революционеров» Господа Житловские рекомендуют вас наилучшим образом. И слова нашли нужные: верен идеалам, глубоко сочувствующий, берется за конкретные дела... ну и все такое, чтобы здешние господа революционеры приняли вас как соратника... Лучшего и пожелать нельзя, Евгений Филиппович.
В словах Зубатова звучало уважение: да, действительно похоже, что в Евно Азефе он до сих пор не ошибался. И вдруг кольнуло сомнение: а так ли прост, как думается, сидящий сейчас перед ним громоздкий, такого неинтеллигентного вида человек? Одна ли простая корысть толкнула его в 1893 году в объятия Департамента полиции. Помнится, в докладе о нем ростовских охранников говорилось, что он при всем его корыстолюбии и «современной нужде» «человек неглупый и весьма нронырливый» и «будет очень дорожить своей обязанностью». До сих пор ростовцы оказывались правы. Но только ли корыстолюбие определяет линию жизни Евно Азефа? Или за этим есть и еще что-то, пока ему, Зубатову, неведомое, непознанное и непонятое?
«Ничего, — мысленно успокоил себя начальник московской охранки, — теперь он у нас здесь, под руками, присмотримся поближе, разберемся, не такие орешки раскалывали... — И тут же подумал: — А все-таки до чего же похож этот человек на каменную курганную бабу из южнорусских степей. Лицо плоское, ни мыслей, ни эмоций, две-три фразы почти за час встречи. А ведь, судя по его донесениям из Германии, человек не глупый, не трусливый, но осторожный и предусмотрительный... Что ж, для первой встречи, пожалуй, хватит».
Он встал, давая понять, что пришла пора расставаться, и Азеф последовал его примеру, неспешно подняв из кресла свое тяжелое, грузное тело.
— Был очень рад познакомиться с вами, Евгений Филиппович... теперь уже очно, — протянул ему руку Зубатов и, когда она утонула в жирной ладони Азефа, вдруг спохватился, будто забыл сказать еще что-то важное...
— На днях у вас должен состояться, можно сказать, дебют. Что-то вроде первого бала у девушки на выданье. Вы получите приглашение от писательницы Немчиновой. Фигура среди народовольцев известная, держит литературно-политический салон... Люди собираются у нее самые разные. Курят и спорят до одури, большие доки в революционной теории. Тема ближайшего собрания — мировоззрение Михайловского, народники за него, как вам известно по заграничным кружкам, стоят горою.
Зубатов сделал многозначительную паузу, и взгляд его стал повелительным.
— И вам, Евгений Филиппович, предстоит выступить в этой дискуссии: защищать Михайловского от марксистов...
— Но... — лицо Азефа дрогнуло, и Зубатов впервые увидел на нем что-то вроде растерянности...
—Мы знаем, Евгений Филиппович, что в теории вы не сильны, да и не стремитесь к ее познанию, но...
Он развел руками, выражая одновременно и сочувствие, и неотвратимость выступления на диспуте у Немчиновой.
— ...лучшего момента для вхождения в нужную нам среду в ближайшее время пока не предвидится. А насчет текста вашего выступления — не извольте беспокоиться. У нас, слава Богу, хватает на службе и бывших народников, и бывших марксистов. Память у вас, как нам известно, хорошая, а уж над текстом наши теоретики потрудятся. Будет и смело, и свежо, и искренне. Успех у слушателей я вам гарантирую!
Мы встречались теперь с Никольским все чаще и чаще. И я понял: для него наши встречи были бегством от одиночества, психическим самосохранением человека, давно пережившего всех своих земляков-сверстников, друзей и просто знакомых. Конечно, чаи у баронессы Миллер заполняли его тоскливые стариковские вечера, но, как я понял, в отношениях не было равенства: баронесса выплачивала ежемесячное содержание старику библиотекарю, как когда-то баре-аристократы содержали для себя собственные оркестры, театры или картинные галереи, поручая их, хоть и свободным от крепостного ярма, но подневольным дирижерам, режиссерам и живописцам.
Нет, в отношении баронессы к нищему земляку не было ни высокомерия, ни барственной снисходительности. Но та подчеркнутая предупредительность, та осторожная вежливость, с которыми она обращалась с Никольским, были, на мой взгляд, куда более унижающи, чем была бы откровенная демонстрация неравенства и зависимости Никольского от баронессы.
В наших же отношениях все было иначе. Повествуя мне о днях, давно прошедших, возрождая передо мною образы интереснейших и почти неизвестных мне людей, связывая и разводя их судьбы, Никольский обретал собственное достоинство, самоутверждался и в собственных глазах, и в глазах жадно и с откровенным уважением слушающего его человека. Он охотно приходил ко мне — провести вечер в моем, пусть и холостяцком, но налаженном доме. И, как я ни возражал, старался принимать участие в моих вынужденных хлопотах по хозяйству: мы с ним то убирали квартиру, то пылесосили мебель, а то и колдовали у кухонной плиты. Порою он по-отечески ворчал на меня, упрекая в неэкономности, порою поучал или открывал мне все новые и новые способы выживания в непредсказуемости все той же бейрутской «ситуации». Он научил меня забивать морозильную камеру холодильника большими кастрюлями с водой, превращающейся в солидные куски льда на случай, если городская электростанция в очередной раз выйдет из строя. Тогда холодильник превращался в ледник.
— А как же мы обходились раньше, когда холодильников еще не придумали? — лукаво заглядывал он мне в лицо. — То-то, господин писатель! Ледниками обходились, ледниками... С зимы до зимы лед-то хранить люди умели.
Он открыл мне, что майонез может с успехом заменять сливочное масло и даже в жару хранится достаточно долго без охлаждения. Куски зачерствевшего местного хлеба, хобза, у нас не выбрасывались, а сохранялись в бумажных пакетах на «черный день». И когда городские пекарни в очередной раз из-за отсутствия в городе электроэнергии не работали, мы привычно распаривали хобз на прикрытой плотной крышкой сковороде, превращая его в прекрасные, на наш взгляд, тосты.
Мы часто перезванивались, разумеется, когда телефонная связь в городе в очередной раз восстанавливалась: телефон в библиотеке, как и ее помещение, оплачивался все той же баронессой Миллер.
Я чувствовал, что Никольский все больше привязывается ко мне, как лишенные домашнего очага люди бессознательно, инстинктивно идут на тепло, которым вдруг дохнуло на них из случайно отворившейся чьей-то незнакомой двери. И однажды, после хорошего, приготовленного совместно ужина в моем доме и нескольких стаканчиков первоклассного арака, у нас в очередной раз зашел разговор об Азефе: его письмо к жене, прочтенное мною в библиотеке у Никольского почти месяц назад, не давало мне покоя. Я признался в этом Никольскому:
— И все же, Лев Александрович, мне трудно поверить в неискренность того, что Азеф писал своей жене. Так можно писать лишь очень любимой женщине, искреннему и преданному другу. Честно говоря, этим письмом Азеф открылся для меня совсем по-другому — и сложнее, и человечнее.
— Человечнее? — поморщился Никольский. — Надеюсь, что вы уже поняли, что я посвятил изучению Евно Фишелевича Азефа всю свою жизнь, и смею надеяться, что никто не знал и не знает его так, как я...
Он приподнял свой стаканчик с араком и задумчиво посмотрел сквозь его мутную белизну на свет люстры. Часы в соседней комнате пробили девять.
— Что ж, оно и к лучшему — сейчас поздно, и мне пора домой, а вот завтра, господин писатель, если я еще не окончательно надоел вам со своим Азефом, этой «идеей фикс» всей моей жизни, и вы посетите меня в моем убежище, я покажу вам еще кое-что, касающееся нашего теперь с вами общего героя.
Утром следующего дня, как мы и условились накануне, я поехал в библиотеку Никольского — в старый квартал почти на самой «зеленой линии», на фронтовой черте, разделяющей Бейрут на западную и восточную части, соответственно на мусульманский и христианский секторы.
Обшарпанные двух-трехэтажные дома, построенные еще в те времена, когда Ливан был всего лишь одним из пашалыков Османской империи, были похожи па слепцов из-за заколоченных досками, наглухо закрытых ставнями окон. На узких тротуарах громоздились горы отбросов, в которых деловито и дерзко копались раскормленные крысы. Муниципальные власти давно уже не обращали внимания на этот полу-покинутый, простреливаемый со всех сторон район, да и мусорщикам совсем не хотелось выполнять там свои обязанности, рискуя в любой момент получить пулю какого-нибудь полусумасшедшего снайпера, в очередной раз вышедшего на охоту па случайных прохожих.
Тупик, в конце которого в старом, разрушающемся от времени двухэтажном доме находилась квартира, приспособленная под библиотеку, шел перпендикулярно пустынной улице, поднимался круто вверх по склону тесно застроенного еще в давние времена скалистого холма. Теперь здесь господствовали фантастического вида развалины, окружающие дряхлый дом, последним обитателем, которого был бедолага Никольский.
И каждый раз, съезжая в заросший травой, заваленный обломками заброшенных домов переулок, ведущий к библиотеке, я испытывал жутковатое ощущение затаившейся в развалинах и подстерегающей меня опасности.
Деревянная дверь единственного в доме подъезда висела на одной ржавой петле, распахнувшись настежь и открывая темный вход с выщербленными ступенями грязной лестницы. На лестничную площадку первого этажа выходили двери трех квартир, две — заколоченные наглухо, третья вела в библиотеку.
Я четырежды с длинными паузами постучал — договорились о таком стуке мы с Никольским совсем недавно и по его предложению. И когда он просил меня об этом, мне показалось, что он старается скрыть от меня какое-то, совсем недавно появившееся у него беспокойство.
Вот и теперь, даже услышав условный стук, он открыл не сразу, а сначала спросил тихим, настороженным голосом:
— Это вы, господин писатель?
И переспросил еще дважды, убеждаясь, что слышит в ответ именно мой голос. Потом послышались металлические лязги, скрип отодвигаемого засова, и только после всего этого тяжелая, мореного дуба дверь открылась. Никольский стоял за выступом каменной стены, в засаленном домашнем халате, опустив правую руку в просторный, оттопыренный карман. Увидев меня, он с облегчением вздохнул, и напряженность на лице его сменилась доброй улыбкой:
— Ахлян, господин писатель, ахлян, добро пожаловать, — приветствовал он меня по-русски, и, вынув из кармана правую руку, протянул ее мне. И, обменявшись с ним рукопожатием, я невольно обратил внимание, что карман его сразу же провис, будто в нем находилось нечто тяжелое.
Пропустив меня в свое книжное царство, Никольский тщательно запер дверь изнутри, и я отметил про себя, что, хотя замки, с которыми сейчас возился Никольский, имелись на двери и раньше, старый библиотекарь никогда, по крайней мере в моем присутствии, ими не пользовался.
— Ничего не поделаешь, господин писатель, — ответил он на мой недоуменный взгляд, — лихие времена!
И выразительно похлопал по оттянутому какой-то тяжестью карману своего халата. Потом опять повторил арабское приветствие:
— Ахлян, ахлян... Проходите же и садитесь...
Следуя его приглашению, я прошел к столу, заваленному старинными амбарными книгами, исполняющими здесь, как я уже имел возможность неоднократно убедиться, роль каталогов. Один из венских стульев был слегка выдвинут из-за стола, словно специально для гостя. Я воспользовался этим безмолвным приглашением и сел, ожидая, что будет дальше.
— Итак, господин писатель, — торжественно заговорил, подходя ко мне, старый библиотекарь, — я обещал вам вчера кое-что показать.
— Да, мы говорили о жене Азефа — о Любови Григорьевне Менкиной.
— Именно о Менкиной, — подчеркнул Никольский, — ибо, когда Азеф был разоблачен, она, не дожидаясь с ним официального развода, отказалась от его фамилии. Бедная женщина...
В его голосе было сочувствие.
— Сколько сил надо было отдать, доказывая, что она ничего не знала о двойной игре мужа! Пришлось ей давать показания и членам следственной комиссии, созданной социалистами-революционерами, чтобы разобраться в деле виднейшего члена своего Центрального комитета и командующего Боевой Организацией «генерала БО», как потом стали называть Азефа некоторые писатели из русской эмиграции.
Он взял один из каталогов и раскрыл его на страницах, заложенных несколькими исписанными листками бумаги. Запахло книжной плесенью, бумажной пылью.
— Вот, господин писатель, извольте ознакомиться. Выписки из показаний мадам Менкиной следственной комиссии по делу Азефа.
Я осторожно взял из его руки протянутые мне листки. Текст на них был машинописный, под голубую, не новую копирку, с «ерами» и «ятями».
— А я, с вашего разрешения, пока займусь кое-чем в соседней комнате.
И, не ожидая ответа, он бесшумно скользнул за дверь, оставив меня наедине с запротоколированными несколько десятилетий назад показаниями еще одной из жертв «инженера Раскина».
«Стенографический отчет 15-го заседания судебно-следственной комиссии. 25 марта 1910 года», — значилось в верхней части первого листка.
«Ведет член комиссии Сенжарский. Отвечает товарищ Л. Г.».
Сенжарский просит товарища Л. Г., то есть Любовь Григорьевну, рассказать для начала, как сошлись их жизненные пути — ее и Азефа. И в стенограмме идут сначала несколько ничего не значащих, относящихся к процессуальной стороне дела, фраз. Я пробегаю их беглым взглядом и все же словно вживаюсь в событие, происходившее 25 марта 1910 года.
Любовь Григорьевна после некоторого препирательства с Сенжарским начинает отвечать на его вопросы.
«Перед тем как познакомиться с ним, — говорит она, имея в виду Азефа, — я работала в Дармштадте, в одной мастерской. Это было еще 15 лет назад, то есть в апреле будет 15 лет...»
Я мысленно отбрасываю пятнадцать лет от девятьсот десятого года — итак, они познакомились в апреле 1895 года. Азеф уже исправно служил полиции и аккуратно получал за свои старания ежемесячные пятьдесят рублей, разъезжал по революционным русским кружкам в Германии и Швейцарии, призывая к террору, присутствовал на всевозможных собраниях и конгрессах, успел познакомиться в Берне с Шитловскими и покорить их своей революционной решительностью...
«...Познакомились 22 апреля у студента Петерса, к которому Азеф приехал из Карлсруэ...» — рассказывала Любовь Григорьевна.
Что ж, «освещение» одессита Петерса, судя по всему, продолжало интересовать политический сыск, и Азеф продолжал соответственно опекать своего опасного недруга.
«...Стали вместе выписывать «Форвертс», читали... Один раз как-то гуляли, и я ему рассказала, что приехала в Дармштадт только на время — по пути в Швейцарию, и как только выхлопочу стипендию, поеду в Швейцарию — в университет.
Через два дня от него «ужасное письмо» — на «ты». Я мечтала об учебе, а он — с какими-то «мечтами о любви». Я была возмущена и потрясена».
«Но в конце концов мы сблизились, — стыдливо признается Любовь Григорьевна членам судебно-следственной комиссии и продолжает свой рассказ:
— ...Он был вечно голоден, и ему вечно было холодно. Он постоянно жался от холода, и когда я к нему заходила в свободное время, то всегда была такая картина, что он или жарит себе на сковородке бифштекс, или лежит и спит. На меня это производило ужасно странное впечатление, что человек среди бела дня лежит и спит. Он, очевидно, в то время нуждался, потому что жил он очень скромно... и вечно как будто голодал — постоянно он хотел есть».
Любовь Григорьевна переходит к детским и юношеским годам своего мужа:
«...Отец у него был портной... мать сбежала из дому, в семье у них вечные ссоры и драки... Там была целая драма в семье... дети просто с ума сходили... Азеф в семье долгое время не жил — жил на частной квартире. Бросил гимназию, укатил с какой-то труппой на юг, в Ялту... После гимназии служил в конторе... там украл деньги... Мне кажется, что он вылетел из седьмого класса. Из гимназии не диплом, а какая-то справка... Он украл деньги и уехал на них за границу учиться... Приехал в Вену... Из Вены в Карлсруэ. Начинал учебу в Карлсруэ, кончал в Дармштадте...»
А вот и совсем неожиданные признания:
«...Читал письма, держа совсем перед глазами, чтобы никто не подсмотрел, или уходил в клозет... Неделями не разговаривал, грубил: ах, оставь, ты ничего не понимаешь! Уходил писать письма в ресторан. На душе у меня был все время камень».
Жили в бедности, хотя Любовь Григорьевна и получала стипендию — 60 франков в месяц. И опять об Азефе:
«Он не очень интересовался моей жизнью. Но когда уезжал, слал любвеобильные письма, телеграммы, ревновал ко всем, совершенно горел. Но стоило хоть неделю прожить вместе — хоть неделю, — ссоры, потому что натуры у нас были совершенно разные.
...Получал деньги от отца — 15—20 рублей в месяц — на учебу, занимал у некоторых знакомых.
Потом он как-то раз приезжает ко мне, уже значительно лучше одетый и рассказывает — есть у него приятель, Тимофеев, человек богатый. И он положил на имя Азефа в банк несколько сот или тысяч марок, можно брать понемногу. Мне тогда можно было сказать что угодно — и всему верила...»
Куда менее доверчивой оказалась германская полиция. Связь ростовского студента с российской охранкой явно не осталась ею незамеченной. Вряд ли приходится сомневаться, что письма Азефа в Россию и его почтовые получения перлюстрировались.
«...Появился в Дармштадте примерно в 96-м, 97-м году... Когда император приезжал в Дармштадт, то Азефа выслали из города. Немецкие шпики проводили его до Карлсруэ, а один немецкий профессор воскликнул:
— Ах, этот шпион!
...Как-то раз приходит и говорит: а знаешь, я крестился. Может, было это, а может быть, нет».
Но вот эта часть заграничной жизни Азефа подходит к концу. Франкфурт-на-Майне, Берлин и, наконец, Москва. И Любовь Григорьевна вспоминает: Азеф хвастался ей, что о визе на жительство в первопрестольной хлопотал для Азефа сам обер-полицмейстер Москвы Дмитрий Федорович Трепов!
...С Сергеем Васильевичем Зубатовым, начальником Московского охранного отделения, московский обер-полицмейстер состоял в то время в самых наилучших деловых отношениях и всячески поддерживал то, что в историко-политической литературе получило впоследствии название «зубатовщины».
Я аккуратно сложил листки и положил их на стол. С этими бумагами надо было работать серьезно и тщательно, а не вот так, наскоро проглядывая, пользуясь любезностью их хозяина.
— Ну и как, господин писатель? — раздался с порога соседней комнаты почти ликующий голос Никольского. — По-прежнему сомневаетесь насчет Азефа?
Старый библиотекарь уже успел переодеться. На нем был старомодный, табачного цвета костюм, изрядно застиранная, в тон костюму, рубашка, воротничок которой был украшен почти потерявшим форму широким коричневым галстуком в белый горошек...
И вдруг я понял: да Никольский и жил в этом заброшенном, полуразрушенном доме! В самом деле — откуда бы ему взять деньги на аренду даже самой крохотной и неказистой квартирки при бешеном росте цеп в нынешнем Бейруте.
— Лев Александрович, — кивнул я в сторону лежащих на столе бумаг. — Видится мне, что у вас есть документы и не менее интересные. Но вот так, можно сказать, на бегу знакомиться с ними — это же профанация, одно расстройство...
— Терпение, господин писатель, терпение и еще раз терпение. Я же обещал завещать вам мою коллекцию. А дней моих, предчувствую, осталось немного. Ой как немного!
— Здравствуйте, здравствуйте, дорогой Евгений Филиппович!
Зубатов распахнул руки, будто собираясь обнять стоящего на пороге «копспиративки» Азефа. — Заждался я вас, откровенно говоря, заждался. Изволили, как всегда, припоздниться чуток. Впрочем, это...
И, пропустив Азефа в прихожую, затворив за ним дверь, продолжал совсем в другом тоне, наставительно:
— ...впрочем, на конспиративную встречу лучше являться с некоторым, не слишком большим, опозданием, чем раньше условленного времени.
Он зашел за спину Азефа и ловко помог ему снять пальто.
— Вы уж располагайтесь у меня здесь поудобнее, побеседуем по-дружески, обсудим, как дела наши с вами на родной земле-то пошли.
Голос Зубатова был красив, мягок, почти ласков, он обволакивал, проникал в самую глубину души и, казалось, мог растопить самое заледеневшее сердце.
— А ждал я вас, чтобы поговорить об Аргунове Андрее Александровиче. Это — человек дела. Организовал «Общество переводчиков и издателей», в 1882 году участвовал в создании нелегального кружка в Московском университете. «Общество», конечно, мы через пару лет ликвидировали, самого Андрея Александровича из университета на два года в тюрьму, а потом на пяток лет в Шушенское, есть такое место отдохновения в Восточной Сибири. Но не успокоился господин хороший, нет. Сейчас партию создавать хочет. Партия социалистов-революционеров называться вроде бы будет. Журнал нелегальный поставить хочет... И тоже название уже придумано — «Революционная Россия»...
— Все это интересно до крайности, — на лице Азефа действительно читался интерес к тому, о чем говорил Зубатов. — Только если вы так обо всем прекрасно осведомлены, чего же вы медлите? Чего еще ждете?
— А ничего особенного! Дело-то пока у нас под контролем, вот когда совсем созреет и оформится, тут мы всех его участников и выберем чистенько, чтобы ни один не ушел. А может быть, и нашего человека, вот вас хотя бы, в организацию введем, не для освещения, нет, для этого у нас сотрудников хватает. А такого, чтобы руководить ею мог... с нашей помощью, разумеется... Вон как вас Житловские рекомендуют здешнему «Союзу социалистов-революционеров».
Он прикрыл глаза ладонью, лицо его слегка напряг-лось, как при чтении нечеткого текста:
«...Человек осторожный и осмотрительный, но не трусливый, который может быть советником во всех практических вопросах». Вот видите, Евгений Филиппович, интеллигенты интеллигентами, а характер ваш поняли — такой, какой он нами для вас задуман. А теперь о вашем споре с марксистами — в защиту народников...
И он опять прикрыл глаза узкой ладонью, словно погружаясь в строки, отпечатанные в его памяти:
— Наш сотрудник сообщает: спор шел о мировоззрении Михайловского, выступали много и горячо, люди были все друг другу известные. Тем сильнее всех заинтересовало выступление новичка — человека толстого, с интеллигентным, скуластым лицом, который, волнуясь, защищал Михайловского от критических нападок со стороны марксистов. Особенно ценной он считал у Михайловского его теорию «борьбы за индивидуальность». Речь продолжалась довольно долго и произвела на окружающих впечатление своей взволнованностью, искренностью и знанием предмета.
— Ну, как, Евгений Филиппович?
Тяжелые губы Азефа полураскрылись в сдерживаемой улыбке.
— Так это же комплименты вам, Сергей Васильевич, а не мне, вашим «теоретикам» — из марксистов и народников, они написали, я заучил... как актер текст хорошего драматурга.
— Но плохой актер загубит творение и самого гениального драматурга! — вырвалось у Зубатова. — А у вас — искренность, волнение, знание предмета... Нет, что ни говорите, сыграли вы превосходно, тем более, если учесть... по вашей работе за границей, что не любите вы не только теорию, но и ораторские упражнения!
— Согласен, — сдержанно признал его правоту Азеф. — Ну и что же теперь? Так я и буду блистать на журфиксах с произведениями ваших «теоретиков»? Болтать вместо того, чтобы заниматься настоящим делом?
— Будет и дело, — постарался не заметить его раз-дражения Зубатов. — Считайте, что вы в него уже включились... на журфиксе у Немчиновой. Мы получили сведения, что Аргунов интересуется вами, наводит справки. Вам даже присвоены подпольные клички: сразу две — Француз и Плантатор. Последняя, наверное, из-за вашей... экзотической внешности. А Француз, вероятно, из-за вашего долгого пребывания за границей, хотя... (он искренне рассмеялся) ваши будущие товарищи по борьбе вроде бы не должны путать Германию с Францией. Но не это сейчас главное. Вы уже показались, объявились, произвели впечатление. Теперь нам с вами остается только ждать развития событий. Серьезных людей, как мы их называем «практиков», в отличии от «теоретиков», в революции сейчас мало. Мы с ними, слава Богу, работаем внимательно — «одних уж нет, а те — далече». Извините за частые поэтические цитаты... Из самых серьезных я пока вижу лишь двоих — Андрей Александрович Аргунов — и теоретик, и организатор, да Григорий Андреевич Гершуни. Этот просто опасен...
Зубатов помрачнел.
— Вы, Евгений Филиппович, только призываете к террору, а Гершуни верит в него всей душою, если она у него есть, конечно, и мы ожидаем, что от слов он вот-вот перейдет к делу, и тогда...
— Но вы же сами считаете, что революционеров следует вызвать на террор, чтобы потом раздавить...
— Я много чего считаю, — вдруг устало сник Зубатов, — но что можно сделать в одиночку, почти без единомышленников?
Указания, полученные Азефом в эту встречу от Зубатова, были: ждать и только ждать, инициативы по вступлению в подпольные организации не проявлять, сказываться сочувствующим, готовым оказывать посильную, но не противозаконную помощь, и не больше! Зубатов был уверен, что Аргунов, занятый постановкой подпольной типографии, обратится к инженеру Раскину всенепременно.
Ждать пришлось недолго. Не прошло и нескольких дней после триумфа Плантатора на журфиксе у Немчиновой, как он получил приглашение посетить самого Аргунова. И Житловские, и кое-кто из членов их Союза русских социалистов-революционеров за границей, как оказалось, не поскупились, представляя Азефа Аргунову, на самые лестные характеристики...
А десять лет спустя Любовь Григорьевна Азеф, вновь вернувшая себе свою девичью фамилию Менкина, рассказывала судебно-следственной комиссии соратников Аргунова:
«...Еще в Берне он пытался войти в кружок, в котором я работала, все время меня о нем расспрашивал, я ничего ему не рассказывала. Через Житловского он получал литературу и распространял ее...
...Он мне говорил, что он тоже думает работать... он будет делать все не так, как делают теперешние революционеры. Эти «обтрепанные» революционеры, как он выражался, ему не нравятся... Он будет очень хорошо одет и т. п. Вообще он страшно мечтал о своей внешности, как он будет хорошо одеваться, как он поставит себя с другими, вообще он хотел сыграть крупную роль... на меня тогда это производило отвратительное впечатление...
...Мне всегда хотелось быть простым солдатом, рядовым работником, и я никогда не могла примириться с этими его мечтами. Это уж теперь стало так, что боевики стали ходить в цилиндрах...
...А за его настроения, я помню, что его даже называли бомбистом. Он всегда говорил, что верит исключительно в террор, и только террор все сделает, и бомба — это самое главное.
Теоретически он был малообразованный человек, и когда ему приходилось что-нибудь сказать, то он никогда не мог даже двух слов связать как следует. Вообще он говорить совершенно не умел...»
Тут у меня, честно говоря, появляются сомнения в точности показаний мадам Менкиной. Что в этих словах — озлобление несчастной, обманутой в лучших чувствах женщины, революционерки, ставшей жертвой предателя, и отсюда желание рисовать его образ только черной краской? Или же наивная попытка принизить менталитет бывшего супруга и соратника по революционной борьбе, чтобы найти хоть какие-нибудь малейшие возможности оправдать его поступки необразованностью, недомыслием? Впрочем, уже потом, читая показания Любови Григорьевны более внимательно, я находил в них немало фактических неточностей и расхождений с показаниями других лиц, знавших Азефа.
Судя по словам Любови Григорьевны, она приехала к мужу в Москву в конце девятисотого или в начале девятьсот первого года.
Год прожили в Москве вместе, и у нее «...стала появляться мысль, что так дальше невозможно, что это что-то ужасное».
И когда член судебно-следственной комиссии товарищ Берг просит товарища Любовь Григорьевну говорить подробнее, то в стенограмму протокола ложатся такие строчки:
«...Во-первых, грубости: иногда приходилось выслушивать от него ужасные вещи, такие ужасные, что я совершенно не могла переварить».
Однако о бедности, всю жизнь до этого преследовав-шей Азефа, речи уже не идет — Зубатов всегда держал слово, и все обещания его ценят, как ценит и его покровитель Сергей Васильевич. В эти годы, по словам Любови Григорьевны, Азеф «в деньгах не нуждался, застраховал свою жизнь в 6 тысяч или в 25 тысяч». Сняли хорошую квартиру, а когда «родился маленький мальчик», взяла двух прислуг. И все же Любовь Григорьевна опять говорит, что для нее это была «жизнь сбоку». И опять возвращается, как закомплексованная, к внутренней характеристике ее бывшего мужа:
«...B обществе он не мог говорить. Если сидят два-три человека, то он мог пустить пыль в глаза. У него всегда был такой спокойный вид, такой очень самоуверенный, спокойный вид».
«...я никогда его умным не считала»...
«Он не глуп, но чтобы он был особенно умным — этого я совершенно не могу сказать. И то, что он сыграл такую крупную роль в партии, я этого, собственно говоря, и до сегодняшнего дня не могу понять».
«... у него было умение держаться всегда с каким-то апломбом, самоуверенностью, точнее, он всегда подавлял других своей манерой держаться».
3 апреля 1902 года киевский студент Степан Балмашев явился в Мариинский дворец, в помещение Государственного совета к министру внутренних дел Дмитрию Сергеевичу Сипягину, прославившемуся к тому времени жестоким подавлением студенческих волнений. Одетый в военную форму, Балмашев представился адъютантом великого князя Сергея Александровича, прибывшим к министру со срочным поручением. И когда Сипягин, удивленный этим визитом, вышел навстречу «великокняжескому адъютанту». Балмашев разрядил в него браунинг. Сипягин был смертельно ранен.
Эсеры заявили, что Балмашев выполнял задание их Боевой Организации. Глава организации Гершуни назвал эту акцию первым ударом по самодержавию и планировал сразу же нанести второй и третий: во время похорон Сипягина эсер (офицер) Григорьев и его невеста Юрковская должны были застрелить Победоносцева и петербургского генерал-губернатора Клейгельса. Сделать это им не удалось.
И Любовь Григорьевна рассказывает о реакции Азефа на акцию Балмашева:
«...Когда он прочитал, что убит Сипягин, он страшно волновался, кричал... радовался, как ребенок... тогда человек положительно горел, раньше я его таким никогда не видела. Только это был настоящий революционер... и этот человек так интенсивно стал жить революцией, что меня он совершено забыл, и я даже помню случай, когда он мне прямо сказал: я теперь занят другим, я тебя теперь не замечаю.
Раньше он очень любил ходить по театрам, по кафе-шантанам, а теперь он все это совершенно забросил...»
Балмашев был повешен ровно через месяц после своих выстрелов — день в день — 3 мая 1902 года в Шлиссельбурге. Эсеры заявили, что он выполнил решение их партии.
Но еще раньше, 14 февраля 1901 года, студент Петр Карпович явился на прием к министру народного просвещения Боголепову, стоявшему за постановлением об отдаче в солдаты участников студенческих волнений, и смертельно ранил его выстрелом из пистолета.
Зубатову сообщили, что, узнав о выстреле Карповича, Азеф громогласно и радостно заявил:
— Ну, кажется, террор начался!
Сергей Васильевич при очередной встрече и не подумал упрекнуть своего секретного сотрудника: эмоции их были схожи, и Азеф пока еще четко исполнял указания своего начальственного покровителя.
Показательно, что Петр Карпович был приговорен не к смертной казни, а к двадцати годам каторги, но сначала заключен в Шлиссельбургскую крепость. Затем попал под частичную амнистию и был отправлен на каторгу в Сибирь, откуда бежал за границу. Впоследствии вступил в ряды Боевой Организации Партии социалистов-революционеров и стал вместе с Савинковым ближайшим помощником самого Азефа.
Зубатов как бы предвидел, что Карпович в его общем с Азефом деле может еще и пригодиться, и — кто знает! — при том огромном влиянии, которое он имел в те годы не только в Москве и Петербурге, но и во всей империи, вполне мог облегчить участь начинающего террориста.
Обо всем этом мне стало известно уже потом, по мере того, как с помощью Никольского я все глубже и глубже входил в события, разворачивавшиеся на грани прошлого и нынешнего столетий.
... — И все же, дорогой Лев Александрович, я надеюсь познакомиться с вашими сокровищами еще при вашем живейшем участии и...
Я хотел произнести еще что-нибудь по-старомодному изысканно вежливое в стиле прожитой Никольским жизни, но Лев Александрович не дал мне договорить:
— Не спешите, господин писатель, не спешите. Не такое простое это дело. И к тому же чреватое...
Легкий стук в наружную дверь прервал его на полуфразе. Он встрепенулся, многозначительно взглянул на меня, сунул руку во внутренний карман пиджака и вытащил оттуда пистолет.
— Стрелять, надеюсь, вы умеете? — побелевшими губами прошептал он.
— Приходилось... на военном деле студентом, — таким же шепотом ответил я.
— Тогда... держите...
Он снял оружие с предохранителя и протянул его мне:
— Если поймете, что дело плохо, — стреляйте...
В дверь опять постучали, на этот раз громче и настойчивее.
— Один момент, месье, — крикнул в сторону двери Никольский, как будто бы знал того, кто стоит за дверыо...
Пистолет был большой, черный, неизвестной мне марки.
— Бельгийский браунинг, девятый калибр, четырнадцать зарядов, — почти беззвучной скороговоркой поспешил сообщить мне его данные Никольский и кивнул головою в сторону двери, ведущей между книжными стеллажами в бывшую до сего момента для меня недоступной соседнюю комнату.
— Дверь плотно за собою не закрывайте, — шепнул он мне напоследок, отправляясь к входной двери.
Я скользнул в соседнюю комнату и осторожно прикрыл за собою дверь так, чтобы у притолоки оставалась небольшая щель, сквозь которую мне виднелись часть стола и стул, обычно занимаемый Никольским.
На входной двери загремела цепочка, заскрежетал засов.
— Бонжур, господин Никольский, — донесся до меня низкий, хрипловатый голос. — Как видите, я точен...
— Входите, входите, месье... Простите, запамятовал ваше имечко, — заторопился в ответ Никольский.
— Дэви. Для вас — просто Дэви, — напомнил свое имя невидимый пока что мне пришелец.
— Да, да, именно месье Дэви... Так входите же, чего же мы стоим у двери...
И я услышал шаркающие шаги Никольского, направляющегося к своему привычному за столом месту. Гость шел следом, и шаг его был тверд и четок, шаг уверенного в себе, решительного человека. Теперь мне было видно, как Никольский, по-стариковски осторожно, усаживается на свой стул. И почти сразу он исчез из поля моего зрения.
Фигура широкоплечего человека, оказавшаяся между мною и Никольским, лишила меня возможности видеть происходящее. Человек был среднего роста, коротко, по-боксерски острижен, тонкая кожаная куртка черного цвета плотно облегала его мускулистый, почти как у культуриста, торс, линялые голубые джинсы обтягивали сильные, короткие для такого торса ноги.
«В случае чего придется стрелять в спину», — почему-то пришла мне в голову кровожадная мысль. Не знаю почему, но этот человек, лица которого я до сих пор так и не видел, уже вызывал у меня враждебность.
— Ну так что, господин Никольский, вы обдумали наше предложение? — прогудел с хрипотцой человек, на-звавший себя именем Дэви. — Сделка хорошая. Обеспечит до конца ваших дней жизнь где-нибудь в Италии или в Ницце, где так хорошо приживаются ваши соотечественники. Или в каком-нибудь тихом пансионате в Швейцарии. Неплохо ведь, а?
Он говорил ровным и в то же время снисходительно завлекающим голосом уверенного в неотразимости своего товара коммивояжера.
Никольский закашлялся, словно выигрывая время для обдумывания ответа.
— А если ваше предложение меня не устраивает? — голосом опытного коммерсанта наконец спросил он. — Если я считаю, что цена моей коллекции намного выше, чем вы мне предлагаете? В конце концов — это бизнес, месье Дэви, не так ли? Вы назначаете свою цену, я — свою.
— Господин Никольский, то, о чем мы с вами уже говорили и говорим сейчас, это не бизнес, это политика. А в политике, кроме торговли, в ходу и куда более решительные средства...
Дэви угрожал откровенно, уверенный в беззащитности сидящего перед ним старика. Я поднял доверенный мне Никольским бельгийский браунинг. Сделай сейчас Дэви шаг к Никольскому, и я выскочил бы из-за скрывающей меня двери, но Дэви не двигался, словно врос своими сильными короткими ногами в давно не мытый пол библиотеки.
— И все же я советую вам подумать еще раз, — твердо почти отчеканил он и вдруг смягчил тон: — В самом деле, Лев Александрович, неужели вы действительно хотите, чтобы коллекция исторических документов, которую вы собирали всю жизнь, оказалась бы в... как вы в молодости называли эту страну... ах, да, в Совдепии, в стране жидов и комиссаров, у тех, кто лишил вас Родины, вашей любимой России. У тех, чьих правителей вы ненавидели всю вашу жизнь... Ну что вам теперь эта страна, тем более сейчас, когда все в ней рушится, все разваливается...
— Молчать! — хлестанул меня по ушам яростный до визга голос Никольского. — Вон отсюда, жеребячья порода! И не трожь Россию, сукин ты сын, беспородный кочевник!
Меня как пружиной выбросило из-за двери, и я упер ствол пистолета в спину остолбеневшего от неожиданности Дэви.
— Не стреляйте, господин писатель, не стреляйте! — поспешил остановить меня Никольский и сейчас же, вскочив из-за стола, подступил к Дэви.
— А ну, брысь отсюда, мазурик! И чтоб ноги твоей больше здесь не было. А тем, на кого работаешь, скажи: Никольский Россией не торгует. И ссориться с ее правителями не значит ссориться с ее народом, с Родиной, ну!
Я надавил стволом пистолета — и Дэви покорно, не оглядываясь и сразу как-то обмякнув, пошел впереди меня к выходу из квартиры. Он обернулся лишь за порогом, на лестничной клетке, и несколько секунд не сводил с меня, стоявшего с направленным на него пистолетом, полного жгучей ненависти взгляда.
Любовь Григорьевна недаром перестала упоминать с определенного момента в показаниях судебно-следственной комиссии о нужде и бедности в своей с Азефом семье — с самого начала 1900 года «инженер Раскин» стал получать по ведомству Зубатова, кроме наградных к Новому году и Пасхе, ежемесячно уже по 150 рублей, и это не считая хорошего жалованья в московской конторе Всеобщей электрической компании. Однако семью содержал довольно скромно. На лето девятисотого года снял дачу в Малаховке, недорогую, за 150 рублей, и ездил туда по Казанской дороге по билету третьего класса, бесплатному — для прислуги, полученному при содействии своего полицейского начальства.
В семье вел тщательный учет расходам и знал цену каждой копейке. Зато на себя денег не жалел, костюмы заказывал у модных портных, любил «для снятия напряжения» кутнуть в хорошем ресторане. Много не пил, но поесть любил всласть. В кондитерской Филиппова слыл своим человеком, был известен и среди московских лихачей тем, что порой извлекал из кармана мятые пятисот-рублевые банкноты и небрежно бросал ошарашенному видом такой богатейной купюры извозчику.
— А разменяй-ка ты, братец...
Братец лишь мотал в обалдении головою, и тогда «миллионщик», порывшись в карманах, все-таки обнаруживал деньги для расплаты с лихачом куда более подходящие, по чаевые выдавал огромные.
Он словно все еще не верил в прочность своего положения. Да, его принимали в интеллигентных кругах, он был своим в среде, как тогда говорили, «прогрессивной общественности», у которой после того памятного диспута на журфиксе у Немчиновой он прослыл чуть ли не продолжателем славного дела народников. Мелкие группы и группочки, оставшиеся к этому времени от так и не оправившегося после предательства Дегаева этого движения, старались залучить Француза (эта кличка все-таки прочнее прилепилась к нему, чем Плантатор), но Азеф, не скрывая своего сочувствия революции, дальше общих рассуждений не шел, более того, был явно настроен скептически в отношении развертывания серьезной работы в России, где, по его мнению, все будет раздавлено полицейским сыском в считанные месяцы. Эти рассуждения, однако, не мешали ему становиться все более своим в той среде, в которую его так настойчиво и умело внедрял Зубатов.
И Азеф не брезговал ничем. Социалисты-революционеры, так социалисты-революционеры, социал-демократы, так социал-демократы, их типография в Вильно, революционные клички, характеристики лидеров, планы и связи...
— Доброму вору все в пору, — говаривал Зубатов, получая от «своего человека в революции» самые новейшие и самые разнообразнейшие сведения. А ценность этих сведений нарастала с каждым днем.
— Не удивляйтесь, дорогой Евгений Филиппович, — предупредил его Сергей Васильевич в одну из очередных встреч на «конспиративке»,— ваши друзья из Союза социалистов-революционеров собираются, по нашим данным, обратиться к вам с некоторой просьбой. И вам придется ее выполнить.
Азеф удивленно приподнял брови: еще совсем недавно Зубатов предупреждал его об обратном — никакой активности, только встречи и разговоры — и, честное слово, он даже заскучал, не находя выхода для накопившейся в ходе спокойной и сытой жизни энергии. Нет, все-таки и в самом деле он был рожден не для слов, а для большого, настоящего, громкого. А пока... чем, в сущности, отличалась жизнь какого-нибудь средней руки ростовского купца от рядового московского инженера. Когда-то он, правда, мечтал о такой жизни, но сытость и материальный достаток — это еще не было моральным самоутверждением, а он, Азеф, чувствовал нарастающую уверенность — рожден для большего, куда большего, чем какой-то секретный сотрудник полиции или ничем не выдающийся инженер-электротехник.
— Если вы, Сергей Васильевич, имеете в виду кое-что для подпольной типографии, которую собирается поставить Аргунов, то с такой просьбой он ко мне уже обратился...
— Именно это я и имею в виду, Евгений Филиппович, — подтвердил Зубатов и усмехнулся: — А вам, выходит, наконец-то удалось убедить «союзников» перейти от слов к делу. Сначала типография в Финляндии — нашли сочувствующую помещицу и обосновались в ее владениях, теперь, когда мы их там спугнули, хотят перебраться в Россию. Так чего же от вас хочет неугомонный господин Аргунов?
— Им нужно изготовить типографский вал. Аргунов говорит — тяжелый, но негромоздкий.
— И только-то?—презрительно скривился Зубатов.— Сделаем в лучшем виде. Ну, как не порадеть родному человеку?
— Они торопятся...
— Еще бы! Первый и второй номера «Революционной России» мы проморгали. Номера отпечатаны, а ведь этот журнал предназначается на роль центрального органа Партии социалистов-революционеров.
— Я сказал Аргунову, что у меня есть знакомые, которые быстро сделают нужный ему вал — и хорошего качества. Те, что они использовали в Финляндии, были кустарными и постоянно ломались.
— И правильно сказали. Вал мы для Аргунова сделаем. Важно будет только не упустить его потом — узнать, куда он будет переправлен. Кстати, вам случайно не известно, куда они хотят перебраться со своей типографией из Финляндии?
Азеф отрицательно качнул головою.
Он слышал, что типографию собираются переправить по частям куда-то в лес, под Томск. Вроде бы в какой-то переселенческий пункт, которым заведует доктор Павлов, брат жены Аргунова — Марии Евгеньевны. Но «отдавать» пока типографию не собирался. Два выпуска «Революционной России» произвели должное впечатление и в империи, и за границей. Грозный призрак раздавленного, утопленного в крови народничества опять замаячил над страною, в которой в последние годы крамола вроде бы поутихла. От министра внутренних дел, шефа жандармов Дмитрия Сергеевича Сипягина потребовали принять решительные меры. Но Азеф решил не спешить с «отдачей», цена которой должна была, судя по всему, повышаться с каждым днем.
Впрочем, Зубатов и не торопил его. И если своих агентов он сравнивал с любимыми женщинами, то «самой любимой женщиной» был для него Азеф.
Пожалуй, еще за всю свою историю Московское охранное отделение не было так осведомлено о положении в революционных кругах, причем не только Москвы, но и Петербурга, Киева, Кишинева, Одессы. И хотя в этом была заслуга не только одного инженера Раскина — реорганизованная Зубатовым охранка работала блестяще, — роль Азефа в освещении революционных кругов изнутри все возрастала.
Теперь, будучи уверенным в том, что контролирует ситуацию, Сергей Васильевич при поддержке Сипягина решил заняться другой стороной своей «двусторонней политики». Твердо держа в руках кнут, он решил пустить в дело и пряник: после того, как в минувшие десятилетия у крамольной интеллигенции ничего не получилось с «хождением в народ» — крестьянство отвергло злонамеренных агитаторов, так теперь — решил Зубатов — надо закрыть рабочие массы для агитаторов нынешних, «массовиков» — но тогдашней терминологии.
Уже летом 1901 года в Вильно выходцы из «Бунда» создали с помощью агентов Зубатова Еврейскую независимую рабочую партию, и вскоре «независимовцы» принялись создавать свои отделения в крупнейших промышленных городах, особенно на юге. Одним из активнейших агентов Зубатова в руководстве этой партии была М. В. Вильбушевич (Маня), называвшая себя «социал-демократка-бундовка» и боровшаяся при этом как с социал-демократами, так и с бундовцами: противников своих она щедро отдавала Зубатову... В Одессе виднейшим лидером созданной Зубатовым партии стал другой его агент, убежденный сионист Г. И. Шаевич.
Настала пора и созревшего, по агентурным сведениям Зубатова, московского социал-демократического «Рабочего союза». Разгромлен он был быстро и умело, улики против арестованных были неопровержимы. А самое главное — арестованные были раздавлены морально, убедившись, что Зубатову был известен буквально каждый их шаг, а это означало: организация была сверху донизу пронизана агентами охранки. Все было готово и для разгрома организаций эсеровского толка. По сведениям Азефа, подтверждавшимся и другими агентами Зубатова, готовился съезд группировок социалистов-революционеров в Харькове, на который должны были прибыть видные представители Рабочей партии политического освобождения России, Союза социалистов-революционеров, Южной партии социалистов-революционеров, а также двух заграничных организаций — Группы старых народовольцев и Аграрно-социалистической лиги.
Но пока это дело «созревало» и ждало своего часа, Зубатов, будучи умным и дальновидным, все больше укреплялся во мнении, что усилиями одних секретных сотрудников и провокаторов революции не предотвратишь.
«Пока революционер проповедует чистый социализм,— размышлял он, — с ним (с социалистом) можно справиться одними репрессивными мерами, но, когда он начинает эксплуатировать мелкие недочеты существующего законного порядка, одних репрессивных мер мало, а надлежит немедля вырвать из-под ног его самую почву... урегулировать рабочее движение, дифференцировать различные его проявления и определить, с чем нужно бороться и что нужно только направлять».
Идея оттачивалась, из нее рождалась четкая программа практических действий:
«1) Идеологи — всегдашние эксплуататоры масс на почве их нужды и бедности, их надо изловлять и 2) борясь с ними, помнить всячески: «бей в корень», обезоруживай массы путем своевременного и неустанного правительственного улучшения их положения на почве мелких нужд и требований (большего масса никогда сама по себе и за раз не просит). Но обязательно это должно делаться самим правительством, и притом неустанно и без задержки».
К осени 1900 года идея «зубатовщины» уже окончательно сформировалась и ждала своего претворения в жизнь. А для начала охранка стала создавать нелегальные рабочие кружки, в которые приглашались «массовики»-агитаторы. В кружки входили агенты охранки и специально подобранные рабочие (рубль за участие в одном заседании кружка).
Агитационная литература, полученная от «массовика», должна была сдаваться начальству непрочитанной и вся до единого листочка.
Разговоры о необходимости создания самостоятельных организаций, способных защищать и отстаивать экономические интересы рабочих в борьбе против эксплуататоров- хозяев, ненавязчиво поощрялись.
Дело шло к созданию пресловутого «Московского общества взаимопомощи рабочих в механическом производстве», и в начале 1901 года «инициативная группа рабочих» обратилась в министерство внутренних дел с прошением о регистрации устава этого общества. Сипягин, покровительствовавший Зубатову, регистрацию разрешил.
Но Азефу Зубатовым предназначалась совсем другая роль — в деле куда более узком, но не менее ответственном.
Вал для типографии Аргунова был изготовлен, передан сотрудникам «Революционной России» и заботам филеров Московского охранного отделения. Одновременно на типографию в Финляндии пустили лучших «брандеров». На охранном жаргоне тех времен «брандерами» именовали как бы филеров наоборот. Если филер считался тем профессиональнее, чем незаметнее и умнее вел слежку за порученным ему «объектом», то «брандер» ценился тем выше, чем хуже он это делал. Задачей «брандера» было «спугивать дичь», умело «висеть на пятках, уткнувши нос в задницу объекта» и создавая впечатление, что тот вот-вот будет арестован.
— Итак, Евгений Филиппович, типография господина Аргунова на станции Тали в Финляндии приказала долго жить, — объявил Азефу во время очередной встречи все на той же «конспиративке» Зубатов. — Полетели теперь птички по России-матушке новое гнездышко себе искать. Не поговаривают ли чего на этот счет, не слыхивали? Вы же теперь у Аргуновых как родной. Сумели покорить и его, и супругу — Марию Евгеньевну... И вал типографский для них раздобыли, и вообще... сочувствуете. А они от вас все конспирируют?
— Да как же им и не конспирировать, когда то и дело приходится обревизовывать себя в отношении слежки?— перешел в наступление Азеф. — Вы уж их так со всех сторон обложили, хоть за границу беги. Да и мне опасно — филеры ведь сдуру и меня загрести могут!
— Ну, вот это уж исключено, — осадил его Зубатов. — Все, Евгений Филиппович, у нас сам Медников прикрывает. Лучший наш филер, наиопытнейший. Всей филерской службы начальник. И кое-кому из своих людей показать вас он счел за разумное. Вы же сластена, в кондитерской у Филиппова посидеть любите. Вот вас и показали. И кличку для вас филеры промеж себя придумали — Филипповский, мол, в кондитерской Филиппова. — И, заметив, что Азеф помрачнел и сразу как-то пожелтел лицом, решил успокоить:—Да вам-то чего волноваться? За вами-то пока ничего нет. Не беспокоить вас приказал Медников, и все. А мало ли кого нашим филерам касаться не позволено, одной высокопоставленной публики-то у нас на учете сколько. — И поспешил изменить ход беседы: — Но вы к Аргунову с лишними вопросами не подступайте. Сочувствовать — сочувствуйте, просьбы выполняйте, а с услугами не навязывайтесь. Куда наш типографский вал едет, мы и так узнаем. Через всю Россиюшку-то нашу его сейчас везут. В Тифлис он пока у нас прибыл. Да и другие типографщики, которых мы из Финляндии вытурили, сейчас по всем городам и весям петляют, следы заметают... не зная, что каждый у нас на виду. Не один, так другой куда нужно выведет...
Зубатов улыбался, фразы строил под простачка, но взгляд его умных, внимательных глаз был испытующ, будто он что-то знал и проверял Азефа в этом знании.
И Азеф понял, что в его игре наступил рисковый момент — надо отдавать.
— Я дам вам новый адрес типографии, — как нечто давно решенное объявил он. — Аргунов обещал сообщить мне его для конспиративной связи... на случай неожиданности. Третий номер «Революционной России» у него почти готов. Спешат, доделывают, даже Мария Евгеньевна ночами не спит, вместе с супругом над рукописями бьется...
— Ого! — не скрыл приятного удивления Зубатов. — Однако неплохо, неплохо... Да не стали ли уж вы, батенька, и в самом деле социалистом-революционером? Шутка ли сказать — такое доверие! И кого? Самого Аргунова! Умнейшего, осторожнейшего. Такой попадет к нам в руки, каяться не будет, как Гершуни, например, Григорий Андреевич. Вон его «раскаяния» в письменном виде у нас в формуляре под литерой Г лежат.
— Так что... и Гершуни? — вырвалось у Азефа.
Но Зубатов, словно не понимая смысла его восклицания, с недоброй усмешечкой продолжал:
— Слабы люди, слабы и телом, и духом. Не по-геройски себя повел дражайший Григорий Андреевич, когда в моем казенном кабинете оказался. Провизор — он и есть провизор, хоть и бывший. Натура у него такая — в мелких дозах и сыпучая.
— И он... теоретик и организатор, сторонник идеи террора... Сломался в охранке, стал работать...
И, глядя на самоуверенно улыбающегося Зубатова, лощеного красавца с утонченным, интеллигентным лицом, Азеф вдруг почувствовал, что его охватывает ненависть к этому человеку, к тому, кто считает себя хозяином его, Азефа, судьбы, игрушкой своей воли, рабом, пусть даже и любимым. Могучая шея Азефа стала багроветь, ярость подступала к горлу: они думают, что купили его с потрохами, как покупали десятки, если не сотни умных, интеллигентных людей, предварительно сломав, искалечив их души... Ну нет, мы еще посмотрим, кто кого, кто кем будет играть, кто будет платить, а кто заказывать музыку!
И, не сдержавшись, помимо своей воли, он вдруг яростно засопел.
— Что с вами, Евгений Филиппович? — профессионально ухватил перемену в его настроении Зубатов. — За Григория Андреевича обиделись? Действительно — боец, конспиратор, да и попал к нам по совсем ерундовому делу. — Посидел у нас, побеседовали, написал покаяние — молод, мол, только тридцать вот-вот исполнится, ничего и никого не знаю. Ни о чем не сообщил, никого не назвал — и отпустили мы его с миром. Только вот одно нехорошо — считает, что унизился он тут у нас, честь, мол, его нами растоптана, хотя, заметьте, о покаянной слезнице его никто, кроме нас с ним, да вот вас теперь, до сих пор не знал, не знает и знать не будет! А он, слыхал, месть нам объявил — всем, всему государству Российскому террором грозит. Вот ведь как — мы к нему с открытой душой, а он вроде Дегаева... Воистину сказано: ни одно доброе дело не остается безнаказанным!
Он говорил тихо, почти ласково, как опытные дрессировщики говорят об оказавшемся на грани срыва дрессируемом звере.
И Азеф почувствовал, что кровь начинает отливать от шеи, что дышать ему становится легче, что ярость оставляет его. Ярость, но не ненависть. Стиснувшись в тяжелый, лохматый комок, она опускается куда-то в глубину души и утверждается там — навсегда, на всю его, Азефа, жизнь.
«Напрасно вы так любуетесь сам собою, господин Зубатов, — зло думал Азеф. — Напрасно так улыбаетесь собственному всесилью и слабости своих жертв. Дайте только срок, и мы еще увидим, кто кого будет водить за нос, кто на кого будет и работать!»
...Томской типографии дали «созреть». И когда темной осенней ночью в нее ворвалась полиция, листы только еще печатаемого тиража третьего номера «Революционной России» сушились, развешанные на веревках по всему приспособленному под типографию помещению. Налет был стремителен и неожидан, все были взяты на месте, не ушел никто. Рукописи и гранки статей с рукописной правкой, адреса и переписка с издателями — все попало в руки томских жандармов, кинувшихся немедленно, по горячим следам, производить аресты и обыски по всей округе. Жандармы усердствовали потому, что чувствовали за собою определенную вину — по их сведениям, сообщаемым Зубатову, типография только налаживалась и приступить к печатанию журнала должна была лишь через несколько дней. И расчетливый начальник московской охранки, поручивший это дело одному из своих лучших сотрудников — Александру Ивановичу Спиридовичу, не спешил давать сигнал к налету. Спиридович же не торопясь отправился в Томск, рассчитывая быть там в самый подходящий момент: по плану Зубатова, захватить надо было абсолютно все: и подпольщиков, и материалы, подготовленные Аргуновым к изданию, и машины (вместе с «тяжелым, но негромоздким валом», изготовленным по заказу Азефа охранкой). Но, словно предчувствуя что-то неладное, подпольщики наладили и пустили типографию на несколько дней ранее, чем рассчитывали ведущие за ними наблюдение филеры. И, не спохватись жандармы в последний момент, третий выпуск «Революционной России» был бы уже отпечатан и разлетелся бы по всей России, дойдя, конечно же, и до самого высокого полицейского начальства.
Поэтому действовать пришлось спешно, едва успев информировать шифровкой Зубатова и шифровкой же получив от него приказ начать операцию. А затем, когда оперативная часть «дела о томской типографии» была завершена, прибыл и сам Александр Иванович Спиридович, зачисленный в отдельный корпус жандармов совсем недавно, но уже прошедший под руководством Сергея Васильевича Зубатова хорошую школу для «работы с человеками». Поблагодарив томских сотрудников за старание, он лично занялся ведением следствия.
Первой из арестованных не выдержала Вербицкая. Спиридович, вооруженный сведениями, поступившими от Азефа, убедил ее, что молчать и отпираться бесполезно. Допрос, мол, ведется лишь для проформы, а охранке обо всем этом деле известно даже больше, чем ей, Вербицкой.
А затем и Зубатов решил, что «пора брать». Лишь в Петербурге было арестовано двадцать три человека, так или иначе причастных к изданию «Революционной России». Не взяли лишь Аргуновых, в эти тяжелые для социалистов-революционеров дни особенно сблизившихся с Азефом, да еще кое-кого из фигур помельче.
Зубатов действовал по принципу: лучше пусть на свободе останется несколько революционеров, чем будет провален хоть один его секретный сотрудник. Но в данном случае это была перестраховка. «Дело томской типографии» было проведено так, что на Азефа не пало и малейшей тени подозрения.
На этот раз они встретились в Сандуновских банях: Аргунов и Азеф. Сидели на мраморной скамье у бассейна голые, накинув подогретые банщиком дорогие мягкие простыни. Горячий пар, умелый массаж и роскошная обстановка номеров первого класса расслабляли тело и успокаивали душу. Аргунов пил чай из самовара, за которым заботливо присматривал простоватого вида ярославец, беловолосый, голубоглазый. Кроме мохнатого полотенца, перепоясывающего бедра, и новенького фартука желтой кожи, на парне ничего не было. К чаю подавались хрусткие, с тмином или маком, баранки — от Филиппова. Азеф же, громоздкий, распустивший свои телеса, вкушал водочку из хрустального штофа, установленного в серебряном ведерке, набитом кусками льда. И при этом, так, чтобы ярославец, вертевшийся неподалеку, чтобы быть у господ на всякий случай под рукою, слышал, жаловался поджарому Аргунову:
— Вес замучил, окаянный. Не знаю, что уж и делать — в груди теснит, по ночам кошмары мучают, два шага пройду — задыхаюсь, одышка чертова. А тут и почки чего-то барахлить стали, ноют и ноют, особенно к утру. Врач говорит: диета, диета... Того нельзя есть, этого, а уж о вине — и думать забыть. Разве что водочку вот, «Смирновскую» — чище слезы младенческой и дезинфицирует...
И большие, выпуклые глаза его при этом озорно играли, стреляли по сторонам, делали то разрешающие, то запрещающие знаки тщедушному, нервно теребящему подбородок Аргунову. Аргунов только что закончил печальное повествование о провале в Томске и арестах в Петербурге и Москве.
— Разгром, настоящий разгром, — взволнованно вздыхал оп. — Надо спасать все, что еще можно спасти, спасать, что у нас осталось, а главное — людей...
Поверьте, Евгений Филиппович, кроме вас да супруги, и говорить-то теперь с кем-нибудь боюсь. Каждый момент ареста жду — филеры ни на шаг не отстают. И надежды ни на кого нет, хорошо если только филеры сами, по нашей невнимательности на Томск вышли, а то как вдруг — провокатор?
— А что? И провокатор... — согласился с ним, наливая себе «Смирновской», Азеф. — Мало ли этих двухорловых в революции крутится...
— Что, что? Как вы сказали... двухорловых... как это... двухорловых?
— Эх, господин Аргунов, господин Аргунов! — хохотнул Азеф, и все его жирное бабье тело заколыхалось. — Что значит — жизни не знаете, в орлянку никогда не играли. А у нас вот в Ростове на базаре ух как в орлянку резались! Мастера. Свяжешься с таким сдуру, как липку обдерет, ни копейки у него не выиграешь. А дело-то простое: пятаки у них двухорловые, с каждой стороны по орлу и ни одной решки. Как ни кинь — все орел выйдет. Так вот у нас и людей некоторых там звали двухорловыми, фальшивыми то бишь.
Он опрокинул в свою широкую пасть застоявшуюся было рюмочку, бросил вслед за нею рыжик, пожевал, сглотнул и укоризненно покачал головою:
— Ах вы, интеллигенты, интеллигенты! Не знаете вы народа, не знаете. А как за интересы его бороться, если не знаешь — в чем они, интересы-то народные! Может, они не в волюшке вольной, безответственной, а в отеческой руке — твердой и знающей, и чтоб дурить не моги... Но это я так, шучу, конечно, — успокоил он, заметив, что Аргунов помрачнел.
— Не до шуток нам, Евгений Филиппович. Спасать надо, что еще можно, спасать. И...
Он придвинулся к Азефу и зашептал в его толстую, сплывшую щеку:
— Подумал я, подумал и решил — кроме вас, Евгений Филиппович, делать это некому...
— Что вы, батенька, — отшатнулся от него Азеф. — Какой из меня вам спасатель? И в организации ваши я не вхожу, сочувствующий, и только.
— Не скромничайте, Евгений Филиппович, — плотнее приблизился к нему Аргунов. — Не первый год мы вас знаем, мне ведь еще Житловские о вас писали. Да и здесь — как активно в деле с типографией помогали! Такие, именно такие люди нам сейчас и нужны, не теоретики, а практики, организаторы... Вот и за границу собираетесь... Там, там сейчас работу ставить надо, партию создавать...
— А сами чего ж не поедете? Эмигрировали бы, пока возможность есть, таких, как вы, там сейчас много...
— В том-то и дело, что много их именно там, — печально вздохнул Аргунов. — А здесь — раз-два и обчелся. Нет, лучше уж я здесь, пока возможно, поработаю, а там — как судьба решит. А вы — езжайте и на помощь нам соглашайтесь, я ведь вижу — человек вы прямой и честный, благородный вы человек...
...Зубатов от всей души смеялся, представляя по рассказу Азефа встречу конспираторов в Сандунах.
— Так, в чем мать родила, и беседовали? — веселился он. — Сатрапов царских шельмовали? Чаяния народные воспевали?
— И не шельмовали, и не воспевали, — обиженно бурчал Азеф. — Чего там воспоешь в простыне, как в саван завернутый, да тут еще и наш филер крутится, чуть не под простыню к тебе лезет, прокламации вдруг мы там прячем...
— И все же, значит, голыми? — продолжал потешаться Зубатов. — Да это же в историю революции должно войти, и в историю сыска, конечно. Конспираторы в Сандунах, ох, насмешили вы меня, братцы революционеры, ох, насмешили!
И, слушая его, Азеф вдруг опять почувствовал, как ярость поднимается, ползет изнутри, из груди по шее — к затылку, как сжимаются его тяжелые кулаки, и опять сердце заполняется черной ненавистью к этому самоуверенному барину, использующему его в качестве инструмента для грязной работы, а потом, после использования, готового выбросить за дальнейшей ненадобностью. О, с какой радостью вцепился бы он сейчас в это барское горло и с хрустом раздавил бы своими могучими ручищами. Но нет, не для этого он, Азеф, столько лет выкарабкивался из грязи, из нищеты, из низов, не для того, чтобы сорваться с горы, когда вершина почти рядом. Он скрежетнул зубами, изо всех сил подавляя душащую его ярость.
Чуткий к смене чужих настроений, Зубатов сразу стал серьезным:
— Ну, ну, не обижайтесь, Евгений Филиппович, и с завтрашнего дня общайтесь с Аргуновым хоть в Зимнем дворце. Сегодня я распорядился снять с него наблюдение. Пусть успокоится, отдохнет, арестовать мы его можем в любой момент. И материала у нас уже вполне хватает, чтобы отправить его если не во «глубину сибирских руд», то по крайней мере на поселение лет этак на десять. А пока не спеша позволяйте себя уговорить на участие в его делах. Отступайте медленно, сомневайтесь... Мы же пока по другим связям его посильнее припугнем — мол, готовим еще одну волну арестов. Увидите, как он тогда в отношении вас сразу активизируется...
Да, — словно вспомнив что-то очень важное, Сер-гей Васильевич вдруг звонко шлепнул себя ладонью но высокому лбу, и глаза его радостно заискрились: — Мне бы с самого главного начать, а я... Память, Евгений Филиппович, память подводить стала... С хорошей вас новостью, голубчик... От всего сердца.
Азеф удивленно склонил голову набок, как получается иногда у пораженных чем-то непонятным собак:
— Не знаю, чего уж и ждать, Сергей Васильевич, давненько ничего хорошего мне от вас слышать не приходилось...
— Ну, это уж вы зря, Евгений Филиппович. За харьковский съезд, что вы нам отдали, благодарность — раз!
Он протянул левую руку почти в лицо Азефу и загнул указательный палец.
— За томскую типографию — два!
Загнулся еще один палец.
— За то, что своим человеком у Аргуновых стали — три! И теперь...
Зубатов сделал многозначительную паузу, наблюдая, как растет любопытство Азефа, и, торжественно, как перед солдатом, награждаемым перед строем на плацу, объявил:
— Решено повысить вам и жалованье. С первого января девятисотого года, вы, как известно, получали в месяц уже не по сто, а по сто пятьдесят рублей. А за харьковский съезд и томскую типографию...
Зубатов опять сделал паузу, будто собираясь ошарашить Азефа, и действительно ошарашил:
— Отныне решено положить вам ежемесячно оклад — жалованье в пятьсот рублей!
Азеф, вздрогнув, на мгновение потерял над собою контроль: цифра действительно была ошеломляющей! Во рту сразу пересохло, он даже испугался, что ослышался.
— Да, да, пятьсот рублей! — торжествующе повторил Зубатов, словно жалованье прибавили ему, а не Азефу. — Дмитрий Сергеевич Сипягин, человек, хоть и прижимистый, копейки лишней на ветер не выбросит, благосклонно отнесся к моему ходатайству. Словом — быть по сему! А теперь, как говорится, большому кораблю и большое плавание.
Азеф в знак благодарности склонил голову, однако лицо его оставалось холодно-безучастным, похожим на скучную маску.
— И еще, — продолжал Зубатов, — решено продвинуть вас дальше. Вы сказали Аргунову, что вам надо ехать за границу лечить... что там у вас пошаливает-то?
— Почки, — хмуро отозвался Азеф, не любивший, когда речь заходит о чем-то его глубоко личном.
— А может быть, там и печень, и селезенка, и желчный пузырь, — подсказал ему Зубатов. — Даже мне, не врачу, видно, как разволнуетесь — так желтизна в лицо и ударяет... Во всяком случае, лечебные воды будут вам полезны... И что же Аргунов вам на это?
— Ухватился, как утопающий за соломинку, — презрительно скривился Азеф...
— Так вот, Евгений Филиппович. По нашим сведениям, за границей в ближайшее время будет создана ПСР, то есть Партия социалистов-революционеров. Подготовка к этому уже завершается. Вы, судя по поведению Аргунова, можете оказаться там в качестве представителя Московского союза социалистов-революционеров. С вами поедет Мария Селюк, которую вы, конечно, знаете.
— Знаю, — нахмурился Азеф и грязно, как на ростовском рынке, выругался. — Воевал я уже с этой дурищей. Тоже... революционерка, только и знает — языком трепать. Что ни скажет, все в «массы» идти зовет — к крестьянам, к заводским рабочим...
Незаметно для себя он стал горячиться, как бы продолжая один из очередных резких споров, которые бывали у него с Марией Селюк.
— Крестьяне... крестьяне. А крестьяне эти чуть ли не поголовные идиоты, и никогда ничего из них не выйдет, рабочие — то же самое, и вообще... вообще-то русский человек — не индивидуален, не личность, и ничего из него никогда не выйдет!
— Ого! — с интересом посмотрел на него Зубатов — таким откровенным он инженера Раскина видел впервые. — А не еврейство ли в вас это говорит, Евгений Филиппович? Как русский интеллигент я знаю свой народ: он темен, забит, консервативен, его можно повести за собою, обмануть... Но смею вам напомнить предупреждение самого Бисмарка: русские медленно запрягают, но быстро ездят! И не дай Бог, если нам не удастся проследить, как они будут запрягать и тем более — не направлять их быструю езду. Тогда...
Он со вздохом опустил взгляд, и по лицу его пробежало облачко:
— Мне тогда, во всяком случае, останется только пустить себе пулю в лоб. А вам...
Неоконченная фраза повисла в воздухе, повисла нехорошо, почти угрожающе, и плечи Азефа вдруг зябко передернулись — он словно увидел Зубатова, распростертого на полу с браунингом в руке, с виском, черным от запекшейся крови...
— Ничего, Сергей Васильевич, — почти дружески, сочувственно улыбнулся он Зубатову: — Кого-кого, а уж это быдло мы с вами укротим. Пусть мадам Селюк и ее «массовики» лбы себе о российскую тупость разбивают. Наше оружие — по-надежнее!
...И опять все пошло так, как задумал Сергей Васильевич Зубатов.
Много лет спустя Аргунов писал в своих воспоминаниях.
«...Азеф принял горячее участие в пашем горе. Оно стало как бы его горем. В нем произошла перемена. Из пассивного соучастника он превратился в активного члена нашего союза».
«Скромным и пассивным «толстяком» вспоминает Аргунов Азефа конца девятьсот первого года.
И наконец-то свершилось то, к чему так хитро вел дело Зубатов.
«Азефу мы вручили все, как умирающий на смертном одре, — писал потом Аргунов. — Мы ему рассказали все наши пароли, все без исключения связи (литературные и организационные), все фамилии и адреса, отрекомендовали его заочно своим близким. За границей он должен был явиться с полной доверенностью от нас, как представитель Союза, рядом с М. Ф. (Селюк). Чувство к нему было теплее, товарищеское, пожалуй, даже чувство дружбы. За эти дни несчастья его активное вмешательство сдружило нас».
Можно себе представить, как ликовал при таком развитии событий Сергей Васильевич Зубатов: в его руках был весь Московский союз социалистов-революционеров, все его руководители и связи с другими народническими группами, договаривающимися о слиянии в единую ПСР — Партию социалистов-революционеров, создающуюся фактически под полным контролем охранки!
Аргунова арестовали через две недели после отбытия Азефа за границу с чрезвычайными полномочиями от московских социалистов-революционеров. Два с половиной года тюрьмы и ссылка, окончившаяся только с побегом, — так пришлось Аргунову и его жене расплатиться за «полную доверенность» Азефу, и за «теплое, товарищеское чувство, пожалуй, даже чувство дружбы к нему».
Но все это было позже, много позже. А в самом конце девятисотого года инженер Раскин, он же Иван Николаевич (такую конспиративную кличку получил он теперь у соратников по будущей партии) уже развивал бурную деятельность за границей. Полномочные представители народовольческих групп встречались то в Берне, то в Париже, то в Берлине, куда, как всем было известно, инженер Азеф прибыл в длительную служебную командировку от Всеобщей электрической компании для стажировки на берлинских заводах. Командировка (этого уже никто не знал) оплачивалась Зубатовым.
«В Берлине и Париже я попал в центр»,— хвастливо докладывал инженер Раскин своему начальству. И действительно, ему удалось близко сойтись с виднейшими лидерами только что созданной партии — с Виктором Черновым (Олениным), блестящим публицистом и идеологом ПСР, с Михаилом Гоцем, главным организатором партии, Екатериной Константиновной Брешко-Брешковской, как тогда ее называли соратники — «святой дух революции», и, конечно же, с самим Григорием Гершуни.
Нет, Иван Николаевич никакого выдающегося вклада в создание Партии социалистов-революционеров лично не внес — лишь участвовал во встречах и переговорах представителей российских и заграничных групп и группировок, в основном «представительствуя» от имени полу-разгромленного Зубатовым Московского союза и больше слушал, чем говорил. Дело было теперь лишь в формальностях: все обговорено и согласовано заранее и практически подготовлено еще в России Брешко-Брешковской и Гершуни, разделявшими между собою задачи соответственно своим темпераментам: по России ездили они порознь — впереди неукротимая Екатерина Константиновна — агитировала, поднимала революционные настроения, а являвшийся следом за нею Гершуни ставил дело на организационную, профессиональную основу. И за границу-то он явился не с пустыми руками — представителем организаций всего Юга и Северо-Запада России.
«Достигнуто соглашение по программе и тактике, — шли сообщения от Азефа Зубатову. — Роль временного центра партии до тех пор, пока не удастся созвать организационный съезд, будет выполнять саратовская группа (Е. К. Брешко-Брешковская, Ракитниковы). Журнал «Революционная Россия» начинает издаваться в Швейцарии как ЦО ПСР. Во главе его — М. Р. Гоц и В. М. Чернов (Оленин), главный по организационным вопросам — Г. А. Гершуни, энтузиаст и апостол террора».
На Гершуни Азеф сразу же произвел впечатление: немногословный, волевой, не скрывающий своего глубочайшего презрения к «теоретикам» и «массовикам», человек действия. В свою очередь, и Азефа влекло к Гершуни, человеку яркому, склонному к театральности, любящему эффектные жесты и в то же время обладающему необычайной силой личного воздействия. А история с покаянным письмом, которое Гершуни написал в охранке, делала для Азефа личность этого темпераментного, горячего сторонника разжигания революции с помощью террора еще более притягательной: ведь, в конце концов, и в этом было у них обоих нечто родственное.
О терроре пока во всеуслышание не говорилось: слишком свежи были воспоминания о расправах над террористами-народовольцами и о том, что взрывы бомб и стрельба боевиков-народовольцев по министрам и генерал-губернаторам вызвали в политическом плане лишь отрицательную реакцию народа. Но в сложившейся само собою руководящей четверке (Гоц, Чернов, Гершуни и Азеф) речь об этом заходила постоянно. Медленно, но шаг за шагом «теоретики» отступали перед натиском яростных «террористов» — Гершуни и Азефа.
И вскоре Зубатов получил сообщение: перейти к пропаганде террора и к признанию его тактической задачей партии решено после того, как какая-нибудь из российских организаций совершит эффектную террористическую акцию против одного из столпов режима. Азеф предупреждал, что «первый удар» Гершуни обещает нанести но министру внутренних дел Сипягину... Подробности планируемых акций, утверждал Азеф, ему неизвестны...
Так ли? Ведь с Гершуни Азеф уже очень сблизился. Ближайшими сотрудниками Гершуни Азеф называл М. М. Мельникова и П. Крафта, саратовцев.
Кипучая натура Гершуни требовала действия, и лишь только соглашение между представителями народнических групп, прибывшими за границу для создания Партии социалистов-революционеров, было достигнуто, Григорий Андреевич нелегально выехал в Россию. Заканчивался январь 1902 года, и Департамент полиции, предупрежденный Азефом, уже готовился к приему ценного для Зубатова гостя. И точная дата отбытия его из Берлина, и точный маршрут были известны все от того же Азефа.
Однако инженер Раскин настоятельно просил не арестовывать Гершуни.
«...брать его ни под каким видом не следует пока. Имейте это в виду», — нажимал Азеф и заверял: «Но из глаз его не упустим».
Григорием Андреевичем Гершуни, кроме московской охранки, занимались теперь в Департаменте полиции. И он и Азеф находились теперь в поле зрения заграничной агентуры Департамента. И чины Департамента, ревностно относившиеся ко все больше набирающему силу начальнику Московского охранного отделения, решили взять «дело Гершуни» в свои руки.
«Гершуни, — уведомляли они Зубатова, — теперь от нас никуда не уйдет, так как стоит непосредственно близко к агентурному источнику, и немедленный арест его оставит нас в темноте, пользы принесет мало, а агентуру может скомпрометировать».
— Рассчитали на бумага, да забыли про овраги, а по ним ходить... — пробормотал насмешливо Сергей Васильевич, прочитав бумагу из Департамента, но возражать не стал: да и зачем было возражать против разумного решения дать Гершуни возможность совершить «очень интенсивную поездку по России, чтобы выяснить, с кем именно он будет встречаться, и иметь возможность про-извести позднее массовые аресты повсюду».
Только последние неумехи и недотепы упустили бы добычу после того, как так обстоятельно были выведены на нее изо всех сил отрабатывающим свой высокий оклад инженером Раскиным. Департамент же решил обойтись в этом деле без Зубатова, этого московского умника, выскочки, недостойного быть чином отдельного корпуса жандармов, щелкнуть его при так хорошо представившейся возможности по носу.
И, ведя полускрытую войну с Департаментом, Сеогей Васильевич на какое-то время забыл об идее, на службу которой поставил всю свою жизнь. Нет, он не мешал работе Департамента, но и не спешил помогать ему ни словом, ни делом. Зная плохую постановку центральной филерской службы и конспиративное мастерство изворотливого Гершуни, Зубатов мог почти наверняка предсказать, что объект очень скоро обнаружит за собою слежку и уйдет от нее.
Когда же все так и случилось и Департамент оказался посрамлен, Зубатов не стал раздувать промах своих конкурентов, а просто поднял на ноги собственную агентуру, начиная от Азефа и кончая такими асами филерского дела, как Медников и Тутышкин. В том, что его система сработает, Сергей Васильевич был уверен. Между тем упущенный филерами Григорий Андреевич Гершуни действовал, готовя свой «первый удар» — покушение на Сипягина.
Прежде всего было необходимо найти добровольца, готового пожертвовать собственной жизнью для «постановки акта». Таким добровольцем стал киевский студент Степан Балмашев.
Трудно сказать, имелся ли у Гершуни в голове план операции еще до того, как в январе 1902 года он вернулся в Россию. Азеф, которого в тот период обвинить в нелояльности к своим полицейским хозяевам вроде бы пока было нельзя, ничего конкретного о подготовке покушения на Сипягина не сообщал. Вряд ли Гершуни не доверял своему соратнику, посвященному в куда более важные тайны ПСР.
Много лет спустя историки высказывали предположение, что Гершуни действовал в этом случае экспромтом, осененный идеей уже на месте, а может быть, даже и после знакомства с Балмашевым. Недаром же в своих записках-воспоминаниях Зубатов назвал Гершуни «художником в деле террора». Судя по всему, в то время Гершуни только разрабатывал и опробовал тактику «постановки» террористических актов: ставка делалась на импровизацию, исходя из местных условий, никакой долгой предварительной подготовки, никакой слежки за «объектом», чтобы избежать провала еще на этой стадии. Удары должны были быть «короткими», неожиданными, оружие террориста — вошедший в те годы в моду браунинг. О метании бомб, как это практиковалось ранее народовольцами, речи при Гершуни не шло: может быть, «художник в деле террора» не желал гибели случайно оказавшихся поблизости людей, учитывая отрицательное воздействие в прошлом таких случаев на широкое общественное мнение и прежде всего на интеллигенцию? Сейчас ответить на этот вопрос нелегко.
К покушению на Сипягина Балмашев готовился в Финляндии, где действия охранки были в определенной степени стеснены политическими соображениями, но откуда добраться до Петербурга можно было в считанные часы и без каких-либо особых препятствий.
На всякий случай у Балмашева было и еще одно поручение: при невозможности застрелить Сипягина ему было предложено попытаться убить обер-прокурора Синода, всем ненавистного и имевшего огромное влияние на царя Константина Петровича Победоносцева, автора печально известного Манифеста от 29 апреля 1881 года— об укреплении самодержавия в России. Как это предполагалось сделать, осталось тайной, унесенной Балмашевым в могилу.
Уже рассказывалось о том, как Балмашев застрелил Сипягина в его собственной приемной, и о ликовании в связи с этим Ивана Николаевича (Азефа, Азева, Азиева и т. д.). Перед тем как дважды нажать курок, Балмашев вручил Сипягину запечатанный конверт с приговором, подписанным Боевой Организацией Партии социалистов-революционеров. Так «художник в деле террора» Гершуни решил продемонстрировать рождение своей БО, с появлением которой открылась новая трагическая страница российского революционного движения.
Вся сыскная система, все охранные отделения империи были поставлены на ноги. Из Балмашева вытрясти ничего не удавалось. На суде он дерзко заявил, что в террористическом акте против Сипягина «его единственным помощником было русское правительство». О том, что он выполнял решение Партии социалистов-революционеров, он не говорил, об этом говорили эсеры.
«Искра» же называла Балмашева социалистом и революционером и писала, что убийство им Сипягина — акт мести за расправы правительства над студенчеством.
Кстати, сам Степан Балмашев, выходец из семьи ссыльного народника, активно работавший по созданию революционных кружков среди рабочих, не разделял эсеров и социал-демократов и не противопоставлял их друг другу.
Гершуни искали по всей России, а он тем временем спокойно пребывал в Петербурге, готовя еще «два удара»: покушение па Победоносцева и петербургского генерал-губернатора Клейгельса. Покушений совершить не удалось по причинам, не зависящим от организатора и исполнителей, тоже добровольцев, подобранных Гершупи.
Лишь после этого Гершуни решил покинуть Петербург и отправился в Киев, узнав в пути о казни Балмашева.
Случайно встретившийся с ним в те дни Степан Слетов, впоследствии видный деятель ПСР, вспоминал его бодрым и жизнерадостным: «Весь дышит первым и крупным успехом. Вначале было дело, — цитирует он, — гордиев узел разрублен. Террор доказан. Он начат. Все споры излишни».
И тут же слова уже не просто социалиста-революционера, а командира Боевой организации ПСР:
— Пора выступать молодежи. Пусть грешит против конспирации. Время не ждет. Дана команда: все наверх!
Пять недель неуловимый Гершуни разъезжал по России, поддерживая регулярно связь с заграничным центром ПСР. Но выйти на его след все не удавалось: Азеф ничего о нем не сообщал, о роли Гершуни в терроре умалчивал, как и об основных планах террористов.
И хотя Зубатов, зная натуру Гершуни, был склонен связывать деятельность этого человека с убийством Сипягипа и рождением Боевой Организации ПСР, Азеф изо всех сил наводил свое полицейское начальство на ложный след. По его сообщениям, главными лицами БО были Крафт и Мельников, Гершуни же занимался созданием организационных структур ПСР и ни на что другое размениваться не желал. Пытался он убедить Зубатова и в том, что на Сипягина организовала и совершила покушение неизвестная ему и не связанная с заграничным центром какая-то местная, внутрироссийская группа.
Однако новый директор Департамента полиции Лопухин и нашедший с ним полное взаимопонимание Зубатов были настойчивы, на Азефа они оказывали все большее и большее давление, подозревая, что докладывает он далеко не все, что ему известно.
Через несколько лет Леонид Александрович Ратаев, видный деятель охранно-сыскной службы империи, заведующий заграничной агентурой в Париже (1902—1906 гг.), писал в своих воспоминаниях о причине измены Азефа своим полицейским хозяевам. По мнению Ратаева, Азеф, сблизившись с Гершуни, попал под его гипнотическое влияние. Другие авторы книг об Азефе высмеивают это мнение, указывая, что на связи с Гершуни строилось все положение Азефа в партии. Гершуни пользовался в ней высочайшим доверием, и доверие это, естественно, переносилось и на самого Азефа, с которым Гершуни делился всеми своими планами и замыслами, как с ближайшим единомышленником в терроре.
Арестуй полиция Гершуни да еще воспользуйся против него данными, которые мог предоставить один лишь Азеф, для Ивана Николаевича или инженера Раскина это было бы полным крахом. Мало того, что о и потерял бы для Департамента всяческую ценность, как высокопоставленный секретный сотрудник (и несколько сотен рублей ежемесячно), товарищи по партии расправились бы с ним как с провокатором — таких примеров было известно немало.
Но, с другой стороны, Азеф чувствовал, что отношение к нему Лопухина и Зубатова начинает меняться, особенно после того, как место убитого Сипягина занял Вячеслав Константинович фон Плеве, бывший в свое время директором Департамента полиции и членом комитета по составлению положения о государственной охране.
«Я сторонник крепкой власти во что бы то ни стало, — говаривал суровый Вячеслав Константинович и добавлял: — Меня ославят врагом народа, но пусть будет что будет».
Прославился он и еще одним заявлением. Когда ему, министру внутренних дел, доложили, что готовится очередное студенческое выступление, он, не моргнув глазом, пообещал:
— Демонстранты! Высеку! Пойдут и курсистки? С них и начну!
И с середины девятьсот второго года инженер Раскин решает работать на самого себя — не на Зубатова, Лопухина и Плеве, не на Года, Чернова и Гершуни, на себя, только на самого себя, превратиться из полицейского агента-провокатора в выгребателя денег и из того и из другого кармана. Благо касса ПСР богатела день ото дня — пожертвования от многочисленных «сочувствующих» и экспроприации с лихвой возмещали партийные расходы на организационные и издательско-пропагандистские нужды, содержание профессионалов-подпольщиков и пока немногочисленные акции Боевой Организации Гершуни. Что же касается последней, то с самого начала повелось выдавать руководству ВО столько денег, сколько оно запросит. При этом, учитывая конспирацию, было запрещено как-либо контролировать расходы боевиков Гершуни или требовать от них какой-либо отчетности. Репутация Гершуни, как человека исключительной честности и бескорыстия, служила лучшим гарантом против каких-либо злоупотреблений, суммами, получаемыми из кассы ВО. И Азеф, наблюдая все это, еще больше нервничал: такие деньги проплывали мимо него, по сравнению с которыми жалованье полиции и оклад инженера Всеобщей электрической компании, вместе взятые, выглядели просто нищенским подаянием.
«...Он много тратил на себя, но я никогда деньги у него не видала,— рассказывала впоследствии Любовь Григорьевна Менкина судебно-следственной комиссии ПСР. — Я была вся в долгах и всегда занимала деньги. От месяца до месяца никогда не могла прожить без долгов (гости, люди, всегда много народу). Он меня всегда ругал, что у меня много народу, и за каждую копейку пробирал, а сам на себя очень много тратил... Он страшно вообще любил одеваться. Вообще он очень любил удобства, очень любил жизнь, и когда приезжал домой, то всегда страшно критиковал и сердился: и комната ему мала, и обеды не так хороши, и т. п. ...Вкладывал деньги в выигрышные билеты. Сначала их было пять, потом стало семь...»
Эсеры не скрывали, что царь лично обещал «озолотить» того, кто выведет на след организаторов убийства Сипягина. Не было тайной и то, что высшие полицейские рассчитывают быть не только «озолоченными», но и заработать на этом деле, в случае успеха, новые чины и звания, а то и другие награды.
Азефу это напоминало нравы его ростовской молодости: заполучить чужой товар, продав его, и присвоить деньги, нечто подобное гешефту, провернутому перед бегством из Ростова за границу десять лет назад. Но на этот раз дело ему предстояло иметь не с провинциальным купчишкой, а с такими фигурами, как умница-интеллигент Зубатов, опытный юрист, аристократ Лопухин и новый министр внутренних дел, безжалостный и циничный Плеве.
Это были серьезные люди, могущие разрушить весь замысел, созревший к середине девятьсот второго года у Азефа. И, дождавшись мая, когда Гершуни благополучно завершил свои гастроли по империи (собирая для партии деньги и вербуя добровольцев в террор), Азеф запросил у своего полицейского начальства разрешение вернуться на время в Россию. Он знал, что Зубатов и Лопухин нашли общий язык не только между собой, но и с самим Плеве, и если дело повести правильно, то с их помощью можно теперь заручиться и покровительством самого всесильного министра внутренних дел, то есть продвинуться по лестнице полицейской карьеры на высоты, о которых до сих пор не приходилось и мечтать!
И Азеф постарался поубедительнее мотивировать необходимость своей встречи с начальством:
«...нам необходимо лично повидаться для переговоров относительно моей дальнейшей практики. Мое положение несколько опасно. Я занял активную роль в Партии социалистов-революционеров. Отступать теперь уже невыгодно для дела, но действовать тоже необходимо весьма и весьма осмотрительно».
Для убедительности инженер Раскин осветил и кое-какие известные ему планы Гершуни: покушение на самого Плеве, на Зубатова, создание специальной динамитной мастерской. Правда, о том, что «постановкой» этой самой мастерской занимается он сам, Азеф не сообщил, как не сообщил, что Гершуни опять выехал из Швейцарии в Россию, чтобы лично организовать акцию против харьковского губернатора Оболенского, прославившегося жесточайшим подавлением в своей губернии крестьянских выступлений.
Продолжал инженер Раскин и затушевывать в своих докладах истинную роль Гершуни, как создателя и руководителя БО, по-прежнему представляя главарями террора Мельникова и Крафта. «Карту Гершуни» он пока берег для собственной игры.
Вечером, около девяти часов, в моем кабинете зазвонил телефон. Я сидел за своим рабочим столом и делал записи в толстенной, похожей на амбарную книгу, новенькой тетради, с неделю назад купленной мною в писчебумажной лавке на соседней улице.
«Азеф Евно Фишелевич» — было выведено мною черным фломастером на ее твердой светло-серой обложке. С некоторым опозданием, но я сообразил, что должен как-то фиксировать, не надеясь на память, все то, что мне доводится слышать от Никольского. Купил заодно пластмассовую длинную коробку — небольшую картотеку, отделения ее были туго забиты прямоугольниками плотной линованной бумаги, на которые я заносил имена и фамилии тех, кто, по рассказам Никольского, был как-то причастен к главному действующему лицу моей будущей книги — идея написать ее внедрилась уже усилиями Льва Александровича в мое сознание и не давала мне покоя ни днем, ни ночью.
Тетрадь с записями рассказов Никольского и содержания отрывков тех документов, которые он мне время от времени показывал, да пока еще очень поверхностно составленная картотека должны были послужить для меня в дальнейшем примитивными навигационными инструментами в плавании по неизвестному мне доселе морю криминально-историко-политического материала. Впрочем, мне почему-то верилось, что рано или поздно «азефовская коллекция» Никольского откроется для моей работы, и тогда я смогу прояснить и уточнить сделанные мною предварительные записи.
Итак, зазвонил телефон, и я с удивлением вскинул голову. Никто по вечерам мне обычно не звонил. Бейрутцы, не надеясь, что ночь будет спокойной и обойдется без очередной артиллерийской дуэли, дав возможность выспаться, укладывались спать пораньше, ценя каждый час ненадежной вечерней тишины. Мои коллеги, советские журналисты, вечерами работали, готовя материалы для завтрашней связи с московскими редакциями, да и редко бывали у нас какие-нибудь неожиданно срочные вопросы, требовавшие решения по телефону, который, по нашим подсчетам, прослушивался по меньшей мере пятью спецслужбами — местными и иностранными.
Я снял трубку.
— Алло! Алло! Господин писатель?
На проводе был Никольский.
— Слушаю, Лев Александрович, — отозвался я, успев различить какое-то странное возбуждение в обычно таком спокойном голосе моего знакомца.
— Я вас не разбудил? — теперь в нем были извиняющиеся нотки. — Ни от чего не оторвал?
— Да нет, Лев Александрович. Сижу вот тут, вспоминаю, что вы мне рассказывали про нашего героя, и потихоньку записываю то, что из головы, конечно, пока не вылетело.
— Ну ничего, у вас память еще молодая, не то, что у меня, старика — прочел или услышал и непременно забыл...
Разговаривая со мною, он, похоже, обретал потерянное было почему-то спокойствие.
— Кстати...
Он слегка откашлялся, словно что-то хотел мне сказать, но не решался. И все-таки преодолел колебания.
— Я хотел бы с вами встретиться, господин писатель. Это очень (он подчеркнул голосом слово «очень»), очень важно.
И опять в его словах я уловил все то же странное возбуждение.
— Сейчас? Прямо сейчас? Хорошо, я сейчас же сажусь в машину и еду к вам, — отозвался я, вдруг инстинктивно почувствовав, что моему собеседнику грозит опасность.
Он помедлил, что-то мысленно взвешивая и принимая решение. Потом неуверенно выдохнул:
— Да нет, господин писатель... Сейчас, пожалуй, беспокоить вас не стану. А вот завтра... Завтра я буду с утра ждать у себя, не возражаете?
— Дакор (согласен), — отозвался я почему-то по-французски и решил уточнить:
— С утра... это для вас как? В какое время?
— Ну... — помедлил он, что-то прикидывая, — скажем, часов в одиннадцать. Только мне до этого надо будет на некоторое время отлучиться, кое-куда сходить, так что, если немного запоздаю, вы уж не обессудьте, господин писатель, дождитесь, обязательно дождитесь...
И, явно чтобы заинтересовать меня, добавил, почти перейдя на шепот:
— Хочу все-таки решить вопрос о кое-каких интересующих вас бумажках.
Меня обдало жаром: неужели же, неужели...
— Но я могу прибыть к вам уже минут через пятнадцать!— вырвалось у меня. — Улицы пустые, и стрельбы... не слышно.
— Лучше завтра, господин писатель, — последовал его вежливый, но твердый отказ. — Я сейчас буду занят... очень занят. Поймите меня правильно, господин писатель, да и вам рисковать не стоит... И не волнуйтесь, все будет хорошо. Итак, до завтра? — В последней его фразе промелькнула было неуверенность, но он сейчас же справился с нею: — Значит, до завтра, господин писатель. Завтра я непременно жду вас. До завтра...
В трубке щелкнуло, послышались гудки отбоя, а я все стоял, держа ее в руке и не решаясь почему-то положить на рычажки аппарата.
Сомнений не было: Никольский все-таки решил дать мне возможность познакомиться с его коллекцией, познакомиться с нею поплотнее, несерьезнее. За те недели, которые прошли со дня нашего первого разговора об Азе-фе за ужином в кафе на набережной и моего неожиданного представления баронессе Миллер, Никольский, видимо, убедился, что я всерьез загорелся делом его жизни, и решил наконец допустить меня к этому делу, если не на правах партнера, то по крайней мере на правах доверенного лица. Мне казалось, что за спиной у меня выросли крылья, сердце бешено билось от охватившего меня восторга. Завтра! Скорее бы пронеслось это время — до завтра. Казалось, никогда в жизни я не сталкивался с такой удачей, с которой столкнулся сейчас!
В эту ночь я долго не мог уснуть, голова моя была свежей и чистой, словно я выпил подряд несколько чашечек настоящего арабского кофе — кофе по-бедуински, который готовился до двадцати часов, превращаясь при медленном выпаривании в чистейший экстракт кофеина. И всю ночь, до самого рассвета, я ворочался с боку на бок, то и дело зажигая ночник и поглядывая на будильник.
С первыми проблесками наступающего утра я уже был на ногах. И странно: не было ни тяжести в голове, ни ощущения физической разбитости, ничего того, что обычно является обязательным результатом бессонницы. Я был полон приближением радостной, огромнейшей удачи, такой, которая должна была наполнить мою жизнь чуть ли не новым смыслом.
Стенографистка, принимавшая в это утро мой обязательный (отработка!) информационный материал для нашей газеты, то и дело просила меня диктовать помедленнее.
— Что ты гонишь сегодня, словно опаздываешь на поезд? — разозлилась она па меня в конце концов. — Или опять ваш район под обстрелом и надо спускаться в подвал?
— Спешу на свидание! —ответил я.
— Ого! — только и вырвалось у нее, но уговаривать меня «работать потише» она уже не стала.
В десять часов я был уже во дворе, у машины, мне вдруг стало казаться, что она может почему-то не завестись и до дома Никольского мне придется добираться каким-нибудь другим, случайным транспортом.
Но двигатель завелся, как говорится, с пол-оборота, и я некоторое время сидел в кабине, прогревая его, как хороший хозяин, и поглядывая на часы, вмонтированные в приборный щиток. Время, как обычно бывает в подобных случаях, тянулось медленно. Было еще только четверть одиннадцатого, а на то, чтобы добраться до библиотеки Никольского, хватило бы и пятнадцати минут.
«Ладно, — решил я, не в силах дольше бороться с самим собою, — поеду. Мало ли что может случиться в пути, пропорю колесо или окажусь в пробке, машина — дело ненадежное. А так — приеду пораньше, подожду у дома... полчаса или сколько там понадобится».
И, приняв такое решение, я выехал сквозь арку, вы-водящую со двора на улицу, и отправился ставшим мне привычным за последние недели путем, стараясь не слишком спешить, чтобы убить имевшееся у меня в за-пасе время.
И все же на улице, у крутого тупика, в конце которого жил Никольский, я оказался уже минут через десять. Улица, как обычно, была пустынна. Под колесами похрустывали толстые, в свежей листве, ветви эвкалиптов, тянувшихся вдоль проезжей части. Ветви были явно срезаны пулями, и это свидетельствовало, что в районе недавно произошла очередная перестрелка между христианами и мусульманами. И, осторожно переваливая через увядающую зелень завалов, я вдруг почувствовал какую-то подспудную, неосознанную тревогу.
Проехав с полкилометра по пустынному, выщербленному пулями асфальтовому полотну, я вывернул на середину улицы, приготовившись с ходу влететь на крутой подъем нужного мне тупика. И тут моя нога инстинктивно вдавилась в педаль тормоза: с горки, по разбитой, ухабистой дороге прямо на меня летел темно-серый «мерседес», с красным номером такси. За рулем сидела женщина в темных очках, закрывающих большую часть лица. Голова ее была повязана черной, похожей на головной убор монахини, косынкой.
Рядом, прислонившись виском к стойке дверцы, как-то расслабленно и обмякнув сидел мужчина.
Серый «мерседес», не нажми мы— я и женщина в темных очках — на тормоза в самое последнее мгновение, наверняка бы врезался в мою машину. Увидев, что я остановился, женщина нажала на акселератор. «Мерседес», резко свернул прямо передо мною налево, едва не зацепив крылом мой бампер, и понесся по улице вниз, в сторону многоэтажных руин бывшего торгового центра, за которыми безмятежно голубело море.
На мгновение почти рядом со мною мелькнуло бледное лицо спутника отчаянной водительницы, голова его от толчка дернулась, падая на грудь, и я остолбенел, по-раженный: это был тот, именно тот человек, которого мы с Никольским несколько дней назад выставили из библиотеки!
Руки мои резко крутанули руль, и я, не обращая внимания ни на колдобины, ни на обломки камней, разом влетел в тупик, пронесся вверх по его крутизне и, резко затормозив перед каменным крыльцом, выскочил из машины, собираясь взбежать по его ступеням. Я уже занес было ногу на первую ступеньку и... отпрянул назад. Капли еще не успевшей потемнеть крови вели с верхних ступенек вниз, на желтый щебень, туда, где виднелись следы автомобильных протекторов. Там они сливались в небольшую алую лужицу с отпечатавшимся в ней следом рифленой подошвы полувоенного башмака.
И тут же пришла мысль: мужчина в «мерседесе» был ранен и истекал кровью, вот почему так гнала машину его спутница, сидевшая за рулем.
Не раздумывая дольше, я взбежал по ступеням. Дверь в библиотеку была распахнута настежь. На лестничной клетке перед нею была еще одна лужица крови.
Я шагнул к порогу, и дыхание у меня перехватило от ужаса. Посреди комнаты, у ножки своего стула, лежал Никольский лицом вниз, головой к двери. Его вытянутая вперед правая рука сжимала знакомый мне бельгийский браунинг. Из-под неподвижного тела еще текла кровь, образуя на полу продолговатую лужицу, в которой тускло высвечивалась латунь пустых гильз. Еще две гильзы валялись почти у самого порога.
Дверь в соседнюю, жилую, комнату была распахнута настежь, и сквозь нее был виден учиненный там разгром. Книги и какие-то бумаги, сброшенные со стеллажей, валялись грудами на полу, железная солдатская койка опрокинута, и рядом с нею торчали откинутые крышки двух старых чемоданов, из которых горой, словно тесто, уходящее из квашни, выпирали рубашки, белье, шерстяные свитеры и другие носильные вещи. И не нужно было быть сыщиком-профессионалом, чтобы понять: в комнате кто-то и что-то торопливо искал.
«Коллекцию! — сам собою нашелся ответ. — Ту самую, которую Никольский собирал всю жизнь, так берег и отказался кому-то продать! Коллекцию, поговорить о которой он пригласил меня вчера по телефону... Бедный Лев Александрович! Уже вчера, говоря со мною, он, видимо, знал о грозящей ему опасности. А может быть, именно из-за этой опасности и хотел что-нибудь предпринять с моей помощью. И вот я опоздал, нет, опоздали мы оба...»
Эх, не сидеть бы мне в машине во дворе своего дома, не играть в никому не нужную в Бейруте пунктуальность, приехать бы сюда хотя бы на пятнадцать минут пораньше, ведь убийцы (теперь я был уверен, что в «мерседесе» были именно убийцы Никольского!) столкнулись со мною нос к носу всего лишь несколько минут назад!
И сейчас же пришла мысль более разумная: «Ну, хорошо, приехал бы ты минут на пятнадцать пораньше, как раз тогда, когда, судя по всему, было выхвачено из карманов оружие. И что бы ты мог сделать? Ничего! Правда, похоже, что Никольский успел выстрелить первым». Но теперь это уже не имело никакого значения... Нет ни самого Льва Александровича Никольского, ни его коллекции, лишь крохотные кусочки которой он мне время от времени показывал за нашу короткую дружбу, возникшую так неожиданно и кончившуюся так трагически. Но теперь? Что мне делать? Срочно звать полицию, требовать, чтобы началось расследование и убийцы были арестованы?
Расследование? Кто будет в Бейруте искать убийц, в городе, где нет ни настоящей полиции, ни следователей, ни судей, где из местной тюрьмы случайно оказавшиеся там уголовники освобождаются своими вооруженными сообщниками чуть ли не каждую неделю!
Я все еще стоял в нерешительности, когда за моей спиной раздался слабый стон. Стонал Никольский.
Я кинулся к нему и увидел, что он пытается перевернуться с живота на спину. Лицо его было белым от потери крови, глаза полузакрыты.
— Я здесь, я здесь, Лев Александрович, сейчас я вам помогу, — бормотал я, помогая старому библиотекарю. Теперь он лежал на спине, широко раскинув руки, и весь его старенький пиджак был залит кровью. Пальцы правой руки разжались, и его браунинг лежал на полу, как какой-то случайный кусок железа.
— Гос... господин писатель... — прочел я беззвучные слова на его синевато-серых губах.
— Да, это я, Лев Александрович, сейчас я вам помогу, я отвезу вас в госпиталь, — заторопился я, путаясь в ненужных словах и понимая, что мой друг не жилец на белом свете.
И Никольский тоже понимал это:
— Не надо... господин писатель, — прошелестели его губы, и он замолчал, собираясь с последними силами.
— Баронесса Миллер... — опять прочел я по его губам. — Езжайте к Марии...
Он дернулся, вытянулся и застыл, оборвав дыхание на полуслове.
Я осторожно закрыл ему глаза, сложил руки на залитой кровью груди и встал с коленей, на которых стоял перед ним в последние секунды его жизни.
На глаза мне попался его браунинг, я машинально взял его, сунул в карман и пошел к выходу из библиотеки. Кровь за порогом уже свернулась и потемнела, она тянулась впереди меня бурой дорожкой — капля за каплей — и обрывалась на щебне у следов, оставленных темно-серым «мерседесом».
Я сел в машину и с трудом попал ключом в замок зажигания. Все вокруг было как в тумане. Я медленно тронул машину, борясь с застилающими мне глаза слезами. Я ехал вниз по тупику, и силы мои были на исходе, и чувство вины все сильнее сжимало мое сердце.
«Из-за меня... из-за меня погиб Никольский. Не свяжись он со мною, не зажги меня Азефом... был бы жив и сейчас, а может быть, даже и продал бы свою злосчастную коллекцию тем, кто ради обладания ею был, как оказалось, готов на все. Продал бы и действительно уехал с хорошими деньгами куда-нибудь в Италию или Швейцарию».
Нет, заявлять в полицию о произошедшем преступлении я не поехал. Мария Николаевна, баронесса Миллер, вот к кому посылал меня перед смертью Никольский.
...У виллы баронессы охранников сейчас было больше, чем обычно. Парни, вооруженные автоматами, увешанные подсумками с гранатами, стояли у ворот плотной группой. Чуть поодаль — пикап с пулеметом на турели, пулеметчик, держась обеими руками за ручки пулемета, стоял, откинувшись назад, балансируя на каблуках коротких военных сапог.
Охранники встретили было меня настороженными взглядами, но кто-то из них узнал мою машину и равнодушно замахал кистью руки, приглашая въезжать на территорию виллы.
Баронесса встретила меня на пороге каминного зала, улыбаясь, как всегда, одними глазами и протягивая руку для поцелуя. По случаю утреннего часа на ней был украшенный дорогими старинными кружевами кремовый атласный пеньюар, полы которого чуть ли не мели своими концами натертый до блеска паркет.
— Бонжур, господин писатель...
Голос ее был светски приветлив.
— Прошу извинить мой вид — я с детства привыкла вставать поздно, хотя еще с тех лет помню... как это...
И, кокетливо поведя глазами и мило картавя, что, по ее мнению, должно было придать ее голосу детскость, продекламировала:
Кто рано ложится
И рано встает,
Тот вечно здоровый
И быстро растет.
И, довольная, захлопала в ладоши.
— О, я много стихов знала в детстве. Вот еще. По-слушайте:
Птичка божия не знает
Ни заботы, ни труда,
Терпеливо не свивает
Хлопотливого гнезда...
Хорошо ведь, а? И притом это ведь только наше, господин писатель, только русское, не правда ли? Лев Александрович иногда просит меня продекламировать что-нибудь, правда, он любит серьезное, например, Некрасова о русском народе:
Вынесет все, и широкую, ясную
Грудью дорогу проложит себе...
Дальше я не люблю... дальше — очень грустно, но стихи есть стихи:
...Жаль только, жить в эту пору прекрасную
Уж не придется ни мне, ни тебе...
Она говорила, не умолкая, пока мы входили в каминный зал и устраивались в креслах у чайного столика. И мне казалось, что она чем-то возбуждена, чем-то взволнована и старается скрыть свои чувства в непрерывном потоке слов, что она боится дать мне возможность заговорить и услышать от меня что-то такое, что она уже знает, но подтверждения услышать не хочет.
И все же надо было как-то сообщить ей о смерти ее старого друга. Как это сделать, я пока не представлял, мне никогда в жизни не приходилось выступать в роли вестника, сообщающего о случившемся несчастье. И как нужно бывает «готовить» человека к плохой, очень плохой вести, я не знал. Но все произошло само собою.
— Вы пришли рассказать, что... — вдруг совсем другим, резко изменившимся голосом заговорила баронесса, — что... с Львом Александровичем... что-то случилось, не так ли?
Ее твердый, требовательный взгляд уперся в мои глаза и не отпускал их.
— Он был у меня сегодня утром, — заговорила она через несколько мгновений, справившись со слезами с помощью тонкого кружевного платочка, извлеченного из рукава пеньюара. — Мы говорили о вас, господин писатель... Он волновался, просил меня быть очень осторожной, усилить охрану. И очень спешил к себе... в библиотеку.
— В него стреляли за несколько минут до моего приезда туда. Он умер при мне.
Ее глаза опять наполнились слезами.
— Последние слова его были о вас. Он хотел, чтобы я поехал к вам.
— Да, да, — пробормотала она. — Он принес мне что-то для вас и просил передать, если с ним что-нибудь случится.
Она взяла бронзовый колокольчик, стоящий перед нею на чайном столике, и несколько раз встряхнула.
На призыв колокольчика явилась филиппинка-горничная.
— Мэм? — присела она в книксене, глядя выжидающе на хозяйку.
— Мэри, принесите, пожалуйста, из моего кабинета атташе-кейс, он стоит у меня под столом, — по-английски обратилась к ней баронесса.
— Иес, мэм, — опять сделала книксен филиппинка и бесшумно удалилась.
Как только дверь за нею закрылась, баронесса с неожиданной для ее возраста легкостью встала из кресла, пересекла комнату и подошла к одному из двух рыцарей, стоящих у камина. Сунув руку за спину, она что-то там сделала, и забрало на шлеме рыцаря вдруг со щелчком откинулось вверх. Баронесса сунула руку в открывшуюся пустоту и извлекла оттуда продолговатый желтый конверт. Потом опустила забрало в прежнее положение и со щелчком захлопнула его.
Она успела вернуться на свое место и усесться в кресло до того, как в комнате появилась горничная, двумя руками несущая объемистый металлический чемоданчик. Было видно, что он тяжел, и я кинулся навстречу девушке, чтобы помочь ей.
Чемоданчик оказался даже тяжелее, чем мне показалось на первый взгляд, было похоже, что он бронированный. У металлической ручки, обтянутой толстой коричневой кожей, торчали короткие катушечки-диски с набором цифр.
— Спасибо, Мэри, — отпустила горничную баронесса после того, как вздохнувшая с облегчением девушка передала мне бронированный кейс покойного Никольского.
— Я не знаю, что там, — продолжала она, — ключа у меня нет. Лев Александрович ключ мне не оставлял. А вот здесь — письмо для вас.
И она протянула мне желтый конверт, который только что извлекла из рыцарских доспехов у камина:
— Думаю, что там все должно быть написано.
Я взял конверт, горя желанием немедленно вскрыть его, но сдержался, это показалось мне неприличным, я вдруг побоялся показаться нетерпеливым наследником, рвущимся вскрыть попавшее к нему в руки завещание.
— Лев Александрович принес вам все это... сегодня утром?
— Сегодня, — легким кивком подтвердила баронесса. Она уже пришла в себя, и лишь чуть заметные дорожки, оставленные слезами в слое косметики на ее лице, напоминали, что всего лишь несколько минут назад она потеряла контроль над своими чувствами.
— Впрочем, кейс хранится у меня уже несколько лет, — решила уточнить баронесса. — Лев Александрович держал в нем какие-то бумаги и считал, что в моем доме хранить надежнее...
Ведь вы же понимаете, господин писатель, времена-то настали... лихие и смутные. Так вот... Лев Александрович имел обыкновение приходить сюда и работать с бумагами в моем кабинете. Вернее...
Опять решила она уточнить:
— Это был кабинет самого Льва Александровича...
И смущенно опустила глаза:
— Мы ведь дружили с ним много... очень много лет... Но к чему я теперь все это говорю?
Мы любили друг друга, и я хотела выйти за него замуж;. Ио Лев Александрович был очень гордый человек. Ему мешали мои деньги. И он мечтал написать книгу, которая прославит его и обогатит...
Она горько вздохнула:
— Он работал над книгой всю жизнь... И понял в конце концов — книги писать может не каждый. Но, наверное, понял слишком поздно, когда стало происходить что-то такое, о чем он не хотел рассказывать даже мне. В последние недели он очень нервничал, а вчера пришел и отнес свои бумаги в библиотеку... Там они были до сегодняшнего утра: он вернул их сюда с рассветом и принес вместе с ними конверт для вас. Если со мною что-нибудь вдруг случится, сказал он, передайте все это господину писателю, он знает, что ему нужно будет делать, я завещаю ему все это...
Теперь уже горько вздохнул я:
— Я однажды неудачно пошутил на эту тему...
— Ну что теперь вспоминать, — оборвала меня баронесса. — Езжайте, господин писатель, домой, а я сейчас займусь всем остальным. Телефон ваш у меня есть, когда будут похороны — я вас извещу. Езжайте... с Богом!
Я поклонился, и она широко, размашисто перекрестила меня.
— С Богом, — услышал я еще раз уже на пороге.
...Зеленый бронированный кейс лежал рядом со мною на сиденье, норовя соскользнуть на пол кабины при каждом резком повороте или торможении, и я то и дело придерживал его правой рукой, сбавляя при этом скорость, словом, ехал неровно, и машины, шедшие сзади одна за другой, обгоняли меня. Лишь один темно-синий «шевроле» терпеливо приноравливался к моей дерганой езде. В зеркальце заднего обзора я видел, что в этой машине, буквально висящей у меня на хвосте, сидят несколько человек в зеленой, полувоенной униформе.
Я прибавил скорость, и «шевроле» тоже прибавил ходу. Резко свернул в первый попавшийся переулок и через несколько секунд увидел все тот же «шевроле», въезжающий в переулок следом за мною. Я проделал еще пару таких же маневров, то сбрасывал скорость, то прибавлял, попытался даже, выскочив на Мазру, одну из самых перегруженных бейрутских улиц, оторваться на своем юрком «пежо» от преследователей и затеряться в потоке машин. Но все было напрасно, водитель «шевроле» был опытнее и знал бейрутские улицы куда лучше меня. И тогда мне в голову пришла спасительная мысль, благо впереди показался переулок, по которому можно было подъехать к нашему посольству. Я набрал скорость, у самого поворота резко затормозил, так, что следовавшая за мною какая-то машина чуть не врезалась мне в багажник, нажал клаксон и с оглушительным ревом бросил «пежо» в посольский переулок. Еще несколько секунд — и я резко остановился у проходной посольства, оказавшись в поле зрения ее телекамер. Бросив последний взгляд в зеркальце заднего обзора, я увидел, что «шевроле», сбрасывая скорость, подъезжает ко мне.
Тяжелый бронированный кейс показался мне пушинкой, когда, схватив его, я бросился к металлической двери проходной, зная, что вооруженные пограничники, охраняющие посольство, видят каждое мое движение. Щелчок открывающегося замка подтвердил это — спасительная дверь открылась мне навстречу. Сережа, прапорщик, начальник караула, мускулистый, широкоплечий богатырь, шагнул мне навстречу с автоматом на изготовку. Напряженный взгляд его был нацелен на подъехавший и остановившийся позади моей машины темно-синий «шевроле». Постояв мгновение, «шевроле» объехал мою машину и, поравнявшись с проходной, притормозил:
— До свиданья, товарищ! — крикнул мне по-русски водитель, высунув руку из открытого окна и приветливо помахав ею. И я увидел, что парни, сидящие в «шевроле», приветливо улыбаясь, тоже машут мне руками.
— Ну, — нахмурился прапорщик Сережа и кивнул в сторону «шевроле»: — Это с вами, что ли, товарищ Николаев?
— Выходит, что со мною, Сережа. Провожающие...
А водитель «шевроле», медленно отъезжающего от посольства, все продолжал приветливо махать мне рукою.
— Ну, и слава Богу, — подвел черту под случившимся Сережа и посторонился, пропуская меня с кейсом в проходную.
— Это... ваш? — спросил он меня на всякий случай, когда мы оказались внутри, в небольшой комнатке, предназначенной для посетителей и, когда я подтверждающе кивнул, профессионально пошутил:
— А не взорвется? Проверять, просвечивать не надо? Как он у вас открывается-то?
— А черт его знает! — легкомысленно вырвалось у меня.
— Как это — черт его знает? — сразу насторожился Сережа. — А ну-ка откройте... Может, где-нибудь вам туда сунули... сюрпризик, а вы и не заметили. Нет, так дело не пойдет, давайте откроем... для спокоя души... на всякий случай. Бомба есть бомба, с бомбами шутить не положено...
И, не дождавшись моего согласия, он взял у меня из рук зеленый атташе-кейс...
— Ого! Тяжесть-то какая! — оценил он его вес и принялся внимательно осматривать бляшки наборных замков.
— И шифр не знаете?
— Не знаю, — опять сознался я.
— Тогда дело плохо, — укоризненно вздохнул Сережа, — пропустить вас на территорию с ...этим не имею права.
— Так давайте я его домой увезу, — предложил я, протягивая руку, чтобы забрать у него кейс.
— Не имею права, — твердо повторил Сережа. Сейчас вот вызову ребят, они проверят, тогда уж и будем решать...
— И сколько же времени это займет? — нетерпеливо спросил я, забыв вдруг о гонке по Бейруту, о говорящем по-русски водителе «шевроле», преследовавшем меня до самой проходной посольства. Теперь мои мысли были только о том, что хранилось в бронированном чреве зеленого кейса, я не сомневался, что коллекция Никольского была именно там, и горел желанием добраться до нее как можно скорее.
— Сколько времени? — нахмурился Сережа, как бы прикидывая про себя, что можно мне ответить, И вдруг нашел дипломатичный ответ: — А это уж сколько по-требуется. Знаете ведь поговорку: сапер ошибается один раз в жизни... Так что — спешить не будем.
И, сняв трубку внутреннего телефона, приготовился звонить своему начальству.
— Езжайте пока домой, мы вам позвоним, если что...
Другого пока мне ничего делать и не оставалось.
Выйдя из проходной, почти вплотную к которой стояла моя машина, я осмотрелся: переулок был пуст, ни справа, ни слева не было ни машин, ни пешеходов. Садясь за руль, я вдруг ощутил что-то тяжелое и довольно громоздкое в правом кармане пиджака, сунул туда руку и вытащил... бельгийский браунинг Никольского, о котором среди событий сегодняшнего утра совсем забыл.
«И хорошо, что забыл, — подумалось мне, — а то бы еще сдуру предъявил его Сереже, подчиняясь соответствующему распоряжению по посольству, и пиши пропало: советскому гражданину за рубежом ходить вооруженным не положено, даже в такой ситуации, как в Бейруте...»
Сняв с предохранителя, я положил браунинг рядом с собою на сиденье, прикрыв бархоткой для протирки стекол.
Не знаю, стал ли бы я стрелять, если бы вдруг понадобилось, наверное, все-таки нет, но с оружием, лежащим наготове под правой рукой, было все-таки спокойнее.
Ехать от посольства до дома, где я жил, было минут пять-семь, и по дороге никаких ЧП не произошло: «на хвосте» у меня никто не висел.
Поставив машину на отведенное мне место во дворе, я переложил браунинг в карман пиджака и поднялся к себе.
В кабинете взгляд мой упал на телефон, и сразу защемило сердце. В последний раз я разговаривал по нему с Никольским вчера вечером, и вот... больше уже никогда я не услышу голос этого необычного и так быстро ставшего мне близким человека
Браунинг в правом кармане пиджака мешал мне устроиться в кресле так, как я привык, я вынул его и положил перед собою на стол и вдруг сообразил, что не поставил оружие на предохранитель. И опять вспомнился Никольский, лежащий на залитом кровью полу эмигрантской библиотеки. Тут же мозг мой обожгло, словно молнией. Письмо! Никольский же написал мне перед смертью письмо!
Плотный желтый конверт был заклеен липкой лентой, и, достав из ящика стола канцелярские ножницы, я аккуратно обрезал его но краю, затем извлек из конверта сложенный вчетверо лист плотной голубоватой бумаги, развернул его.
«Милостивый государь, — прочел я первую выведенную крупным каллиграфическим почерком строку. — Послание это Вы получите только в том случае, если в силу сложившихся обстоятельств меня уже не будет в живых. Я знаю, Вы относитесь ко мне с искренней добротой и не менее искренним интересом. Получилось так, что из всех моих друзей и знакомых, которых я к концу жизни, увы, порастерял, только Вы, как я чувствую сердцем, увлеклись делом, которому я посвятил себя, почитайте, с самых юных лет — историей Евно Азефа, провокатора и негодяя и в то же время характера страстей шекспировских, а если перенестись на почву российскую, душевных изломов сродни героям Достоевского — уверен, что Вы убедитесь в этом сами, если, как мне верится, попытаетесь опуститься на дно его черной души. У меня самого, милостивый государь, к несчастью, не хватило для этого ни таланта, ни времени.
Как я Вам, помнится, говаривал, во время оно, в Париже, я был дружен с генерал-лейтенантом Александром Васильевичем Герасимовым, который с 1906 года и до самого конца 1908-го, т. е. до полного разоблачения Азефа Владимиром Львовичем Бурцевым, был начальником, руководителем и, я бы даже сказал, единственным другом Азефа. Этот честный, прямодушный и наивный человек умер, так и не поверив, что его друг был исчадием ада, отправившим на смерть ради своих корыстных интересов десятки доверившихся ему героев-идеалистов, как не поверил он, что ради денег, и только ради денег Азеф расправился (чужими руками и ценой чужих жизней) с видными деятелями Российской империи (мир праху их, да упокоит их грешные души Господь Всепрощающий!).
Да, Александр Васильевич продолжал верить в Азефа, как в своего соратника в борьбе за безопасность славной Российской империи, к захвату власти в которой так рвались жидомассоны. И поверьте мне, господин писатель, генерал Герасимов по долгу службы и в силу своего положения, знал об этом достаточно много. Когда мы с ним познакомились, он писал воспоминания, но возраст уже давал себя знать, а вокруг было немало жадных до денег и до славы ловких писак: книги и статьи об Азефе пеклись как блины. И все, как считал Александр Васильевич, были ложью, чтивом, состряпанным на потребу падкой на гаденькое эмигрантской публики. Конечно, Александру Васильевичу была дорога и честь мундира, и он поставил себе задачу реабилитировать Азефа, доказав, что тот был всего лишь платным осведомителем, сотрудником Департамента полиции, каких имеют в достаточном количестве все полицейские службы мира. Конечно, профессия эта — не из почетных, но она существует столько же веков, сколько существует институт государства и защиты общественной безопасности...
Мы много говорили с Александром Васильевичем на эту тему. Не скрою — спорили, и каждый стоял на своем. То, что писалось и печаталось в те годы об Азефе, казалось мне убедительным. Тогда же, чтобы сделать свои позиции крепче, я начал собирать все, что касалось истории Азефа, — книги, статьи, документы, письма, свидетельства тех, кто его знал. Александр Васильевич, несмотря на свое несогласие с ходом моих мыслей, поощрял и даже способствовал собиранию мною того, что Вы теперь изволите называть коллекцией. Он хотел, чтобы я когда-нибудь написал об Азефе настоящую книгу, и был уверен, что изучение документов всерьез поможет мне докопаться до истины, какой бы она ни была.
Александр Васильевич умер во Франции, завещав мне все свои бумаги и поручив мне выполнить его мечту — написать правдивую книгу об Азефе. Я пытался это сделать... и не смог. Если бы я написал правду, я предал бы память моего уважаемого друга, а писать неправду у меня не поднималась рука. И все же я считаю, что такая книга должна быть в наше время написана, преподана в качестве морального (или аморального) урока Вашему, господин писатель, поколению, поколению ваших детей и внуков, они должны увидеть, что делают с душою алчность, корысть и жажда самоутверждения над чужими судьбами. И я понял, что вы такую книгу все-таки напишете.
А теперь прочь сантименты, и перейдем к Делу. Как Вы, конечно, поняли, есть силы, которым очень хотелось бы заполучить мою коллекцию. Не знаю, как они разыскали меня (впрочем, я никогда не скрывал ее существования, и в русской колонии в Бейруте кто только о ней не знал!). Но в последние месяцы ко мне несколько раз приходили типы нерусские, но хорошо говорящие по-русски. Сначала просили познакомиться с моей коллекцией в научных целях. Потом уговаривали продать. И, наконец, стали угрожать, чему Вы совсем недавно были свидетелем. И я понял — надо что-то делать, чтобы документы, принадлежащие нашей истории, нашему, русскому, народу, не оказались в чужих руках, в руках врагов нашей многострадальной России.
P. S. Мне очень жаль, что я невольно показал Вас тому, кто охотится за нашей с Вами коллекцией, не судите меня за это строго... Как смогу, дело постараюсь исправить.
Храни Вас Бог.
Лев Никольский.
Да, совершенно забыл. Шифр к замкам атташе-кейса — 861. Это год рождения Александра Васильевича Герасимова. Без первой единицы, разумеется».
Я просидел над разложенным на столе письмом с полчаса. Потом позвонил в посольство.
— Ну, как мой чемоданчик? — спросил я, услышав голос Сережи. — Пока не открывали? Так вот, сообщаю: шифр 861. И еду к вам. Встречайте с открытой крышкой...
Профессор был в дурном настроении. Оно не покидало его вот уже несколько дней — политические игры па правительственном и межпартийном уровне становились все острее, дело явно шло к перетасовке карт. Вслух, официально, об этом пока не было и речи, претенденты па новые посты и министерские портфели еще только анализировали варианты конфронтаций и компромиссов, прикидывали возможность создания новых союзов и коалиций и цены, которые за это придется платить. И одной из ставок в их играх была его, Профессора, голова. Нет, никто не собирался расправляться с ним, как никто никогда не расправлялся и с его предшественниками. Тихая отставка с хорошей пенсией и удаление от одного из важнейших рычагов государственного механизма — вот и все. И уж потом, несколько лет спустя, конкуренты партии, на которую он проработал столько лет, тихо организуют утечку информации, свидетельствующей, что при бывшем руководстве политической спецслужбой были допущены серьезнейшие просчеты и ошибки, нанесшие значительный урон государству, словом, начнется на виду у всего мира перетряхивание грязного белья, будто у какой-нибудь спецслужбы оно когда-либо было не замаранным.
Правда, к тому времени Профессор будет уже вне досягаемости политиков — заведовать кафедрой новейшей истории какого-нибудь солидного университета, может быть, даже и зарубежного, и писать мемуары, заранее обреченные на то, чтобы стать бестселлером. Важно только, чтобы все было подготовлено к уходу со сцены заранее, чтобы на «черный день» было припасено кое-что существенное, не деньги, конечно, в нищете и бедности люди его положения еще никогда не умирали.
Негромкое жужжание интеркома прервало его мысли.
— Мадам Фелиция, шрф, — доложила секретарша.
— Пусть войдет, — негромко ответил он, настраиваясь на неприятный разговор с представительницей бейрутского центра своей службы: о том, что там произошло, он знал еще два дня назад из шифротелеграммы, содержание которой, если бы стало известно его политическим противникам, ничего хорошего его карьере не сулило.
Однако Профессор по своей натуре был боец и так просто сдаваться не собирался.
Фелиция вошла почти робко, осторожно притворив за собою обитую звуконепроницаемой тканью дверь, и остановилась у порога: бурный, взрывчатый характер шефа был ей достаточно известен.
— Ну? — вперил он в нее взгляд, не предвещающий ничего хорошего. — Что скажете, мадам?
Фелиция опустила голову:
— Дэвид убит...
— Это я знаю вот уже как два дня! — рявкнул Профессор и, схватив лежащую перед ним на столе шифровку, потряс ею в воздухе. — Черт знает что! И это называется — профессионалы, сотрудники лучшей спецслужбы мира! — Он в ярости выскочил из-за стола и забегал на своих коротких ножках по кабинету: — Какой-то выживший из ума старикашка расстреливает в упор опытнейшего агента-боевика, словно новичка-мальчишку! Не могут без шума добыть никем не охраняемые старые бумажки!
Он внезапно остановился перед Фелицией и приподнялся на носки.
— Что? Нельзя было их выкрасть? Или купить? Старик не устоял бы перед приличной суммой... Так что же? Я жду ответа, мадам! — И сразу же, не меняя тона, приказал: — Садитесь. Или предпочитаете разговор стоя... в память вашего партнера... — Быстро вернувшись к себе за стол и подождав, пока Фелиция займет место в кресле напротив, продолжал уже спокойнее: — Ну а теперь, мадам, рассказывайте, что у вас там произошло.
Фелиция несколько секунд молчала, теребя концы грубой черной косынки, покрывавшей ее голову. Грубо-шерстный черный свитер с высоким, похожим на валик, воротником, бледное, без обычного макияжа лицо — все это свидетельствовало о том, что она была в трауре.
— Так я жду вашего рассказа, мадам, — жестким голосом подстегнул ее Профессор.
— Ничего такого не должно было произойти, — заговорила наконец, не поднимая глаз, Фелиция. — Мы до последней минуты были уверены, что старик согласится продать нам свои бумаги, что он лишь торгуется, как обычно делается на Востоке, и будет торговаться до последнего момента...
— Но вы сообщали, что вокруг него крутился этот... советский... Николаев. Разве нельзя было предположить, что старик может передать эти бумаги... ему?
— Просто так? Бесплатно? — искренне удивилась Фелиция. — Живя на подачки баронессы Миллер, отказаться от целого состояния, которое мы ему были готовы предложить...
— Не «мы», а я! — раздраженно вырвалось у Профессора. — И запомните раз и навсегда: за бумаги Никольского заплатил бы я, из собственного кармана, а не наше многострадальное государство! И они стали бы моей собственностью, моей, и больше ничьей. Если же вам когда-нибудь придется давать кому-нибудь объяснения в связи с проваленной вами операцией в Бейруте... Впрочем... — Он вдруг устало махнул рукой: — Я постараюсь, чтобы до этого дело не докатилось. Продолжайте!
— Как вы знаете, к операции я подключилась позже Дэвида, — как бы оправдываясь, продолжала Фелиция. — Когда я вернулась в Бейрут, он проделал уже всю подготовительную работу: установил связи Никольского, осмотрел его жилище, встречался и говорил с ним самим и пришел к выводу, что бумаги свои он хранит где-то в неизвестном нам месте, а не в библиотеке, которая служила ему жилищем. Дэвид был уверен, что Никольский в конце концов продаст их нам или... — Она сделала зловещую паузу: — ...Будет вынужден рассказать нам, где они хранятся!
— Ну да, вы же умеете развязывать языки, — иронически согласился с нею Профессор.
— Нас учили делать и черновую работу, — демонстративно, с вызовом не заметила его иронии Фелиция. — Мы назначили старику последнюю встречу, чтобы достичь в конце концов коммерческого соглашения, — продолжала она. — Никольский согласился встретиться с нами у себя в десять часов утра. Накануне вечером он куда-то ушел и вернулся домой с зеленым атташе-кейсом, видимо, достал из тайника и принес в библиотеку бумаги, которые решил нам продать.
— И это вас успокоило, — язвительно отметил Профессор, — и вы даже не удосужились узнать, куда он ходил за своими бумагами!
Фелиция виновато опустила голову:
— Нам казалось, что в этом нет необходимости. И к тому же... у нас не так уж много в Бейруте надежных людей, а те, что есть, перегружены работой.
— Сейчас вы еще попросите прибавить вам жалованье за переработку, — все в том же тоне подал реплику Профессор. — Но я вас слушаю. К случившемуся мы еще вернемся...
— Мы приехали в начале одиннадцатого и вошли в дом. Первым шел Дэви, за ним я. К двери Никольского подошли, стараясь, чтобы не было слышно наших шагов. Дверь была неплотно прикрыта, и это насторожило Дэви. Он достал оружие, я тоже. Потом Дэви постучал.
— Кто там? — спросил Никольский из-за двери по-русски.
— Это я, Лев Александрович, — ответила я тоже по-русски.
— Кто? — переспросил он.
— Это я, мадам Седова, — продолжала я говорить по-русски.
— Мадам Седова? — густые брови Профессора приподнялись в недоумении.
— В тамошней русской колонии есть такая дама, — пояснила Фелиция. — Она, правда, живет затворницей, выходит только в церковь да на русское кладбище, где похоронены ее родные, но Никольский хоть изредка, но встречался с нею и знал ее... Мы рассчитывали, что голос ее он помнит плохо, тем более, что еще и глуховат...
— А Дэвид боялся, что его голос Никольскому не понравится?
Фелиция кивнула.
— Н-да... — осуждающе протянул Профессор, — выходит, что отношения со стариком у вас были испорчены заранее...
Фелиция опять кивнула и продолжала:
— Мы услышали за дверью какое-то движение, потом из глубины квартиры голос Никольского: входите, дверь не заперта...
Дэвид тронул дверную ручку, действительно — не заперто, резко распахнул дверь, и... сразу же выстрелы! Дэвида отбросило, он закрыл меня своим телом, но у Никольского была еще возможность... расстрелять и меня.
— Но, увидев женщину, он растерялся и стрелять не стал, — подсказал, что было дальше, Профессор.
— И тогда выстрелила в него я, — теперь голос Фелиции был ровен и обыден, словно она рассказывала о чем-то совсем заурядном и привычном. — Он упал. Дэвид был мертв. Я опустила его на пол и вошла в первую комнату, потом бросилась в соседнюю — зеленого атташе-кейса нигде не было. Тогда я вытащила из квартиры тело Дэвида, устроила его на переднем сиденье нашей машины и уехала. На выезде из тупика, где находится библиотека, мы чуть было не столкнулись с Николаевым, он ехал к Никольскому...
Мне кажется, Николаев понял, что Дэви мертв, — помедлив, продолжала она.
— А вас он не узнал?
— Он никогда раньше меня не видел. Кроме того, в Бейруте я всегда ношу большие черные очки и покрываю голову черной шиитской косынкой.
— Так где же теперь бумаги Никольского, черт побери?! — вдруг взорвался Профессор, словно только и думал об этом на протяжении всего ее рассказа.
Фелиция опустила голову.
* * *
...Я встал было из-за стола, собираясь ехать в посольство, как зазвонил телефон. Звонок его почему-то показался мне тревожным. Конечно же, сказывалось нервное напряжение — результат пережитых мною в это утро событий!
Помедлив, я осторожно снял трубку и поднес ее к уху, не говоря привычное «алло». На другом конце провода слышалось чье-то дыхание. Несколько секунд мы оба молчали, потом на другом конце провода все-таки не выдержали.
— Алло. Алло! — услышал я знакомый голос. Это была баронесса.
— Слушаю, Мария Николаевна, — отозвался я.
— Мои люди, охранявшие вас, говорят, что вы доехали нормально. Вы уж не обессудьте, что я забыла вас предупредить... Сами понимаете мое состояние... — Я услышал вздох: — Так что извините... Ради Бога, извините меня, господин писатель, я бы на вашем месте просто умерла от ужаса, если бы за мною через весь город гнались бандиты, как мои люди...
...Пограничники в проходной посольства встретили меня как дорогого гостя.
Я уселся на диванчик, положил кейс себе на колени и быстро набрал — сначала на одном, а потом и на другом кругляшах шифрозамков цифру 861. Крышка тихонько щелкнула и открылась, взгляду моему предстали коричневатые, изрядно потертые канцелярские папки.
От волнения у меня потемнело в глазах, бросило в жар, задрожали руки. Если передо мною были документы, относящиеся к «делу Азефа», — это действительно было настоящим богатством.
Никогда еще в своей водительской жизни я не заглядывал так часто в зеркальце заднего обзора, выискивая в тесном уличном автопотоке подозрительные машины. Никогда еще я не вел машину так стремительно и дерзко, как в этот раз. Никогда еще путь от посольства до дома, в котором жил, я не проделывал так быстро.
Я не стал загонять машину в гараж и, бросив ее у единственного нашего подъезда, кинулся к лифту.
К счастью, он был свободен и стоял внизу, иначе я просто взбежал бы на шестой этаж вместе с кейсом.
Ворвавшись домой, я запер дверь изнутри — и на ключ, и на цепочку, и даже на небольшой, скорее декоративный, чем действительно имеющий какое-нибудь серьезное значение, засов. И только усевшись перед раскрытым на моем письменном столе кейсом, перевел дух Я был в квартире один, наружная дверь заперта, браунинг Никольского, снятый с предохранителя, лежал у меня под рукой, и в его обойме, я знал, были еще патроны.
Папки в кейсе оказались строго пронумерованы, и на обложке каждой проставлены даты: годы, а в некоторых случаях и месяцы. Тут же отмечалось — по старому или новому стилю.
Я выбрал из них папку, обозначенную 1902—1903 годами, и погрузился в ее содержимое.
Был июль 1902 года, когда Евно Фишелевич Азеф с разрешения Зубатова прибыл в столицу Российской империи. Петербург был душен и пуст. Всякий мало-мальски обеспеченный чиновник или интеллигент-разночинец превратился на летние месяцы в дачника и отправился вместе с семьей и прислугой (у кого она была) куда-нибудь в лесные, озерные края в дальних окрестностях столицы. Люди посолиднее, посостоятельнее выехали на взморье, дышать смесью морского и соснового воздуха, или в собственные имения на просторах обильной и гостеприимной матушки-Руси в старинных дубравах и необозримых золотисто-васильковых полях. Иные отбыли в калмыцкие степи — на кумыс, а иные отправились за границу — очищать организм лечебными водами Висбадена и других модных курортов.
Собственно, и Азефу не худо было бы подзаняться своим здоровьем. Все чаще в последнее время ему ударяла при волнении в лицо желтизна, по ночам мучили кошмары, и, просыпаясь в холодном поту, он в ужасе задавил себе один и тот же вопрос: а не бредил ли он, не сказал ли в бреду чего-нибудь такого, что... Эту фразу он боялся завершить даже в мыслях: ведь Люба была фанатичкой, в революцию верила свято, горячо бралась за любые партийные поручения и не скрывала, что гордится им, своим мужем, пользующимся в партии таким авторитетом и везущим на своих могучих плечах тяжелейший воз партийной работы.
Теперь, оставив Любу с детьми в Берлине, он чувствовал себя так, словно сбросил с плеч опостылевший и тяжелый груз.
Выйдя из вагона берлинского поезда, он привычно «обревизовал себя в отношении слежки» и, убедившись, что вокруг все чисто, подозвал носильщика — кроме двух чемоданов, набитых дорогой одеждой и обувью, с ним была объемистая бельевая корзина — транспорт нелегальной литературы: брошюры, листовки и прочая пропагандистская ерунда. Все это навязали ему «массовики», потребовавшие, чтобы, будучи в Петербурге (им было сказано, что Всеобщая Электрическая Компания вызывает его в свою петербургскую контору по какому-то срочному делу), он попытался поставить работу в массах, ибо никого из видных деятелей ПСР, кроме него, в Петербурге уже не было.
Остановиться он решил в «Англетере», гостинице с солидной репутацией — ее ему рекомендовал Зубатов, ставший к этому времени начальником Особого отдела Департамента полиции. Зубатов велел остановиться в гостинице и ждать до темноты, а затем явиться на Фонтанку, в Департамент полиции, к его новому директору Алексею Александровичу Лопухину.
По сведениям из Петербурга, полученным от «сочувствующих», Азефу было известно, что новый министр внутренних дел Вячеслав Константинович фон Плеве благоволит Лопухину, опирающемуся, в свою очередь, на поддержку Зубатова. И предприимчивый ум Азефа уже прикидывал наиболее выгодные варианты действий: самое главное было сейчас добиться разрешения от полицейского начальства войти в руководство Партии социалистов-революционеров, в ее Центральный комитет и, что еще важнее, в руководство ее БО — Боевой Организации, руководимой Гершуни.
До сих пор негласно существующими правилами полицейского сыска прямое, непосредственное участие в работе нелегальных организаций секретным сотрудникам строго запрещалось. Они должны были быть близки к таким организациям, но не более — ни в коем разе не заниматься антиправительственной незаконной деятельностью.
— Идиоты, — ворчал Азеф, развешивая в гардеробе гостиничного номера свои великолепные новенькие костюмы. — Ну прямо как провинциальные барышни, хотят и невинность соблюсти, и капитал приобрести. О законе думают, о морали. Что это такое вообще — закон? Вон их сколько понаписано, и не выполняются! Мораль? Кому что выгодно, то и морально. А возьми натуру необыкновенную, возвышенную над толпою и разумом, и энергичностью, и решительностью — кто смеет определять для выдающейся личности рамки законов и морали, писанные для среднего обывателя, серости, ничтожества?
«Конечно, Зубатов все это прекрасно понимает, — мысленно рассуждал Азеф, — Лопухин вроде бы тоже не консерватор, понять сможет. А вот Плеве?»
Он повесил последний костюм на плечики, осторожно снял с его рукава невесть откуда взявшуюся пушинку, и, отступив от раскрытой дверцы гардероба, полюбовался коллекцией своих костюмов, все были из дорогих тканей, все пошиты у лучших берлинских портных...
— Встречают-то по одежке, — не уставал он напоминать тем товарищам по партии, которые пытались было упрекать его в барстве. И наставительно поучал: — Хорошая одежда, дорогая гостиница, модный ресторан, лихач — это все для революционера первейшее дело, конспирации. А денег на конспирацию никогда и ни в коем случае жалеть нельзя. Сам не жалею и другим не советую. Это ведь деньги на святое дело, на Революцию!
Правда, соглашались с ним далеко не все, особенно «массовики», возражавшие, что революционеры должны жить так же, как живут миллионы крестьян и рабочих, во имя счастья которых и грядет революция. Но то были плебеи, «рванина», как называл их про себя Азеф, и пути у него с ними разные. Впрочем, он не скрывал, что, по его мнению, России нужна не революция, а обычная парламентская демократия, при которой каждый класс должен знать свое, отведенное ему историей место: и нечего пастуху лезть в министры! Страной должны управлять люди, достойные этого дела, а пастухи пусть пасут стада, крестьяне пашут землю, а рабочие, если их способностей хватает только на физический труд, пусть им и занимаются. В политическом плане ему больше других импонировали кадеты, хотя, следуя своему правилу «молчание — золото», он пока не спешил высказываться и по этому поводу: профессора и приват-доценты, банкиры и преуспевающие литераторы — вот кому нужна была конституционная демократия, чтобы по-настоящему развернуться! И себя он видел в будущем в их числе.
...— Инженер Раскин! — доложил встретивший его в приемной Лопухина молодой человек с тусклым, незапоминающимся лицом, и отступил, пропуская Азефа перед собою в кабинет директора Департамента полиции.
Кабинет был серый, казенный, ничего запоминающегося: просторный дубовый стол с мраморным письменным прибором, настольная лампа со стеклянным зеленым абажуром, тяжелые кожаные кресла и такой же диван напротив высокого окна, полуприкрытого пыльным бархатом вишневых штор. Над диваном — портрет государя императора во весь рост в полковничьем мундире.
Лопухин сидел за столом, и холеное, породистое лицо его в свете зеленой лампы казалось застывшим, безжизненным. Верхняя люстра, хрусталь с бронзой, не зажжена, в кабинете царил полумрак. Кроме Лопухина, здесь был и Зубатов. Оба в цивильном платье — темные чиновничьи сюртуки, белые сорочки со стоячими воротничками, повязанными одинаковыми черными галстуками.
Сергей Васильевич Зубатов, увидев вошедшего Азефа, оторвался от окна, возле которого стоял, опершись на подоконник, и поспешил навстречу своему протеже.
— Евгений Филиппович! Наконец-то, сколько лет, сколько зим! — распахнул Зубатов объятия, но обнимать подавшегося было к нему агента не стал и отступил, дабы не закрывать собою Азефа от Лопухина. — Ну вот и он, ваше превосходительство, инженер Раскин, — представил он Азефа директору Департамента полиции. — Как уже вам докладывал, Алексей Александрович, Евгений Филиппович — один из наших самых ценных и перспективных секретных сотрудников.
Лопухин холодно кивнул, и Азефу показалось, что на лице его мелькнуло выражение брезгливости. Но никаких эмоций это не вызывало, Азеф давно уже пришел к мысли, что торжествует тот, кто торжествует последним, а в своем торжестве он не сомневался: нет, теперь уже не он марионетка, пляшущая по мановению пальцев этих самоуверенных благородных господ, марионетки сами эти господа. Это они в его власти, во власти человека, вырвавшегося из-за черты оседлости, из нищеты и обскурантизма гетто.
«Молчи, скрывайся и таи и мысли, и мечты свои», — насмешливо подумал он, вдруг вспомнив интеллигентскую привычку Зубатова цитировать подходящие случаю поэтические строки.
— Прошу садиться, господин Раскин, — тихим аристократическим голосом произнес Лопухин и с какой-то особой, вырабатывавшейся веками элегантностью, качнул аристократически узкой кистью в сторону одного из стоящих перед его столом кресел. Азеф не заставил себя ждать.
Грузно, тяжело ступая на всю ступню, почти демонстративно топая, он уверенно прошел к креслу и плюхнулся в него, заметив, что заставил Лопухина еще раз брезгливо поморщиться. Обернувшись к устраивающемуся в соседнем кресле Зубатову, он с мстительной радостью отметил на лице начальника Петербургской охранки непривычное выражение — смесь растерянности и удивления.
— Так не будем же терять понапрасну время, господа, — заговорил он так, словно он, а не Лопухин был хозяином кабинета.
— Конечно же, Евгений Филиппович, — стараясь сгладить возникшую неловкость, поспешил подать голос Зубатов. — Как говорится, пора, пора, трубят рога! Вот мы и возьмем сейчас... быка за рога.
Он улыбался, словно ничего особенного не произошло, будто его секретный сотрудник не позволил себе сейчас ничего непристойного в присутствии самого директора Департамента полиции.
— Да, да, вы совершенно правы, не будем терять времени. Если позволите, ваше превосходительство...
Зубатов почтительно поклонился Лопухину, и тот в ответ повернул в его сторону непроницаемое лицо:
— Слушаю вас, Сергей Васильевич...
Это было сказано таким холодным тоном, что сердце Азефа дрогнуло: рано, рано начал он показывать клыки, нельзя спешить, нельзя торопиться, он должен играть только наверняка...
— У нас тут, Евгений Филиппович, да будет вам это известно, — заговорил Зубатов, обращаясь к Азефу, — в нашем, так сказать, полицейском мире, жизнь тоже не стоит на месте... Особенно после вступления в должность Алексея Александровича и его высокопревосходительства Вячеслава Константиновича фон Плеве. Не скрою, работать нам сейчас стало интереснее, а следовательно, и легче. Мы постепенно избавляемся от консерватизма, от старых догм, на ходу перестраиваемся, не так ли, Алексей Александрович?
Лопухин, опять не удержавшись от гримаски брезгливости, сухо кивнул.
«Э-э, — подумалось о нем Азефу, — да этот барин, этот аристократ — просто чистоплюй! А дело, на которое его поставили по протекции Плеве, ему омерзительно и глубоко противно...»
На душе у него полегчало: нет, Лопухин и не думал унижать его, Азефа, своими брезгливыми гримасами и полуулыбками — это был просто его обычный стиль, его манера держаться — уверение самого себя, что, копаясь в грязи, он в ней не пачкается, не пятнает свое древнее происхождение.
«Самовлюбленный дурак, павлин, — припечатал Лопухина про себя Азеф беспощадной характеристикой. — Ну, ничего, когда-нибудь мы с тобой еще посчитаемся».
— Не буду повторять некоторые догмы нашего охранного дела, — продолжал Зубатов, — напоминать о некоторых моральных анахронизмах, доставшихся нам со времен незабвенной памяти графа Дубельта. Новые времена требуют новых песен. И вот... — Он торжествующе посмотрел на Азефа: — Его высокопревосходительство Вячеслав Константинович одобрил наши с Алексеем Александровичем предложения — делать отныне ставку на усиленное развитие секретной агентуры, развязать наконец руки нашим самым надежным и проверенным сотрудникам...
Последние слова Зубатов подчеркнуто адресовывал не кому-нибудь вообще, а лично ему, Евно Фишелевичу Азефу. Азеф взглянул на Лопухина, взгляды их встретились, и в глазах Лопухина он увидел теперь не брезгливость, а... любопытство.
— Его высокопревосходительство господин министр внутренних дел поддержал наше предложение, чтобы вы, Евгений Филиппович, постарались войти в самую верхушку Партии социалистов-революционеров, подойти к самому центру ее Боевой Организации. Это не только пожелание министра и Департамента полиции, Евгений Филиппович, это прямой приказ, — торжественно отчеканил последнюю фразу Зубатов и тут же, по-деловому, поспешил добавить: — При этом предусматривается, разумеется, и соответствующее финансовое вознаграждение...
...Я вчитывался в записи Никольского, в документы, аккуратно подложенные к ним в качестве доказательств излагаемых им фактов, и строки, прочитанные мною, оживали у меня перед глазами, слагались в сцены. Герои тех лет вели передо мною диалоги, произносили монологи, мыслили, действовали. События почти вековой давности оживали и разыгрывались в моем воображении, погружая меня в тот далекий, навсегда ушедший в прошлое мир.
...Теперь, когда прямой поддержкой самого всесильного Вячеслава Константиновича фон Плеве Азефу были развязаны руки, Гершуни, стоящий во главе созданной им Боевой Организации эсеров мешал все больше и больше. Да, создателем ВО был именно Гершуни. Где бы он ни бывал в России, какими бы партийными делами (организационными, агитационно-пропагандистскими) он ни занимался, везде и всегда он подбирал энтузиастов-добровольцев, готовых участвовать в терроре и ценой собственных жизней создавать в стране революционную ситуацию. Гершуни умел зажигать людей, умел подчинять их своему влиянию. И в то же время этот «художник в деле террора» умел с помощью проникновенных и задушевных бесед тщательно проверять каждого добровольца — а выдержит ли, будет ли безоговорочно подчиняться приказам, не дрогнет ли в решающий момент, как поведет себя на следствии и суде, если останется жив после теракта, и пойдет ли бестрепетно на виселицу или на каторгу, если выпадет ему этот жребий?
После таких бесед и тщательного сбора информации о добровольце Гершуни принимал решения.
«Первый состав БО, в сущности говоря, случайного характера, — заявлял несколько лет спустя Борис Викторович Савинков судебно-следственной комиссии ЦК ПСР. — Съехались из разных концов России одиночки, которые в одиночестве, у себя в ссылках решали для себя личный, индивидуальный вопрос о терроре. Приехал Покотилов с Юга, приехал Швейцер из Сибири, приехал Сазонов с Урала, приехал я с Вологды. Нас собралось несколько человек, и, мне кажется, сколько я знаю, кроме нас, даже не было желающих в то время»...
Так считал вступивший в БО с первых же дней ее существования Савинков, которому опытнейший конспиратор Гершуни, конечно же, не раскрывал свои планы и не сообщал о своих действиях. Хотя в дальнейшей морально-психологической оценке своих сотоварищей Савинков, видимо, более близок к реальности:
«Естественно, что состав получился случайный. Я бы сказал, что к этому периоду, к периоду дела Плеве, до окончания его (Плеве был убит в июне 1904 года Егором Сазоновым, бросившим 12-фунтовую бомбу в карету министра близ Варшавского вокзала), в сущности, нельзя говорить о менталитэ нашей организации: это все были очень молодые люди, которые недостаточно разбирались во многих партийных вопросах».
Азефа все это не интересовало — надо было поскорее убирать со своего пути Гершуни. Расчет был прост до примитивизма. Кроме Гершуни, ближе других к руководству Боевой Организацией стояли тяжело больной Михаил Гоц и сам Азеф, которому Гершуни доверял как никому больше. Случись что с Гершуни, и на его место во главе БО, кроме Азефа, заступить было бы просто некому.
...Отдавал он Гершуни не сразу, постепенно, стараясь при этом не продешевить.
Еще до приезда в Петербург на встречу с Лопухиным и Зубатовым из-за границы он стал потихонечку освещать причастность Гершуни к БО, ссылаясь на информацию, якобы получаемую от Михаила Гоца. Правда, старался при этом держать свое полицейское начальство в уверенности, что Гершуни в БО фигура все же второстепенная, а наиболее опасные террористы — все те же Крафт и Мельников.
В результате почти ежедневных поездок в Финляндию, в Гельсингфорс, ему удалось убедить Гершуни и его соратников по БО съехаться в Киев для обсуждения и координации будущих террористических акций. Крафт, Мельников и Азеф прибыли в условленное время, Гершуни — с задержкой на неделю. Одной из важнейших обсуждавшихся акций было покушение на министра внутренних дел Плеве. Гершуни привлек к его подготовке и осуществлению двух кавалерийских офицеров — Григорьева и Надарова. Один из них, а именно Григорьев, был задействован вместе со своей невестой Юрковской еще в дни покушения па Сипягипа: во время похорон Сипягина Григорьев должен был застрелить Победоносцева, а Юрковская, воспользовавшись возникшей суматохой, стрелять в Клейгельса, петербургского генерал-губернатора.
Покушение на Плеве Гершуни планировал совершить куда более театрально. 21 февраля 1903 года во время назначенного на этот день военного парада с присутствием царя, Григорьев и Надаров должны были атаковать карету Плеве, одному поручалось убить лошадей, другому застрелить министра. О покушении на самого царя речи пока не шло, по крайней мере об этом в донесении Азефа в Департамент не говорилось. Но Лопухин и Зубатов встревожились не на шутку, помня, в какую ярость пришли двор и правительство после так эффектно поставленного Гершуни расстрела Степаном Балмашевым Сипягина.
Лучшие филеры, которых Азеф привез с собою в Киев и которым показал террористов, участвовавших в октябрьском совещании БО, сразу же взяли след злоумышленников, установив за ними самое тщательное наблюдение. Однако Зубатов был верен своей тактике — с арестами не спешить, подождать, пока они «назреют», тем более, что единственный в Петербурге представитель «общепартийного центра» социалистов-революционеров инженер Раскин был под рукою и держал каждого из «освещаемых», как говорится, на «коротком поводке». Лишь через некоторое время после киевского совещания были арестованы Крафт и Мельников, а Григорьев и Надаров были взяты под арест в самый канун намеченного парада. Через Григорьева вышли на Юрковскую... Зубатов применил при допросах излюбленный им прием — на фактах убедил, что охранке известно об их деятельности и о деятельности их товарищей абсолютно все. Первой сломалась Юрковская, за ней — Григорьев... Показания они давали полные, исчерпывающие. Не умолчали и о Гершуни и его истинной роли в БО.
«Дело» наблюдал лично Плеве...
...Азеф из очередной поездки по России, а он в последнее время довольно часто выезжал по партийным делам в Москву, Харьков, Саратов, был срочно вызван к Лопухину, в кабинете которого и на этот раз его ожидал Зубатов.
Уже входя в кабинет директора Департамента полиции, Азеф каким-то особым, выработавшимся у него в недавние годы чувством понял, что разговор предстоит тяжелый. И сразу же внутренне собрался, ощетинился, готовясь перейти в наступление.
И опять был мрачный, полутемный кабинет директора Департамента. И опять холеное, породистое лицо Лопухина в мертвенном свете настольной лампы казалось зеленым. И опять Зубатов стоял у окна, разглядывая что-то из-за пыльной шторы на темной петербургской улице. Но на этот раз объятий навстречу Азефу он не распахивал и не устремлялся к нему навстречу.
— Вы опять опаздываете, господин Раскин! (Не дружеское, почти ласковое «Евгений Филиппович», как обычно, а сухое, казенное — «господин Раскин».)
— Насколько я помню, господин Зубатов, вы однажды учили меня этому, как одному из правил конспирации, — не остался в долгу Азеф. — А теперь осмеливаетесь мне выговаривать...
Он стоял почти у самого порога, лишь перешагнув его и прикрыв за собою тяжелую, обитую войлоком и кожей звуконепроницаемую дверь. Судя по встрече, садиться сегодня в кресло ему никто предлагать не собирался.
Ну ничего, господа хорошие, сейчас вы у меня получите за все сразу, давая волю давно поднимающейся в нем ярости, решил он про себя, не дожидаясь приглашения и демонстративно топая, подошел к креслу, стоящему напротив стола директора Департамента и развязно плюхнулся в пего так, что под тяжестью его громоздкой фигуры, жалобно застонали пружины.
При этом он бросил вызывающий взгляд на побледневшего от такой наглости Зубатова, затем точно такой же взгляд на хранящего невозмутимое спокойствие Лопухина.
Несколько секунд прошло в гробовом молчании. Первым, так и не отходя от окна, скрестив руки на груди, заговорил овладевший собою Зубатов:
— Мы взяли Крафта, — как ни в чем не бывало сообщил он.
— Знаю, — отрезал Азеф, чувствуя, что все в нем напрягается к предстоящей схватке.
— Мы взяли Мельникова, — продолжал подчеркнуто монотонно Зубатов.
— Знаю, — еще раз отрезал Азеф, тут же переходя в контратаку. — И еще вы взяли множество людей, с которыми я встречался в поездках по России. Вы взяли фельдшерицу Ремянникову, на квартире которой я часто бывал, и тех, с кем я с ее помощью поддерживал контакты. Вы делаете все, чтобы провалить меня, господа. Лишь Гершуни удалось ускользнуть от вас и в этот раз — и то из-за ваших неумех-филеров. — Голос его набирал силу, становился все резче: — Мы же договорились, что без моего согласия вы не будете производить аресты, а вы, я вижу, задались целью погубить меня и делаете для этого все, что только можно. Нет, господа! Так дальше дело не пойдет, так мы с вами не договаривались. Брошу все к чертям собачьим, уеду в Австралию, в Южную Америку, а вы катитесь к... матери!
И вдогонку этой фразе загнул такое рыночно-ростовское, что аристократ Лопухин брезгливо скривился, а интеллигент Зубатов от удивления невольно открыл рот.
— Ну вот, вы уже и обиделись, господин Раскин, — после короткой паузы заговорил Зубатов уже гораздо мягче, — нервишки расшалились, понимаю, трудно. А тут еще этот дурачок Крестьянинов с его разоблачениями вылез...
— С Крестьяниновым я разберусь сам, — продолжал грубить Азеф. — А вы лучше разберитесь с вашим идиотом Павловым. Тоже... раскаявшийся грешник: надоело, видите ли, ему быть собакой-провокатором, к «честной жизни», мол, вернуться хочет... А все потому, что старший филер его обидел, пятерку за службу недодал!
Он теперь уже не рычал, как вначале, а скорее ворчал, и ворчание его постепенно переходило в брюзжание, как бы открывая путь к перемирию.
Первым ступил на этот путь Лопухин.
— Мы арестовали группу террористов, ставивших покушение на его высокопревосходительство фон Плеве, — как о чем-то будничном, рутинном сообщил он вдруг, и опять, как при первой встрече, Азеф увидел в его глазах откровенный интерес.
— Григорьев и его невеста госпожа Юрковская рассказывают очень интересные вещи, о которых мы до сих пор не знали, — как бы продолжил мысль Лопухина Зубатов, отходя наконец от окна и располагаясь в свободном, рядом с Азефом, кресле.
— Больше того, что сообщал в Департамент о них я, им рассказать нечего, — изобразил Азеф изумление. — И дату теракта, и как он будет ставиться. Вот их, я понимаю, не брать вы уже не могли. Это, правда, нужно было сделать еще раньше, так, чтобы и в этом случае на меня не пало ни малейшей тени...
— Вы опять об этом, — досадливо поморщился Зубатов. — Признаю, мы частенько совершаем ошибки — то поспешим, то опоздаем, то не того возьмем, то ну-ного... как, к примеру, Гершуни, — упустим...
— Кстати, Евгений Фишелевич...
От удивления густые брови Азефа изогнулись крутыми дугами: аристократ Лопухин впервые назвал его по имени-отчеству, пусть даже не по-настоящему, а назвал!
А Лопухин, умело пользуясь замешательством собеседника, продолжал уже с нажимом:
— Из показаний арестованных, я имею в виду Григорьева и госпожу Юрковскую, нам стала понятнее роль Григория Андреевича Гершуни, так сказать, командующего Боевой Организацией Партии социалистов-революционеров, генерала БО, которого вы, Евгений Фишелевич, если верить поступившим от вас сведениям, принимали за второстепенное лицо... Ошибочно!
Последнее слово было произнесено жестко и в то же время так, что за него можно было при желании ухватиться как за спасательный круг.
«А топить все-таки не хотят, сволочи», — понял Азеф.
— Вы же знаете, господа, какой Григорий Андреевич опытный конспиратор и какой он бывает... неожиданный! Эти взлеты фантазии, бесконечные импровизации, принимаемые в самый последний момент, неожиданные решения... И если уж, как вы признаете, ошибки допускает даже такая опытная организация, как наш Департамент, то уж мне, одиночке, окруженному врагами, находящемуся постоянно под угрозой смерти, ошибиться-то и не самый страшный грех...
Лопухин и Зубатов многозначительно переглянулись, словно Азеф подтвердил какую-то их общую, невысказанную и неизвестную ему мысль.
— Так вот, Евгений Фишелевич, хочу в связи с этим вас и позабавить, — продолжал снисходить до разговора с проштрафившимся секретным сотрудником директор Департамента. — Его высокопревосходительство Вячеслав Константинович заявил нам с господином Зубатовым, что будет держать у себя на столе фотографию убийцы Сипягина Гершуни до тех пор, пока этот господин не будет наконец арестован.
— И еще к вашему сведению, Евгений Филиппович, — дружелюбно продолжил Зубатов, — получено распоряжение разослать приметы господина Гершуни по всем розыскным учреждениям империи и к этому обещание — за арест преступника пятнадцать тысяч рублей премия!
На лице Азефа появилась издевательская улыбка.
— Ну вот, господа хорошие, доигрались! — не стал скрывать он злорадства. — Дважды выводил я вас уже на Гершуни, и каждый раз вы его упускали, хотя могли получить совершенно бесплатно, так сказать, по долгу службы...
— Бесплатно? — иронически оборвал его Зубатов и, слегка наклонившись в сторону Азефа, заговорил актерски наигранным шепотом:
— А не с вами ли мы, дорогой Евгений Фишелевич, не так давно не сошлись в цене относительно Григория Андреевича? Вы, помнится, заломили за его выдачу пятьдесят, напоминаю, пятьдесят, а не пятнадцать тысяч рублей! Или не изволите припомнить?
Но теперь уже взять Азефа было не так-то просто.
— Эх, господа, господа! Речь идет о столпах империи, может быть, даже о самой особе государя императора, а вы торгуетесь, как местечковые евреи на ростовском базаре! Да будет вам, Гершуни, будет! — быстро перешел он от снисходительного тона к надрывно-клятвенному, заметив, как нахмурились в ответ на его слова Лопухин и Зубатов...
Расстались в конце концов по-хорошему. Зубатов еще раз попенял Азефу на некоторые его «странные умолчания» в сообщениях в Департамент, Азеф, в свою очередь, опять упрекнул Департамент в том, что охранники играют его жизнью и совершенно его не берегут. Но кое-что обговорили и по-деловому, без эмоций. Правда, расставаясь со своим полицейским начальством, Азеф уносил ощущение, будто что-то в их отношениях изменилось, появился ледок, что ли...
Зубатов же в те дни, а именно 1 марта 1903 года, писал Ратаеву, которому суждено было очень скоро стать начальником Азефа в заграничной агентуре:
«...он был нам полезен, но меньше, чем могли ожидать, вследствие своей конспирации, — к тому же наделал много глупостей, — связался с мелочью, связи эти скрывал от нас, теперь эту мелочь берут, а та, того гляди, его провалит. Он теперь все время около провалов, ходит по дознаниям, и не будь прокуратуры, с которой мы спелись, скандал давно произошел бы».
Но Сергей Васильевич, собираясь отправить за границу поставленного под сомнение секретного сотрудника и передав его известному бонвивану Ратаеву, сообщал об Азефе далеко не все.
Разве мог он рассказать, например, как бесцеремонно инженер Раскин заткнул ему рот в кабинете Лопухина всего лишь несколькими фразами о каких-то совершенно вроде бы незначительных особах — Крестьянинове и Павлове?
Студент Николай Крестьянинов, идеалист, решивший посвятить жизнь борьбе против самодержавия, с Азефом встретился в конце 1902-го или в начале 1903 года, когда тот в единственном числе представлял весь Петербургский комитет социалистов-революционеров. Кроме него, в комитете никого не было, а вести партийную работу в Петербурге заграничный «общепартийный центр» требовал.
И Азефу, и Департаменту полиции волей-неволей такую работу пришлось ставить, благо, что у Зубатова уже был накоплен опыт организации разного рода «подпольных» кружков и групп, отправки и получения транспортов нелегальной литературы и т. п.
Как бы там ни было, но судьбы Азефа и Крестьянинова в определенный момент соприкоснулись: перед Иваном Николаевичем оказался бледный молодой человек с пылающим взглядом, порывистый, весь куда-то устремленный. И с первых же минут встречи он страстно заговорил о своей готовности принести жизнь на алтарь Свободы, о решимости пожертвовать собою во имя Революции.
Азеф слушал его молча, не сводя тяжелого взгляда своих темных, гипнотизирующих глаз с лица идеалиста-романтика. То, что перед ним был не провокатор, он не сомневался — Зубатов такого наивного юнца ему бы для проверки не подсунул, да и зачем Зубатову было теперь проверять инженера Раскина на таких мелочах?
Оставалось только правильно использовать порывы молодого человека и его романтические устремления.
«Но только не в терроре, — размышлял про себя Азеф. — Для этого он еще не созрел. Слишком интеллигентен, изящен... Бледное, благородное лицо... И все же в будущем может пригодиться».
— Революция — это тяжелая и неблагодарная работа, — заговорил он голосом мэтра-учителя. — И право войти в ряды героев-революционеров надо заслужить, пройдя не одно испытание, господин Крестьянинов... Так ведь вы назвались? Настоящее ваше имя я пока не спрашиваю...
— Но у меня одно, Иван Николаевич, настоящее, — пролепетал Крестьянинов, не сводя восторженного взгляда с первого увиденного в своей жизни настоящего профессионального революционера и пытаясь разобраться в охвативших его противоречивых чувствах. Эта встреча, как потом вспоминал он, запомнилась ему навсегда.
— Так вот, Николай, — уже другим, без всякой высокомерной снисходительности голосом заговорил вдруг Иван Николаевич, и лицо его осветилось дружеской улыбкой. — Для начала попробуем вас в работе с массами... С них, именно с них надо начинать всю работу, готовить из них взрывчатую смесь, а там — искра, хорошо поставленный теракт — и взрыв!
Крестьянинов, готовый заранее на все, что ему прикажет сейчас этот необычный, хладнокровный и сильный человек, согласно кивнул.
— Итак, Коля, — совсем уже по-товарищески продолжал Иван Николаевич, — сейчас я вам дам один адресок, вы его запомните, а послезавтра по нему и отправитесь. Познакомитесь с кружковцами — они все рабочие, поймете, чем дышат, а потом уже, со следующего раза и приступите к занятиям...
...Расходились с собрания кружка поздно — кружковцам Крестьянинов понравился своей искренностью, пылкостью, он весь горел, подобно бенгальскому огню, и искры этого огня были способны, казалось, осветить самые темные, самые мрачные души. И кружковцам казалось, что к ним явился не студент-пропагандист, каких они уже перевидали немало, а светлый, святой проповедник, помогающий очищаться от всего скверного, что окружало их ежедневно в беспросветной тоске фабричной жизни.
Нового пропагандиста провожали всей группой, выводя из трущобных переулков петербургской окраины. При этом постепенно рассеивались, пропадая поодиночке во мраке подворотен и проходных дворов.
— Осторожно, не оступитесь... здесь выбоина, а теперь — левее, по краю лужи, тут воды по колено, — заботливо предупредил Николая Павлов, один из кружковцев, решивший проводить нового пропагандиста дальше всех.
— И то, — заговорил он, когда они наконец остались наедине. — Одного только неверного шага хватит, чтобы оступиться и поломать всю жизнь.
В голосе его была тоскливая задумчивость, и Крестьянинову показалось, что Павлова мучает что-то очень сокровенное, тяжестью лежащее у него на сердце. Он замедлил шаги в ожидании разговора по душам, которого, судя по всему, искал его новый знакомый.
«За этим ведь я сегодня и пришел, — с удовлетворением подумал Николай. — Иван Николаевич мне это и поручал... «Познакомьтесь с кружковцами, поймете, чем дышат...»
Честно говоря, там, на собрании кружка, ему удалось с людьми только познакомиться, а вот понять — чем дышат... И он уже переживал свое фиаско, все больше убеждая себя, что пропагандиста из него не получится, ведь общего языка с рабочими ему найти сегодня, несомненно, не удалось. И вдруг... открывается возможность поговорить хотя бы с этим странным Павловым, ни слова не произнесшим за весь минувший вечер, хмуро сидевшим в углу, лишь изредка бросая оттуда на пропагандиста быстрые взгляды.
Шли по мощенной неровным булыжником, без тротуаров, скользкой после недавнего дождя окраинной улочке, еле освещенной тусклым светом редких фонарей. Ноги то и дело скользили. И вдруг Крестьянинов взмахнул руками, пытаясь, поскользнувшись, удержать равновесие и не упасть. И сейчас же почувствовал, как его поддержала твердая рука Павлова.
— Спасибо, товарищ, — поблагодарил его Николай. — Если бы не вы, шлепнуться бы мне сейчас прямо в грязь носом...
— Ничего, господин Крестьянинов, — откликнулся Павлов. — От этой грязи еще отмыться можно, а вот...
Он не договорил, словно хотел что-то сказать и передумал. Но Николая задело его обращение.
— Господин... Почему — господин, товарищ Павлов? — с недоумением обернулся он ко все еще поддерживающему его рабочему и увидел, как тот поспешно отвернулся.
— А потому, что и вы мне не товарищ, и я вам... — глухо, продолжая прятать лицо, заговорил Павлов и вдруг тихо, почти шепотом добавил: — Провокатор я, господин Крестьянинов, в полиции служу, вот кто я, а не товарищ!
Николай резко сбросил его руку со своего локтя:
— Да как же... как же это так — провокатор?
— И весь кружок наш из таких, как я! — раздирающим душу шепотом продолжал торопливо, словно боясь, что не хватит сил договорить, Павлов. — А что? Рубли-то на дороге не валяются, их вона как фабричному-то зарабатывать приходится. А тут — посидишь вечерок в компании — пиво, бублики-баранки, самоварчик, умного человека послушаешь, брошюрки там, листовочки получишь... Сдашь их назавтра старшему сыщику — вот тебе и целковый. Так раз за разом, один к одному — и вашему благородию душевное облегчение — вроде бы как при деле, и нашему брату приработок... Всем и хорошо!
— И вы... вы... — отшатнулся от него потрясенный Николай, — смеете мне еще все это рассказывать... Так спокойно и... бесстыдно!
— Э, нет, господин Крестьянинов, — не изменил тона Павлов. — Другому бы не рассказал. А вам вот... решился. Человек вы такой оказались... Ну, чистый, что ли, верующий во все то, чему служите, вроде апостолов Христовых. С открытым сердцем, с душой своей чистой к нам, темным и подлым, идете, а мы к вам, как Иуды искариотские... Да вы не останавливайтесь, топать нам еще с версту, не меньше, пока из наших краев выберемся. И на меня так не смотрите, как на христопродавца, что ли...
— Да вы сами же себя с Иудой сравнить изволили, — пролепетал Николай, потрясенный признанием Павлова, и вдруг взорвался: — Ну, а мне вы зачем все это рассказываете? Почему?
— А потому, что надоела мне эта жизнь собачья, паскудство все эго, — зло сплюнул на мостовую Павлов. — Жалко мне вас стало, ни за грош ведь загубят жизнь вашу молодую. Сколько уж таких вот, как вы, мотыльками на наш огонек прилетало... Попорхает и пырх! Крылышки-то и вспыхнули. А Сергей Васильевич Зубатов уже другой огонек зажигает — для другого печальника народного. Да что наш кружок...
Он придержал Николая за локоть и остановился, оглядываясь по сторонам. Улица была пуста. Лишь желтые блики фонарей, покачиваемых слабым ветром, скользили туда-сюда по мокрым булыжникам.
— Рыба-то с головы гниет, господин Крестьянинов, — почти прильнул к лицу Николая Павлов и продолжал быстрым шепотом: — Охранникам о вашей партии все, брат, известно, есть у вас кто-то из главных. Ваши думают, что все шито-крыто, а в охране смеются... Вот, например, сегодня слышал я, что склад электрических принадлежностей у вас есть — «Энергия»... и храните вы там оружие, литературу. Охранное его не арестует, потому что там сидит уже кто-то из агентов, значит, ваше оружие и литература никуда не убегут...
После откровений Павлова Крестьянинов в каждом из своих революционно настроенных товарищей видел теперь полицейского провокатора, а когда узнал, что склад «Энергия» действительно существует и превращен Азефом в опорный пункт революционеров-социалистов, стал добиваться партийного расследования. Для этого была создана специальная комиссия из сотрудников близкой к партии редакции «Русского богатства» и некоторых членов ПСР.
Сбивчивым и путаным обвинениям находившегося в нервном расстройстве Крестьянинова Азеф противопоставил «немногословные, но совершенно отчетливые» объяснения.
А когда «заграничный партийный центр» прислал судьям заявление, что Азеф стоит «вне всяких подозрений», Евно Фишелевич перешел в наступление.
— Этому молодому человеку еще простительно ошибаться, но вам, вам, пожилым людям... — срамил он прекраснодушных, взявшихся не за свое дело именитых в те времена народнических литераторов...
Все это имел в виду и Зубатов, принимая решение о переводе Азефа в парижскую заграничную агентуру — в распоряжение Ратаева. Подмоченную было в Петербурге репутацию Азефа следовало подсушить за границей. Да и самому Азефу порядком поднадоел скучный, по сравнению с блестящим Парижем, Петербург. Ничего не привязывало его к России, Родиной своей он ее не считал — Родина для него была там, где ему было лучше, — Берн, Берлин, Париж, Швейцария, Германия, Франция... Правда, Департамент платил ему теперь несколько сот рублей ежемесячно, да еще на служебные расходы, наградные и премиальные... Но через кассу БО, как хорошо знал Азеф, проходили куда более значительные суммы — тысячи, тысячи и тысячи. И знать, что эти деньги уплывают куда-то мимо него, становилось все нестерпимее. Надо было ехать и брать кассу БО в свои руки. Но... «Но» действительно было, и немалое — Гершуни!
Зубатов после реприманда, сделанного им Азефу о «сомнительности системы умалчивания», дал ему понять, что пока Гершуни не будет арестован, Парижа инженеру Раскину не видать! Но Азеф обиделся несильно: арест Гершуни нужен был теперь им обоим.
И охота началась всерьез, несмотря на то, что о цене так и не договорились. Впрочем — всерьез вел охоту пока что один Зубатов. Инженер Раскин, имевший возможность практически в любой момент отдать Гершуни, делать этого не спешил, надеясь все же не продешевить.
О встрече с ничего не подозревающим «художником в терроре» Иван Николаевич договорился на конец марта в Москве, на квартире инженера Зауэра, помощника директора московской электростанции Всеобщей Компании Электричества, сослуживца Азефа и его знакомого еще по Дармштадту.
Три дня не покидали домашнего кабинета Зауэра Азеф и Гершуни. Очевидно, именно здесь Иван Николаевич получил от «генерала БО» ключи ко всем его делам — и в партии, и в терроре. Именно в эти дни, судя по всему, был решен вопрос и о последнем теракте, поставленном в своей жизни Гершуни: об убийстве уфимского губернатора Богдановича, отдавшего приказ о расстреле бастовавших в Златоусте забастовщиков.
А 19 мая 1903 года в полдень Богданович был убит во время прогулки в соборном саду. Акт был поставлен в духе Гершуни, — театрально. К ничего не подозревающему губернатору среди бела дня подошли два молодых человека, вручили ему приговор Боевой Организации, хладнокровно расстреляли из браунингов и, перепрыгнув через забор, скрылись. Разыскать их не удалось.
Написав по этому случаю прокламацию и отправив ее за границу, Гершуни беспрепятственно покинул Уфу, собираясь провести конспиративные встречи в Саратове и в Киеве, а затем покинуть Россию для разработки и подготовки новых акций БО. Главной целью на этот раз Гершуни считал самого Плеве.
...Трудно сказать, беспокоили ли Григория Андреевича предчувствия, когда вечером 26 мая 1903 года он подъезжал к пригородной, под Киевом, станции. Скорее всего нет. Он уже привык быть неуловимым, легко и беспрепятственно ускользать от самых опытных филеров, обходить опаснейшие ловушки.
Но до сих пор непонятно, почему такой опытный конспиратор Гершуни допустил грубейшую ошибку, приведшую к его аресту — дал по пути в Киев телеграмму местным социалистам-революционерам, назвав в ней время и место назначаемой им встречи под Киевом.
Может быть, и на этот раз ему бы повезло, но... Знал бы, где упадешь, постелил бы соломки. Телеграмма его попалась случайно на глаза провокатору Розенбергу, студенту, работавшему на местное охранное отделение.
И Гершуни, сошедшего на пригородной станции в инженерской фуражке и с портфелем под мышкой, филера опознали сразу. Бежать не было ни малейшей возможности. Его арестовали на месте, к уже через несколько минут он был закован в ножные кандалы.
И в этот момент он оставался верен своей натуре «художника в терроре»: приподнял кандалы и театрально поцеловал их. Это сцена была разыграна так артистически, так мастерски, что кое-кто из жандармов даже прослезился.
Азеф в это время был уже в Берлине, куда с разрешения Зубатова поспешно уехал за несколько дней до предстоящего убийства Богдановича, в организации которого принимал участие, не информируя (уже не в первый раз!) об этом Департамент.
В июне Азеф прибыл в Женеву, где Михаил Гоц передал ему все, что было оставлено Гершуни, — списки членов и кандидатов в члены БО, явки, пароли, адреса, имена сочувствующих и другие связи. С помощью Гоца Иван Николаевич заступал на место «генерала БО» основательно, авторитетно. А Гершуни тем временем предстояли тяжкие испытания — в феврале 1904 года смертный приговор, который потом заменили на бессрочную каторгу, и полтора года заключения в Петропавловке и Шлиссельбурге. Бежав из Акатуя в 1906 году и пробравшись через Японию и Америку в Париж, он продолжал верить в Азефа, как в несгибаемого борца-революционера и поддерживать его всем своим авторитетом.
А пока, опираясь на Гоца, ставшего его другом и советчиком, Иван Николаевич решительно принялся укреплять свои позиции среди боевиков (социалистов-революционеров) и прежде всего ставить теракт против Плеве. В отличие от Гершуни, действовавшего «по вдохновению», «по наитию», Иван Николаевич сразу же поставил дело серьезно, планово.
Прежде всего энергичный Евно принялся лично отбирать эсеров, из которых предстояло сформировать специальный отряд для убийства Плеве. Он встречался по многу раз с каждым, кто значился в списках Гершуни, вел с ним длительные беседы, тщательно прощупывал и каждый раз убеждался, что перед ним были неопытные, но пылкие люди, горячие головы, энтузиасты. Выяснилось заодно, что друг с другом они были почти незнакомы — все замыкались на Гершуни. Теперь им предстояло объединиться под начальством Азефа, к авторитету которого все относились с должным пиететом, видя в нем опытного старшего товарища, чуть ли не обожествляя его.
Егор Сазонов, Борис Савинков, Макс Швейцер, Александр Покотилов и братья Мацеевские — таков был отряд, подобранный Азефом для покушения на ненавистного всем министра внутренних дел Российской империи.
Люди эти были очень разные, и Иван Николаевич старался зажечь их, увлечь идеей террора каждого, внушить каждому, что именно террор — кратчайший путь к свержению самодержавия, а не нудная и кропотливая работа в массах. Савинков, Сазонов, Покотилов и Мацеевские впитывали его слова как откровения. Внушал им Азеф и мысль, что судьба ставит их над толпой, отводит им роль героев, объединяет в своего рода высшее братство, связывает благородной кровной порукой, велит переступать через любые моральные нормы и запреты, если это необходимо для достижения цели.
Не было у Азефа более верного адепта, чем Борис Викторович Савинков, чей характер целиком сформировался под влиянием самого Ивана Николаевича. Так и слышится за голосом Савинкова голос самого «генерала БО»:
— Боевик существует только для покушения: покушение удалось. — он удовлетворен. Но громадное большинство покушений не удается, и он работает, повторяю, без этого ежедневного удовлетворения (по сравнению с «массовиками»).
Интересны показания Савинкова и в той части, где идет речь об иерархии в самой Боевой Организации, установившейся, как говорится, с подачи Азефа:
«Постановка дела все время была такая: организация делится на три части: одна часть — это так называемые «холуи», это люди, которые живут в полной нищете, с таким напряжением, какого не требует обычная организационная работа. Затем вторая часть, это химическая группа, которая живет на среднем положении. Она живет на такой минимум, который обеспечивает возможность ее конспиративного существования. Наконец, третья группа, в которую входил и я... входили еще некоторые лица, эта группа была на таких ролях, что образ жизни людей, входивших в нее, был совершенно иным, чем образ жизни, скажем, наших товарищей — холуев. Само собой разумеется, что ее образ жизни был гораздо шире, чем образ жизни средних партийных работников».
Относя себя в «третью группу», Савинков со свойственной ему склонностью к самолюбованию несколько привирает. На первых порах существования БО он был далеко не самой яркой фигурой в этой организации. «Содержание» его обходилось Азефу, бесконтрольно распоряжавшемуся кассой боевиков, всего в 180 рублей в месяц. Сам же Иван Николаевич лишь от Департамента полиции получал до 1000 рублей в месяц, не считая наградных, разъездных и т. д. Кроме этого, из кассы он брал столько, сколько ему нужно было и на разгульную («для конспирации») жизнь, и для того, чтобы отложить на «черный день».
Но если в словах Савинкова звучит нескрываемое презрение к «холуям» и «массовикам», то нечто подобное чувствуется и в отношении Азефа к самим боевикам.
Савинков каялся перед судебно-следственной комиссией ПСР: «... отдельные лица, в частности, я — были игрушками в руках Азефа. Я не задумывался над ним, я был оружием в его интригах». И приходил к выводу: «Если бы мы были дальновиднее, если бы мы были внимательнее, то, вероятно, азефовская провокация была бы раскрыта давно».
* * *
...Разбирая попавшее мне в руки богатство, я провел за чтением документов, завещанных мне Никольским, весь оставшийся день и всю ночь. Оторвал меня от них лишь утренний телефонный звонок — московская редакция ждала очередного моего материала из Бейрута.
— Сегодня ничего передавать не буду, — смущенно сообщил я стенографистке, приготовившейся уже к приему.
— Как не будешь? — с удивлением вырвалось у нее.
— Так вот... не буду, — еще более смущенно подтвердил я.
— У вас же там события всегда, — воззвала она к моей совести: — Сколько лет передавал каждый день, а то и дважды в день, и вдруг... на тебе... Уж не случилось ли чего? Не заболел?
В голосе ее были искренние недоумение и беспокойство.
— Да нет... все нормально. Просто... просто устал, да и увлекся тут одним делом...
— Ну тогда ладно, — понимающе отозвалась она. — Тебе там на месте виднее. До завтра!
Я положил трубку, но чтение продолжать уже не мог. Только сейчас я почувствовал, что действительно устал, что наглотался информации сверх всякой меры и она требует переваривания и осмысления.
Зеленый атташе-кейс Никольского лежал на диване. И каждый раз, когда взгляд натыкался на него, мне казалось, что Лев Александрович напоминал о себе, подгонял, подталкивал к продолжению работы, которая была символом его жизни.
Кейс был пуст. Его содержимое хранилось теперь в массивном, с системой хитроумных шифрозамков, сейфе, стоящем в углу моего рабочего кабинета, куда, кстати, положил я и пистолет Никольского. Туда же лег и вполне современный конверт, точно такой же, в котором Никольский передал мне свое завещание — желтоватый, из плотной бумаги.
«Господин писатель, — было написано на нем рукою Никольского, — ни в коем случае не вскрывайте этот конверт, пока не закончите работу над книгой, которую Вы обещали мне написать. Заклинаю Вас памятью обо мне, если Вы, как я надеюсь, ее уважаете».
Да, я уважал память об этом до сих пор еще не совсем понятном мне человеке и, как ни терзало меня любопытство, сумел победить самого себя и убрал таинственный конверт подальше от глаз — в малое отделение сейфа, сверхнадежный стальной ящичек, в котором обычно ничего не держал — слишком долго и сложно было возиться с его сверхмудреным замком.
...И опять, второй раз в это утро, зазвонил телефон.
«Опять из редакции, — подумалось мне, — шеф наверняка недоволен, что из такой горячей точки, как Бейрут, сегодня в газете ничего не будет. Ну и черт с ним, — чувствуя свою вину, разозлился я, — пусть хоть разок обойдутся тассовской информацией». — И решительно снял трубку:
— Доброе утро, господин писатель. Я вас не разбудила? — услышал я знакомый голос баронессы Миллер. — Если разбудила, извините. Я только хочу сказать, что отпевание и похороны Льва Александровича имеют быть завтра пополудни...
И она назвала мне храм греко-ортодоксов и православное кладбище Map-Ильяс (Святого Ильи), на котором покоились почившие в бозе члены некогда многочисленной бейрутской русской колонии.
— А я почему-то представлял товарища Николаева совершенно другим!
Профессор сложил в стопку фотографии, которые рассматривал, и вернул их Фелиции:
— Не так уж он и молод, за фигурой не следит, и голова вся седая.
— Ему сорок три года, — подсказала Фелиция, разворачивая фотографии перед собою веером.
— В Бога он, конечно, не верит. Атеист и член партии. Иначе за границу не выехал бы, — продолжал, как бы размышляя вслух, Профессор. — Но это ничего не значит. Журналисты вообще относятся к рептилиям, у них позвоночники гибче, чем у любой змеи, а уж по способности менять цвета дадут сто очков вперед любому хамелеону...
— Но ведь и вы, господин Профессор, начинали, насколько мне известно, с журналистики, — осмелилась на дерзость Фелиция: авторитарность шефа давно уже раздражала ее. Ее! Признанную всей спецслужбой суперзвезду, ликвидировавшую самого Абу Асафа!
— Чехов говорил, что через газету должен пройти каждый, надо только вовремя из нее уйти, — решил отшутиться Профессор.
— Но Чехов говорил это, имея в виду писателей, — не отступала Фелиция. — А вы, господин Профессор...
— Всего лишь шеф спецслужбы, — заключил ее фразу Профессор и вдруг рассмеялся: — А вы мне все-таки правитесь, современная молодежь... Хорошо образованны, уверены в себе, решительны. Все же остальное приходит с опытом, как...
Он остановился, поймав себя на том, что чуть было не привел в сравнение боевиков Азефа, начинавших террор с ошибок и провалов, особенно в постановке покушения на Плеве. Но сидящей сейчас перед ним молодой особе совсем ни к чему было знать о том, что так прочно внедрилось в подсознание ее начальника — хватит с нее и того, что поговорили о Чехове...
— Дайте-ка мне, пожалуйста, еще раз взглянуть на фотографии, — протянул он руку Фелиции и, когда та исполнила его просьбу, разложил цветные фото перед собою на столе. — Так, отпевание господина Никольского... Баронесса Миллер, его гражданская, как говорили в старину, жена... Старики и старухи, обломки Российской империи. Я бы сказал — товарищи господина Никольского по классу. И здесь же Николаев, в церкви. Раньше такого партия бы ему не простила, но теперь у них там все по-другому, религиозность все больше входит в моду. Так... вынос гроба... И здесь Николаев помогает нести гроб. Дальше... русское православное кладбище... Общий вид, катафалк, и опять господин Николаев, поддерживает баронессу Миллер... Гроб Никольского у открытой могилы... Покойник в гробу... Опускание. Ну и так далее! — Он поднял взгляд на безучастное лицо Фелиции: — Надеюсь, с фотокамерой там крутился не наш человек?
Та обиженно пожала плечами:
— Зачем же? У наших людей и так работы по горло. Похоронное бюро обеспечивает все услуги, в том числе и фотографирование.
— За счет баронессы Миллер, конечно?
— Разумеется. Зачем же лишний раз тратить государственные деньги? Похоронное бюро взяло с нас лишь за оттиски-дубли... для близких и знакомых усопшего.
Профессор одобрительно хмыкнул:
— Как говорят в России, пустячок, а приятно! — И сразу же нахмурился: — Итак, перед нами новый объект — товарищ Николаев. Судя по фотографиям, он хорошо знал не только Никольского, с баронессой Миллер он тоже знаком и продолжает... общаться. Может быть, где-то здесь и найдется ниточка, ведущая к зеленому атташе-кейсу, тому самому, который Никольский вечером принес откуда-то к себе в библиотеку и который вы там на следующее утро не нашли? Думаю, что утром, еще до вашего шумного появления на сцене, старик отнес кейс туда же, где он его обычно хранил. И конечно же, не Николаеву, а в место понадежнее... например, особняк баронессы Миллер.
— Ее особняк тщательно охраняется, — позволила себе вмешаться в ход размышлений шефа Фелиция. — Баронесса наняла целую банду ливанцев и палестинцев, есть даже курды. В ливанские банки, которые столько раз уже грабились в годы гражданской войны, баронесса не верит и, судя по своей охране, предпочитает хранить ценности дома.
— Ну, разумеется, не для охраны бумаг Никольского платит она наемным бандитам, — поморщился недовольный тем, что его перебили, Профессор. — И все же работу придется начать с баронессы Миллер...
— Начнем, — вздохнула Фелиция, словно соглашаясь на нечто неприятное. И Профессор не замедлил отреагировать.
Кустистые брови его сошлись на переносице, тяжелый подбородок упрямо выдвинулся:
— Я бы советовал вам помнить, что приказы мои выполняются не в зависимости от настроения того, кому они отдаются!
Фелиция, подстегнутая его резким тоном, вздрогнула и выпрямилась, словно солдат, готовый стать по стойке «смирно».
— И работу необходимо выполнить в самые короткие сроки! — еще резче продолжал Профессор, вдруг вспомнив, что с утра стало известно: правительственный кризис может вот-вот разразиться, и тогда место в каком- нибудь зарубежном университете — на кафедре современной истории — ему придется искать уже в ближайшие недели. — Только осторожно, без шума, нам не нужны скандалы, — добавил он уже спокойнее, думая, что уходить ему надо тихо, не давая поводов журналистской голытьбе подзаработать на сенсации. Все должно быть тихо и тщательно подготовленной операцией.
И опять из подсознания выплыло имя Азефа, отказавшегося от ярких театральных постановок Гершуни и принесшего в террор свой стиль — холодный, трезвый, почти математический расчет, исключающий какие бы то ни было случайности. Правда, первая серьезная операция — против самого Плеве — чуть было не превратилась в то, что русские называют «первый блин комом». Но все свалили на Савинкова.
* * *
...— Савинков здесь!
Виктор Чернов бурей ворвался в кабинет Михаила Гоца:
— Сбежал, подлец, из Петербурга, все бросил и сбежал, как самый последний дезертир и трус!
Его трясло от ярости, он метался по обставленному дорогой мебелью кабинету, и казалось, что он вот-вот начнет крушить все, что попадается ему на пути.
— Виктор, пожалуйста, успокойся, прошу тебя...
Голос первого человека Партии социалистов-революционеров был спокоен и тих, за несколько лет работы с Черновым во главе ПСР Гоц привык к бурному темпераменту своего боевого товарища и не реагировал на его шумные всплески.
— Сейчас я встану, и мы с тобою вместе во всем разберемся.
Гоц, лежащий на диване под теплым шотландским пледом, оперся локтем на высокую подушку, пытаясь приподняться. Лицо его было без кровинки, и на безжизненной белизне пылали глубоко запавшие темные глаза. Было видно, что каждое движение причиняет ему страшную боль и на прокушенных в борьбе с болью губах чернели следы запекшейся крови. Приподнимаясь, он не удержал стона.
— Больно? — замер посредине кабинета Чернов, и ярость на его молодом, пышущем здоровьем лице мгновенно сменилась страдальческим выражением, словно боль друга передалась и ему. — Опять, наверное, не спал всю ночь? — с сочувствием продолжал он, переводя взгляд с Гоца на стоящий неподалеку от дивана письменный стол, заваленный исписанными листками бумаги. На странице, лежащей посредине с недописанной, оборванной строкой, валялось блестевшее еще не высохшими чернилами перо. Было видно, что хозяин кабинета прервал работу внезапно, не в силах даже полошить перо на письменный прибор или воткнуть в чернильницу.
— Неважно, — стараясь скрыть мучения, причиняемые ему попыткой встать с дивана, отозвался Гоц. — Ночью мне всегда хорошо работается... и сегодня много сделал — сидел, редактировал, и вдруг — прихватило. Но это пройдет, где-нибудь продуло. Или засиделся, неловко повернулся, и вот... что-нибудь защемило.
— Может, послать за доктором? — участливо склонился над другом Чернов. — Или обратимся к хорошему, дорогому профессору? Думаю, что на твое лечение мы можем попросить денег у наших кассиров, касса сейчас полна...
— Это не наши деньги, это деньги Революции, — выдохнул Гоц и, застонав, опять опустился на диван.
Если он и догадывался о том, насколько тяжело его положение, то всячески старался скрывать это от своих соратников. Да и напряженная работа в партии помотала забываться, политическая борьба захлестывала, сражаться приходилось со всеми и против всех, в политику лез каждый адвокатишка, говорунов-теоретиков было не счесть. Вот почему Гоц так любил Гершуни и Азефа — это были не болтуны, это действительно были люди дела.
И вдруг — Савинков! Человек, которого Азеф поставил во главе боевого отряда, готовящего покушение на Плеве, бежал из Петербурга и оказался здесь, за границей! Неужели Азеф ошибся в этом человеке?
Гоц опять сделал мучительную попытку подняться.
— Помоги, Виктор, — тихо попросил он, и в глазах его блеснули слезы бессилия.
Чернов поспешил к нему на помощь, поднял своими крепкими, молодыми руками легкое, исхудавшее тело друга...
— Помоги мне сесть за стол, — опять чуть слышно попросил Гоц, а когда Чернов отнес его на руках в рабочее кресло, извиняющимся голосом попросил еще об одном одолжении:
— И еще... убери, пожалуйста, с дивана плед и подушки. Вот туда — в шкаф. Я же не коронованная персона, чтобы принимать приближенных в спальне.
Когда Чернов выполнил эту просьбу и взглянул на сидящего за письменным столом друга, он увидел, что лицо Гоца порозовело, черты стали тверже и решительнее — то ли боль отпустила, то ли возвращение на привычное рабочее место придало ему новые силы.
— Так где же он, товарищ Савинков, и как он в наших краях очутился? — с интересом спросил он.
— Там, в другой комнате. Я приказал ему ждать, пока я переговорю с тобою — сможешь ли ты его принять.
— Опять же напоминаю, я не коронованная особа, я не какой-нибудь высокопоставленный чиновник, чтобы «принимать» людей. Товарищ Савинков член нашей партии и имеет полное право входить к ее руководителям без доклада, — рассердился Гоц. — Где же он?
Чернов молча шагнул к двери, но Гоц остановил его:
— И ты тоже... не сердись на меня. Нездоровится, вот и капризничаю. Расскажи-ка лучше, как он здесь оказался...
— Очень просто, — опять стал накаляться Чернов. — Явился сегодня ко мне на квартиру, говорит, что приехал вчера поздно вечером, переночевал в гостинице, а с утра прямо ко мне. В Петербурге, говорит, дело развалилось, хотя поначалу шло вроде бы неплохо — отряд вышел на Плеве...
— Ладно, зови, пусть лучше сам нам все и расскажет, — остановил его Гоц, — не будем терять время на пересказы.
...План покушения на Плеве Азеф продумал до деталей, разделив отряд на три части — у каждого была своя задача. Прежде всего необходимо было точно установить распорядок дня министра: когда и в какое время он выезжает, когда и каким путем ездит к царю для доклада, когда возвращается. Это поручалось группе, условно именуемой «извозчики». Члены группы обзавелись лошадьми, сбруей, пролетками и даже для полнейшего вхождения в свои роли поселились на постоялых извозчичьих дворах. В ту же группу входили «торговцы мелким товаром вразнос», «продавцы газет» и т. п. У всех у них была одна задача — выслеживание Плеве. Другая часть отряда занималась «техникой» — изготовление взрывчатки и бомб. И, наконец, «исполнители».
— Если не будет провокации, Плеве будет убит! — таково было напутствие Азефа боевикам, отправляющимся в Петербург из-за границы.
Сам «генерал ВО», занятый, по его словам, важными партийными делами, обещал приехать следом — в декабре, чтобы в случае необходимости внести в действия руководимого Савинковым отряда необходимые коррективы. Атаковать карету Плеве намечалось бомбами, то есть повторить сценарий убийства в 1881 году Александра II Освободителя.
Шли первые недели «похода». «Наблюдатели» действовали довольно успешно — Плеве, как говорится, вписывался ими «во время и пространство», но Савинков нервничал...
... — От Ивана Николаевича не было ни вестей, ни указаний, — волнуясь, рассказывал он Гоцу и Чернову, сидя на стуле посреди кабинета вождя Партии социалистов-революционеров: — Мы работали в полной неизвестности — Иван Николаевич и сам не приезжал, и не отвечал на наши письма, и никого от себя не присылал. Похоже, что в чем-то случился провал, что-то пошло не так, как мы ожидали. Потом мы обнаружили — или нам показалось, — что за нами следят...
— И нервы не выдержали? — участливо подсказал ему Гоц.
— Не выдержали, — побледнев, признался Савинков.
— И вы распустили по своей воле отряд и бежали сюда, в Женеву! — мрачно констатировал Чернов. — Бежали, спасая свою шкуру...
Савинков опустил голову, уставил взгляд в пол.
— И этим вы показали, что у вас нет мужества! Мужества инициативы, мужества самостоятельного решения, мужества самостоятельной мысли, если уж говорить прямо! — клеймил его Чернов, любуясь (в душе) тем, как это красиво у него получается.
— Спокойнее, Виктор, спокойнее, — мягко вмешался в разнос Гоц и тут же предложил, видя, что Чернов не намерен выходить из роли сурового обвинителя: — Я думаю, мы сейчас Павла Ивановича... Я не ошибся, товарищ Савинков, так ведь вас называют в партии? ...отпустим отдохнуть, собраться с мыслями. А сами пока свяжемся с Иваном Николаевичем, выясним, в чем дело. Насколько мне известно, он жив-здоров, и ничего с ним не случилось. Так что, товарищ Савинков, побудьте пока в Женеве, держитесь к нам поближе, но постарайтесь пока никому из товарищей на глаза не показываться. А мы постараемся выяснить, что все же произошло... Я уверен, что тут какое-то недоразумение...
Савинков встал. И в глазах его Гоц увидел тоску и смятение, смешанные со жгучим стыдом.
Когда дверь за Савинковым закрылась, Чернов, сидевший все это время на диване рядом с письменным столом, вскочил и забегал по кабинету:
— Ты слишком добр, Михаил, слишком либерален! От таких, как Савинков, надо избавляться сразу же, как только они срывают поручение партии. А уж из Боевой Организации гнать его надо немедленно, дезертир всегда останется дезертиром, дурным и заразительным примером для окружающих. И ты как хочешь, но я буду настаивать на этом, пусть только выяснится, что произошло с Иваном Николаевичем...
— И все же, — задумчиво заговорил Гоц, — сердцем чувствую: в Савинкове что-то есть... может быть, даже — гениальное. Вот сейчас наши глаза встретились... И знаешь, я почему-то сравнил его про себя с надломленной скрипкой Страдивариуса. А помнишь, как он пришел к нам прошлым летом? Как просился в террор? Тогда и ты поверил в него.
Смертельно больной Гоц оказался куда более дальновидящим, чем Виктор Чернов, настаивавший на немедленном исключении Савинкова из ВО как труса и дезертира. Позор, пережитый Савинковым в конце девятьсот третьего — начале девятьсот четвертого года, имел большое значение для ужесточения и укрепления его характера.
Владимир Михайлович Зензинов, впоследствии видный член ПСР и член ее ЦК, еще будучи «простым боевиком», получившим блестящее философское образование в Германии, вспоминал о периоде становления личности Савинкова, того Савинкова, которого мы знаем сегодня:
«...C удивлением, с недоумением мы услышали от Савинкова, что его категорическим императивом является воля Боевой Организации. Напрасно мы ему доказывали, что воля более или менее случайных лиц не может сделаться для человеческого сознания нравственным законом, что с философской точки зрения это безграмотно, а с моральной — ужасно. Савинков стоял на своем».
Волю ВО в те годы для Савинкова выражал ее единоличный руководитель Азеф, который, по словам одного из современников, покорил Савинкова «полным отсутствием внутренних колебаний и разъедающих душу сомнений». Вообще же из видных боевиков того времени влиянию «генерала ВО» не поддавался лишь Макс Швейцер. Тот же современник, говоря о роли Азефа в формировании личности Савинкова, подчеркивал, что «понятие» чести у Савинкова было чисто офицерское, — и оно входило важным составным элементом в ту психологию «революционных кавалергардов», которую внедрял в ВО Азеф и которая наиболее яркое выражение получила в настроениях Савинкова.
Новый начальник, Леонид Александрович Ратаев Азефу понравился сразу же. В своей уютной, по-холостяцки безалаберной парижской квартире он встретил Азефа, как старого знакомого. Впрочем, они и были старыми знакомыми — еще по Петербургу, который Леониду Александровичу пришлось оставить отнюдь не по своей воле, за границу его выставил — с глаз долой! — сам Плеве.
Дело в том, что Вячеслав Константинович фон Плеве, его высокопревосходительство министр внутренних дел Российской империи был службист. Еще при Александре II, будучи товарищем прокурора во Владимирской губернии, а затем в Туле, он обратил на себя этим внимание начальства. Но взлет его карьеры начался после того, когда он сумел попасться на глаза и понравиться самому императору, когда тот приезжал в Переславль-Залесский на поклон праху Александра Невского. Повышения по службе пошли одно за другим: прокурор Вологодского окружного суда, товарищ прокурора Варшавской судебной палаты, прокурор столичной судебной палаты, директор Департамента полиции, сенатор, товарищ министра внутренних дел, другие высокие посты и должности и, наконец, с 1902 года, после убийства Синягина, министр!
По вступлении в должность он тут же принялся наводить порядок. И в унаследованном им министерстве, как говорится, полетели головы. В том числе и голова Ратаева, тянувшего лямку по ведомству министерства внутренних дел с 1882 года, а в Департаменте полиции с 1897 года, сначала чиновником особых поручений, а затем и начальником Особого отдела, то есть направлял политический сыск во всей империи. Естественно, что на него новый министр должен был обратить внимание — на одного из первых. Лопухин и Зубатов, продолжавшие оставаться в закостенелой в консерватизме полицейской среде «чужаками» и раньше других своих сослуживцев «принявших» нового министра, постарались представить Ратаева новому руководству таким, каким он был на самом деле.
— Да, — признавался он, — человек он опытный и знающий. За столько лет службы по сыскной части прошел огни, воды и медные трубы. Но...
И дальше перечислялись «но», отнюдь не украшающие Леонида Александровича: бонвиван, любитель красивой жизни, светский лев, театрал и кафешантанщик, дон-жуан и попросту — бабник, душу в дело не вкладывает — не до этого ему, занят собою и своими личными делишками.
«Корнет Отлетаев» — смачно влепил ему литературную кличку интеллигент Зубатов, а аристократ, потомок косожского князя Редеди Алексей Александрович Лопухин только брезгливо морщился при упоминании об этом своем подчиненном.
Когда же соответственно настроенный министр назвал господина Ратаева «пятном» на Департаменте, судьба «корнета Отлетаева» была решена: в те времена ссылали не только в Восточную Сибирь, но и в Париж. Там и оказался в должности заведующего заграничной агентурой Леонид Александрович, до крайности обиженный па своих коллег-интриганов в отдельности и на весь Департамент и все министерство во главе с Плеве в целом.
Впрочем, Париж, как известно, не оставляет в душе и сердце места для мрачных настроений и черных дум.
— Ба, ба, ба! Сам Евгений Филиппович! — распахнул навстречу Азефу объятия Ратаев.
Они обнялись и расцеловались как старинные друзья. Ратаев был в изысканном шелковом халате. Был полдень, за окном ярко сияло зимнее солнце, но Леонид Александрович явно только что встал. От него пахло кофе и коньяком, лосьоном и крепкими мужскими духами, волосы были еще мокры после утренней ванны.
Он провел гостя в комнату, служившую ему кабинетом. Ничто здесь не выдавало занятий хозяина. Легкомысленная, гнутая, позолоченная мебель, фривольные статуэтки на высоких изящных, красного дерева подставках, изящные козетки, кушетка с разбросанными по ней шелковыми подушечками, пуфики и ломберный столик с бутылкой шампанского посредине — все это подходило бы больше какому-нибудь богатому бездельнику, прожигателю жизни, чем той должности, которую доверили за границей Леониду Александровичу Ратаеву.
— Давненько же мы с вами не виделись, дорогой Евгений Филиппович! — добродушно посетовал Ратаев, усаживаясь за ломберный столик и отодвигая бутылку с его середины. — Да что же это вы стоите? В ногах, как говорят у нас на Руси, правды нет... Присаживайтесь, прошу...
Азеф посмотрел вокруг, прикидывая, куда бы поместить свое тяжелое тело, и, поколебавшись, осторожно опустился на край кушетки.
— Не беспокойтесь, выдержит, — заметив его колебания, озорно подмигнул Ратаев. — Кушетка рассчитана на двоих, а француженки бывают такие помпончики, такие пышечки, что, я вам скажу, пальчики оближешь.
И чмокнул пухлыми алыми губами, прищелкнув при этом пальцами.
— А как в отношении шампанского? — и он опять озорно подмигнул Азефу.
— Избави Бог! — скривился тот. — Терпеть не могу эту кислятину, да и здоровье...
И он приложил пухлую руку к своему внушительному животу, упакованному в просторный шерстяной жилет.
— А я уж... извините...
Ратаев встал, подошел к изящной, сверкающей хрусталем горке, достал оттуда высокий бокал и вернулся на место.
— Кутнуть тут довелось вчера в приятной компании, ну и... — весело объяснил он, потягивая шампанское. — За все в этой жизни надо расплачиваться... Уф!
Сделав последний глоток и переведя дух, он отставил бокал подальше и посерьезнел:
— Вот теперь можно и о делах, Евгений Филиппович, о делах поговорить и пожурить вас немножечко, попенять слегка. Не возражаете?
— Помилуйте, Леонид Александрович? Чем же этаким я перед вами провинился? Сведения вам направляю регулярно: и социалистов-революционеров освещаю, и социал-демократов. А что с мая по сентябрь не проявлялся... так оглядеться же мне надо было после России, связи восстановить и наладить. Вот теперь мы с вами и начнем работать по-настоящему, как в былые времена, когда вы на меня не обижались. Так пенять будем или поработаем?
— Вот таким вы, Евгений Филиппович, мне всегда нравились, бодрый, энергичный, — похвалил его Ратаев. — Бывало, сами так и шли вперед, так и рвались, даже сдерживать приходилось, чтобы от провала уберечь...
Говоря это, он машинально наполнил бокал шампанского и поднес ко рту. Сделав пару глотков, зажмурился от удовольствия и покачал головою, словно укоряя самого себя:
— Завидую я вам, Евгений Филиппович, не пьете... А тут, словно пожар внутри, сил нет терпеть... Так, может, за компанию, а?
Веки его были полуопущены, но щелочки глаз остры, как бритвы.
«Не на того напал», — подумал Азеф со злорадством: приемы этого старого полицейского волка ему были давно известны, в деле политического сыска, а в этом году исполнялось десятилетие с того дня, когда Евно предложил Департаменту свои услуги по освещению «кружка в Карлсруэ», инженер Раскин тоже мог себя считать далеко не профаном. И теперь ему было ясно: Ратаев явно что-то знал и проверить это что-то хотел через Азефа, но заходил издалека, крутил, и, значит, это было что-то важное.
— Да и вы, Леонид Александрович, в последнее время, похоже, приустали, ни просьб у вас ко мне, ни поручений. Или не о чем уже меня и спрашивать, не на что нацеливать? Получается, что зря вроде бы и казенные суммы проедаю. Нет, Леонид Александрович, такая жизнь не по мне, не могу я без дела сидеть, закисаю от тоски, вы же меня знаете, — решил запустить пробный шар Азеф.
— Гм... пожалуй, — задумчиво протянул Ратаев, но Азеф уже почуял: за этой задумчивостью уже стоит заготовленный заранее вопрос.
— Вот тут кое-какие слухи до меня дошли, Евгений Филиппович, — неторопливо и вроде бы без интереса заговорил начальник заграничной агентуры Департамента, — будто бы объявился где-то в здешних краях некий Сазонов Егор. Не знавали ли такого среди эсеров, а? Случайно, может быть?
— Ах, вот оно что! — внутри у Азефа все напряглось. Дело действительно серьезное, если вышли на Егора!
Но предупредить противника — значит проиграть ему наперед. И Азеф теперь уже был предупрежден.
— Егор? Сазонов? — задумчиво, словно силясь вспомнить переспросил он. И еще через минуту отрицательно качнул своей тяжелой некрасивой головой: — Нет, слыхать о таком слыхал, а вот видеть не приходилось. Впрочем, если это так уж важно, то знаком с братом его — с Изотом. С Изотом Сазоновым, тоже... из боевиков.
— А разве не важно, что приезжает этот самый Егор за границу, и до меня доходят сведения, что готовится им ни много, ни мало, а покушение на самого его высокопревосходительство господина министра внутренних дел Вячеслава Константиновича фон Плеве!
Теперь лицо Ратаева было полно тревоги и возмущения, и Азеф поспешил надеть такую же маску.
«А ведь самое интересное, — подумал он, — что нам обоим хотелось бы, чтоб душа господина министра покинула бы этот бренный мир как можно быстрее — и все равно, с чьей помощью!»
— Такого вы, Евгений Филиппович, ничего не слыхали?
— Н-нет, — опять отрицательно покачал головою Азеф и тут же поспешил добавить: — Но как только встречусь с Изотом, обязательно разберусь, в чем дело, Леонид Александрович. Можете на меня положиться.
И подумал: «Поздно, господин Ратаев, птичка улетела. Егор вот уже несколько дней в России, и именно по тому делу, о котором до вас кое-что дошло». И тут же про себя усмехнулся: «Кое-что? Кое-что — еще не значит что-то. Отряд Савинкова продолжает поход против Плеве — все боевики в Петербурге. На этот раз дело не должно сорваться. За дезертирство Савинкову хорошо всыпали. Пришлось ему предстать перед руководством партии, объяснили ему, что руководитель БО не мог приехать в назначенные дни в Россию из-за большой занятости партийными делами. Письма же не доходили потому, что сам Савинков напутал с адресами. И, отправляя Савинкова опять в Россию, было решено послать с ним для моральной поддержки Ивана Каляева, его старого друга, революционера опытного, прошедшего испытания тюрьмами и ссылками».
На этот раз Плеве не спасет ничто!
Мысли неслись бешено, как всегда, когда Азефу надо было принимать немедленное и важное решение. Собственно, ради него он и явился сегодня к Ратаеву, явился, чтобы подготовить себе алиби, если бомбисты Савинкова выполнят в Петербурге поставленную перед ними задачу и Плеве будет убит. Алиби... ему нужно будет во что бы то ни стало иметь алиби для Департамента, как-то доказать, что он не только ничего не знал о готовящейся акции группы Савинкова, но и честно отрабатывал выплачиваемое ему полицейское жалование.
Плеве должен быть убит! Плеве должен быть убит! — стучало в мозгу, пока Азеф добирался до квартиры Ратаева. Иначе... Иначе все то, чего он, Азеф, добивался целых десять лет и наконец достиг, может рухнуть в одночасье. Ему было уже известно, что «массовики» развернули наступление на Боевую Организацию, обвиняя боевиков и самого Азефа в растранжиривании партийной кассы. С другой стороны раздавались уже и голоса, требовавшие сместить «генерала БО» и заменить его человеком, более инициативным. Упоминалась и кандидатура на этот важный пост — Серафима Клитчоглу, причастная к делам Боевой Организации еще во времена Гершуни. Женщина она была решительная и способная на все.
Известно было уже Азефу и то, что мадам Клитчоглу создала где-то на Юге России свой собственный боевой отряд и отправилась вместе с ним в Петербург — тоже «в поход на Плеве». Времени поэтому было терять нельзя, надо было действовать, и как можно скорее...
... — Что же касается покушения на Вячеслава Константиновича, — продолжал Азеф, дав Ратаеву время допить очередной бокал, — то я и пришел к вам сегодня, чтобы поговорить на эту тему... Дело в том, Леонид Александрович... что у меня есть по этому вопросу кое-какие сведения.
Полу-хмельное, благостное выражение мгновенно слетело с лица Ратаева, он весь напрягся и подался вперед, буравя Азефа абсолютно трезвым, настороженным, как у цепного пса, взглядом. Будучи опытным ловцом крамольников, он не спешил, выжидал, пока Азеф приоткроет свои карты. И выжидание это давало ему возможность скрыть противоречивые чувства, сталкивающиеся сейчас в его душе: сорвать покушение на Плеве, о подготовке которого Азеф, похоже, что-то собирается сообщить и тем самым заслужить благорасположение министра, выйти из опалы и вернуться на хорошую должность в Департаменте, — или скрыть от Департамента сообщение Азефа, не придав ему значения, и тогда расчет с его гонителем будет полный и справедливый! Эта дилемма все больше захватывала его, и, решая ее, он не замечал, что и Азеф, в свою очередь, старается и тоже никак не может принять какое-то свое решение.
— У меня есть сведения, что на Вячеслава Константиновича ставит теракт Серафима Клитчоглу, — наконец решительно отбросил колебания Азеф.
— Серафима Клитчоглу?
Мгновения понадобились цепкой памяти бывшего начальника Особого отдела Департамента полиции Российской империи, чтобы выхватить из глубин прошлых лет данные об этой профессиональной революционерке, да, особа решительная, энергичная и действительно опасная. Он фыркнул, как ищейка, взявшая след, и решил уточнить:
— По нашим заграничным делам мадам Клитчоглу не проходит. Или она недавно прибыла сюда из России?
— Мадам Клитчоглу со своими боевиками уже в Петербурге, — отчеканил Азеф и с наслаждением отметил замешательство, мелькнувшее на лице своего начальника: теперь все было расставлено по своим местам. Он отдает Департаменту Серафиму Клитчоглу и ее отряд и тем предупреждает это покушение на министра, доказывая Департаменту свою преданность, свое старание, и обеспечивая себе тем самым своеобразное алиби для того покушения, организованного им самим с использованием отряда Савинкова и Каляева, покушения, которое заставит заткнуться всех его врагов, всех подлых интриганов в Партии социалистов-революционеров. — И пришел я к вам сегодня, Леонид Александрович, с предложением, — продолжал чеканить фразы Азеф. — Мы выезжаем с вами в Петербург, и там я отдаю вам мадам Клитчоглу и ее людей. Без меня Департаменту ее все равно не взять, будете искать, как иголку в сене, только время упустите. Я же берусь найти ее и показать филерам.
Ратаев вылил остатки шампанского себе в бокал, рука его дрожала, но не от алкоголя, нет. Ему вдруг показалось, что они с Азефом поменялись местами, что не он, дворянин, полицейский чиновник Ратаев, диктует свою волю этому местечковому еврею, а, наоборот, Евно Фишелевич Азеф использует его в каких-то своих, неведомых Ратаеву, целях. Он инстинктивно, всем нутром чувствовал это, но это было только чувство, ощущение, ничего логически обоснованного, ничего конкретного...
— И вы точно знаете... обо всем этом... ну, о Клитчоглу? — спросил он, чтобы выиграть хотя бы несколько секунд для принятия решения.
Азеф мрачно усмехнулся:
— Если вы мне не доверяете, я буду вынужден, извините, снестись напрямую с Алексеем Александровичем Лопухиным, ибо дело слишком серьезно, государственной важности!
— Ладно, вы правы, Евгений Филиппович, нам с вами надо ехать в Петербург, — принял решение Ратаев. — Я сегодня же пошлю шифротелеграмму в Департамент и запрошу разрешение на наш срочный выезд по делу чрезвычайной важности.
Он тоже принял решение, и оно было облегчено твердостью Азефа. В сущности, отступать Ратаеву было некуда — Азеф все равно информирует о покушении, готовящемся Серафимой Клитчоглу, Департамент, и в каком свете тогда предстанет он, начальник заграничной агентуры? Черт с ними, с Лопухиным, Зубатовым и самим Плеве... Тем более, что через год-полтора можно будет выйти в отставку, а за четверть века беспорочной службы полагается хорошая пенсия! Особенно если закончить службу таким блестящим аккордом!
...В Петербурге, после телеграммы Ратаева, их ждали с нетерпением: несмотря на туманность намеков, содержащихся в телеграмме из Парижа, в Департаменте поняли, что речь идет о постановке покушения на персону чрезвычайно важную, и призрак Террора уже маячил в здании Департамента, в его кабинетах и коридорах.
Ратаев не ошибался, когда чувствовал, что Азеф хочет использовать его в каких-то своих, непонятных ему, Ратаеву, целях. Евгений Филиппович убедил его, что во избежание каких-либо недоразумений по дороге (филеры же — полные идиоты и кретины, Леонид Александрович, не так ли? Могут ведь и задержать по дурости в пути, потеряем драгоценнейшее время!) им нужно ехать в Россию одним поездом.
Поколебавшись, Ратаев согласился, но поставил условие: только в разных вагонах!
Границы пересекли благополучно, а уж на территории Российской империи бывший начальник особого отдела Департамента полиции был почти так же всесилен, как и до своей ссылки в Париж. Азефу же его покровительство нужно было не случайно: он вез с собою большую корзину с динамитом, который «химики» из отряда Савинкова должны были использовать для изготовления бомб «для Плеве». Встречавшие поезд петербургские филеры помогли инженеру Раскину погрузить корзину на лихача и отправились докладывать, что Толстый прибыл благополучно и отправился куда-то по своим делам.
В Департаменте, как было условлено с Ратаевым, он появился только вечером и сейчас же был принят Зубатовым, уже информированным начальником заграничной агентуры о сути дела, потребовавшего срочного прибытия инженера Раскина в Россию.
— Значит, наш дорогой Евгений Филиппович начинает исправляться, — задумчиво констатировал Зубатов, выслушав сообщение Ратаева. — А я-то, честно говоря, думал: уж не придется ли поставить на нем крест — охоту к работе потерял, информирует все по каким-то мелочам, и что ни скажешь, сразу в обиду. Да и в Париже вас он с полгода ничем не баловал. Говорите — осваивался? Такой опытный сотрудник — и осваивался целых полгода, и где — среди своих, где каждый друг друга знает. А не вернулся ли он опять, так сказать, к «фигуре умолчания», за ним ведь такое уже подмечено было. Не кажется ли вам это, милейший Леонид Александрович?
Милейшему Леониду Александровичу это не казалось, и он был отпущен с благодарностью — по старой памяти развеяться после расчетливого и скупердяйного Парижа в привычной ему веселой петербургской богеме.
С Азефом Зубатов был по-деловому сух и тут же вытряс из него все, что Евно было известно о Серафиме Клитчоглу, ее отряде и ее планах. Оказалось, что те несколько часов, которые инженер Раскин провел в столице после приезда, даром им потеряны не были. Через отряд Савинкова, видевший в боевиках Клитчоглу не конкурентов, а боевых товарищей, он добыл нужные Департаменту имена, адреса, явки и пароли. И теперь, как понял Зубатов, был намерен, умыв руки, со стороны наблюдать за арестами.
Однако Зубатов смотрел на дело по-иному.
— Вы забыли, Евгений Филиппович, что я привык работать чисто, вырубать крамолу под корень. И Серафиме Клитчоглу дадим несколько деньков на дозревание, — объявил он свое решение Азефу.
— А Плеве? А Вячеслав Константинович? — раздосадованно напомнил ему Азеф, думая о том, что надо скорее, как можно скорее проинспектировать группу Савинкова и убраться, пока не поздно, за границу.
— Я ценю ваше беспокойство о жизни его высокопревосходительства, — с оттенком издевательства успокоил его Зубатов. — но это уж, дорогой Евгений Филиппович, наша забота. Столь высокую государственную персону мы охраним в любом случае. Вам же следует встретиться с мадам Клитчоглу лично, побеседовать, по-подробнее порасспросить, словом, поработать, выбрать все — до последней крошки, —- что за ней стоит. Словом, отработать должок, который за вами набрался в последние месяцы вашей заграничной жизни. Так как же? Договорились?
Азеф хмуро молчал, понимая, что оказался в ловушке.
— Хорошо, — наконец выдохнул он. — Только одно непременное условие.
— Какие еще условия могут быть между друзьями? — демонстративно обиделся Зубатов. — Помилуйте, Евгений Филиппович...
— А условие такое, — стоял на своем Азеф, — я встречусь с мадам Клитчоглу, покажу ее вашим филерам, узнаю от нее все, что можно узнать, но арестовывать ее вы будете подальше от меня... Например, когда отъеду в Москву — я хотел бы там хорошенько кутнуть, отдохнуть, развеяться — широко, по-московски.
— А разве мы вас когда-нибудь подводили под провал? Вспомните, наоборот, сколько раз вас предостерегали. Так будет и теперь. Договорились?
Расставание было с холодком, без взаимных симпатий. И уже через несколько минут после ухода Азефа Зубатов вызвал самого Евстратия Павловича Медникова, лучшего сыщика Департамента, ведавшего в нем всем «наружным наблюдением». Медникову он поручил «присмотреть» за инженером Раскиным — самому, лично, не привлекая никого из филеров охранного отделения.
Начав службу в полиции простым московским городовым, талантливый Евстратий дослужился до должности заведующего отрядом филеров Московского охранного отделения, а после того, как покровитель и ценитель его своеобразного таланта Зубатов был переведен в столицу и стал заведующим Особым отделом Департамента, перебрался вместе с ним в Петербург.
Зубатов верил ему, как самому себе, и поручал только самые ответственные дела.
— Не сомневайтесь, Сергей Васильевич, — заверил покровителя Медников. — Господин этот нам давно известен. Ловок, бестия, но уж постараемся...
А еще через несколько минут Зубатов был уже в кабинете директора Департамента.
— Ну и как он там, ваш «корнет Отлетаев»? — шутливо поинтересовался Лопухин. Однако, по мере того, как узнавал от Зубатова о боевиках Серафимы Клитчоглу, лицо Лопухина все больше мрачнело.
— Не нравится мне этот ваш инженер Раскин, впрочем, как и господин Ратаев. Похоже, что они хорошо спелись, два сапога пара.
— Можно сказать и так, — согласился Зубатов. — Тут я осторожненько поговорил с Раскиным, проверил, какие сведения он передавал за границей Ратаеву, и сравнил с тем, что Ратаев докладывал нам. И...
— Что — и? — насторожился Лопухин.
— Не все сообщает нам Леонид Александрович, не все, — почти выдохнул Сергей Васильевич. — То ли двойную игру ведет, то ли обиды на нас вымещает.
Лопухин покачал головой и задумался.
— Убирать надо его, мерзавца, пока он совсем к террористам не перекинулся, — решил он после некоторого раздумья дальнейшую судьбу Ратаева.
Серафима Клитчоглу была арестована еще до того, как Азеф отправился в Москву «кутить и снимать напряжение», следом за ней по наводке инженера Раскина были взяты и все ее боевики. Плеве доложили о блестящем успехе в предотвращении готовящегося теракта, впрочем, он и без того был бесконечно уверен в своей безопасности.
Зато Зубатову пришлось выдержать шумное объяснение с Азефом. Евгений Филиппович кричал, топал ногами и мерзко матерился, обвиняя его в «нелояльности», в создании невозможных условий для работы и даже в преднамеренном предательстве!
Зубатов все это стерпел. Впрочем, инженер Раскин проходил уже не по его ведомству — из Охранного отделения и Особого отдела он ведь был уже передан в загранагентуру, Ратаеву, в совершенно другое ведомство Департамента полиции, с которым у Зубатова были свои счеты. А удержаться от соблазна «подставить» теперь уже чужого сотрудника Зубатов не смог. С этого момента служебные пути его и Азефа разошлись навсегда.
«Была без радости любовь, разлука будет без печали», — по своей привычке цитировать расхожие стихи мог бы сказать обо всем этом Сергей Васильевич, но лгать самому себе все же не стал — в работе с Азефом у него было немало «звездных часов»: сколько произведено арестов, сколько перехвачено транспортов нелегальной литературы, сколько раскрыто подпольных кружков и групп! А «томское дело», Аргунов, Гершуни и, наконец, внедрение с согласия фон Плеве своего секретного сотрудника в самую верхушку Партии социалистов-революционеров и ее Боевой Организации! Что и говорить, сделано немало, но времена меняются, и у Зубатова были теперь иные планы, куда более амбициозные — его теперь влекло в большую политику, он чувствовал себя переросшим должность начальника Особого отдела. И самые лестные отзывы начальства теперь не удовлетворяли его честолюбие, «...вся полицейская часть, — говорил Плеве, — то есть полицейское спокойствие государства, в руках Зубатова, на которого можно положиться».
Это было сказано после ареста группы Клитчоглу, но еще до того дня, когда тысячи рабочих, организованных Зубатовым, возлагали венки и участвовали в гигантском молебне у памятника царю-освободителю Александру II.
Да, у Зубатова были теперь новые, куда более грандиозные планы, а для их исполнения нужны были и новые люди.
И они нашлись — священник Георгий Гапон и один из вождей «Еврейской независимой рабочей партии» Григорий Шаевич...
* * *
...Я закрыл папку с цифрами 1902—1903, Никольский вел меня все дальше в наш, XX век, и я покорно следовал за ним по следам событий давних дней. Только теперь я начал понимать, в какое сложное и трудоемкое дело вовлек меня покойный Лев Александрович: нити этого дела то разбегались, тянулись в необозримые дали истории, то пересекались, сходились, стягивались в тугие узлы. Всплывали все новые и новые имена, события, факты, детали, и охватить их все было просто невозможно, что-то неминуемо ускользало, опровергало, исключало друг друга. Это была целая эпопея. И я уже порою подумывал — а не отказаться ли и мне от так легкомысленно взваленной себе на плечи непосильной ноши, бросал папки в сейф, запирал их подальше от самого себя, но через несколько дней не выдерживал — сейф притягивал, не отпускал, словно Никольский перед смертью успел наложить на меня свое заклятье и повелевал мною с того света.
Вот и теперь, проработав очередную папку, я — в который раз! — чувствовал, что близок к отчаянию. Надо было что-то делать, как-то отвлечься...
Я снял телефонную трубку и машинально набрал номер баронессы Миллер. Ответила служанка баронессы — по-английски, спросила, кто желает говорить с мадам. Я назвал себя и через несколько минут услышал ровный голос Марии Николаевны.
— Господин писатель, — с удовольствием констатировала она. — Очень, очень хорошо, что позвонили, а то я уж сама собиралась звонить вам.
— Что-нибудь случилось, Мария Николаевна?
Мне вдруг показалось, что в голосе ее я уловил тревожные нотки.
— Да как вам сказать...
Теперь в ее голосе была неуверенность.
... — Вроде бы ничего особенного, а что-то мне все эти дни как-то не по себе. И за вас мне боязно. Вы ведь дружили последнее время со Львом Александровичем, и коллекцию свою он вам завещал, не навела бы она на вас беды. Время-то, сами видите, какое сейчас неспокойное. Вот и полиция заключила: погиб Лев Александрович, отбиваясь от грабителей. Считали, мол, раз русский из первой эмиграции, значит, драгоценности должны быть — золото, камни, обязательно — миллионер. А ведь русские-то в эмиграции всякие бывают, сами знаете...
— Да, Лев Александрович миллионером не был, — согласился я с баронессой.
— А тут еще напасть, — продолжала она, словно не расслышала мою реплику. — Мэри у меня пропала, горничная, филиппинка. Да вы ее знаете — по дому тут она у меня помогала... Два дня назад, как ушла по каким-то своим делам — и до сих нор нет. Не знаю уж что и думать...
— Да, может быть, у подруг где-нибудь, вон ведь сколько филиппинок сейчас в Бейрут навербовалось, вся домашняя прислуга — филиппинки, встретила знакомую и застряла у нее, — решил я успокоить баронессу.
— Что вы, господин писатель! — обиделась она за горничную. — Мэри у меня — девушка серьезная, работящая. Да и плачу я ей... дай Бог, другим, и документы ее все у меня хранятся — паспорт, вид на жительство, контракт... А вот исчезла — и все тут.
— Объявится ваша Мэри, Мария Николаевна, объявится. Раз документы у вас, никуда ей не деться, без документов ее никто у вас не переманит...
— И то правда... куда же ей без документов? — сразу успокоилась баронесса и тут же, без паузы, продолжала: — А вы как поживаете, господин писатель? Все небось работаете, пишете... Очень на вас покойный Лев Александрович надеялся, царствие ему небесное! Сам-то не совладал, а вы как?
— Да и мне нелегко. Столько всего насобирал Лев Александрович, глаза разбегаются. И то хочется взять в книгу, и это, а ведь все не вмещается, у книг тоже свои законы...
— Ну, помогай вам Бог, — вздохнула баронесса, — но... очень вас прошу, господин писатель... поберегитесь... — Она запнулась, потом продолжала, понизив голос: — Кто-то, видимо, бумагами Льва Александровича тоже интересуется. Тут мои охранники говорят, что и к ним какие-то люди подходы ищут... на зеленый кейс намекают — кто, когда приносил, кто выносил. Мол, полиция этим интересуется — убийц Льва Александровича ловит. Так что вы, господин писатель, кейс этот хотя бы в посольство свезли, да чтобы побольше людей это видели.
Послушайте доброго совета, прошу вас...
Да, баронесса, конечно же, была права. Впрочем, я и сам чувствовал нарастающее беспокойство: если Никольского убили, чтобы добыть его бумаги, кому-то очень нужную коллекцию, то кто остановит охотников за нею — узнай они, что зеленый кейс находится у меня?
Открыв сейф, я отобрал папки с документами, уже ненужными мне, использованными в работе, и переложил их в зеленый кейс. Туда же вложил второй экземпляр рукописи начатой мною будущей книги. Сейф с папками, над которыми мне еще предстояло работать, запер вновь и, взяв полупустой кейс, поспешил из квартиры.
Внизу, у лифта, я встретил Башира, консьержа, разговорчивого молодого парня, бдительно несущего службу у входной двери, и задержался, чтобы несколько минут поболтать с ним о какой-то чепухе. При этом я то и дело перекладывал кейс из одной руки в другую, будто бы мне было тяжело его держать. Так это понял и консьерж.
— Может быть, вам помочь, месье? — сочувственно предложил он, указывая взглядом на кейс. — Тяжело, наверное?
— Нет, спасибо, Башир, донесу сам. Это ведь только до машины. Вот, везу в посольство...
Конечно, это был не самый хитроумный способ предупредить охотников за коллекцией Никольского, что ее у меня в квартире больше нет и она хранится за надежными стенами посольства, но ничего другого я придумать не сумел. Теперь же, надеялся я, если кто-то будет мною интересоваться, разговорчивый консьерж вспомнит и тяжелый зеленый атташе-кейс, который я на этих днях отвез в посольство.
Заперев кейс в железный шкаф в одной из комнат посольства, где мне было отведено место для работы (на случай чрезвычайных обстоятельств), я вернулся домой и опять поболтал у лифта с Баширом, демонстрируя ему, что вернулся из посольства с пустыми руками. И лишь после этого поднялся к себе наверх.
Квартира встретила меня привычной пустотой. Я прошел к себе в кабинет и уселся в рабочее кресло перед письменным столом. Взгляд мой упал на телефон, мне сразу же вспомнился тревожный голос баронессы Миллер, и на душе опять стало неспокойно. Если охотники за коллекцией Никольского ищут подходы даже к щедро оплачиваемым охранникам баронессы, то дело действительно приобретает серьезный оборот. И тут же — в который раз! — вернулась все та же мысль: кто они, эти охотники? Агенты какой-нибудь из действующих на Ближнем Востоке многочисленных спецслужб, превративших в последнее десятилетие Бейрут в свою базу и арену сведёния счетов? Или мафиози, действующие по поручению какого-нибудь коллекционера, вкладывающего миллионы в ценные исторические бумаги? В любом случае смерть Никольского доказала, что они готовы на все.
Думая об этом, я открыл сейф, достал оттуда браунинг покойного Льва Александровича и положил его перед собою на стол. Мне стало спокойнее, хотя... Хотя Никольского и это не уберегло
Дверца сейфа была заманчиво открыта, и я, решивший было сегодня утром отдохнуть, не удержался и достал очередную папку.
* * *
...«Поход на Плеве» продолжался. Подготовку теракта Азеф начал встречей с чувствующим себя виноватым Савинковым. Она состоялась в Москве, куда инженер Раскин с разрешения полицейского начальства отправился «снимать напряжение».
Разговор начался в кондитерской Филиппова и продолжался в отдельном кабинете одного из роскошных московских ресторанов. Позволив на этот раз себе хорошо выпить, Иван Николаевич безжалостно отчитывал Савинкова, как мальчишку, как провинившегося школьника:
— Ты трус и дезертир, — желтея от ярости, кричал он, потрясая кулаками, — другой на твоем месте пустил бы себе пулю в лоб! Хороши были бы мы, вся наша Боевая Организация, если бы какая-то провинциальная баба под самым нашим носом поставила бы теракт против Плеве и убила его. Считай, что нам просто повезло, что полиция загребла этих неумех, а то позору бы не обобраться! И так ЦК уже настроен против нас. Один только Слетов чего стоит! А эта дурища — Селюк...
Он пил и матерился, на губах его выступала пена, а бледный Савинков, не притронувшийся к щедро заказанному Азефом ужину, молчал, опустив голову.
Но постепенно от вкусной еды и щедрых возлияний Иван Николаевич добрел.
— Твоей обязанностью было ждать меня на месте и продолжать наблюдение за Плеве, а не сматываться за границу под крылышко Чернова и Гоца, они ведь тоже нам друзья до поры до времени, — сытно икнув, завершил он разнос и милостиво улыбнулся: — А теперь... давай расцелуемся, и кто старое помянет, тому...
Они встали из-за стола, обнялись и расцеловались.
«И любит же он целоваться», — вспомнились Савинкову слова, много раз слышанные об Азефе в партийных кругах. Сам он целовался с Азефом впервые и с трудом скрыл отвращение от его мягких, похожих на пропитанную влагой резину, толстых губ.
— А теперь, дорогой Павел Иваныч, давайте поговорим о дальнейшей работе, — опустившись на стул, Азеф ободряюще кивнув Савинкову. — Вы и ваши люди, отсиживающиеся сейчас в Москве, через некоторое время — поодиночке — должны вернуться в Петербург и начать все сначала: «извозчики», «разносчики», «продавцы газет»... Динамит я привез — спасибо господину Ратаеву, никогда так спокойно не ездил с подобным грузом. Действовать будете теперь вместе с Каляевым — вы ведь с ним старые, чуть ли ни с детства, друзья, да и совет он может при случае дать недурной...
Савинков, преданно внимавший Азефу, улыбнулся:
— Я очень люблю и уважаю Ивана.
— За наблюдение отвечаете вы, — продолжал неожиданно твердым голосом Азеф, — Каляев и Мацеевский — сигнальщики. Бомбисты — Сазонов, Боришанский и Покотилов. Этот давно рвется в дело, да все у него никак не получается: хотел убить министра Боголепова — Карпович опередил, просил Гершуни отдать ему Сипягина, а на дело послали Балмашева... Вот и дайте ему теперь возможность погибнуть за святое дело.
Савинкову показалось, что при этих словах на губах Азефа мелькнула циничная улыбка, но он не посмел поверить.
— И еще, — голосом генерала, завершающего изложение плана важной боевой операции, продолжал Азеф. — После ареста Клитчоглу охранники в Петербурге настороже. О «походе на Плеве» они знают, поэтому переждите вне Петербурга, дайте им успокоиться... Хотя... — Он с хитрецой прищурился: — Это даже и к лучшему. Взяли Клитчоглу — теперь должны и расслабиться. А мы тем временем подготовим им подарочек к нашему празднику... а? Отметим годовщину убийства тирана, Александра II Николаевича, убийством сатрапа Плеве.
На этом деловая часть встречи закончилась. Но сидели еще долго, много пили и ели, Азеф о жалобах на свое здоровье забыл и не уставал наполнять рюмки. Потом, обнявшись, пели потихоньку песни политкаторжан, Савинков читал свои стихи, целовались, и теперь поцелуи Азефа не казались ему мерзкими: он опять был влюблен в Великого Человека.
На следующий день Азеф вернулся в Петербург, Савинкову же было приказано явиться после убийства Плеве в Двинск, где и будет ждать его сам Иван Николаевич, имеющий там неотложные и крайне важные партийные дела.
Шли последние дни февраля 1904 года. Ратаева, чтобы не мозолил глаза и не отравлял настроения начальству своими шумными похождениями, уже выпроводили в Париж под предлогом какого-то важного и неотложного дела, и, узнав об этом, Азеф дрогнул: сойдясь еще раньше, в Париже, с «корнетом Отлетаевым» довольно близко, он знал, что тот, хоть и пил, но ума, как говорится, не пропивал. Агентура его, в том числе и среди социалистов-революционеров, работала исправно, а в ПСР кое-кто знал и о готовящемся покушении на Плеве. Недаром же Ратаев ссылался на доходившие до него разговоры Егора Сазонова в кругу друзей-революционеров.
Важное и срочное дело, по которому Ратаева поспешили отправить в Париж, могло быть и выходом на отряд Савинкова — Каляева, то есть и на инженера Раскина.
Эта мысль пришла в голову Азефа ночью, в номере «Англетера». В комнате было по-февральски промозгло и сыро, топили почему-то плохо. И Азеф, вставший по малой нужде около четырех часов утра, вдруг всей своей кожей почувствовал приближение опасности. Сначала непонятной, необъяснимой, надвигающейся неизвестно откуда, потом прояснилось — пришла мысль о срочном возвращении в Париж Ратаева. И сразу же его прошиб холодный пот, все тело обмякло, руки и ноги словно парализовало, он не мог двинуть ни одним мускулом. С трудом повернув голову набок, он вцепился зубами в подушку и глухо застонал, цепенея от звериного ужаса.
«Лисий Нос», «Лисий Нос», — стучало в холодеющем мозгу название уединенного местечка под Петербургом, где в последние годы вершились казни политических преступников — через повешение...
Ужас терзал его до позднего февральского рассвета.
Утро наступало медленно и долго. Азеф то и дело смотрел на циферблат своего «Павла Буре», но с часами словно что-то случилось: стрелки, казалось, застревали на каждом делении, чуть ли не цепляясь друг за друга. Чего только инженер Раскин не делал, чтобы убить время, долго брился, долго лежал в ванне, перемеривал свои многочисленные костюмы, словно собираясь на любовное свидание, заказал к себе в номер завтрак: по-европейски скудный — кофе, тосты, кубик масла и джема. Джема — тройную порцию, сладкое он обожал еще со времен своего нищего, голодного детства, когда до суши в горле мечтал о том, чтобы съесть всю гору слипшихся, засиженных мухами леденцов-ландрин, пылящуюся на полке в убогой лавчонке соседа Мейеровича, такого же неудачника, как и его приятель портной Фишель Азеф.
Джем за завтраком он обычно ел не спеша, намазывая на теплый тостик и смакуя, растягивая удовольствие. Но теперь смакования не получалось, даже сладости он не чувствовал...
У дома Лопухина он был около девяти, рассудив, что раньше этот аристократ встать с постели не изволит.
— Инженер Раскин к его превосходительству по срочному делу, — объявил он молоденькой горничной, открывшей дверь на его решительный, требовательный звонок. Его новое, сшитое по последней парижской моде дорогое пальто, изысканного фасона шляпа, трость черного дерева с головой негра вместо набалдашника, высокомерный взгляд и требовательность в голосе — все это произвело на горничную нужное впечатление. И уже через несколько минут инженер Раскин сидел в похожем на выставку антиквариата домашнем кабинете директора Департамента полиции, дожидаясь появления самого Алексея Александровича.
Лопухин вышел по-барски, в персидском халате, в красном турецком торбуше с кисточкой, в восточных туфлях с круто загнутыми вверх носами.
— Доброе утро, ваше превосходительство, — встал при его появлении Азеф.
— Бонжур, господин Раскин, — холодно ответил Лопухин, и Азеф всем своим существом сразу почувствовал, что его громоздкая, тяжелая фигура почти физически неприятна этому подтянутому, породистому аристократу, не скрывающему, что он лишь по службе снисходит до разговора с плебеем.
Лопухин, словно боясь запачкаться и держась подальше от Азефа, прошел к своему столу и уселся за него, сразу раздавшись в плечах и развернув грудь. Теперь, за рабочим столом, он казался гораздо массивнее, величественнее, как и подобает быть человеку в его высокой должности.
— Слушаю вас, господин Раскин, — сухо и высокомерно произнес он, не глядя на сидящего напротив (на краешке старинного стула) Азефа. И губы его скривились откровенной брезгливостью.
Азеф сдержался: искусство владеть собою в таких ситуациях он за годы пребывания в роли секретного сотрудника постепенно освоил.
— По имеющимся у меня сведениям, — перешел он прямо к делу, словно не замечая гримас директора Департамента полиции, — социалисты-революционеры готовятся поставить теракт в Петербурге.
Его выпуклые, как у жабы, глаза уставились на Лопухина.
— Да? — холодно отреагировал Алексей Александро-вич. — Так неужели же сведения эти настолько срочные, что вы явились, чтобы сообщить их ко мне домой?
Но выговор начальства Азефа не смутил.
— Покушение ставится на вас, Алексей Александрович, — многозначительно понизив голос, продолжал он. — Боевики мадам Клитчоглу, из тех, кого господин Зубатов не сумел взять, поклялись отомстить вам за своих товарищей.
Лопухин смотрел на него уже с интересом.
«Подожди, — подумал Азеф, — сейчас ты запоешь у меня по-другому!»
И он принялся излагать детали плана покушения на Плеве, разработанного вместе с Савинковым несколько дней назад:
— У здания Департамента на Фонтанке вас будут ждать бомбисты. Ваши маршруты по городу и привычное для вас расписание дня установлены.
И выжидающе замолчал.
— Это все? — не изменившись в лице и лишь слегка побледнев, спросил Лопухин.
— Пока все, — почти выдохнул Азеф, злорадно отмечая про себя, что побледнеть заносчивого аристократишку он все-таки заставил. — Ни намеченного дня, ни имен бомбистов и сигнальщиков я пока не знаю. Теракт ставится не нашей Боевой Организацией, это местный, а не центральный террор.
— Так надо узнать, — просто и как нечто само собой разумеющееся, совершенно пустяковое, приказал ему Лопухин, — и доложить Зубатову. Впрочем... вы же из его ведомства выведены в заграничную агентуру, в подчинение господину Ратаеву... Ладно, я сам позабочусь о дальнейшем. А вам, господин Раскин... — Он встал из- за стола и сразу потерял свою почти монументальную величественность: — От лица вверенного мне Департамента... объявляю благодарность!
И покровительственно улыбнулся. И тут словно черт дернул Азефа: тот самый нищий, который поселился в его душе с голодных детских лет, вдруг заговорил его, теперешнего Азефа голосом, но по-нищенски униженно и вульгарно:
— Из одной благодарности штанов не сошьешь, ваше превосходительство... — Азеф увидел, как Лопухина передернуло, но остановиться был не в силах: — Жизнь с каждым днем дорожает, расходы растут, а жалование у меня все прежнее. На работу приходится тратиться из собственного кармана, а у меня — дети, во Владикавказе — больная мать. И неужели же я за десять лет честной и беспорочной службы не имею права на благодарность финансовую — повышение оклада жалования?
И опять поморщился Лопухин.
— Хорошо, господин Раскин. Мы снесемся по этому вопросу с вашим начальником, посмотрим, как отнесется к этому Ратаев. До свидания!
И взялся за изящный бронзовый колокольчик, вызывая горничную — проводить Азефа из квартиры.
В Двинск Азеф не поехал и дожидаться там 4 апреля — дня, на который была назначена встреча с Савинковым, не стал. По его расчетам, предупрежденный о готовящемся покушении Лопухин поставит на ноги все Охранное отделение, и наблюдатели из отряда Савинкова, все эти «извозчики», «разносчики» и мелкие торговцы, обязательно станут добычей филеров, ведь директору Департамента инженер Раскин выложил, в сущности, весь план предстоящего покушения на Плеве — и место планируемого теракта, и способ его осуществления. То, что вместо Плеве объектом предстоящего акта был назван Лопухин, должно было бы, по мысли Азефа, лишь удесятерить решимость директора Департамента выследить и схватить боевиков.
Произойди это, упавшие было акции инженера Раскина вновь будут высоко котироваться. Надо было лишь позаботиться о том, чтобы в случае провала отряда Савинкова остаться во главе Боевой Организации.
И уже через несколько дней после утреннего визита к Лопухину Азеф (с разрешения директора Департамента) отправился за границу — к своему непосредственному начальнику Ратаеву. В Париж он поехал через Женеву, где навестил все хуже и хуже чувствующего себя Гоца. Поговорили о партийных делах, о БО, о Савинкове и его «походе на Плеве», вспомнили о провале Савинковым предыдущей операции. Гоц призывал не судить Савинкова слишком строго — молод еще и неопытен. Зато предан делу, энтузиаст террора...
Иван Николаевич соглашался, Савинкова не ругал, но... осторожно сомневался. Рассказал о том, что перед отъездом из России предостерегал боевиков против поспешности, говорил, что атаковать Плеве рядом с самим Департаментом полиции не следует — охрана там усиленная, филер на филере, могут загрести прежде, чем дело дойдет до бомбометания. Они же настаивали, рвались в дело, и больше всех Савинков, желающий смыть с себя позор проваленной им предыдущей попытки покушения.
А через несколько дней, уже в Париже, от Ратаева он узнал, что ни о какой прибавке жалования речи не идет. Выяснил заодно, что не произведено в Петербурге а никаких арестов. Выходило: либо Лопухин посчитал его предупреждение своего рода вымогательством, либо охранники бездарны настолько, что не могут разоблачить и выследить крутящихся вокруг здания Департамента мнимых «извозчиков» и их сотоварищей по группе слежения.
Когда же ничего не произошло и 31 марта, Азеф забеспокоился: неизвестность угнетала, он слишком хорошо знал Зубатова, способного затеять самую неожиданную, самую тонкую игру. Пока не поздно, надо было самому отправляться в Россию.
Ратаев разрешил ему срочно выехать, чтобы навестить «тяжело больную маму» во Владикавказе. Гоц одобрил поездку — на помощь молодежи, которая опять что-то, вероятно, напутала. И вот — в первой декаде апреля — Азеф опять в России. Сначала — в Двинск, на условленную явку, там — никого. Из Двинска в Петербург... И лишь по пути, случайно встретив Покотилова, узнал: опять все провалил Савинков!
Когда бомбисты — Сазонов, Покотилов и Боришанский и те, кто их должен был обеспечивать наблюдением, сигнализацией — словом, прикрытием, — уже заняли позиции перед Департаментом, откуда на доклад к царю должен был, как обычно, выехать Плеве, Боришанский запаниковал. Ему показалось, что вокруг сжимается кольцо филеров. Бегство Биришанского вызвало панику и среди остальных — поспешно ретировались Сазонов и Покотилов, скрылись наблюдатели и сигнальщики, решившие, что вот-вот все будут арестованы здесь же, на месте.
А когда в назначенный день, 4 апреля, Савинков и Покотилов, срочно выехавшие в Двинск, не застали там Азефа и решили, что он, как и они, выслежен и, вероятно, уже арестован, все было кончено.
Теперь, по мнению Савинкова, поддержанного Каляевым и Швейцером, без арестованного Азефа сил для покушения на Плеве было недостаточно. И напрасно Покотилов, Сазонов и другие требовали довести дело до конца — отряд раскололся. Савинков, как командир, решил предоставить свободу действий своим оппонентам, а сам вместе с Каляевым и Швейцером отправиться в Киев — ставить теракт против тамошнего генерал-губернатора Клейгельса. Дело это было несложное, Клейгельс разъезжал по Киеву открыто и без охраны... Но неудачи сыпались одна за другой.
Часть группы, оставленная для покушения на Плеве, произведя тщательную рекогносцировку и убедившись, что полиция даже и не думала за кем-то следить и тем более кого-то арестовывать, приступила к выполнению ранее намеченного плана. Покушение было намечено теперь на 14 апреля, и в роли бомбистов готовились выступить Покотилов и Сазонов, но опять не выдержали нервы у Боришанского. Примчавшись в Киев, он сообщил о действиях петербургской группы Савинкову. Тот воспринял намерение Покотилова и Сазонова чуть ли не как интригу против него, Савинкова, считавшего себя вторым после Азефа человеком в БО. Убей петербуржцы Плеве без него, уехавшего в Киев, клеймо труса и дезертира ляжет на него навечно. Оставалось любым способом остановить Сазонова и Покотилова. Сделать это мог только хладнокровный, всеми боевиками уважаемый и любимый Макс Швейцер, которого Савинков и направил срочно из Киева в Петербург. А на следующий день после отъезда в Киев прибыл Азеф. Приехал он из Одессы, где собравшиеся на совещание видные члены ПСР решили официально запросить заграничное руководство партии о том, что творится в БО. В запросе предупреждалось, что участники одесского совещания «оставят за собою полную свободу действий как в отношении новой постановки террористических предприятий, так и в своих отношениях к появляющимся на нашем горизонте представителям совершенно нам неизвестной Боевой Организации».
Опять сгущались тучи над головой Азефа — ведь после ареста Гершуни центральный террор с его помощью фактически прекратился — ни одной серьезной и политически громкой акции проведено не было, между тем как деньги из партийной кассы черпались «генералом БО» полными горстями. Плеве! Только Плеве, погибнув, мог спасти Азефа!
Можно представить себе ярость Ивана Николаевича при встрече с Савинковым на киевской конспиративной квартире! А каково было Савинкову? Тогда, в Женеве, Гоц поверил в него и убедил в этой вере Чернова, а недавно, в Москве, эту веру подтвердил братским поцелуем Азеф. И вот...
Оправданий у Савинкова не было никаких. Да, он опять фактически распустил отряд. Да, это он отправил Макса Швейцера в Петербург, чтобы предотвратить покушение на Плеве, намеченное Покотиловым на 14 апреля. Но убедить Покотилова отказаться от принятого решения Швейцер не смог, предотвратил покушение лишь трагический случай: в ночь на 14 апреля Покотилов, заряжавший бомбы, которые должны были быть брошены в карету Плеве, погиб при случайном взрыве. Предупрежденное таким образом об опасности, поднялось все Охранное отделение, а петербургская часть отряда оказалась еще более ослабленной. Теперь, по мнению Савинкова, «поход на Плеве» и подавно стоило если не отменить, то хотя бы на время отложить. Покушение же на Клейгельса можно было бы обставить театрально, в духе Гершуни, и тем самым на какое-то время нейтрализовать нарастающую агрессивность социалистов-революционеров («внутренников»), враждебно настроенных к «заграничникам» и Боевой Организации.
Все это Савинков и постарался как можно убедительнее изложить мрачно слушающему его Азефу. Слушая его, Азеф еле сдерживался. Как всегда, это с ним бывало в минуты ярости, лицо его пожелтело, глаза еще больше вылезли из орбит, скулы окаменели. Но он молчал, не перебивая Савинкова, лишь уперев в него тяжелый, неподвижный взгляд, и Савинков с ужасом ожидал, что сейчас, вот-вот, в любой момент произойдет взрыв и на него обрушится поток матерщины.
Но взрыва не произошло, Азеф сдержался.
— Кто дал вам право изменять решение Центрального комитета? — с тихой угрозой в голосе спросил он и тут же продолжал, не давая Савинкову открыть рта: — Почему вы здесь, в Киеве, а не в Петербурге? Вы говорите, что считали меня арестованным. То же самое вы говорили и в прошлый раз. Но если бы я и был действительно арестован, покушение на Плеве все равно не отменялось. Вы мне говорите, что отряду не хватает сил, что погиб Покотилов. Но вы должны быть готовы к гибели всей организации до последнего человека. Нанося удары, нужно быть готовым и самим получать их. И никаких оправданий быть не может. Если нет людей — их нужно найти. Если нет динамита, его необходимо сделать.
Теперь он говорил уже почти спокойно, не говорил, а наставлял, и все это походило на самолюбование. И Савинков понял, что гроза миновала, что не будет ни матерщины, ни потрясания кулаками, ни выступающей на губах пены — ничего того, что было в отдельном кабинете московского ресторана.
— Но бросать дело никогда нельзя, решение надо выполнять любыми средствами, — продолжал декларировать «генерал БО», и голос его становился все задушевнее. — Я был в Женеве, виделся с Гоцем и Черновым, мы говорили о вас. Да, Гоц в вас верит и то, что сейчас произошло, будет для него ударом. Зато Чернов и Слетов порадуются, они считают вас плохим знатоком людей, «импрессионистом». Мне так и говорили: Павел Иванович чересчур импрессионист, чересчур невыдержан для такого дела, как руководство террором. Так что же? Они правы? И должен вас отставить от террора, перевести в «массовики». А может быть, вы вообще вернетесь к социал-демократам, ведь террор они отрицают категорически. В свое время вы у них работали и даже написали статью «Петербургское рабочее движение и практические задачи социал-демократии»...
— Я призывал в этой статье к созданию единой, сильной и дисциплинированной организации, — пытался было объясниться Савинков, но Азеф прервал его:
— А теперь по собственному усмотрению, сами нарушаете приказы Центрального комитета и распоряжаетесь бойцами партии как вам вздумается! Ну на черта нам сдался этот Клейгельс?
— Три года назад, будучи петербургским градоначальником, он зверски расправился со студентами...
— Три года назад... — Азеф саркастически хохотнул: — Так это было три года назад! И кто теперь об этом помнит. Клейгельс сегодня уже не фигура. Фигура — это Плеве. И он должен быть убит. — Теперь голос Азефа звенел решимостью: — И он будет убит во всяком случае. Нами. Если мы его не убьем, его не убьет никто!
Так начался третий «поход против Плеве». На все дело Азефом из партийной кассы было взято семь тысяч рублей, и теперь он решил действовать всерьез — провались и этот очередной «поход», «внутренники» добились бы своего: «генерал БО» лишился бы своего поста и, следовательно, возможности бесконтрольно черпать из партийной кассы деньги на «нужды Боевой Организации».
Савинков под видом богатого англичанина Мак-Кулоха поселился в самом центре столицы, в роскошной квартире, с содержанкой, роль которой исполняла Дора Бриллиант, ушедшая в революцию дочь богатого еврейского купца. Егор Сазонов состоял при англичанине в роли «лакея», а «кухаркой» взяли П. И. Ивановскую, старую революционерку, каторжанку, бывшую в свое время членом Исполнительного комитета «Народной воли».
Квартира на улице Жуковского, 31 стала боевым штабом отряда, вновь вернувшегося в единоличное распоряжение Савинкова. Действовал отряд по старому плану и старыми методами. Правда, выслеживание Плеве было завершено: каждое утро, в определенный час, он покидал здание Департамента, в котором находилась и казенная квартира министра внутренних дел, садился в карету и отправлялся на доклад к царю. Это было правилом с крайне редкими исключениями.
Но, лично контролируя действия отряда Савинкова, инженер Раскин не забывал «отмечаться» и у своих полицейских начальников. Ратаев, подзапустивший по своей лености дела с заграничной агентурой, требовал возвращения Азефа в Париж, но Евгений Филиппович не спешил, разъезжал по российским городам, то якобы разыскивая Изота Сазонова, чтобы узнать у него о террористических планах Сазонова Егора, то «выясняя» личность неизвестного боевика, погибшего при взрыве собственной бомбы в ночь с 13 на 14 апреля. Неделю в июне он провел в Петербурге в квартире на улице Жуковского, ревизуя действия боевиков и поднимая их моральный дух. Поймав Савинкова на «вопиющих», как он заявил, нарушениях правил конспирации, он опять устроил ему жестокий разнос. И привычно подстраховался: сообщил «открытое им» имя погибшего в апреле террориста — Покотилов; доложил, что нашел наконец Изота Сазонова и тот знает о своем брате лишь, что он «что-то затевает»; донес: в доме 31, на Жуковской, в той самой квартире, которая была штабом боевиков и в которой он жил целую неделю, находится склад нелегальной литературы. Боевики к этому моменту квартиру покинули, Азеф же «отдал» ее на тот случай, если полиции вдруг стало или станет потом известно о его появлениях в этом доме, тем более, что, как боевикам показалось, поблизости появились филера.
Затем отправился в Москву, где в Сокольниках провел свое последнее совещание с боевиками, уточнил диспозицию и назначил срок выступления — 21 июля. Бомбистами были назначены четверо: Сазонов, Каляев, Боришанский и Сикорский.
Затем, отправив Ратаеву донесение, что, по его сведениям, террористы решили отложить покушение на Плеве и готовят акцию против иркутского генерал-губернатора Кутайсова, отправился в Вильно, куда после убийства Плеве должны были собраться савинковцы.
И опять покушение сорвалось: Сазонов опоздал и не явился вовремя на отведенное ему место. И опять возникла паника, и опять Савинков бежал вместе со всем отрядом — в Вильно, в третий раз оправдываться перед Азефом.
Но Иван Николаевич, видимо, уже был готов к такому повороту событий, не кричал, не бушевал, неделю делил с боевиками стол и кров, беседовал по-братски, по-отечески. Перед возвращением отряда, восстановленного им морально, в Петербург, как потом вспоминала Ивановская, сидели вместе всю ночь в каком-то дешевом трактире — в маленькой, тускло освещенной комнате... задумчивые, обреченные, перекидывались ничего не значащими словами. Один Азеф казался спокойным, внимательным, преувеличенно ласковым.
Перед отъездом боевиков он всех их жарко расцеловал... Сам в Петербург, естественно, ехать не собирался.
...Плеве был убит солнечным утром 28 июля на Измайловском проспекте. Бомба, брошенная Сазоновым, пробила стекло дверцы кареты министра и взорвалась внутри.
Другим бомбистам вступать в дело не понадобилось, и они скрылись, оставив у обломков кареты тяжело раненного, потерявшего сознание Сазонова.
Азефа эта весть застала в Варшаве, куда он сразу же вместе с Ивановской из Вильно перебирался после выступления в поход отряда Савинкова. При расставании договорились — собраться после «дела» в Варшаве. Первые телеграммы, появившиеся в газетах, сообщали, что в Петербурге совершено покушение на Плеве. Затем в новых выпусках аршинные заголовки: «Замордовано Плевего» («Убийство Плеве»).
Не предупредив Ивановскую, Азеф кинулся на вокзал и первым же курьерским поездом помчался в Вену, чтобы дать оттуда телеграмму Ратаеву — документально подтвердить, что узнал о гибели Плеве, будучи за границей Российской империи: об алиби он заботился всегда в самую первую очередь. А теперь алиби было нужно ему как никогда. Взрыв бомбы Сазонова потряс весь Департамент снизу доверху. Ратаев был немедленно вызван из Парижа для объяснений, а до отъезда, в свою очередь, постарался получить объяснения от Азефа. К Лопухину он явился готовым защищаться и защищать инженера Раскина.
— Азеф свою неосведомленность объясняет тем, — говорил Ратаев директору Департамента в конфиденциальной беседе, — что Департамент полиции недостаточно осторожно относился к сообщаемым им сведениям, слишком часто пользовался ими для предупреждения различных замыслов социалистов-революционеров. В результате своих обусловленных таким образом неудач они стали проявлять исключительную осторожность, пресекшую для Азефа источник осведомленности как раз в самое тревожное время.
Напомнил Ратаев, конечно, и о жалобах Азефа на «неосторожные» аресты, проводившиеся полицией в «непосредственной близости» от Азефа, например, в деле с группой Клитчоглу, о том, что Департамент неоднократно не берег, а «подставлял» своего ценнейшего секретного сотрудника, из чего напрашивался вывод — в среде социалистов-революционеров могло появиться и определенное недоверие.
Разговор был долгий, Ратаев твердо стоял на своем, перелагая косвенную вину за случившееся с себя самого и своей заграничной агентуры на Департамент. Лопухину же, похоже, ничего не оставалось, как попытаться отнестись к случившемуся по-философски.
Впоследствии он объяснялся следующим образом:
«Время было такое, что не надо было никаких тайных агентов, чтобы понять, что раз существует группа, проповедующая политический террор, Плеве должен (был) стать первой жертвой».
Конечно, Департамент был в моральном шоке: если даже Азеф не знал о готовящемся покушении, то на кого оставалось теперь надеяться? Но особых неприятностей сверху не последовало.
Зато для Азефа наступил наконец долгожданный триумф. Именно в те дни родилась о нем легенда, как о бесстрашном и решительном борце против самодержавия, которому убийством Плеве он нанес самый решительный удар за последние десятилетия. Его ставили выше Желябова, организовавшего 1 марта 1881 года убийство Александра II. Даже Брешко-Брешковская, «бабушка русской революции», недолюбливавшая Азефа (потому, что не могла разобраться, что он на самом деле за человек, и относившаяся к нему с инстинктивным недоверием), приветствовала героического Ивана Николаевича, человека железной воли, неисчерпаемой инициативы, исключительно смелого организатора-руководителя (это лишь немногие из восторженных слов, произносившихся тогда в адрес Евно Фишелевича) низким поясным (по-русски) поклоном.
Даже почитатели отбывающего каторгу Гершуни изменили своему идеалу, отмечая, что у Ивана Николаевича оказался «исключительно точный, математический ум». Даже Гоц делал сравнения в пользу Азефа.
— Прежде у нас был романтик Гершуни, — говорил он, — теперь у нас реалист Азеф. Он не любит говорить, он еле-еле бормочет, но уж он проведет свой план с железной энергией, и ничто его не остановит.
Боевики же отныне просто боготворили своего «генерала БО» и были готовы пойти на смерть по первому его зову...
Сазонов бредил. Тяжело раненный взрывом бомбы, брошенной им в карету Плеве, он метался в бреду па койке тюремной больницы. Возле него день и ночь дежурили сотрудники Департамента.
— В Вильно... надо спешить в Вильно, — записывал дежурный полицейский. — Вильно... Вильно... Валентин ждет... тетушка и Валентин...
— Валентин... товарищ Валентин... дайте знать Валентину... — записывал другой сотрудник Департамента.
И следователь, которому было поручено вести дело об убийстве Плеве, размышлял: Валентин — такова подпольная кличка Азефа, тетушка — Ивановская...
Казалось бы, нити расследования связывались сами собою, выводили на след преступников. Но следователь не спешил. Покойного министра он недолюбливал, как и многие выученики Зубатова.
«Будь сейчас на своем месте Сергей Васильевич, — думал следователь, — раскрутил бы все в три дня, а теперь...»
А теперь Сергей Васильевич Зубатов вот уже почти год как во Владимире, уволенный в отставку и отданный под надзор полиции по распоряжению самого Плеве. В Департаменте шептались, что после того, как министр отдал приказ о прекращении деятельности «зубатовских рабочих кружков», Сергей Васильевич вознамеривался скинуть самого министра и затеял какую-то интригу с помощью Сергея Витте, всемогущего министра финансов. Но Витте покинул свой пост почти одновременно с Зубатовым. Несмотря на заступничество Лопухина, Плеве не простил Зубатову интриги, расправился с ним жестоко, выгнал с позором, обвинив в выдаче государственных тайн жидомасонам. Начались и гонения на ближайших сотрудников Сергея Васильевича. И теперь в ожидании перемен, грядущих при новом министре Петре Дмитриевиче Святополк-Мирском, следователь не спешил проявлять служебное рвение, и следствие замкнулось на террористе-одиночке Егоре Сазонове. Дальше его следствие не пошло, а приговор суда, учитывая «весну», провозглашенную Святополк-Мирским, решившим «восстанавливать отношения с общественностью», был не слишком суровым — каторга с отбыванием наказания сначала в Шлиссельбурге, потом в рудниках Акатуя...
И все же кончил Егор Сазонов трагически: в конце 1910 года он, протестуя против зверского обращения с политическими, совершил самоубийство. С его смертью на деле об убийстве Плеве крест был поставлен окончательно.
Азеф продолжал лезть из кожи вон, чтобы доказать Ратаеву свою преданность полицейскому делу: с его помощью Департамент был посвящен во все подробности жизни политической эмиграции, знал о всех партийных делах, о всех совещаниях и встречах, о всех партийных решениях и внутрипартийных конфликтах, знал все об эсерах и все об эсдеках, но... ничего о ВО и ее планах.
Действительно, инженер Раскин без устали доносил Ратаеву и письменно и устно, безжалостно отдавая революционеров полиции, особенно тех, кто еще осмеливался становиться у него на пути вроде уже упоминавшихся Марии Селюк и Слетова, которых он выдал за «самых опасных террористов». Рассчитался Иван Николаевич и с «одесской оппозицией». Вся она была отдана, как «руководители Боевой Организации» и «члены ЦК», хотя все это были лишь отбывшие срок ссыльные и политкаторжане, давно отошедшие от практической работы в партии кто по возрасту, кто по здоровью. Так отомстил им Иван Николаевич за попытку поднять против него в апреле 1904 года внутрипартийное восстание.
Иван Николаевич не хотел стоять на месте, понимая, что застой — загнивание, а загнивание — смерть. Надо было завоевывать новые высоты и в партии, и в Департаменте, поднимать себе цену во всех отношениях.
И вот уже Ратаев сообщает по начальству: по мнению инженера Раскина, социалисты-революционеры собираются ставить покушение на царя.
Расчет Азефа безошибочен: после убийства Плеве террор стал жутким кошмаром, преследующим не только сановный Петербург, но и царскую фамилию. Любая информация, связанная с разоблачением террористов, ценилась теперь Департаментом буквально на вес золота.
Мария Селюк и Слетов, отданные Азефом, как участники заговора против царя, а на самом деле бывшие активнейшими противниками террора, оказались надолго упрятаны за решетку.
А тем временем Иван Николаевич взялся за перестройку ставшей уже его полной собственностью Боевой Организации. Прежде всего надо было окончательно вывести ее из-под какого-либо подчинения Центральному Комитету ПСР. И вот уже выработан собственный устав БО, делающий ее зависимой лишь от решений собственного «особого комитета» — триумвирата во главе с «членом-распорядителем» Иваном Николаевичем. В комитет, как ветераны террора, вошли, кроме него, Савинков и Швейцер, получив тем самым официальное признание в качестве первых помощников «генерала БО».
Касса БО, в которой, по словам Савинкова, находились десятки тысяч рублей пожертвований, поступивших от «симпатиков», Центральным комитетом больше не контролировалась, и распоряжался ею по своему усмотрению «член-распорядитель», то есть Азеф. Молодежь рвалась в Боевую Организацию, но вступить теперь в нее было не просто. Иван Николаевич с приемом новых боевиков не спешил: провокатор, в свою очередь, опасался провокаторов.
С желающими вступить в БО он встречался лично и по многу раз. И чем горячее говорил кандидат о своем желании отдать жизнь за святое дело революции, тем мрачнее становился Иван Николаевич. Дав молодому человеку выговориться, он с суровым видом начинал уговаривать волонтера выбросить из головы эту опасную и чуждую здравому смыслу затею, расписывал террор как труднейшую и неблагодарнейшую, грязную, будничную работу, далеко не всегда дающую желаемые результаты.
— Есть ведь и другие, очень важные и нужные формы борьбы, — уговаривал он почтительно внимающего ему кандидата в боевики. — Партии нужны хорошие пропагандисты и агитаторы, организаторы-конспираторы, талантливые постановщики типографий и организаторы транспортов нелегальной литературы...
Постепенно голос Азефа становился задушевнее, он мягчал, в словах его были искренняя забота и желание помочь собеседнику выбрать наиболее подходящий ему путь в революцию, помочь ему найти в ней себя, избавить от грядущих разочарований.
Убеждать, подчинять людей своей воле он, как известно, умел, но если видел, что перед ним «твердый орешек», не переживал.
— Так что подумайте еще, все взвесьте, по плечу ли вам дело, в которое вы хотите вступить, оно ведь на всю жизнь, и выход из него может быть только один — смерть. А потом мы с вами как-нибудь встретимся и поговорим. Партии новые люди нужны...
Нет, он не отталкивал энтузиастов, рвущихся в террор, но заставлял их много и много раз подумать прежде, чем принимать окончательное, бесповоротное решение. И конечно же, проверял их самым тщательным образом.
К вновь принятым на первых порах относился чуть ли ни по-отечески, интересовался их личными проблемами, сочувствовал, подсказывал, помогал деньгами, как вспоминал впоследствии один из бывших боевиков, «казался необычайно внимательным, чутким и даже нежным».
И все это срабатывало. Насколько известно, среди отобранных им лично боевиков не оказалось ни одного провокатора, ни одного, кто бы не выдержал, сломался на допросе или раскаялся на суде, перед смертной казнью. И это прибавляло лавров Ивану Николаевичу, ведь среди боевиков Гершуни такие были. Когда же после разоблачения Азефа Савинков решил восстановить БО и сформировал свой собственный отряд, из двенадцати членов его группы трое оказались полицейскими провокаторами.
Слава, как известно, не вечна. И, прекрасно понимая это, Иван Николаевич должен бы продолжать на нее работать. К этому его подталкивал и энтузиазм воодушевленной убийством Плеве партийной молодежи, и складывающееся в партии настроение на террор, как на основной метод работы. Это было настроение нетерпеливо-го большинства, поддерживаемого самым влиятельным в ПСР человеком — Михаилом Гоцем.
Несмотря на усиливающуюся болезнь, на первые признаки надвигающегося паралича, Гоц был подлинным генератором идей, которые Азеф лишь осуществлял на практике, присваивая в случае успеха лавры героя-победителя себе и укрепляя таким образом собственный авторитет. Этот авторитет, по его оказавшимся в дальнейшем совершенно правильным расчетам, должен был стать надежной защитой на случай, если вдруг как-нибудь вскроются его многолетние связи с Департаментом. Такому никто не должен был бы поверить, несмотря на любые доказательства.
Азеф знал, что люди не видят и не слышат того, чего они не хотят видеть и слышать, что нежелание видеть и слышать нежелаемое заставляют умолкнуть самые реальные факты, глушат самые сильные доводы разума, подменяемого слепой верой и фанатичным упрямством. И лишь немногие, единицы, находят в себе силы и возможность подняться над всем этим и, трезво взглянув внутрь себя, признать крах того, во что они еще вчера так верили и в чем до самого последнего мгновения наотрез не желали даже усомниться.
К концу 1904 года Азеф сумел значительно укрепить и расширить Боевую Организацию. Теперь ему активно помогал и Центральный комитет, в котором по- прежнему главные роли играли Михаил Гоц и Виктор Чернов. Помощь была всевозможная: идейно-организационная, моральная и материальная. И без того богатая касса ВО стала пополняться еще и из кассы ЦК. На общем совещании в Париже, под носом у Ратаева и его заграничной агентуры, руководители ЦК и ВО приняли решение развернуть поход против «вождей придворной реакционной партии», а именно против великих князей Сергея Александровича (дяди царя, генерал-губернатора Москвы и командующего московским военным округом) и Владимира Александровича, тоже дяди царя, считающегося влиятельной и крайне реакционной фигурой даже в царском окружении. Было запланировано и покушение все на того же Клейгельса. Можно предположить, что на этом настаивал Савинков, для которого убийство киевского генерал-губернатора стало своего рода идеей фикс.
Ратаеву обо всем этом инженер Раскин не доложил, зато немедленно принялся за конкретную разработку планов терактов. По политической театральности их постановки он задумал переплюнуть самого «художника в терроре» Гершуни: покушения в Петербурге, Москве и Киеве должны были произойти одновременно, что дало бы небывалый доселе в деле террора эффект. Для каждой операции было создано по отдельному отряду. Московский возглавил Савинков. Ему было выделено четыре боевика и семь тысяч рублей — для начала. Самый маленький отряд — из трех человек во главе с Боришанским — выделялся против Клейгельса, а самый большой (пятнадцать боевиков), возглавляемый Максом Швейцером, отправлялся в Петербург — против великого князя Владимира Александровича. Швейцеру поручалось также начать подготовку терактов против петербургского генерал-губернатора Трепова и товарища министра внутренних дел Петра Николаевича Дурново, в 1884—1893 годах бывшего директором Департамента полиции (и санкционировавшего вербовку студента из Карлсруэ Евно Фишелевича Азефа).
И то, что имя Дурново появилось в списке «смертников», — не было ли это стремление Азефа начать избавляться от опасных для его будущего свидетелей? Ведь занимая и теперь высокий пост в министерстве внутренних дел, Дурново знал о продолжающейся работе на полицию своего давнего «крестника».
Динамит, необходимый для покушений, изготовлялся в нелегальной парижской лаборатории под непосредственным контролем Ивана Николаевича. Он же обеспечивал отъезжающих в Россию боевиков фальшивыми документами. И, следуя своим правилам, собирался прибыть к месту действия лишь после того, как будет закончена работа наблюдателей — все тех же «извозчиков» и «разносчиков» — для ревизии и корректировки действий боевиков.
В конце ноября 1904 года все три отряда благополучно перебазировались в Россию — к местам предстоящих им боевых действий — и приступили к подготовительной работе.
«Мэри Гонзалес, взятая нами горничная баронессы Миллер, показала: вечером, накануне своей смерти Никольский явился к баронессе. Я подала им самовар. О чем они разговаривали, не знаю — не слышала.
Потом Никольский ушел, забрав хранившийся в кабинете баронессы, которым он всегда пользовался, как своим, зеленый атташе-кейс. На следующее утро, около 8 часов, он пришел опять и принес кейс. Баронесса была еще в постели, но он прошел к ней в спальню, и они некоторое время о чем-то разговаривали. К утреннему чаю Никольский не остался, он очень спешил и ушел, оставив кейс в кабинете баронессы.
Около полудня к нам приехал господин Николаев, в последнее время часто бывавший у баронессы вместе с Никольским. Баронесса отдала ему зеленый атташе-кейс и еще какой-то желтый конверт. Когда господин Николаев покинул виллу, она сразу же вызвала начальника своей охраны Салеха, и Салех с несколькими охранниками куда-то уехал на «шевроле» баронессы. Потом от охранников я слышала, что они сопровождали господина Николаева до русского посольства и что им было приказано охранять его до той минуты, когда он переступит порог посольства.
С целью предотвращения утечки информации Мэри Гонзалес пришлось ликвидировать. Фелиция».
Профессор неодобрительно покачал головою — он не любил грязной работы, хотя считал, что избежать ее в деле, которым он занимался, практически нельзя.
Он перевернул шифрограмму вниз текстом и взялся за следующий листок.
«Наблюдатель номер четыре сообщил, что в интересующий нас день господин Николаев чуть позже полудня подъехал к проходной русского посольства, сопровождаемый темно-синим «шевроле» баронессы Миллер, и поспешно вошел в проходную с зеленым атташе-кейсом. Через полчаса он вышел из посольства уже без кейса и отправился, можно полагать, домой. Однако примерно через час вернулся в посольство и покинул его уже с привозившимся им ранее зеленым атташе-кейсом. Примерно через неделю он опять отвез кейс в посольство и по настоящее время оттуда его не забирал. Фелиция».
Профессор сдвинул брови: вести из Бейрута не радовали. Если коллекция Никольского уже в советском посольстве, для него, Профессора, она безвозвратно утеряна. Конечно, материала по Азефу у него хватает и так — публикаций по этой теме было в 20-х годах немало, интересных и разнообразных, и теперь, конечно, просто позабытых. Есть и копии кое-каких архивных документов...
Но, поймав себя на стремлении успокоиться, он возмущенно фыркнул: реальности, какая бы она ни была неприятная, надо смотреть в глаза — потеряно многое, очень многое, потеря и моральная, и политическая, и финансовая. В коллекции Никольского наверняка должны быть оригиналы документов малоизвестных или неизвестных вовсе, ценных и в научно-историческом плане, и как раритеты — на лондонском аукционе фирмы «Сотбис» за них отвалили бы немалые деньги. Но главное — вдруг там сохранились списки агентов Герасимова, вышедших, подобно Азефу и Малиновскому, на высокие, а то и на высшие посты и роли в российском революционном движении! В то, что Герасимов уничтожил формуляры и списки своих самых ценных агентов, Профессор не верил, не хотел верить — слишком умным, предусмотрительным и дальновидным был Александр Васильевич!
При этой мысли на душе стало немного легче, но главное сейчас было не поддаться панике, не опустить руки, действовать и только действовать! Интуиция подсказывала ему, что еще не все потеряно, что хоть один, пусть даже самый маленький шанс, но остался, и его надо использовать.
Он нажал кнопку интеркома и, услышав ответ начальника шифровальщиков, попросил его зайти.
* * *
...Кровавое воскресенье января 1905 года чуть было не смешало все планы Азефа. Даже его дисциплинированные, приученные к беспрекословному подчинению боевики заволновались, как охотничьи псы, почуявшие близкую добычу. Ситуация развивалась так, что теперь можно было бы поставить вопрос и о покушении на царя, перед дворцом которого несколько часов шла кровавая бойня. Если уж даже священнослужитель Георгий Аполлонович Гапон призывал в своих воззваниях: «Берите бомбы и динамит — все разрешаю! У нас нет больше царя!» — то цареубийство ставила на повестку дня сама жизнь.
Но без разрешения «генерала БО», без его указаний ни Савинков, ни Боришанский, ни даже Макс Швейцер менять утвержденные им планы не решались. Ждали, что в такой горячий, выгодный для террора момент Иван Николаевич примчится в Россию и возглавит готовых на все боевиков, отправляли Азефу в Париж призывы — немедленно приехать и «ковать железо, пока горячо», но ответом было молчание. Какие только мысли не приходили в горячие головы возбужденных событиями боевиков, какие только версии они не выдвигали, какие предположения не рассматривали, чтобы оправдать молчание своего кумира, этого «сурового террориста», «непреклонного революционера», как они влюбленно называли его между собой; никому, ни единому человеку не пришла мысль, что «генерал БО» просто трусил, просто боялся покинуть свое безопасное убежище в Париже и ринуться в кровавый хаос, охвативший было тогда Россию, начинавшую свою первую революцию. Охранка свирепствовала, в нее должен был вот-вот вернуться такой ас политического сыска, как Зубатов. После того, как его «рабочее движение», возглавляемое Гапоном, Шалевичем и Вильбушевичем, скомпрометировало себя связями с полицией и позорно провалилось, а политический сыск доказал свою беспомощность, в коридорах высшей власти вновь вспомнили слова покойного Плеве: «...вся полицейская часть, т. е. полицейское спокойствие государства в руках Зубатова, на которого можно положиться!»
И, вернись Зубатов в Департамент, начни профессионально, как это он умел, расследовать дело Плеве, свяжи в единый узелок ниточки, невольно данные в руки следователей Сазоновым, он непременно бы вышел на инженера Раскина и уж нашел бы возможность рассчитаться с ним за предательство.
Нет, при таких обстоятельствах Азеф появляться в России не собирался.
Один из исследователей «дела Азефа» писал о его парижских днях начала 1905 года:
«Этот «азартный игрок» человеческими головами, как рисовала, а порой и теперь еще рисует творимая легенда, в глубине души был жалким, физиологическим трусом, влюбленным в маленькие радости жизни и судорожно за них цепляющимся. Поэтому-то одна мысль о предстоящей поездке в Россию приводила его в подлинный трепет, бросала его в состояние настоящей истерики».
Сохранились и воспоминания о тех днях Ивановской (Тетушки):
«По какому-то неотложному делу я однажды зашла в квартиру жены Азефа. Толкнувшись в первую комнату и не найдя там никого, я заглянула в полуоткрытую дверь второй комнаты, рассчитывая там встретить хозяйку. Мелькнувшая перед глазами картина заставила меня быстро попятиться назад, но и в этот краткий момент память успела зафиксировать слишком многое. На широкой кровати, полуодетый, с расстегнутым воротом фуфайки, лежал откуда-то вернувшийся Азеф... Его горой вздувшееся жирное тело тряслось, как зыбкое болото, а потное дряблое лицо с быстро бегавшими глазами втянулось в плечи и выражало страх избиваемой собаки с вверх поднятыми лапами. Это большое, грузное существо дрожало, как осиновый лист (как я узнала впоследствии), только при мысли о необходимости скорой поездки в Россию».
Но теперь машина БО действовала и без своего «генерала». Савинков, трижды полупивший предметный урок, четко осуществлял в Москве намеченный план, опираясь при этом на своего старого друга Ивана Каляева, твердо решившего погибнуть, но достать бомбой великого князя Сергея Александровича. Покинуть свой отряд, ссылаясь на отсутствие Азефа, он на этот раз не посмел, тем более, что (из безопасного Парижа) Азеф давал о себе знать требованиями ускорить события.
«Вычислить», как сказали бы сегодня, Сергея Александровича для группы наблюдения (все тем же «извозчикам» и «разносчикам») не представляло никакого труда: после известной, организованной Зубатовым, монархической демонстрации рабочих и грандиозного молебна московский генерал-губернатор считал себя чуть ли не любимцем народа и ездил по первопрестольной и появлялся на людях без охраны.
Выходил на великого князя Иван Каляев дважды. В первый раз бомбу не бросил, увидев вместе с Сергеем Александровичем — в его карете — детей, решил, что не нужны напрасные жертвы. Во второй раз, 17 февраля, бомбу бросил. Великий князь был убит на месте.
И опять партия славила Ивана Николаевича, убившего самого великого князя. Он же великодушно отмечал роль в этом деле и Савинкова. Каляева его боевые друзья оплакали, по-русскому обычаю помянули... и продолжали молиться на Азефа. Молился на него (больше всех) и Савинков, позабывший свои прежние обиды.
Отныне авторитет Ивана Николаевича в Партии социалистов-революционеров был непререкаем.
И если раньше Савинков считал, что Иван Николаевич «как человек чрезвычайно тяжел и груб» и между ними не было «отношений никаких», то Азефа этого периода он вспоминал уже в других выражениях.
«Перелом в отношениях, — читаем мы в протоколе Судебно-следственной комиссии ПСР, — начался именно с дела Сергея. Когда после дела Сергея я приехал за границу, то увидел нечто совершенно противоположное тому, что видел до сих пор.
Азеф проявил необычную мягкость, необычную заботливость не только обо мне лично, но и обо всех нас. И тогда мне показалось, что я этого человека не понимал, что за грубой оболочкой скрывается совершенная душа. С тех пор наши отношения значительно улучшились, но никогда не достигали размера близкой дружбы.»
Да, изрядно перетрусивший тогда Азеф помягчал, это ему диктовало развитие событий, заставляющее готовить запасные выходы на всякий случай — а именно: поддержку боевиков против ЦК ПСР.
К пониманию ситуации пришел впоследствии и Савинков, правда, много позже, когда Иван Николаевич уже был разоблачен, как провокатор.
«Мне кажется, что все время я до известной степени был игрушкой в его руках, — каялся этот «охотник за черепами», — и не только в организационных отношениях. Он варьировал свои отношения в зависимости от личных целей, а потом пользовался моими отношениями к нему, как козырем в неизвестных случаях».
Стоят внимания и объяснения Савинковым секрета влияния Азефа на членов Боевой Организации:
«В отношении к товарищам он действительно бывал иногда суроват и резковат. И я думаю, что не ошибусь, если скажу, что большинство товарищей по отряду его не любили, а только чрезвычайно уважали и ценили. Но эту шероховатость и подчас даже отсутствие душевных движений мы себе объясняли тем, что — что же делать, на войне, как на войне — человек стоит во главе такого дела, и тут не до сентиментальности. Если к этому прибавить предпосылку, что он считался другом Гоца и другом Гершуни, и вообще другом и приятелем всех уважаемых в партии людей, то это все, что я мог бы сказать по этому вопросу...
...у меня всегда оставалось такое впечатление, что во всех практических вопросах он был на целую голову выше всех остальных. В теоретических вопросах он молчал. Теперь, конечно, многое нужно скинуть. Человек имел перед собой открытую шахматную доску, но тогда от нас это было скрыто».
Последней фразой Савинков, похоже, намекал, что Азефу были известны и планы БО, и планы Департамента полиции, отсюда и «открытая шахматная доска».
Так или иначе, великий князь Сергей Александрович был убит, и за его смерть заплатил своей жизнью истинный идеалист Иван Каляев. Но с другими частями намеченного в Париже плана террористических акций дело обстояло гораздо хуже.
Началось с того, что бежал из Киева Боришанский, направленный «на Клейгельса». Свой отъезд из Киева и появление в Петербурге Боришанский объяснил политической незначительностью порученного ему дела — особенно после убийства Сергея Александровича — и желанием принять участие в деле настоящем, в подготовке «поминок» по тем революционерам, которые 34 года назад заплатили своими жизнями за участие в убийстве Александра II (1 марта — по старому стилю — 1881 года).
Акция должна была состояться, когда в Петропавловский собор к гробу «убиенного» (в годовщину его смерти) должны были прибыть великий князь Владимир Александрович, генерал-губернатор Петербурга Трепов, министр внутренних дел Булыгин и товарищ министра внутренних дел Дурново.
Наблюдательная группа и без того большого, а теперь еще и усиленного боевиками Боришанского, отряда Швейцера работала, хоть и по старинке (все те же «извозчики» и «разносчики»), но довольно успешно. Макс Швейцер вникал в каждую мелочь.
«Молодой, красивый, на редкость смелый и бесстрашный, он был богат инициативой, крепок и вынослив, и если чем грешил, так это только молодой самонадеянностью», — пишет о нем впоследствии один из исследователей эсеровского террора, отметив, что «в своем сознании через «переулочек» террора он шел к широкому, массовому социалистическому движению будущего» и был одним из «тех немногих террористов, которые совершенно не поддавались на все попытки Азефа пропитать их пренебрежительным отношением к массам».
Будучи химиком по образованию, Швейцер взял на себя такое ответственное и опасное дело, как «снаряжение» бомб. И в ночь на И марта одну из петербургских гостиниц потряс взрыв страшной силы. Это была та самая, «единственная в жизни сапера» ошибка Макса Швейцера, считавшего, что как специалист он застрахован от нее больше любого другого члена своего отряда. Швейцер был разорван на куски. И хотя личность его установить полиции не удалось, были активизированы провокаторы, такие же, как инженер Раскин, секретные сотрудники, только куда более низкого уровня. На Петербург опустилась густая сеть полицейского сыска.
И один из провокаторов все-таки преуспел. Действуй боевики быстро и решительно, они сумели бы скрыться, бежать, бросив все, из Петербурга. Но они были деморализованы трагической гибелью своего командира и хорошо помнили о позорных бегствах с поля боя Савинкова. Жалко было оставлять и огромную, проделанную ими подготовительную работу к теракту, который затмил бы, если бы удался, все теракты, когда-либо осуществлявшиеся в России. К тому же они верили: вот-вот в Петербург к ним приедут из-за границы сам Иван Николаевич и его верный помощник Савинков. Приедут — помогут все исправить, наладить заново...
И безграничная вера в «генерала БО» их погубила: как всегда в минуты опасности, Азеф решил не рисковать собственной головой. Примеру учителя последовал и Савинков — они продолжали «задерживаться» в Париже, бросив деморализованный отряд Швейцера на произвол судьбы. Тем временем кольцо вокруг боевиков смыкалось. Полиция устанавливала их одного за другим и в самые последние дни марта произвела аресты. Были взяты все, кроме Доры Бриллиант, которой каким-то образом удалось скрыться.
Ультрареакционная газета «Новое время», верноподданнически отражая ликование полицейского начальства, назвала арест такой большой группы боевиков «Мукденом русской революции».
И опять обратимся к Савинкову, взявшему на себя роль летописца БО. Вот что писал он впоследствии об этом страшном политическом, материальном и моральном поражении и его последствиях для «дела террора»:
«...Впоследствии Боевая Организация никогда уже не достигала такой силы и такого значения, каким она пользовалась» (в период между убийством Плеве и петербургскими арестами).
Впрочем, на фоне разворачивающейся первой русской революции становилось все более очевидным, что искры индивидуального террора не способны зажечь массовое движение, вызвать в народе мощный революционный взрыв. Социал-демократы, большевики явно выигрывали в политическом соревновании с эсерами, сделав ставку на работу с массами, на массовость политического движения. Поняли это и в Партии социалистов-революционеров, в которой «террористическое крыло» стало заметно слабеть, зато набирали силу «массовики», направлявшие в Россию, особенно в деревню, опытных пропагандистов-агитаторов, нелегальную литературу и даже значительные партии оружия — в расчете на крестьянские восстания летом 1905 года. На первый план вновь стали выходить эсеровские писатели-пропагандисты, отодвинутые было в тень в минувшие годы Иваном Николаевичем и его боевиками.
В июле 1905 года, при переводе из Якутской ссылки в Енисейскую, удалось бежать Аргуновым, нелегально прибывшим в Москву. Слухи о подвигах Азефа до них доходили и в ссылке, но то, что они узнали в первопрестольной, их поразило.
«В Москве мы ознакомились, в общих чертах, с положением партийных дел, — писал в своих воспоминаниях Аргунов, — и, между прочим, с ролью Азефа в партии. Вместо скромного и пассивного Толстяка, каким он был до самых последних дней расставания в 1901 году, теперь высилась фигура «организатора дела Плеве», «князя Сергея» и пр. и пр.».
А при личной встрече в августе 1905 года Иван Николаевич, бывший Толстяк, подошел к Аргунову и снисходительно похлопал этого заслуженного и уважаемого в ПСР человека по плечу:
— Ну нет, Андрей Александрович... Было время, я был под вашим начальством, а теперь я вам начальство...
Он уже избавился от пережитых страхов: арестованные боевики из отряда Швейцера никого не выдали, на допросах молчали — недаром же их так тщательно отбирал и готовил в террор сам «генерал ВО». Каляев погиб на виселице, унеся все, что знал о «генерале ВО», в могилу. Погибшего при взрыве бомбы-самоделки Швейцера так и не опознали, имени его никто из арестованных не назвал. И дело великого князя Сергея Александровича, как и дело Плеве, так и осталось нераскрытым.
Ратаев, думающий теперь больше о том, как бы уйти в отставку с повышенной пенсией, был занят составлением обзора своей деятельности за годы пребывания в Париже и при встречах с Азефом не уставал говорить об этом, пересказывая ему уже написанное. Оперативная работа его интересовала постольку, поскольку нужно было все-таки посылать в Департамент хоть какие-нибудь донесения. И, встречаясь с Ратаевым, больше выведывал у разговорчивого «бонвивана» о делах Департамента и его заграничной агентуры, чем сообщал ему. Впрочем, все же сообщал. Например, о том, что в июле в Нижнем намечено провести совещания Боевой Организации, куда предполагает поехать и он сам.
Департамент отнесся к этому делу с интересом: в июне инженер Раскин появился в России и принялся за подготовку совещания. Нижний был наводнен филерами, которым Азеф одного за другим показывал участников совещания. Сам Азеф был известен, заранее показан приехавшим сюда филерам их начальством. Этого видного, хорошо одетого, респектабельного господина было велено не трогать ни в коем случае. Местные филера смотрели на него с завистью и уважением — их столичные соратники говорили, что этот вальяжный инженер получает за работу на Департамент большие деньги. Можно представить, что было бы с филерами, если бы они узнали, что только за 1905 год вальяжный господин, как инженер Раскин и Иван Николаевич — в одном лице, получил от БО, ПСР и Департамента на расходы 155 267 франков! Отчитался же в израсходовании всего 24 560 франков. Ну, как тут не вспомнить савинковское: крал!
Совещание в Нижнем, на котором предполагалось обсудить планы и роль БО в новой, революционной ситуации, складывающейся в России, практически было сорвано. Подождав, когда все ожидаемые участники соберутся и будут «установлены» филерами, Азеф вдруг объявил Савинкову, что заметил слежку и всем надо срочно разъезжаться. Началось почти паническое бегство и хорошо подготовленное преследование. Это была самая крупная (до сих пор) отдача инженера Раскина — почти вся Боевая Организация! И, как всегда, для самого себя им было обеспечено алиби.
По его словам, проезжая через Москву и встречаясь со старой народоволкой А. В. Якимовой, отбывшей 20 лет каторги за участие в подготовке убийства Александра II (она была «хозяйкой» лавки, из которой делался подкоп для взрыва проезжающей мимо царской кареты) и стремящейся вступить в БО, он заметил за ней усиленную слежку.
И, судя по всему, слежка последовала за нею в Нижний. Это подтверждалось хотя бы тем, что при поспешном отъезде из Нижнего Якимова была арестована прямо в поезде и снята с него во Владимире.
После отдачи участников несостоявшегося совещания в Нижнем инженер Раскин мог быть спокоен за свои отношения с Департаментом — деньги казенные он, в глазах полицейских чиновников, отрабатывал честно. И все же в глубине души его таился страх. Что отряд Швейцера был выдан провокатором, он знал от Ратаева, уже не скрывавшего от него своих секретов. Но кто этот провокатор и как глубоко он внедрен в партию или в Боевую Организацию, насколько он опасен для него, Азефа, разузнать он никак не мог, и это беспокоило его все больше и больше.
— Господин Ростковский, к вам дама, — объявил один из младших служащих банка, приоткрыв дверь кабинета, и сейчас же из-за его спины появилась элегантная дама в строгом темном платье и в шляпе со страусовыми перьями. Лицо ее было скрыто плотной вуалью, руки прятались в пышной муфте, хотя шел лишь только сентябрь и промозглая петербургская осень еще только собиралась вступать в свои права.
Ростковский вскочил:
— Чем могу служить, сударыня?
— Вы — инженер Ростковский? — приглушенным, тусклым голосом спросила дама и, увидев, что Ростковский утвердительно склоняет голову, извлекла из муфты конверт.
— Вам письмо, господин Ростковский, — сказала незнакомка и, положив конверт на стол, поспешно вышла, почти выбежала из кабинета.
— Сударыня... — только и успел произнести растерявшийся Ростковский, в недоумении уставившись на оставленный незнакомкой конверт. И сейчас же почувствовал, что на душе становится нехорошо, что его охватывают недобрые предчувствия.
Он, член петербургского комитета ПСР, не любил и боялся неожиданностей, особенно в последнее время, когда в Департаменте полиции появилась и стала мести по-новому «новая метла». После убийства великого князя Сергея Александровича Николай II изволил выразить недовольство деятельностью Департамента полиции и его директора А. А. Лопухина, участь которого была таким образом решена. Недавняя смерть Плеве, а теперь вот и великого князя — это было уже слишком. Недаром же Трепов, любимец царя и генерал-губернатор Петербурга, как только получил из Москвы телеграмму о гибели Сергея Александровича, сразу же бросился на Аптекарский остров. Вихрем пронесшись по зданию Де-партамента, он ворвался в кабинет Лопухина и, бросив ему с порога яростное: «Убийца!» — вылетел прочь, грохнув дверью так, что задрожали стекла.
На следующий день Трепов был высочайшим повелением обличен диктаторскими полномочиями, а затем назначен товарищем министра внутренних дел. Таким образом начальником Лопухина стал откровенный недруг. И сразу же при нем, как из-под земли, появился еще один давний враг Лопухина — Петр Иванович Рачковский. Сначала Трепов провел его на должность чиновника особых поручений при министре внутренних дел с обязанностью осуществлять «верховное руководство» деятельностью Петербургского отделения по охранению общественной безопасности и порядка. Затем Трепов продвинул его в вице-директора Департамента полиции «с возложением руководства всей политической частью Департамента».
Лопухин же был отправлен губернаторствовать в Эстляндию.
Захватив таким образом полицейскую власть, Петр Иванович взялся наводить порядок с разгона «лопухинцев» и «зубатовцев». Покатилась и голова Ратаева. Рачковский отныне лично занимался всей агентурой, и внутренней и внешней, особенно всем тем, что было связано с ПСР и ее террором. Ратаев был уволен на пенсию, по перед этим ему велели явиться в Петербург и лично «передать» инженера Раскина самому Рачковскому. Произошло это 21 августа 1905 года, а загадочный конверт таинственная незнакомка вручила члену петербургского комитета ПСР господину Ростковскому 3 сентября, как раз в разгар «чистки», проводимой Рачковским.
Ростковский несколько минут сидел без движения, как загипнотизированный, не сводя взгляда с конверта. Наконец решился, вскрыл его, прочел содержание вложенного листка — и сразу же побежали мурашки по коже.
«...Тов., партии грозит погром, — зловеще начиналось письмо. — Ее предают два серьезных шпиона. Один из них бывший ссыльный, некий Т., весной лишь вернулся из Иркутска, втерся в полное доверие к Тютчеву, провалил дело Иваницкой, беглую каторжанку Акимову, много других.
Другой шпион недавно прибыл из-за границы, какой-то инженер Азиев, еврей, называется и Валуйский, этот шпион выдал съезд происходивший в Нижнем Новгороде, покушение на тамошнего губернатора, Коноплянникову в Москве (мастерская), Веденяпина (привез динамит), Ломова в Самаре (военный), нелегального Чередина (в Киеве), Бабушку (укрывается у Ракитникова в Саратове)...» — и дальше имена, имена, имена...
Не в силах больше читать, Ростковский брезгливо отбросил от себя письмо и опустил голову. В висках стучало. Что это? Провокация или предупреждение кого-то, кто симпатизирует партии, работая в самом Департаменте? Но в любом случае этому человеку известно, что он, уважаемый служащий банка, инженер, человек с положением, член Партии социалистов-революционеров. прочно связавший свою репутацию с террором... И может быть, полиции надо его «спугнуть», заставить бежать, метаться, выдавая в панике явки и связи. Они же понимают, что такое письмо он должен, обязан передать товарищам в городской комитет. Так филерами будет установлена его первая связь.
А если это не провокация? Если действительно сигнал об опасности подает неизвестный и хорошо информированный благожелатель? Тогда нельзя терять время, нужно действовать, действовать, и немедленно!
Он вскочил и заметался по кабинету, словно загнанный в клетку зверь, ничего не видя, ничего не слыша... И вдруг с разбега натолкнулся на какое-то массивное, неизвестно откуда возникшее перед ним препятствие.
— Вы так могли бы и разбиться о меня, господин Ростковский, — услышал он насмешливый голос Азефа.
Азеф стоял перед ним с дымящей папиросой в руках, уверенный в себе, элегантно одетый, пахнущий дорогими парижскими духами. И первой мыслью Ростковского была: как он такой тяжелый, неповоротливый так неслышно проскользнул к нему в кабинет, да еще без доклада. Впрочем, барственная внешность этого господина действовала на «лихачей», лакеев, официантов и даже мелких чиновников безотказно. Иван Николаевич любил отмечать это в разговорах со своими боевиками, ставя им это в пример того, как умело нужно конспирироваться. Конечно же, никто в банке не осмелился обратиться к этому важному, хорошо одетому и так уверенно держащемуся господину с вопросом, к кому он идет. А вот легкость походки, неслышность шагов — это было необъяснимо. Просто он, Ростковский, слишком сейчас взволнован и...
— Да на вас, сударь, лица нет, — с участием продолжал Азеф. — Что-нибудь случилось? Неприятность?
Он насторожился, ожидая ответа, глаза его тревожно забегали, обшаривая кабинет, словно неприятность должна была находиться где-то именно здесь.
— Вот, — только и смог произнести Ростковский, указывая взглядом на брошенное им на столе письмо.
Объяснять Ивану Николаевичу ничего не пришлось. С легкостью, неожиданной для его громоздкого тела, он подскочил к столу. Письмо читал медленно, шевеля толстыми влажными губами, и по мере чтения лицо его стало желтеть, покрываться чем-то вроде позднего осеннего загара.
— Эт-то провокация! — заикаясь от волнения и не смея поднять глаз на «генерала БО», пролепетал наконец Ростковский, ожидая, что сейчас последует взрыв негодования, оскорбленного до глубины души товарища по партии.
Но произошло неожиданное.
— Ну почему же? — вдруг спокойно, как будто дело шло о каком-то мельчайшем пустяке, произнес Азеф, все еще держа в руке письмо:
— Т. — это Татаров, а инженер Азиев — это я.
Криво усмехнувшись, он положил письмо на стол, вдавил недокуренную папиросу в бронзовую пепельницу, круто повернулся на высоких каблуках щегольских полуботинок и, не глядя на Ростковского, пошел к выходу из кабинета. Шел он тяжело, громко, и каждый шаг больно отзывался в душе Ростковского, как будто Азеф топал прямо по ней.
А топал Азеф прямо в Департамент полиции к Петру Ивановичу Рачковскому, своему новому хозяину, чтобы устроить скандал, подобный тем, которые он устраивал Зубатову и Ратаеву (не решался кричать он лишь на Лопухина, врожденное плебейство не осмеливалось относиться непочтительно к врожденному аристократизму): Департамент, мол, не умеет хранить свои тайны, по-прежнему не бережет его, своего важнейшего секретного сотрудника, вот и опять его предал наверняка кто-то из полиции! Заодно надо было проверить сведения о Татарове — действительно ли он работает на Департамент, как утверждает неизвестный автор письма-разоблачения? Но хитрый полицейский лис, с сочувствием выслушав ругательства инженера Раскина, принялся, в свою очередь, превозносить его хладнокровие и находчивость и посоветовал так держаться и дальше. Об отношениях Татарова с Департаментом вызнать ничего не удалось, как не удалось выйти на след автора полученного Ростковским письма. Зато, изливая душу в матерщине, Евгений Филиппович понял: чтобы спастись, он должен наступать, наступать и только наступать!
С согласия Рачковского он немедленно выехал в Москву, а затем в Женеву. И там, и там он сообщал о «гнусном письме» членам ЦК, требуя партийного расследования.
И такое расследование началось.
Сейчас трудно сказать, было ли это очередным проявлением животной, физиологической трусости, присущей натуре Азефа, или же актерство, которым от тоже владел великолепно. Во всяком случае следствие было направлено только по следу Татарова. И основания для этого были самые серьезные.
В письме «сочувствующего» было указано, что Т. недавно вернулся из ссылки — из Иркутска, вошел в доверие к Тютчеву, названы были имена Иваницкой (Ивановской?) и Акимовой (Якимовой?), которых он знал и провалил.
Выше уже рассказывалось, что по пути на совещание в Нижний Азеф встречался в Москве с Якимовой и обнаружил, что за ней ведется слежка.
Упоминался в письме и провал в Москве динамитной мастерской Коноплянниковой, выданной на самом деле Азефом, как и Якимова.
С точки зрения следственной комиссии, все данные, чтобы стать провокатором, у Юрия Николаевича Татарова были.
Как и многие революционеры, он начинал путь в революцию с нелегальных студенческих кружков. В 1892 году оказался в поле зрения полиции, короткое время находился под арестом, затем последовали еще аресты — один, другой, третий и, наконец, в 1901 году ссылка в Иркутск, где находилось на поселении немало старых народовольцев. И здесь Татаров не сидел сложа руки. Связавшись с помощью народовольцев с членами только что созданной Партии социалистов-революционеров, он помог им «поставить» подпольную типографию, которая напечатала значительное количество пропагандистской литературы, так и оставшись нераскрытой. После этого дела Татаров приобрел в революционной среде репутацию «опытного конспиратора» и «убежденного революционера». Любопытно, что характеры Азефа и Татарова были во многом схожи: двигали ими обоими одни и те же устремления — страсть к деньгам, к «красивой жизни» и властолюбие. Но если молодой Азеф ради всего этого сам предложил свои услуги Департаменту полиции, то Татаров позволил себя «совратить».
Отец его, протоиерей, священник кафедрального собора в Варшаве, человек с большими связями не только среди духовенства, но и чиновничества, и полиции, был близко знаком с графом Кутайсовым, который в свое время был в Варшаве начальником жандармского округа. Теперь же граф Кутайсов занимал высокий пост генерал-губернатора Восточной Сибири, и резиденция его находилась в Иркутске. Варшавский протоиерей не преминул использовать старое знакомство и попросил графа отнестись к Юрию по-отечески, по-христиански, наставить его, заблудшего, на путь раскаяния и истины.
Константин Павлович Кутайсов надежды протоиерея оправдал, правда, довольно своеобразно. С его помощью Департамент полиции приобрел еще одного ценного секретного агента с хорошей революционной репутацией и широкими связями среди социалистов-эсеров. В конце января 1905 года Татарову «по болезни старика отца» было разрешено освободиться из ссылки и выехать в Варшаву, заехав по пути по личным делам в Петербург. Уже в двадцатых числах февраля бывший ссыльный прибыл в столицу Российской империи, где его обласкал сам Петр Иванович Рачковский: при своей революционной репутации и связях Татаров вполне мог претендовать если не на роль члена ЦК ПСР, то на видное место в ее руководстве. Второй агент в высших кругах ПСР давал возможность в определенной степени перепроверять и контролировать инженера Раскина, к которому в Департаменте все-таки продолжали испытывать определенное охлаждение после «дела Плеве» и тем более «дела великого князя Сергея Александровича».
Чуткий на чужие настроения, Азеф уловил это сразу же, как только перешел из подчинения Ратаева в подчинение в Рачковскому.
21 августа 1905 года, день передачи инженера Раскина Рачковскому, в соответствующей литературе 20-х годов отмечается как важная дата в биографии Азефа. После серьезного разговора с демонстрирующим пугающую жесткость новым начальником инженер Раскин отдал своего ближайшего соратника Савинкова, Брешко-Брешковскую (Бабушку) и многих других социалистов- революционеров («внутренников»). Мало того, тем же вечером он ехал уже курьерским поездом в Саратов, помогать знаменитому Медникову, начальнику отдела наружного наблюдения Департамента, ловить там Бабушку. За Савинковым, скрывающимся в имении одного из сочувствующих, был отправлен другой отряд сыщиков.
Ехал Азеф, надо полагать, в хорошем настроении. В тот же день Рачковский прибавил ему — наконец- то! — жалование, немного, всего сто рублей в месяц, но, как любил цинично выражаться Азеф, сто рублей тоже на заднице не растут! Теперь он стал получать уже не пятьсот, а шестьсот рублей ежемесячно. Жалование было выплачено за несколько месяцев вперед, да еще выдано тысяча триста рублей на разъезды.
Бабушка и Савинков лишь случайно спаслись от ареста. Тогда-то, чтобы утешить Департамент, инженер Раскин и отдал сразу две динамитные мастерские — Горохова (в Саратове) и Коноплянниковой (в Москве).
Приехавший в Женеву Татаров допрашивался следственной комиссией, состоявшей из Савинкова, Чернова, Баха и Тютчева. Именно на Тютчева, Фриденсона и некоторых других видных социалистов-революционеров, знакомых по иркутской ссылке и испытывающих к нему большое уважение, и вышел Татаров под руководством Рачковского в первые же дни своего появления в Петербурге. Через них напал на след Ивановской, члена отряда Швейцера (Татаров тоже знал ее по ссылке), и это было началом уже упоминавшегося «Мукдена русской революции»,
Тютчеву Татаров «помог спастись» при арестах боевиков покойного Швейцера. Тютчев, член ЦК ПСР, не забыл «помощь старого товарища» и, в свою очередь, помог ему: сначала Татаров выдвинулся на ответственную роль разъездного агента ЦК, а затем вошел и в ЦК. Теперь там было уже два агента Департамента, и Рачковский довольно потирал руки, радуясь открывающимся отныне перспективам. Именно через Татарова Рачковскому стало известно о подлинной роли, которую играл инженер Раскин в Партии социалистов-революциоиеров и ее Боевой Организации.
Конечно, Рачковский мог немедленно арестовать Азефа, и «дела» Плеве и великого князя Сергея Александровича были бы быстро раскрыты — серьезного допроса Азеф не выдержал бы. Но опытный интриган, Петр Иванович, рассудил иначе: ни Плеве, ни Сергея Александровича уже не вернешь, да и раскрытии этих «дел» уже мало кого интересует. Зато, находясь на таком полицейском крючке, Азеф будет стараться для Департамента и лично него, Рачковского, изо всех сил. И, используя имеющиеся в его распоряжении сведения, Рачковский при первой же встрече, 21 августа, буквально прижал Азефа к стене: тогда-то, спасая собственную шкуру, Азеф и пошел на отдачу Савинкова, Бабушки и многих других своих соратников по партии.
Татаров на допросах путался, противоречил сам себе, и, хотя провокаторство его так и осталось недоказанным, было решение отстранить его от партийных дел. Особое возмущение членов комиссии вызвало то, что Татаров клялся на допросах, будто провокатором, проникшим в ЦК, является не он, а Иван Николаевич, полицейский агент по кличке «инженер Раскин».
Происходившее на заседаниях следственной комиссии несомненно доходило до Азефа, ожидавшего конца расследования в деревне под Лозанной. Узнав, что комиссия прекратила свою работу, так и не вынеся окончательного решения и лишь приказав Татарову не покидать Женеву в ожидании дальнейшего поступления материалов по его делу, Азеф пришел в бешенство. Немедленно кинувшись в Женеву, чтобы расправиться с тем, кто поставил под удар все, к чему он стремился с юности и чего наконец добился, он с ужасом узнал, что опоздал: Татарову было разрешено покинуть Женеву, но сообщать о всех своих передвижениях. Татаров немедленно бежал из Женевы в неизвестном направлении и, значит, продолжает оставаться опасным свидетелем его работы на Департамент.
Ярость, вызванную этим ужасом, Азеф обрушил на членов комиссии с обычной для него матерщиной и криками:
— Вы, вороны, мягкотелые интеллигентишки! Как вы посмели отпустить провокатора, эту грязную собаку, которую следовало пристрелить прямо здесь же, на месте!
Никаких возражений о недоказанности вины Татарова он не хотел и слушать, требовал немедленно приговорить его к смерти, поручить боевикам достать его из-под земли и уничтожить, иначе будет подорван престиж партии
— Какие вам нужны точные доказательства! — орал он. — В таких делах точных доказательств не может быть и не бывает!
Тем временем Татаров обнаружился в Киеве, где заявил приехавшему к нему Фриденсону, что продолжает собирать материалы для своего оправдания и что через своего родственника (петербургского полицейского) сумел получить совершенно точные данные, уличающие Азефа в провокаторстве.
И тогда Азеф лично приговорил конкурента к смерти. Как всегда, он решил сделать все чужими руками, точнее — руками своих боевиков, взвинченных всей этой историей.
Организацию убийства Татарова взял на себя Савинков, решивший, что надо щадить чувства Ивана Николаевича, чья легкоранимая душа и так травмирована гнусной клеветой. Совещания по подготовке ликвидации Татарова, который теперь был выслежен в Варшаве скрывающимся у своих родителей, решено было провести в тайне от Азефа, но он в разгар его вдруг явился незваным, расселся на виду у всех и стал исполнять роль председателя.
Савинков потом вспоминал перед Судебно-следственной комиссией эсеров:
«Меня это несколько покоробило, не с точки зрения каких бы то ни было подозрений, а просто я подумал, что я бы (на его месте) не вошел».
Совещание приговорило Татарова к смерти. Исполнить приговор вызвались боевик из рабочих Федор Назаров и дочь полковника генштаба Мария Беневская, которая, однако, уже в Варшаве отказалась от участия в операции, заявив, что не может лишить жизни человека, кем бы он ни был.
Назаров, явившись в квартиру Татаровых, потребовал свидания с их сыном, а когда тот вышел к нему в прихожую, выхватил револьвер...
Протоиерей оттолкнул его и пули пошли вверх. Тогда Назаров выхватил нож, ранил в завязавшейся схватке мать Татарова, а самого его ударил ножом в левый бок, убив на месте. Самому ему удалось скрыться. Это было 4 апреля 1906 года.
— Вызывали? — спросил я, войдя в проходную посольства и заглянув за пуленепробиваемое стекло, отделяющее закуток для дежурного пограничника.
— Зайдите в референтуру, — густым басом строго ответил мне маленький рыженький прапорщик и для порядка поправил на голове зеленую фуражку с высокой, не по форме, тульей. Это он звонил мне домой полчаса назад и сообщил, что мне нужно немедленно явиться в посольство.
Всякие «немедленно» стали меня в последнее время пугать. Предупреждение баронессы Миллер о необходимости быть осторожным я не мог не воспринять серьезно: чувство необъяснимой опасности уже жило во мне и постоянно напоминало о себе, особенно по ночам. Волновало меня и следствие, затеянное местной контрразведкой по делу об убийстве Никольского.
Баронесса, как я от нее узнал, заявила, что именно она нашла его убитым, явившись в библиотеку за книгами. Ее личный шофер подтвердил это, и началось следствие — неторопливое, ни к чему не стремящееся, с благодарностью за «кадо» (подарки), получаемые время от времени следователями от русской миллионерши.
Но была и другая сторона этого дела: посольство вопреки заведенному порядку я о деле Никольского и определенном своем участии в нем не информировал, зная, что такие истории обычно кончаются для наших граждан одним — незамедлительной отправкой на Родину. Я же считал, что не имею права не досмотреть разворачивающуюся драму до конца, а в том, что она только еще разворачивается, я был уверен. И неожиданный вызов в посольство меня, конечно же, встревожил.
Но старший референт, толстяк с круглым добрым лицом, которому он все время и безуспешно старался придать выражение суровой строгости, вопреки моим опасениям был настроен дружелюбно.
—Ты уж извини, браток, что оторвали тебя от работы, — начал он (он всех называл «братками» и ко всем, кроме посла и советника, обращался на «ты»), — Тут согласно телеграммке (он многозначительно поднял вверх указательный палец) мы ревизию провели — насчет лишних, ненужных уже по работе бумаг и...
Сердце у меня екнуло: неужели же...
—Да нет, без тебя мы ничего на уничтожение не отправили. Просто навели порядок и в твоем столе. Папки там доисторические какие-то, никому не нужные нашли. У меня они теперь — в референтуре. Полистал я их — ерунда какая-то, все не по делу. Так ты вот что: забери их к себе или давай уничтожим. Нельзя нам посольство захламлять, не дай Бог, проверяющие из Москвы нагрянут. Так что... принимай решение. Кстати, а зачем они тебе... эти доисторические?
У меня отлегло от сердца, ведь будь на месте моего собеседника какой-нибудь ярый службист, гореть бы коллекции Никольского на заднем дворе посольства, где обычно уничтожались ненужные (но не секретные!) бумаги. Теперь же у меня два выхода: забрать бумаги Никольского к себе домой, в сейф, или уговорить моего собеседника оставить их там, где они лежали, в моем столе. И я решил попробовать второе.
— Зачем, спрашиваете? — постарался я придать моему лицу как можно более серьезное выражение. — А затем, что по ним я пишу роман. Криминально-исторический.
— Да ну? — уважительно удивился он, и лицо его потеряло строгость. — Ну, а зачем тогда все это в посольстве хранить? Работаешь ведь ты, братец, как свободный художник, дома? Вот и забери их, чтобы всегда под рукой были. И тебе будет спокойнее, и мне, лады?
Лицо его было добрым и ласковым: забери я папки Никольского из посольства, ему будет действительно спокойнее, а вот каково будет мне?
Причины, по которым эти папки должны храниться за надежными посольскими стенами, я, конечно же, объяснить ему не мог — для меня бы, как я уже говорил, вышедшая из всего этого история кончилась бы печально. Я попытался было уговорить его подержать мои бумаги хоть еще несколько недель, обещая отправить их в Москву одной из ближайших диппочт. Но, увы... Через полчаса я уже складывал «доисторические папки» в ставший моим (по наследству) бронированный зеленый кейс.
...Отперев входную дверь и пройдя через длинный коридор в кабинет, я положил кейс на письменный стол и обернулся к сейфу.
Еще час назад, собираясь в посольство, я по привычке бросил взгляд на замок сейфа, проверяя, заперт ли он, и обратил внимание, что со вчерашнего дня, когда я заглядывал в сейф в последний раз, на него лег слой тончайшей желтой пыли. Вот уже несколько дней дул «хамсин», жаркий ветер из Аравии, несший оттуда эту пыль, проникающую сквозь самые узкие щели в дверях и окнах, скрепящую на зубах и раздражающую глаза, останавливающую механизмы часов, забивающуюся в радиотехнику.
«Надо бы провести в квартире генеральную уборку, — подумал я тогда, — а то от пыли скоро нельзя будет дышать».
Но с сейфного замка я пыль не стирал, это я помнил точно. И вот сейчас я увидел, что пыли нет. Кто-то стер ее, пока я был в посольстве. Я быстро осмотрел кабинет: все было на привычных местах. Книжный шкаф, раздвижные стеклянные створки которого я имел обыкновение запирать на простенький замок — от «книголюбов», был успокаивающе запорошен пылью «хамсина». Никто не рылся и в кипах материалов, передававшихся в последние месяцы мною в газету.
Переложив папки, привезенные мною из посольства, в сейф, я тщательно запер его, оставив на столе перед собою лишь ту, над которой мне предстояло работать. И опять погрузился в сокровища, завещанные мне Никольским...
* * *
Россия бурлила, революция надвигалась на нее неотвратимым девятым валом, все партии — от самых левых до самых правых — ожидали решительных перемен и больших событий, которым предстояло сотрясти основы Российской империи. Лишь Партия социалистов-революционеров, делавшая в последние годы ставку на индивидуальный террор, оказывалась без опоры на массы.
...Тихое женевское кафе готовилось к закрытию. Официанты уже снимали скатерти и ставили на столы ножками кверху стулья. Хозяин, сидящий па высоком табурете у блестящего, покрытого никелем кассового аппарата, широко зевая, пересчитывал дневную выручку — день прошел, и слава Богу!
Подсчитав деньги, он убрал их в небольшой сейф, привинченный к полу рядом с кассовым аппаратом, и раскрыл свой «гроссбух», но в этот самый момент колокольчик, пристроенный над входной дверью, мелодично зазвонил, дверь отворилась, и в кафе вошли три хорошо одетых господина, оживленно говорящие между собой на каком-то тарабарском языке. Один из них выделялся своей грузностью. Оплывшее лицо его отливало желтизной, темные выпуклые глаза лихорадочно блестели. Его спутники внешне ничем особым не выделялись, но, судя по лицам, были возбуждены не менее толстого господина.
Хозяин кафе поспешно захлопнул «гроссбух» и выбежал из-за стойки навстречу поздним клиентам. По его знаку кафе в одно мгновение приобрело свой обычный вид — стулья вернулись туда, где им было положено стоять в дневное время, скатерти вспорхнули на столы и тут же украсились серебряными вазочками с осенними цветами. Официанты с белоснежными салфетками через руку застыли в полупоклоне, озарив лица приветливыми улыбками.
— Ну вот и пожрем, — комментировал всю эту метаморфозу Азеф. — А то у меня уж от вашей говорильни бурчит в брюхе. Столько времени переливать из пустого в порожнее!
Говоря это, он уверенно шел к столику, стоящему в дальнем углу, зашел за него и решительно уселся на стул спиною к стене так, чтобы можно было видеть входную дверь.
Чернов и Савинков (а это были они) заняли стулья по правую и левую руку от «генерала БО». Про себя они еще так, по привычке, Ивана Николаевича называли, но... с сегодняшнего вечера Боевая Организация формально свое существование прекращала, и ее руководителя отныне следовало бы называть экс-генералом.
— Что ж, помянем покойницу, — пробурчал Азеф, поднимая хрустальную рюмку с заказанной им «Смирновской». Кроме нее, он заказал всем по «бифштексу по-женски» (так он называл мясо недожаренное, с кровью), знаменитые швейцарские сыры и зелень.
— Так уж и покойницу, — зло возразил ему Савинков. — Помяните мое слово, Иван Николаевич, мы еще повоюем!
— А ты, Павел, молчи! — оборвал его Азеф, называя по подпольной кличке (Павел Иванович). — Ты знаешь, повторяться я не люблю. Или не слышал, что я сказал сегодня у Гоца: Боевую Организацию я распускаю!
— Не горячись только, Иван, не горячись. Мнение ты свое высказал, но силы партийного закона оно не имеет, пока не будет утверждено решением всего Центрального комитета, который, как договорились, соберем в ближайшее время в Москве...
— Опять соберемся побалакать? Мало нам того, что трепались сегодня с раннего утра до позднего вечера! Пожалели бы хоть беднягу Гоца — парализован, прикован к креслу, руки висят, как плети, одни глаза еще живые. А вы набились в его кабинет и несете каждый свое!
— Но, Иван Николаевич, я и у Гоца говорил: ситуация изменилась. Сейчас на подъеме массовое движение, и если мы будем по-прежнему замыкаться в терроре, широкие слои трудящихся нас не поймут, мы окончательно от них оторвемся. Теперь же нам надо идти в массы — агитировать, пропагандировать, организовывать. Иначе локомотив революции промчится мимо нас, и мы не успеем даже вскочить в его задний вагон.
— В умении красиво выступать тебе, Виктор, не откажешь, — заговорил, в свою очередь, Савинков. При этом он, как бы ища поддержку, бросил быстрый взгляд на Азефа, жадно заглатывающего кровавые куски мяса, и тот одобрительно кивнул.
— Самодержавие теряет почву под ногами, его государственный аппарат колеблется. Сейчас-то как раз и нужна наша Боевая Организация. Именно сейчас и нужно нанести несколько мощных ударов, которые и довершат дело — царизм развалится! — энергичнее продолжал Савинков: — Для начала революции нужен громкий героический акт, например... — Он замешкался, подбирая пример поэффектней, и вдруг с воодушевлением выпалил: — Например, взрыв Зимнего дворца!
Даже Азеф, все это время благосклонно деливший внимание между «бифштексом по-женски» и горячей, запальчивой речью Савинкова, саркастически усмехнулся, вспомнив, как он отчитывал некоторое время назад этого «узкого специалиста террора» за паникерство и неумение быть руководителем-оргаиизатором.
— Ну, хорошо, — поняв, что переборщил, снизил тон Савинков, — если будет решено прекратить террор, а в нем — вся моя жизнь, я подойду в Петербурге к какому-нибудь бравому жандарму или полицейскому сыщику и выпущу в него последнюю в моей жизни пулю!
— Браво, Павел, — уже с откровенной издевкой усмехнулся Азеф и выпил рюмку «Смирновской». — Со святыми упокой!
— Значит, ты продолжаешь выступать против Гоца! — цепляя на вилку ломтик альпийского сыра, почти равнодушно констатировал он. — Ты помнишь, что говорил Михаил, наш страдалец, мученик за дело революции?
Он отложил вилку, вытер белоснежной салфеткой влажные губы и заговорил, стараясь подражать голосу и интонациям Гоца:
— В новой обстановке террор совершенно недопустим. С террором кончено, и руководители Боевой Организации должны понять, что им остается только одно — открыто сказать: «ныне отпущаещи...»
— Тут я с Михаилом не совсем согласен, — поддержал Савинкова, отступившего перед именем Гоца, Виктор Чернов. — Террор можно и приостановить, но Боевую Организацию распускать нельзя. Надо лишь отодвинуть ее на время в резерв, держать, так сказать, под ружьем, а когда наступит подходящий момент, вновь пустить ее в дело. И с этим ведь согласились все, кто был сегодня у Гоца!
— Кроме меня, — буркнул обиженно Савинков и встал из-за стола: — Ну, я пошел. Извините, товарищи, больше не могу — устал, голова разламывается, да и надо побыть одному, собраться с мыслями...
Ушел он, не подав остающимся руки.
— А вот относительно крупного и героического он прав, — проводив Савинкова взглядом, обратился к Чернову Азеф. — Я тоже об этом думал. Ну не Зимний дворец, то хотя бы охранное отделение. Завозим во двор арестантскую карету, а вместо арестованных — там хорошая, несколько пудов, партия динамита, и... (он прикрыл глаза, словно любуясь происходящим). Кто может против этого что-то возразить?
Теперь он говорил также горячо и патетически, как несколько минут назад говорил за этим же столом Савинков:
— Охранка ведь живой символ всего самого насильственного, жестокого, подлого и отвратительного в самодержавии. Взорвать так, чтобы и следов от деятельности этого мерзостного учреждения не осталось!
Виктор Чернов не знал, что об уничтожении охранного отделения вместе со всеми его документами Азеф думал в последнее время все чаще и чаще: а вдруг революция в самом деле победит и откроет архивы Департамента полиции? Этот кошмар преследовал его по ночам, и он просыпался в холодном поту, чтобы не сомкнуть глаз до рассвета...
В ноябре совещание руководителей ПСР в России все-таки состоялось. В Москву, пользуясь атмосферой провозглашенных царским манифестом свобод, приехали «заграничники», кроме уже совсем парализованного, терзаемого страшными болями Михаила Гоца, и «внутренники». Всего собралось около трех десятков человек. Были здесь и ветераны, основатели партии, и видные социалисты-революционеры, вернувшиеся по амнистии из тюрем и ссылок. Азеф прибыл из-за границы самым последним, предварительно узнав, как доехали «заграничники» и как их приняли на месте. Оказалось, что полиция, по крайней мере теперь, их не трогала и ЦК почти легально развернул свою штаб-квартиру в редакции газеты «Сын отечества», который и сделался газетой ПСР.
На совещании шла речь о текущем моменте и о судьбе БО. С мнением Гоца о прекращении террора и роспуске Боевой Организации, доведенным до собравшихся, соглашались многие, но похоже было, что большинство пойдет все-таки за Виктором Черновым, предлагавшим БО не распускать, а «держать под ружьем» на случай перехода реакции в контрнаступление. Савинков по-прежнему выступал за террор, но все дело решил сам Азеф.
Почти все время молчавший на совещании и присоединявшийся по всем вопросам к большинству, он вдруг встал и, решительно подавляя присутствующих своим авторитетом, подвел черту прениям:
— «Держать под ружьем» невозможно. Это слова. Я беру на себя ответственность: Боевая Организация распущена!
Это решение и было утверждено Центральным комитетом.
У боевиков оно вызвало негодование. Как? У них хотят отнять единственное действенное средство ведения революционной борьбы — террор! Конечно же, все это интриги их давних врагов и завистников, захвативших ЦК «массовиков». Умирающий Гоц потерял чувство реальности, Чернов — оппортунист и соглашатель, верить можно только Азефу, которого политические интриги во что бы то ни стало хотят отстранить от революции.
В стране кипели политические страсти ни дня не обходилось без бурных митингов и демонстраций. Боевики, подстрекаемые из-за кулис против Центрального комитета Азефом и открыто бунтуемые Савинковым, относились ко всему этому с презрительным высокомерием.
«Чернь», «толпа», считали они, ничего не смыслит в политике и послушна любому мало-мальски опытному демагогу-провокатору. Сама же партия превратилась в сборище перегрызшихся между собою, никогда не знавших настоящего дела (настоящим делом боевики считали только террор!), погрязших в беспочвенном теоретизировании болтунов. Отсюда и наметившийся в партии раскол на умеренных «народных социалистов» и «социалистов-революционеров-максималистов», крайне левых, требующих использовать происходящие события для немедленной социалистической революции!
Азеф, натравливая боевиков на партию, на ЦК, не давал остыть их воинственному духу.
— Погодите, — говорил он своим сотоварищам по террору. — Еще несколько месяцев и начнется контр-революция. Тогда-то и прибегут к нам — кланяться в ножки.
Наступал грозный, революционный декабрь, близились трагические события, и социалисты-революционеры готовились к ним, как и все другие партии, прежде всего — социал-демократы. Боевикам тоже были определены задачи: нужно было, взорвав железнодорожный мост, отрезать Москву от Петербурга, чтобы не допустить переброски между ними верных правительству войск, нанести удары по телефонно-телеграфным линиям и электростанциям... В этот план по настоянию Азефа была включена и его заветная идея — взрыв охранного отделения. Всерьез обсуждалась и такая авантюра, как налет на квартиру и арест председателя Совета министров Российской империи графа фон Витте. И хотя практическое исполнение всего задуманного было возложено на страдающего от переизбытка энергии Савинкова, «мозговым центром» предстоящих операций был, разумеется, Азеф.
За дело он взялся всерьез, видя в нем возможность вновь укрепить в ПСР свой авторитет, пошатнувшийся было после решения о роспуске Боевой Организации. (Подчинившись этому решению формально, он сохранил БО в прежнем виде, окончательно превратив ее в собственную личную гвардию). Все это на какое-то время притупило его бдительность, и он, потеряв осторожность, ходил по петербургским улицам без опаски: полиции ему, по старой памяти, бояться было нечего, считал он, хотя вот уже с минувшего августа не поддерживал с Рачковским никаких отношений. В конце ноября, перед отъездом в Россию, он зашел, так сказать, по старой памяти, к Ратаеву, жившему в свое удовольствие в Париже на пенсии. Официально Ратаев был не у дел, но многоопытный инженер Раскин знал, что из Департамента просто так не уходят, и надеялся выведать у Леонида Александровича что-нибудь о новых планах Рачковского. Поняв, что в этом смысле визит его напрасен, инженер Раскин дружески распрощался с теперь уже бесполезным ему бывшим начальником, заявив с горечью, что теперь он «разоблачен перед революционерами и уже лишен возможности работать для Департамента».
Расстались они тепло, почти по-братски, и Ратаев не упустил возможности поднять очередной бокал шампанского за здоровье инженера Раскина.
Но и теперь, когда Ратаев был в прошлом, инженер Раскин не спешил пополнять своими сообщениями секретные архивы политической полиции, выжидая, куда выведут нарастающие революционные события наступившего декабря.
Первый месяц зимы давал уже знать о себе ночными заморозками, студеный дождь шел вперемежку со снегом, образуя на тротуарах ледяную корку.
Петербуржцы утеплялись, перешли на зимнее. Азеф стал ходить в роскошной (все для той же конспирации!) бобровой шубе — добротной, теплой и толстой. Был он в ней и когда поздним, глухим вечером возвращался к себе на конспиративную квартиру, плутая по переулкам — на случай, если вдруг все-таки кто-нибудь попробует его выследить.
Он был уже у самого своего дома и взялся за ручку двери, ведущей в подъезд, когда услышал позади себя чьи-то торопливые шаги. Обернуться он не успел. Сзади, в спину его что-то ударило, не очень сильно, но так, что он шатнулся вперед и ударился головой (тоже в толстой бобровой шапке) о створку двери.
— Получай, жидовская рожа! — прохрипел кто-то сзади, а второй голос выматерился.
Мгновенно приняв решение, Азеф громко застонал и стал сползать по двери, словно умирающий, и услышал, как нападавшие побежали прочь. Подождав, когда их шаги стихли, Азеф, дотянувшись до ручки двери и подтянувшись на ней, тяжело встал и, на миг оглянувшись, проворно, несмотря на весь свой вес, юркнул в подъезд.
В квартире его ждали. Несколько боевиков пили чай из самовара и привычно перемывали косточки оставившим их без «настоящего дела» старым болтунам из ЦК и «Русского патриота». В победу надвигающейся революции они не верили и хором предсказывали ее разгром и наступление реакции... И тогда партии снова придется обратиться к Боевой Организации, чтобы противопоставить террору контрреволюционному террор революционный.
Когда Иван Николаевич появился на пороге гостиной, все сразу замолчали. Был он мертвецки бледен, на оплывших щеках — вспышки багровых пятен, толстые губы были серого цвета и мелко-мелко дрожали. Бессильно прислонившись к косяку, он вдруг стал сползать на пол, и первый, кто успел подскочить и подхватить его, услышал:
— Товарищи... меня... убили...
Его подняли, с трудом перетащили в спальню и, сняв шубу, положили на кровать. Он вытянулся на спине и затих.
Все восторженно и скорбно молчали, как над телом покойника.
— А крови-то нет! — вдруг нарушил трагическую тишину возглас боевика, держащего генеральскую шубу. — Посмотрите, товарищи!
Он стоял, распялив шубу на руках и указывая взглядом на почти не видный в густом мехе порез.
— Ткнули ножом в спину, да, видать, не сильно... Даже подкладку не пропороли...
Он вертел шубу и так и сяк, и все видели: действительно, снаружи, со спины мех был вспорот, а изнутри подкладка была цела-целехонька...
— Черносотенцы. Их дело, — высказал предположение один из боевиков, и все молча согласились с ним: «черная сотня», науськиваемая и наводимая полицией, вела в эти дни настоящую охоту на революционеров, потерявших бдительность, опьяненных дарованными октябрьским манифестом свободами.
— Иван Николаевич в шоке. У него обморок!
— Еще бы! Такое пережить!
— Товарищи! Но ведь это настоящее покушение!
— Контрреволюционный террор! Да, террор!
— А нам запрещают браться за бомбы!
— К оружию, товарищи!
— К оружию!
Все засуетились, и было чему радоваться: во-первых, Иван Николаевич счастливо спасся от покушения, и, во-вторых, долгожданный террор контрреволюции, можно сказать, уже начался, и, значит, они, члены официально распущенной, но не распустившейся Боевой Организации, оказались правы. Да, это на их улице был сегодня праздник.
В радостной суматохе о «генерале ВО», лежащем с закрытыми глазами на кровати, как-то забыли, и тогда он напомнил о себе глухим, болезненным стоном. Принесли из соседней комнаты ром и влили рюмочку в похожий на бабий рот Азефа. Он причмокнул постепенно обретающими обычный свой цвет толстыми губами, но глаз не открыл. Боевик из недоучившихся студентов-медиков пощупал пульс. Пульс был учащен, и студент- недоучка объявил, что Ивану Николаевичу надо полежать, отдохнуть и успокоиться, дабы снять нервное напряжение после всего того, что ему пришлось пере-жить.
Все вышли из комнаты, ступая осторожно, на цыпочках, чтобы не побеспокоить лишний раз пострадавшего. Дверь за собою закрыли плотно, чай допивали молча, а потом стали потихоньку один за другим расходиться. Студенту-медику было велено остаться в квартире на всякий случай, а вдруг Ивану Николаевичу будет нехорошо?
А инженеру Раскину действительно было нехорошо. Он продолжал лежать с закрытыми глазами: меньше всего ему сейчас хотелось кого-нибудь видеть. Вот разве что Петра Ивановича Рачковского? Азеф не сомневался, что именно Рачковский напомнил ему сегодня о себе. Припугнул, как это говорится в Департаменте, «пустил брандера» — чтобы спугнуть, заставить действовать. Конечно, захотели бы его, Азефа, убрать, не щекотали бы ножичком, били бы наверняка, не спасла бы никакая, даже самая толстая шуба.
Пугает Петр Иваныч, пугает. От революционеров ушел, да как колобок ни катайся, от старой и хитрой полицейской лисы не уйдешь.
Что ж! Это действительно так! Никуда от этого не деться, тем более, что революция оказалась паром, выпущенным на митингах и демонстрациях, и кое-кому теперь придется давать Департаменту ответ. За все разом. И это значит, что надо спешить, успеть поклониться в ножки Рачковскому, отмолить свое дезертирство...
Он встал с кровати, прошел в соседнюю комнату, где в кресле дремал студент-недоучка, и отправил его восвояси, сказав, что чувствует теперь себя уже нормально.
А когда остался один в пустой квартире, достал стопку бумаги, перо и пузырек со своими любимыми черными чернилами и тут же на столе у остывшего самовара принялся писать письмо «милостивому государю Петру Ивановичу Рачковскому в собственные руки». Он писал обо всех, намеченных эсерами на декабрь, выступлениях: о взрыве моста на Николаевской железной дороге, о взрыве охранного отделения, о диверсии на электростанциях, почте и телеграфе, о том, что поручено это все находящемуся теперь в Петербурге Савинкову.
Он называл имена членов ЦК, находящихся в России, освещал их и отдавал, отдавал, отдавал...
А рано утром, на следующий день, поймал на улице подальше от своего дома мальчишку-газетчика, дал ему рубль и велел отнести толстый конверт в известный всему Петербургу дом на Крестовом острове. А сам пошел следом, незаметно, как он научился ходить за многие годы упражнения в конспирации, проверяя, выполнит ли мальчишка его поручение.
Рубль свой мальчишка отработал честно, и успокоенный Азеф вернулся домой и залег, как медведь в берлоге, в своей квартире, запретив приходить к нему кому-либо, кроме Савинкова, и стал ждать.
Приказ Ивана Николаевича, чуть было не поплатившегося жизнью за участие в революционной борьбе, был для боевиков законом, а членам ЦК, изнемогающим на политических ристалищах, было в эти дни не до него.
Приходил Савинков, растерянно разводил руками. Ничего, буквально ничего из намеченного Азефом, не получалось.
— Все объекты терактов вдруг стали усиленно охраняться. Не подступиться, — жаловался он. — Такое впечатление, что полиция знает обо всем, что мы задумали.
Иван Николаевич, как мальчишку, сурово отчитывал его за отсутствие смекалки и решительности, а сам внутренне радовался: письмо его Рачковский воспринял всерьез и действует. Путь к возвращению «блудного сына» в Департамент можно считать открытым. Он сделал первый и самый важный шаг. Теперь надо ждать весточки из Департамента.
Он лежал целыми днями на диване, вставал, по студенческой привычке жарил на спиртовке бифштексы, которые покупал и приносил по его заданию Савинков, небрежно просматривал газеты, приносимые им же, и ждал.
Но Департамент, знавший теперь его конспиративный адрес, молчал.
Это беспокоило инженера Раскина все больше и больше. Постепенно беспокойство стало сменяться страхом. Неужели Рачковский решил все-таки поставить на нем крест, избавиться, ведь возможности для этого у Петра Ивановича были прекрасные: выдача революционерам, всерьез, с реальными доказательствами, или полицейская расправа, втихую, без лишнего шума.
И поток писем, отправляемых Азефом в Департамент, нарастал с каждым днем. Отдача следовала за отдачей, а за отдачами шли аресты.
Восходящая звезда Департамента, новый начальник Петербургского охранного отделения — энергичный и решительный Александр Васильевич Герасимов — лихо, за несколько часов ликвидировал Петербургский совет, произвел в столице массовые аресты, не допустив в ней революционного взрыва. Семеновцы, направленные в Москву на подавление вспыхнувшего там восстания, благополучно проследовали по Николаевке к месту назначения — путиловцы, которые готовились взорвать железнодорожный мост, были арестованы чуть ли не у самых его опор.
Об Азефе в Департаменте словно забыли. И у Рачковского были на это свои причины. Хотя ему и поручили ответственную работу — командировку в Москву для руководства арестами участников Декабрьского восстания, он чувствовал, что карьера его близится к завершению. И дело было не только в возрасте — он родился в 1853 году, а в переменах, происходивших медленно, по верно в политике министерства внутренних дел: на первый план там выходил Александр Васильевич Герасимов, начальник Петербургского охранного отделения, так решительно предупредивший революционное восстание в столице и с тех пор пользующийся доверием и особой благосклонностью его высокопревосходительства министра внутренних дел Петра Николаевича Дурново. Вместе с большинством департаментских и министерских чинов Рачковский сделал поздней осенью неверный ход, выступая против «решительных мер», которых требовал тогда Герасимов в борьбе против столичных революционеров.
Дурново только-только занял тогда пост министра, и можно было смело предсказать, что рискованные действия, на которых настаивал Герасимов, он одобрить на первых порах не решится. Однако санкция действовать была Герасимовым получена, аресты были им проведены блестяще — никто не успел и пикнуть: ни «общественность», ни пресса. Семеновцы из замиренной Герасимовым столицы были благополучно переброшены в Москву, где и покончили с восставшими, что называется, огнем и мечом.
Словом, в глазах царского двора и правительства Александр Васильевич Герасимов выглядел теперь Спасителем Отечества. Тем самым Рачковскому и его клевретам, которых он, беспощадно изгнав «зубатовцев», насадил по всему Департаменту, был нанесен сильнейший удар.
Герасимов же отныне мог являться к министру запросто, без доклада.
И действительный статский советник Петр Иванович Рачковский, начинавший в 1860-х годах свою карьеру в роли мелкого чиновника в провинциальных канцеляриях, подрабатывающего от случая к случаю полицейским доносительством, все больше и больше нервничал. Ему в своей богатой событиями жизни уже довелось познать опалу. А ведь поначалу-то все шло так хорошо!
В 1879 году стал секретным сотрудником знаменитого в те годы 3-го отделения собственной его величества канцелярии, а когда революционеры его разоблачили, занял штатную полицейскую должность, обратил па себя внимание начальства, выдвинулся. 1886 год стал для него очередной ступенькой карьеры — Петра Ивановича назначили заведующим русской заграничной агентурой во Франции и Швейцарии. А предварительно он прошел хорошую школу у знаменитого начальника Особого отдела Департамента полиции полковника Г. П. Судейкина. Участвовал под руководством Судейкина в разгроме «Народной воли», сотрудничая с членом исполни-тельного комитета этой организации провокатором Сергеем Дегаевым.
После того как в январе 1884 года Дегаев вместе с двумя своими товарищами Стародворским и Конашевичем убил Судейкина, Рачковский был отправлен за границу — выслеживать семью скрывшегося Дегаева.
Получив важный заграничный пост, развил бурную деятельность в духе своего покойного наставника.
Но перенял он и кое-что у французских секретных служб, с которыми сразу же наладил тесное сотрудничество: прежде всего новейшую, так называемую «французскую систему» провокаций. Система эта предусматривала организацию террористических акций с использованием бомб и «адских машин» для запугивания населения и обработки «общественного мнения» в нужном полиции направлении. Направление же, избранное Рачковским, предполагало натравливания местного населения и властей на русскую революционную эмиграцию. И в 1890 году в Париже со страхом заговорили о «русских бомбах» и «русских бомбистах», тренирующихся для будущих терактов в пригородах французской столицы. Взрывы там действительно время от времени гремели — провокаторы Рачковского времени не теряли.
Гремели взрывы и в Бельгии. «Русские анархисты» попытались подорвать Льежский собор. Это было дело рук некоего Яголовского, матерого агента-провокатора, за которым стоял Рачковский.
Словом, «общественное мнение» было создано, и заграничные спецслужбы, обеспокоенные нарастанием «русского революционного террора», стали оказывать Департаменту самую широкую поддержку в борьбе против эмигрантов из России. В империи это было оценено по достоинству, о Рачковском заговорили в самых верхах, и государи (Александр II, а затем и Александр III) неоднократно передавали ему «монаршье спасибо».
Воодушевленный этим, Рачковский не брезговал ничем. Например, организовал налет своих агентов на народовольческую типографию в Женеве. Налетчики уничтожили несколько тысяч экземпляров уже отпечатанных пропагандистских материалов, рассыпали набор очередного номера революционного журнала, унесли шесть пудов типографского шрифта, который и разбросали по улицам мирной и тихой Женевы, что, конечно, тоже сказалось на «общественном мнении» так, как это нужно было Департаменту.
Когда же типография была восстановлена, налет повторился, и проделано было то же самое.
Но, как поговаривали в Департаменте завистники, Петр Иванович начал «зарываться». От него пошли доносы на княгиню Юрьевскую, удалившуюся за границу морганатическую жену покойного Александра II. За беспардонное вмешательство в дела царской семьи ретивому полицейскому дали хороший нагоняй и строго предупредили на будущее. Но урок Петру Ивановичу впрок не пошел. И в 1902 году он написал обстоятельное письмо Марии Федоровне, вдове Александра III, вдовствующей императрице, в котором разоблачал некоего авантюриста-«магнетизера» Филиппа, предшественника Гришки Распутина при Александре Федоровне и Николае II. По данным Рачковского, «магнетизер» был орудием масонов, которому поручалось оказывать соответствующее влияние на царя и царицу, почему и советовалось немедленно удалить «целителя» из России.
Этого уже царственные особы снести не смогли. К тому же недолюбливал Рачковского и недавно заступивший на пост министра внутренних дел Плеве, бывший с 1881 по 1884 год директором Департамента полиции и успевший еще в тот период проникнуться к Рачковскому антипатией. Короче говоря, Петра Ивановича отправили в отставку, намекнув, что появление его в ближайшие годы в России нежелательно. И лишь после убийства Плеве и прихода на пост товарища министра внутренних дел всесильного Трепова, Петр Иванович Рачковский вновь вознесся вверх по лестнице полицейской службы.
Теперь же он чувствовал приближение опалы и изо всех сил старался удержаться на плаву, хватаясь за любую попавшуюся под руку соломинку, даже какую, как бывший друг Зубатова революционный поп Георгий Аполлонович Гапон.
— Но какова, шельма, а? Нет, вы только, Георгий Аполлонович, послушайте — душу вынимает!
Рачковский откинулся на спинку мягкого стула и прикрыл ладонью глаза.
Цыганская песня рвалась в отдельный ресторанный кабинет сквозь плотно прикрытую дверь, ее не могли остановить даже стены, завешанные толстыми восточными коврами, перебор гитарных струн вкрадчиво следовал за дивным, надрывающим сердце голосом, изливающимся в любовном томлении. И вдруг ударил цыганский хор, зазвенели бубны, завизжали, опираясь на гитарные надрывы, скрипки, и голос певицы растворился в забористой страсти других, мужских и женских голосов.
— Ай, цыгане... люблю цыган, наваждение это бесовское, — поддержал Петра Ивановича сидевший напротив него человек с коротко подрезанной, словно подрубленной топором каштановой бородой. Продолговатое лицо его было бледным и испитым, под глазами набухали мешки, и по лицу его было видно, что оп давно уже ведет разгульный, нетрезвый образ жизни.
Это была очередная встреча Петра Ивановича Рачковского и попа-расстриги Георгия Аполлоновича Гапона, еще несколько месяцев назад бывшего кумиром толпы и юродствующих интеллектуалов, мучеником совести и новым мессией. Тогда, в темном, дешевом подряснике, с красивой шелковистой бородой, спадавшей на грудь, с благородным тонким лицом, освещенным горящими внутренним огнем глазами, он действительно напоминал мессию, и люди, повинуясь его чистому, полному внутренней веры голосу, готовы были пойти за ним на смерть.
И он повел их на смерть студеным январским воскресеньем 1905 года, и они пошли за ним, веря, что пока он их ведет, с ними будет благодать божья и ни один солдат из преградившей им путь тонкой серошинельной цепочки не осмелится спустить курок и выстрелить по ним, ведомым верой.
Но солдаты стали стрелять. Залп за залпом врезался в неверящих, в несмеющих верить происходящему, ослепленных верой людей, и Гапон тоже шел на пули, и тоже не верил в то, что происходит вокруг, и благословлял, обезумев от ужаса, умирающих, тянущих к нему окровавленные, холодеющие руки, словно к Спасителю. И он тоже остался бы умирать вместе с ними в сожженном горячей людской кровью снегу, если бы Петр Рутенберг, его друг и последователь, не бросил бы его на землю, не прикрыл своим телом, не вытащил бы потом с площади и не отвез, рыдающего, бьющегося в истерике в открытый для всех в тот день дом Горького. И тогда Гапон проклял все и всех вокруг, обрезал бороду и снял с себя рясу.
А потом было бегство. (Берлинская «Форвертс» радостно информировала своих читателей: «Гапон благополучно прибыл за границу»). Были слава и внимание газет, деньги за написанную с помощью наемных щелкоперов «Историю моей жизни» и красивая жизнь: дорогие отели и лучшие рестораны, сомнительные кабаки и публичные дома.
«...для революции было бы лучше числить Гапона в списке своих погибших героев, чем продолжать иметь с ним дело как с вождем», — писал потом о нем один из уважаемых и старых революционеров.
Но Гапон не хотел пребывать в мучениках. Вкусив славы и денег, он сломался психически, а хлебнув красивой парижской жизни, уже не мог жить так, как жил раньше, тем более, что долго еще деньги текли к нему рекой — и от русских почитателей, и от иноземных доброхотов. Маленький, серенький попик, уверовав в свою роль мессии, заболел манией величия. Он требовал, чтобы его признали своим вождем сначала социал-демократы, затем социалисты-революционеры, но ничего из этого не получалось. А когда после октябрьского манифеста он вернулся все-таки в Россию, ничего, кроме бурных кутежей в Париже, угарных игорных ночей в Монте-Карло, жадных кокоток и падких на даровщинку прихлебателей, в его «политическом активе» не было. Революция им больше не интересовалась, и слово «провокатор» следовало за ним как тень. Он был не нужен никому, кроме... Департамента полиции, где было принято встречать «раскаявшихся революционеров» с объятиями нараспашку.
Так, в конце концов, и начались его встречи с Рачковским, денег на эти встречи не жалевшим, тем более, что они были казенными. Вот и теперь оба они «снимали напряжение» в одном из лучших петербургских загородных ресторанов.
Оба были пьяны в меру, именно в той степени, чтобы продолжить не сегодня начатый разговор.
— А уж и едите вы как хорошо, кто бы знал! — откровенно восхищался поп-расстрига, с ласковым вожделением окидывая взглядом изрядно опустошенный, но все еще обильный стол. — Да не всякий поймет такое роскошество, а я, честно признаюсь, после Парижа по-другому уже не могу...
— Да что деликатесы все эти, что вина тонкие! Набил брюхо сегодня, а завтра опять захочется, — меланхолично возражал Рачковский. — Скучно все это, без жизненного смысла. Без остроты-то есть...
— Ну уж у кого-кого, а у вас-то в жизни остроты, слава Богу, предостаточно, — пьяно не согласился Гапон и замотал головою, словно вытрясая из нее хмель:
— Угобзился же я сегодня, окаянный. Опять во грех впал, прости, Господи, раба своего недостойного.
Он привычно осенил себя крестом и поднял взгляд к потолку, на котором лепились с венками в руках голозадые срамницы.
— Да бросьте вы, батюшка! Не такой уж это и грех, во всяком случае, не из самых страшных! — успокоил его Рачковский, наполняя по-новому лафитнички себе и Гапону водкой. — К тому же: не согрешишь — не покаешься...
Он поднял лафитник и потянулся к Гапону — чокаться.
— ...не покаешься — не спасешься! — завершили фразу они хором, чокнулись и, хохотнув, выплеснули водку в свои рты.
Закусывали устрицами — без заграничных деликатесов Гапон с некоторых пор за стол не садился.
Закусив, Рачковский погрустнел:
— Уходит жизнь, батюшка... Уходит, — вдруг принялся жаловаться он пьяному сотрапезнику. — Бот и я старею, совсем не тот стал, никуда не гожусь. А заменить меня некем...
Гапон в ответ пьяно икнул и потянулся было опять наполнить лафитники. Но Рачковский решительно перехватил его руку:
— Вот давайте и прямо поговорим, Георгий Аполлоныч. России сегодня нужны люди именно такие, как вы!
Он перегнулся через стол и горячо зашептал прямо в лицо Гапона:
— Возьмите мое место. Мы будем счастливы, если вы возьмете его.
— Что-с? — отпрянул от него сразу протрезвевший расстрига. — Шутить изволите со мною, Петр Иваныч?
— Почему же шутить? — изобразил обиду Рачковский. — Я человек уходящий, старый, усталый, а вы — вот вы какой у нас молодец, светлая голова, чистое сердце.
Гапон шумно выдохнул и мутно посмотрел на севшего на свое место Рачковского:
— И все же шутить изволите, милостивый государь Петр Иваныч. Знаете же, знаете, что мне другая планида дана, другой путь Господь предначертал — в революцию направил. Да завистники окаянные на пути стоят, шагу сделать не дают нонче, имя честное порочат...
— А завистников-то этих уберем... Уберем, — с проникновенной ласковостью почти пропел Рачковский. — Кого нам осветите, того и уберем, чтоб Господней воле не противились. А кого не пожелаете, не тронем.
— Петька Рутенберг свой парень, — как сквозь дрему отозвался и сразу же, распаляясь, загундосил Гапон: — От смертушки меня спас, на руках с площади вынес. А вот Азеф ваш, Иван Николаевич, сука, Иуда Искариот, христопродавец!
— Это почему же он наш, Георгий Аполлоныч? — поймал его на слове Рачковский и тут же наполнил лафитники.
Опять выпили и опять закусили.
— А потому, — сглотнул устрицу, сопроводив ее кусочком лимона, Гапон, — сами знаете почему!
Рачковский, изобразив недоумение, пожал плечами:
— И все же, батюшка, интересно бы узнать... почему же этот, как его... Азеф, что ли... Иван Николаевич — наш?
— Да потому, что на вас он работает. Вам Иуда за тридцать сребреников революционеров отдает. Что? Не так ли?
Гапон зло расхохотался и, резко оборвав хохот, потряс перед самым лицом Рачковского указательным пальцем:
— Только не слишком радуйтесь, господа хорошие! Думаете — купили жида за копейку...
«Ничего себе — «за копейку», — подумалось Рачковскому, как никому другому знавшему, сколько стоит Департаменту содержание этого секретного сотрудника в ЦК ПСР.
— Думаете, и выкладывается он весь для вас, выворачивается наизнанку. А то, что он министров ваших убивает, что покушение на самого великого князя Сергея Александровича поставил — это вам он тоже докладывает? Или вы ему и за это деньги платите?
— Постойте, постойте, Георгий Аполлоныч, — нахмурился Рачковский. — О чем вы это таком говорить изволите?
— Да это не я говорю, это же каждый шкет, каждая шестерка у эсеров знает. Он же у них — о-го-го! Генералом боевиков именуется. Вот тебе крест святой!
(Он обмахнулся крестным знамением!)
— Генерал БО, Боевой Организации то есть. И вся кровушка-то на нем лежит. Без него они там шагу ступить не смеют.
— Ну так уж и не смеют, — продолжал раззадоривать все больше хмелеющего Гапона Рачковский. — Мало ли кто что болтать может. Давайте лучше о нас с вами... Вот вы говорите — вы революционер и потому с нами, с полицией, работать не желаете. А вот если бы вы узнали, сколько сотрудников к нам на службу из этой самой революции приходит? И до каких постов и чинов дослуживается? Мало ли кто по молодости ошибался. Важно, что раскаялся вовремя, одумался. Повинную голову меч не сечет, сами знаете... Тем более, когда с революцией-то теперь... фьють! (он присвистнул) — дело кончено. Вот и давайте вместе думать — куда дальше пойдем, что делать будем? Заблудшие души спасать, на пороге ада их останавливать или?.. Разве не это ваш долг священнический?
Гапон медленно повел головой, ощущая шеей массивную золотую цепочку креста из того же благородного металла. Она вдруг показалась ему висельной петлей, затягиваемой любезнейшим Петром Ивановичем Рачковским. И в то же время это было похоже на знак Божий: иди, не жалей живота во имя благого дела.
А Рачковский, умный бес, продолжал искушать:
— Ведь тогда, в то несчастное Кровавое воскресенье вышло печальное недоразумение. И правительство, и все мы жалеем об этом сегодня. А те, кто хотел использовать вас в своих целях — все эти эсеры и эсдеки — сегодня третируют вас как провокатора. Разве это справедливо? Разве это по-божески — третировать человека, в которого поверил и за которым пошел народ! Вы, батюшка, вели народ но пути мира и согласия, а что делают они — ставят теракты, льют кровь, озлобляют правительство. О каких уж тогда реформах, о каких свободах можно в таких условиях вести речь? Нет, Георгий Аполлонович, вы должны, вы просто обязаны вернуться сегодня в политику, вырвать народ из-под влияния кровожадных крамольников!
Гапон сидел бледный, с закрытыми глазами, и голос Рачковского, казалось, доносился до него свыше, снисходил как озарение...
Перед искушением он не устоял и даже обещал уговорить послужить правому делу своего друга Петю Рутенберга — тот ближе к социалистам-революционерам, он их больше знает, они ему больше доверяют...
...О состоявшейся вербовке Гапона, еще одной «подметки» (так департаментские в своем кругу именовали провокаторов), Рачковский немедленно доложил его высокопревосходительству министру внутренних дел Петру Николаевичу Дурново, рассчитывая поднять тем самым свои продолжающие падать акции. Особо он напирал на то, что Гапон, хорошо знающий Рутенберга, утверждал, что может склонить к сотрудничеству этого действительно уважаемого в ПСР революционера с помощью денег.
— Это Рутенберга-то? — усомнился присутствующий при докладе начальник Петербургского охранного отделения Александр Васильевич Герасимов, — Тут уж позвольте мне не согласиться с вашими надеждами, дражайший Петр Иванович.
— Рутенберг — человек чистый, не алчный. Не пьет, за юбками не бегает, к шикарным портным дороги не знает. Словом, человек в быту и в личной жизни скромнейший. На что ему деньги!
— Н-да, — задумался министр.
Рачковского, карьеру и страсть к интригам которого он хорошо знал, его высокопревосходительство недолюбливал и опасался: у Рачковского были покровители, да не где-нибудь, а при дворе! И действовать поэтому приходилось осторожно.
— Я вот что предложил бы, господа. — примирительно заговорил Дурново. — А не встретиться ли вам с Гапоном... всем втроем... где-нибудь в хорошем ресторане, раз он так уж любит деликатесы и прочее. Посидите, поговорите, Александр Васильевич еще раз его пощупает. За деньгами, в конце концов, дело не станет. Сколько он просит-то?
— Сто тысяч, — опустил глаза Рачковский, с трудом выговорив сумму, требуемую Гапоном за отдачу боевиков вместе с их главарями и всеми ближайшими планами. — На двоих, конечно. С Рутенбергом.
Однако вопреки его ожиданиям сумма не смутила министра.
— Что сто тысяч, что двадцать пять... Какая нам разница? — спокойно продолжал он. — Казна наша, как бы плохо ни шли дела, от этого не опустеет. Главное, чтоб толк был, господа. На хорошую агентуру денег не жалко.
Словом, Рачковский получил разрешение действовать и ухватился за это разрешение, как за последний шанс в своей карьере.
Операция началась. Гапон принялся обрабатывать Рутенберга, суля ему большие деньги и всяческие жизненные блага, если тот согласится на сотрудничество.
И опять Герасимов оказался прозорливее своего соперника Рачковского. Рутенберг разыскал находившегося в то время в Финляндии Азефа и рассказал ему об измене Гапона. Потом, через несколько лет, Рутенберг вспоминал о взрыве ярости, охватившей Ивана Николаевича.
— С Гапоном нужно покончить немедленно, как с гадиной! — бушевал «генерал БО». И тут же последовал план-экспромт:
— Ты, Петр, должен вызвать его на свидание, поехать с ним на рысаке в ресторан «Крестовский сад» — за извозчика будет наш товарищ — остаться там ужинать поздно ночью, покуда все разъедутся, потом поехать на том же извозчике в лес, ткнуть Гапона в спину ножом и выбросить из саней...
Но Рутенберг на роль убийцы явно не годился, и Азеф, поостыв, понял это. У него возник новый план: убить Гапона вместе с Рачковским во время очередной их встречи в отдельном кабинете ресторана. Приманкой для Рачковского была подготовленная якобы Гапоном встреча с завербованным Рутенбергом. Боевики, как было согласовано со всеми «фигурантами», ждали Гапона и Рачковского 17 марта 1906 года у ресторана Контана.
И опять появился на сцене вездесущий Герасимов. В ресторане он устроил засаду, а Рачковскому отсоветовал идти туда. Покушение сорвалось, но Гапон был уже обречен. Азеф единолично, не согласовывая с ЦК ПСР свое решение, как и в «деле Татарова», приговорил Гапона к смерти.
Завлечь его в смертельную западню он приказал Рутенбергу, что тот и сделал. Гапон был повешен 10 апреля 1906 года около семи часов вечера на пустой даче за финской границей в Озерках.
Впоследствии выяснилось, что и в этом деле Азеф вел двойную игру: сначала он хотел «убрать» Рачковского как хозяина, относящегося к нему с недоверием, а потом решил наоборот — сыграть на спасении его жизни и тем самым доверие к себе восстановить. Во всяком случае, Рачковскому он через некоторое время говорил о том, что посылал ему письма, предупреждающие о готовящемся против него Рутенбергом покушении.
Центральному комитету, не санкционировавшему казнь Гапона, Азеф заявил, что это дело рук самого Рутенберга, и только его. Когда же Рутенберг попытался оправдаться, его обвинили в клевете на героя революции и уважаемого в партии заслуженного человека. Эсеры от него отвернулись, и морально раздавленный, сломленный, он сошел с политической сцены.
Я продиктовал стенографистке последнюю фразу и подпись — «П. Николаев».
— Завтра вызывайте в это же время, — этой фразой каждое утро завершался мой телефонный разговор с Москвой. Я собрался было положить трубку, но стенографистка не позволила мне это сделать.
— Ой, Петя, подожди, подожди, — заспешила она. — Тут у меня записано... сейчас найду... ах, вот что... С тобой хочет поговорить Кондрашин. Соединяю... Говорите...
— Алло! Это ты, старичок? — услышал я басовитый голос Васи Кондрашина, шефа моего отдела.
— Привет, Васисуалий! — отозвался я. — Чего это ты вдруг обо мне вспомнил?
— И не я один. Вся редколлегия тебя вчера вспоминала. Претензии тут к тебе, старичок, у нас появились. Что-то ты в последнее время больше по мелочам выступаешь, на информашках выезжаешь. Крупненького народ от тебя ждет, крупненького и поглубже. Понял?
Возразить мне было нечего. Действительно вот уже несколько недель, как я, увлекшись «делом Азефа», дни и ночи проводил над коллекцией Никольского и рукописью книги, которую считал себя обязанным написать за него, работу же на редакцию изрядно запустил.
— Виноват, — принял я адресованные мне претензии, — постараюсь исправиться, только...
— Что только? — обеспокоился он.
— Занят я тут кое-чем... Вкалываю...
Васе, моему другу и матерому газетчику, объяснений не требовалось.
— Что-то интересное, старичок? Увлекся? — мгновенно ухватил он мой настрой. — А что, как всегда, утаишь?
В этот момент мой взгляд случайно упал на сейф, в котором вот уже несколько дней пребывала в заточении выставленная из посольства коллекция Никольского. И тут мне пришла в голову гениальная и простая, как все гениальное, мысль!
— А я вот возьму и с ближайшей диппочтой тебе кое-что и пришлю. Сам все и увидишь!
— Значит, дело серьезное, — оценил сказанное мною Вася. — Материал-то большой?
— Даже слишком. Только ты сохрани мне все до листочка, договорились? Каждую страничку. Сам можешь читать все, но чтоб больше никому!
— Понял,старичок, сделаю.
(Вася был известен своей покладистостью).
— Так что дней через десять жди толстенный пакетище, почта приходит к нам через неделю.
— О’кей! — завершил он нашу беседу. — Жду.
И положил трубку.
— Значит, до завтра? — опять подключилась стенографистка. — Как всегда?
— Как всегда, — подтвердил я и услышал в трубке гудки отбоя.
Положив трубку, я сразу же принялся открывать замок сейфа. Лишний раз делать это я не любил — слишком долгой и скучной была игра с комбинациями цифр. Но теперь, когда те, кто постоянно прослушивал мой телефон, а в этом не было никаких сомнений, знали, что я хочу отправить что-то серьезное с ближайшей диппочтой в Москву, нельзя было терять ни минуты.
Отвезти все это в посольство было нужно срочно! Я был почти уверен, что события после того, что я сказал Кондрашину, будут развиваться все быстрее и быстрее.
И через два часа уже знакомый читателю посольский референт придирчиво принимал у меня толстенные пакеты для отправки диппочтой в редакцию... В них были все проработанные уже мною бумаги Никольского — рукопись моей будущей книги. Все, кроме таинственного пакета, который я должен был прочесть в последнюю очередь.
* * *
...Запись телефонного разговора между корреспондентом одной из московских газет Петром Николаевым и его редакцией легла па стол Профессора среди прочих донесений, полученных за день.
Несколько раз перечитав перехваченную связь между Бейрутом и Москвой, он вытащил из ящика стола свой личный шифровальный блокнот и принялся за работу. Закончив ее, вызвал оперативного дежурного и приказал немедленно передать подготовленную им шифровку в бейрутское отделение своей службы. И перешел к другим бумагам, чувствуя, что маленький кризис, назревший в Бейруте, взбодрил его...
* * *
После того как революция была разгромлена, ЦК ПСР решил возобновить террор и одним из первых приговоренных им к смерти стал кровавый палач и каратель П. Н. Дурново. Азеф и его боевики ликовали: слюнтяи-«массовики» оказались посрамлены, и дело террора восторжествовало. Казнь всесильного Дурново должна была доказать, что БО по-прежнему остается реальной боевой силой партии и революции. И Азеф с присущей ему деловитостью ставил теперь покушение на министра внутренних дел империи.
Учитывая политическую важность и техническую сложность предстоящей акции, он решил, что в деле должны участвовать две группы. Первая, меньшая, всего из трех человек — Абрам Гоц, родной брат Михаила Гоца, А. Третьяков и Павлов. Все трое должны выступать в роли «извозчиков», группой руководил сам Азеф. Руководство второй он поручил Савинкову. В нее входило пять боевиков, и роли их были более разнообразны — не только «извозчики», но и «уличные торговцы», «разносчики» и т. п.
Наблюдатели — извозчики, разносчики, продавцы газет, система расстановки бомбистов... Боевая Организация ПСР продолжала действовать «по старинке». И охранка, изучив методы террористов, действовала соответственно: извозчичьи дворы были взяты под наблюдение и контроль, что вскоре и начало приносить свои плоды: был установлен лихач, часами простаивающий у дома Дурново и не берущий седоков. Затем установлено еще два таких же «извозчика», старший филер Тутышкин вышел и на четвертую фигуру, с которой поддерживали связь «наблюдатели». В своем рапорте Герасимову Тутышкин отметил, что «четвертого наблюдаемого он знает давно: «лет за 5—6 перед тем» его ему показали в московской кондитерской Филиппова. Тутышкин доложил Герасимову, что Филипковского (так окрестили этого человека по названию кондитерской, в которой он любил сиживать, филера) считают одним из «самых важных и ценных секретных агентов» и что «его надо старательно оберегать от случайных арестов».
Кроме «главного боевого дела» — «похода на Дурново», Азеф спланировал убийства генерала Георгия Александровича Мина и полковника Николая Карловича Римана во главе Семеновского полка, зверски подавивших московское восстание. Именно Риман командовал карательной экспедицией, без суда и следствия убившей в Перове, Люберцах и Ашикове более 150 повстанцев, а генерал Мин отдал приказ о расстреле из орудий Прохоровской мануфактуры на московской Пресне, главного опорного пункта революционных дружин.
...И вот теперь Азеф шел на свидание с одним из своих «извозчиков», наблюдающих за Дурново. В том, что слежки за ним нет, он был уверен, и, когда возле безлюдного в этот час Летнего сада неизвестно откуда возникшие филера схватили его под руки, он опешил от неожиданности и растерялся: никогда, никогда его еще не арестовывали, да еще вот так грубо, заламывая руки и издевательски уговаривая «честью следовать» куда будет сказано и не скандалить для «вашей же, господин хороший, пользы».
Учинить драку с филерами Азеф не решился, но принялся бурно протестовать. Однако филера к такому были привычны. Ловко впихнув Азефа в припасенную заранее закрытую пролетку, они быстренько доставили его в охранное отделение — прямо к самому Александру Васильевичу Герасимову, наконец-то получившему возможность лицезреть в своем служебном кабинете таинственного «господина Филипповского».
Филипповский был желт от ярости, на губах у него пузырилась пена, глаза готовы выскочить из орбит.
— Да как вы смеете, полковник! — уже с порога атаковал он удобно расположившегося за казенным письменным столом Герасимова. — Вы за это ответите! Прикажите вашим людям немедленно освободить меня или...
Он стиснул тяжелые кулаки и грозно шагнул к столу.
— Садитесь, господин... Филипповский, — вежливо предложил ему полковник, указывая на стоящий напротив стола стул.
И, натолкнувшись на этот спокойный и властный голос, Азеф вдруг сник. Когда он уселся на указанный ему стул, лицо его сразу оплыло и усыпалось крупными каплями нездорового пота, губы стали серыми, по скулам пошли багровые пятна.
— Никакой я вам не Филипповский! — все еще продолжал он наступлением, но это были его последние силы.
— Вот мне бы и хотелось узнать, кто же вы, мой таинственный незнакомец? — ласково посмотрел на него Герасимов. — Наши люди говорят о вас столько лет — и Меньшиков, и Тутышкин, и другие агенты... а я вот вас вижу в первый раз, хотя по должности должен был бы познакомиться с вами гораздо раньше — как-никак начальник столичного отделения охранения общественной безопасности и порядка. Так кто же вы, господин...
Он многозначительно замолчал.
— Я — инженер Черкес, — с вызовом окончил недосказанную фразу Герасимова Азеф. — Вот мои документы...
И, достав портмоне, он швырнул его на стол полковника. Но Герасимов к портмоне даже не притронулся.
— Мы знаем, что вы не то лицо, за которое себя выдаете, господин... Икс, — теперь глаза его излучали леденящий холод, и Азефа передернуло от взгляда полковника. — Нам известно также, что вы были связаны или до сих пор остаетесь связаны с Департаментом полиции.
Так что, — чеканил фразы Герасимов, — я предлагаю вам откровенную беседу, от которой будут зависеть наши с вами дальнейшие отношения: будем ли мы с вами врагами или... мне хотелось бы именно этого... станем партнерами и сотрудниками. Подумайте и сделайте выбор.
— Но... господин Герасимов, — неуверенно отозвался Азеф, — согласитесь, что все это несколько неожиданно... Я — и вдруг тут, у вас...
Сбавляя тон, он быстро соображал: нет, это не арест, о «походе на Дурново» эти идиоты полицейские, похоже, ничего не знают. Произошло какое-то недоразумение, но лучше выждать, как будет все развиваться дальше.
— Мне нужно собраться с мыслями, Александр Васильевич, немного подумать...
— Отлично, — согласился с ним Герасимов, отметив про себя смену обращения к нему Филипповского: сначала — грубо — полковник, потом — господин Герасимов и, наконец... Александр Васильевич!
— Не хотите говорить, не надо. Мы можем не спешить. Посидите, подумайте на досуге, а когда надумаете, скажите только надзирателю.
Он нажал кнопку вызова охраны, и на пороге появился дюжий жандарм.
— Отведите, пожалуйста, нашего гостя в одиночный номер, — любезно обратился к нему Герасимов и тут же с извиняющейся улыбкой обернулся к Филипповскому: — Я только хочу извиниться заранее... Условия у нас тут простые, на содержание арестованных казна скупится. Так что уж не осудите, чем богаты, тем и рады.
Герасимов встал, давая понять, что разговор окончен, его примеру последовал и насупившийся, сразу поскучневший Филипповский: в одиночке сидеть ему, как и вообще быть под арестом, никогда до этого не приходилось, и, покидая кабинет Герасимова, он злобно подумал, что когда-нибудь рассчитается с полицией и за этот свой «одиночный номер» в петербургской охранке.
На то, чтобы прийти в себя, оказавшись в столь неожиданной и непривычной ситуации Азефу понадобилось целых два дня. Валяясь на жесткой арестантской койке под колючим, пахнущим карболкой серым одеялом, он мучительно старался понять причину, ввергшую его в это мерзкое полицейское узилище. И концы с концами в его логических построениях что-то не сходились. Ведь знай Герасимов, что он, Азеф, действительно связан с Департаментом, вряд ли его бы арестовали, да еще посадили в одиночку. И потом — как Герасимов вышел на него, почему обратил на него свое полицейское внимание? Неужели же где-то был допущен конспиративный просчет? Но где? И что знает теперь Герасимов о его деятельности в Петербурге? Или арест следствие того, что он не внял предупреждению Рачковского, подославшего хулиганов, порезавших ему шубу, не внял и продолжал руководить «походом на Дурново»?
А может быть, кто-то из полицейских провокаторов, проникших в партию (в том, что такие есть, Азеф не сомневался — дело было обычным), раскрыл-таки Департаменту его двойную игру и теперь Рачковский решил с помощью Герасимова окончательно рассчитаться со своим бывшим агентом? Это было похоже на правду — ведь сколько писем он, Азеф, ни отправлял Рачковскому в течение вот уже нескольких месяцев, сколько ни просил о личной встрече, ответом было глухое молчание.
Да, размышлял Азеф, похоже было, что он прижат к стенке и отступления нет, нет пути назад. И чем больше крепло убеждение в этом, чем очевиднее становились отчаянность положения и мучительнее страх перед неминуемой гибелью, тем ярче работал мозг, искавший выхода. Что ж! Если нет пути назад, значит, надо идти вперед, делать то, что противник никак не ожидает, к чему не готов ни морально, ни материально.
И к вечеру второго дня Азеф попросился к Герасимову для доверительной беседы.
— Слушаю вас, господин Филипповский, — сухо, как очень занятой человек, встретил его Герасимов, не отвечая на «здравствуйте» и не предлагая сесть.
Но Азеф и виду не подал, что это его как-то задело. Он решительно прошел вперед, почти к самому столу Герасимова, и уселся на стоящий перед столом стул.
— Я готов к откровенному разговору, Александр Васильевич, — твердо сказал он. — Но при условии, что при этом будет присутствовать мой прежний начальник, Петр Иваныч!
— Рачковский? — удивленно вскинул брови Герасимов.
— Именно он. Петр Иванович Рачковский, — отчеканил Азеф.
— Что ж. Я лично против присутствия при нашем разговоре Петра Ивановича Рачковского ничего не имею, — искусно скрыл свое изумление Герасимов. — Я сейчас же ему телефонирую и, как только он прибудет, приглашу вас на беседу. А пока...
Он нажал кнопку вызова, и на пороге появился жандарм, только что препроводивший сюда Азефа из одиночки.
— ...А пока вам придется насладиться уединением еще некоторое, надеюсь, недолгое время.
И, с удовольствием отметив про себя, что Филинповский не сумел скрыть вызванного этим решением неудовольствия и поморщился, продолжал, обращаясь уже к жандарму:
— Проводи, любезнейший, арестованного в «номер первый»...
...Рачковский был у себя, когда его соединили с Герасимовым. Начальник петербургской охранки не стал терять времени на любезности и расспросы о здоровье.
— Петр Иваныч, — сразу же приступил он к делу. — Мы арестовали господина Филипповского... Помните, того самого, о котором я вас недавно несколько раз расспрашивал. Так вот представьте: он утверждает, что вас хорошо знает и даже служил под вашим начальством! Что? Не может быть? Как это не может, вот он сейчас сидит у меня в одиночке и ждет вашего приезда, чтобы мы могли побеседовать все вместе? Говорите, что не знаете никакого Филипповского? Разве что это может быть Азеф? Не знаю, Петр Иванович, не знаю. Вам должно быть виднее. Может быть, его зовут и Азеф... Странное какое-то имя, слышу такое впервые в жизни. Это фамилия? А зовут Евгений Филиппович? Ну вот и хорошо, можно сказать — познакомились. Так мы вас ждем, а то Евгений Филиппович вот уже второй день томится у нас на казенном довольствии. Выезжаете сейчас же? Что ж, очень гуманно с вашей стороны. Евгений Филиппович несомненно это оценит и будет вам очень благодарен за вызволение из узилища! Ждем вас, и он, и я. Извините за беспокойство, уважаемый Петр Иванович. Служба уж у нас с вами такая!
— Евгений Филиппович! Да это вы! Дорогой мой! Как поживаете! Давненько же мы с вами не виделись!
Рачковский прямо с порога бросился с объятиями к ожидавшему его посреди герасимовского кабинета Азефу.
— Ах ты, сука паршивая! Дерьмо собачье! —Азеф материл Рачковского со смаком, изливая всю мерзость, накопившуюся в его душе за двое суток, проведенных на тюремной койке в клоповнике-одиночке.
Ошеломленный Герасимов откинулся на спинку кресла, словно стараясь отодвинуться подальше, чтобы не запачкаться той грязью, которую «инженер Черкес» выплескивал в ярости на Рачковского.
«В своей жизни я редко слышал такую брань, — вспоминал потом Герасимов. — Даже на Калашниковской набережной не часто так ругались».
Но Рачковский при каждом очередном взрыве матерщины только потирал руки и весело похохатывал:
— Ну и мастер же вы, голубчик, в области словесности! Прямо гений по этому делу. Ну еще, еще...
Но Азёф уже остывал. И когда его матерные загогулины стали терять забористость, Рачковский заговорил с ним ласково, почти по-отечески:
— Да вы, Евгений Филиппович, не волнуйтесь, успокойтесь, ради Бога. Ну... душу отвели, и будет...
Он подошел к Азефу и полуобнял его жирные плечи:
— Ну успокойтесь же... А то что о нас с вами Александр Васильевич может подумать? Ну, пошумели, высказались, как говорится, по-свойски, по-мужски, а теперь к делу...
Он осторожно подвел изрыгающего последние залпы матерщины Азефа к одному из кресел, стоящих пород столом Герасимова, и усадил, сам усевшись напротив.
— А я-то не мог никак понять, о каком это таинственном Филилповском меня Александр Васильевич все пытает. А это вот вы... Дайте хоть посмотреть на вас получше, голубчик... Сто лет не видались, думал, уж не случилось ли что с вами ненароком или обиделись на меня за что... — почти пел Рачковский. — И сразу ругаться на старых друзей... Нехорошо. Евгений Филиппович, нехорошо.
— А предавать хорошо? А бросать на произвол судьбы хорошо? — продолжал натиск Евгений Филиппович. — Разве такое отношение заслужил я после стольких лет честной и непорочной службы?
— Помилуйте, — округлил в удивлении глаза Рачковский. — Так это же вы сами больше чем полгода назад перестали подавать о себе вести. Сгинули, растворились во тьме неизвестности, так сказать.
— А что мне, по-вашему, оставалось делать? — не понижал тона Азеф. — Кто-то из ваших предал меня революционерам, как вам известно! Вместе с Татаровым. Хорошо удалось уладить дело, а если бы они за мною стали следить? Если бы на нашу связь вышли? Искали бы вы меня, как теперь ищете вашего дурака Гапона!
— Что-что? — сразу вмешался в происходящее Ге-расимов. — Что вы изволили сказать про «нашего» Гапона?
— А то, — резко обернулся к нему Азеф, — что болтается ваш Гапон в петле где-то в Финляндии. Где точно, не знаю, повешен на даче, и все. Надо будет, сами найдете!
Он повернулся к Рачковскому и заговорил с укоризной:
— Эх, Петр Иванович, Петр Иванович! И это после всего, что я для вас сделал. От верной смерти вас спас... Или не получали вы от меня предупреждений — не ходите, мол, Петр Иваныч, на встречи с Рутенбергом. Убить, мол, вас социалисты-революционеры решили. Ну что? Скажете — не получали?
— Получать-то получал, — нехотя признался Рачковский, — да только...
— Да только доверять вы мне перестали, милейший Петр Иванович, — докончил мысль Рачковского Азеф, — вот что...
Теперь его губы надулись, как у обиженного, готового расплакаться ребенка:
— Я, ежечасно рискуя собственной головой, стараюсь, освещаю планы террора... вы по моим освещениям работаете, а мне — ни ответа, ни привета, не говоря уже о законном жаловании за столько времени...
Теперь Азеф распекал Рачковского, ловя сочувственные взгляды Герасимова. Рачковский же оправдывался неловко, невразумительно. О том, что у него были основания не доверять Азефу, он не решался и заикнуться. Маневр, примененный Азефом, оправдался полностью.
Впоследствии в своих воспоминаниях Герасимов писал:
«Я сам почувствовал угрызения совести за действия Рачковского и был удивлен, что во главе политического сыска стояли такие бездарности. Азеф прочитал Рачковскому надлежащую и вполне заслуженную отповедь».
— Ну ладно, — решил прекратить наскоки Азефа и оправдания Рачковского Герасимов. — Будем считать, милые ссорятся — только тешатся. А теперь, Евгений Филиппович, позвольте уж мне задать вам кое-какие вопросики... Не откажите в любезности...
— Извольте, Александр Васильевич, — насторожился Азеф, учуявший нового хозяина.
— Нами установлено, что, по всей вероятности, готовится покушение на его высокопревосходительство Петра Николаевича Дурново...
— Установлено... или по всей вероятности? — решил уточнить Азеф, чтобы подготовиться к надлежащему ответу.
— Теперь, когда мы знаем друг друга, можно говорить откровенно, — согласился на это Герасимов. — Террористы — трое, изображают из себя извозчиков, ведут наблюдение. Ну, вы сами знаете их приемы — извозчики, разносчики, мелкие торговцы... Словом, никакой фантазии. Вы что-нибудь можете добавить к нашим сведениям?
— Конечно, — дерзко, с вызовом взглянул ему в глаза Азеф. — Четвертым и главным в этой группе являюсь я, ваш покорнейший слуга.
— Евгений Филиппович, побойтесь же Бога! — не выдержал такого циничного признания Рачковский. — Вы ставите покушение на собственное начальство?
— Да, ставлю! — зло огрызнулся Азеф. — А что мне прикажете делать? Вы бросили меня на произвол судьбы, оставили без руководства, на письма мои и просьбы о встрече — не отвечали. И мне оставалось только считать себя свободным от службы в Департаменте и быть вправе приняться за свою профессиональную работу в партии. Да, я был вынужден вами войти в ЦК и в руководство Боевой Организации и заняться тем, на чем меня засекли ваши филера...
Рачковский и Герасимов, пораженные наглостью такого признания, лишь переглянулись.
— И вообще, господа, — продолжал наглеть Азеф, — кто вам дал право о чем-то меня спрашивать? Это я хочу спросить вас: когда вы намерены наконец выплатить мне жалование, то самое, которое вы не платите мне вот уже несколько месяцев? Жалование плюс возмещение убытков, которые я понес из-за того, что вы предали меня, бросив на произвол судьбы. Когда, наконец, мне будут оплачены расходы по поездкам и на другие нужды? Ваш должок мне...
(Он прищурился и наморщил лоб, то ли вспоминая что-то, то ли подсчитывая)
— ...около пяти тысяч рублей.
Рачковский и Герасимов еще раз переглянулись, и Петр Иванович инициативу взял на себя:
— Хорошо, Евгений Филиппович, вы получите эти деньги в самое ближайшее время. И... продолжим наше сотрудничество !
— Да, да! — подтвердил слова Рачковского Герасимов. — Петр Иванович по-прежнему будет руководить вами, но... — Последовала многозначительная пауза... — Мы будем отныне встречаться только втроем, дабы не повторять прошлые ошибки. А теперь к делу.
«К делу» вылилось в подтверждение того, что полиции было уже известно о «трех извозчиках», готовящих покушение на Дурново. О второй группе боевиков, руководимых Савинковым и запятых тем же, но все еще, как понял Азеф, неизвестных полиции, им не сказано было ни слова. Не отдал он и группу, ставившую в Москве покушение на местного генерал-губернатора Федора Васильевича Дубасова.
А на следующее утро Герасимов уже докладывал министру о событиях, развернувшихся вокруг Азефа в предыдущие дни. Рачковский, недолюбливаемый министром, при докладе не присутствовал, и поэтому его быстро входящий в силу соперник в выражениях своих мыслей не стеснялся, поощряемый к тому циничными ухмылками и репликами министра.
— Этот агент Рачковского не произвел на меня благоприятного впечатления, Петр Николаевич, — говорил Герасимов. — Человек он крайне грубый и наглый, изворотливый. Когда понял, что установлен как участник постановки покушения на ваше высокопревосходительство, заявил, что занялся этим потому, что решил, что он свободен от службы в Департаменте, будто агентам, оставившим у нас работу, совершенно естественно переходить в террор. Нового для нас ничего в «деле извозчиков» не осветил.
При этих словах Дурново поморщился: вот уже несколько недель по совету Герасимова он старался лишний раз не появляться на улице и до минимума сократил свои выходы в общество, словом, как бы пребывал под домашним арестом, плотно опекаемый агентами охранки. Подобное вынужденное затворничество раздражало его все больше и больше.
— Полезен он пока оказался лишь в двух вопросах, — продолжал докладывать Герасимов. — Первое — сообщил, что Гапон убит, повешен где-то на даче у самой финской границы. И второе — предупредил, что Зензинов ставит покушения на генерала Мина и полковника Римана. За возобновление сотрудничества потребовал выплатить ему жалование за последние полгода и возместить какие-то понесенные им якобы из-за Департамента убытки.
— Сколько же это всего? — поинтересовался Дурново.
— Рачковский обещал выплатить ему пять тысяч...
— А вы что думаете по этому поводу, Александр
Васильевич?
— А я думаю, Петр Николаевич, что Азефа вообще нельзя отныне использовать на нашей службе, — твердо ответил Герасимов.
— Это почему же? — попросил уточнить министр.
— Охотно изложу свои соображения, ваше высокопревосходительство. Прежде всего и у меня, и, как я выяснил, у Рачковского в отношении Азефа есть определенные сомнения. Нам кажется, что сомневается относительно его и кое-кто в революционных кругах. Он и сам боится, что революционеры могут проследить его связи с нами и убить. И наконец, другое — Азеф слишком долго с нами сотрудничает и, как я убедился сам, известен в Департаменте уже слишком многим. Филера говорят о нем в своей среде, как о крупном и высокооплачиваемом провокаторе. Какие могут быть гарантии, что кто-нибудь из наших вдруг не предаст Азефа его товарищам? Считаю, что с каждым днем он все больше и больше рискует...
— Да вы, я вижу, большой человеколюб, господин полковник! — цинично рассмеялся Дурново. — Столько заботы о каком-то провокаторе! Стоит ли нам так об этом печься... Ведь рискуем-то не мы, а он, так вот пусть он об этом и думает. Если он согласен на нас работать, то нам-то что об этом беспокоиться? Время сейчас такое, что каждый сотрудник нужен до зарезу. Пусть работает — там видно будет.
Он помолчал и продолжал уже другим, почти бухгалтерским тоном:
— Что же касается выплаты пяти тысяч... Что ж, я согласен. Если мы были готовы выдать сто тысяч покойному, по вашим словам, Гапону, что стоит ли вообще говорить о каких-то пяти тысячах! Платите, но... считаю, что Азеф должен перейти отныне в полное ваше распоряжение и под полную вашу ответственность, господин полковник.
Герасимов подтвердил согласие легким кивком головы.
— «Извозчиков»... арестовали? — словно вспомнив о чем-то неприятном, поморщился министр.
— С тем, чтобы не провалить Азефа, но покушение сорвать, решили их пока спугнуть, — деловым тоном, словно дело и не шло о жизни сидящего перед ним человека, — принялся докладывать Герасимов. Дали им понять, что за ними ведется слежка, и они бежали из Петербурга... оставаясь под нашим наблюдением, разумеется... Арестуем через неделю-другую. Тело Гапона ищем в Финляндии. Приняты меры по охране генерала Мина и полковника Римана. Боевиков ждут засады.
Герасимов не знал, что, кроме первой группы — «извозчиков», покушение на Дурново ставит и вторая — группа («смешанная») под руководством Савинкова. Но вспугивание «извозчиков» приняло такой масштаб, что даже в петербургских гостиных заговорили о боевиках, собирающихся убить министра внутренних дел и выслеженных полицией. Заговорили об этом и в кругах местных социалистов-революционеров. И опять, как уже бывало, Савинков дрогнул и решил перебраться подальше от Петербурга — в Москву, под предлогом подготовки покушения на Дубасова, операции, о которой Азеф, следуя своей двойной игре, и не подумал предупредить восстановивший с ним отношения Департамент и своего нового начальника — Александра Васильевича Герасимова.
Но и в Москве Савинкову не повезло. Московских (местных, а не приезжих) боевиков освещала Зинаида Жученко (урожденная Гернгросс, охранная кличка Михеев), служившая секретным сотрудником Департамента еще с 1893 года. С 1905 года она входила в состав Московского областного комитета ПСР и без устали отдавала одного за другим своих «товарищей по партии». Словом, приезжий отряд боевиков оказался в Москве уже под настоящей угрозой ареста, охранка напала на их след, и савинковцам удалось бежать лишь с большим трудом.
При попытке совершить покушение на полковника Римана был арестован боевик Яковлев, явившийся к нему на квартиру под видом «князя Друцкого-Соколинского». И боевую организацию, терпящую провал за провалом, охватило что-то вроде паники и отчаяния.
— Надо напасть на квартиру Дурново открыто, среди бела дня! — кричал на собраниях боевиков молодой Абрам Гоц. — Мы обвяжемся динамитом, с боем прорвемся к Дурново и там, у него, взорвемся, уничтожив палача и все его семейство!
Оживились и «массовики». Они вновь заговорили о бесполезности и даже вредности ставки на террор, тем более что приближалось 10 мая 1906 года — день открытия Государственной думы, на выборах в которую побеждали «прогрессисты» и «леворадикалы». «Массовики» были убеждены, что самодержавие обязательно капитулирует перед общим фронтом прогрессивно-демократических сил, «народных избранников». Террор же в таких условиях даст возможность правительству, в свою очередь, прибегнуть к террору и лишить «народ» его демократических завоеваний.
И опять все больше видных деятелей ПСР склонялось к роспуску «вредящей общему делу» Боевой Организации. В конце концов было решено, что действовать она будет лишь до открытия Государственной думы.
Боевики и другие сторонники террора впали в уныние, тем более, что аресты шли за арестами. На каторгу отправилась петербургская тройка «извозчиков»: Абрам Гоц, Павлов и Третьяков. Опять пошли разговоры о провокации. Кое-кто из новичков стал коситься и на Азефа. И опять он оказался под угрозой разоблачения.
В ЦК ПСР поступил документ, который вошел в «дело Азефа» под названием «Саратовское письмо» и потом неоднократно фигурировал в материалах Судебно-следственной комиссии эсеров.
Саратовские товарищи писали буквально следующее: «Из источника компетентного нам сообщили следующее: в августе 1905 года один из виднейших членов Партии социалистов-революционеров состоял в сношениях с Департаментом полиции, получая от Департамента определенное жалование. Лицо это, то самое, которое приезжало в Саратов для участия в бывших здесь совещаниях некоторых крупных партийных работников.
...за всеми участниками совещания была учреждена слежка. Последнею руководил в виду особо важного значения... специально командированный Департаментом ветеран-сыщик, старший советник Медников. Этот субъект, хотя и достиг высокого чина, однако остался во всех своих привычках простым филером и свободное время проводил не с офицерами, а со старшим агентом местной охраны и с письмоводителем. Им-то Медников и сообщил, что среди приехавших на съезд социалистов-революционеров находится лицо, состоящее у Департамента полиции на жаловании, получает 600 рублей в месяц. Охранники сильно заинтересовались получателем такого большого жалования и ходили смотреть его в сад Очкина (увеселительное место). Он казался очень солидным человеком, прекрасно одетым, с видом богатого коммерсанта или вообще человека больших средств.
Стоял он в Северной гостинице... и был прописан под именем Сергея Мелитоновича (фамилия была нам «источником» сообщена, но мы ее, к сожалению, забыли). Сергей Мелитонович, как лицо, дающее сведения, был окружен особым надзором для контроля правильности его показаний: в Саратов его провожали из Нижнего через Москву два особых агента, звавших его в своих дневниках под кличкой Филипповский...»
Можно было предположить, что, как и после разоблачительного письма Меньшикова, судьба Азефа опять оказалась висящей на волоске, стоило лишь по-настоящему и всерьез заняться его расследованием. Но организатор убийств Плеве и великого князя Сергея Александровича, человек, чуть было не погибший от ножа подосланного полицией черносотенца, был вне всяческих подозрений. Кроме того, после очередного (московского) провала Савинкова он лично взялся ставить покушение на Дубасова и, как всегда, преуспел. 6 мая 1906 года член БО Борис Вноровский метнул бомбу в открытую коляску, в которой Дубасов ехал вместе со своим адъютантом графом Коновницыным — на самом углу Тверской площади и Чернышевского переулка. Вноровский погиб на месте, был убит Коновницын, а контуженого Дубасова взрывом выбросило из коляски, он сильно расшибся и был вынужден долго лечиться. В июне он вышел в отставку, а в декабре боевики повторили на него покушение в петербургском Таврическом саду. Рабочие Воробьев и Березин бросили в него две бомбы, и опять Дубасов остался жить.
Боевиков судили и повесили. Они были членами «Летучего боевого отряда Северной области», действовавшего независимо от Азефа.
Тем не менее «лицо» террора было спасено, и опять Азеф вышел в герои. Кто бы после этого осмелился поверить каким-то сомнительным сведениям, поступившим из Саратова, да еще с прямой ссылкой на полицейские источники, явно стремившиеся скомпрометировать кого-то из руководства ПСР!
Но опасность надвигалась с другой стороны. От Зинаиды Жученко стало известно, что Азефа в дни покушения на Дубасова видели в Москве, хотя в контакт с местной эсеровской организацией, учитывая печальный опыт провалившегося здесь московского отряда Савинкова, он не вступал. Жученко сообщала также: среди эсеров идут разговоры, что на Дубасова ставил покушение сам Азеф.
Когда эти сведения сошлись на столе у полицейского начальства и все больше набиравший силу Герасимов потребовал Рачковского к ответу за сомнительные действия его агента, Петр Иваныч признался, что у него уже давно имеются определенные подозрения относительно «милейшего Евгения Филипповича». Решено было вызвать Азефа для объяснений.
Впоследствии Азеф сам вспоминал, что «трехсторонняя встреча» имела бурный характер.
— Это его дело в Москве! — кричал Рачковский, тыча пальцем в сторону Азефа. — Его!
— А раз мое, то арестуйте меня, — нагло предлагал Азеф наблюдавшему эту картину Герасимову. — Или боитесь скандала? Боитесь, накануне открытия Государственной думы выяснится, что агенты полиции ставят покушения на государственных деятелей, провоцируя ответный террор?
— Это какие же агенты? — невозмутимо поинтересовался Герасимов.
— Он и Жученко! — опять сорвался на крик Рачковский и, спохватившись, что сболтнул лишнее, попытался было исправиться:
— Жученко, как известно, фигура местного террора, Азеф — фигура центрального террора и был в дни покушения в Москве...
— Ага! Значит, на вас работает и Жученко! — поймал его на слове Азеф. — А вы, господин Рачковский, опять взялись за старое. Не можете мне простить, что сорвалась вербовка Рутенберга или еще что-то, за что меня невзлюбили. Вот и валите теперь на меня при каждом удобном случае, все, что попадется по руку. Что ж! Давайте, арестовывайте меня. Но ведь вы этого не сделаете потому, что прекрасно знаете — будь я в чем-нибудь виноват, я бы просто сюда, к вам, не явился, а давно был бы уже где-нибудь за границей.
Последние фразы он обращал уже не к трясущемуся от бессильной ярости Рачковскому, а к спокойно наблюдавшему всю сцену Герасимову.
Словом, и на этот раз Азеф вышел сухим из воды. Боязнь громкого политического скандала, разоблачающего провокационные методы политического сыска, а также нежелание потерять такого ценнейшего секретного сотрудника, как инженер Раскин, перевесили чашу весов в пользу Азефа. Герасимов, знающий, что ему придется и ближайшее время возглавить весь политический сыск в империи, решил свалить все предыдущие срывы в работе Департамента на его фактического руководителя — Рачковского, а самому начать работу, как говорится, с чистыми руками и на новом месте.
Азефу же он без обиняков дал понять, что больше не потерпит никакой двойной игры и сурово рассчитается с ним сразу за все, если только в чем-то уличит. А то, что Герасимов человек не только слова, но и дела, Азеф хорошо знал. И тут же, не покидая кабинета после бурной и жесткой беседы с полицейским начальством, он отдал полиции Савинкова (во второй раз за свою карьеру провокатора!), представив именно его как руководителя Боевой Организации ПСР. Савинков и его отряд, направленные в это время Азефом в Севастополь для постановки покушения на адмирала Чухнина, зверски подавившего восстание на Черноморском флоте в 1905 году, были немедленно взяты под наблюдение. Все они были арестованы через два дня после прибытия в Севастополь и обвинены в только что состоявшемся покушении на коменданта Севастополя генерала Неплюева. Местные власти готовили над ними военный суд, решение которого могло быть лишь одно: виселица.
Спасло Савинкова от смерти, можно сказать, чудо, а вернее — отчаянное мужество товарищей, срочно прибывших на помощь из Петербурга и организовавших ему дерзкий побег из военной тюрьмы. Вольноопределяющийся Сулятицкий среди бела дня вывел Савинкова, переодетого в военную форму, за тюремные ворота, а морской лейтенант Борис Николаевич Никитенко вывез его из Севастополя на одномачтовом боте «Алексей Ковалевский» и доставил в румынский порт Сулин.
Но избежал петли Савинков уж никак не по вине Азефа, поведением и «честной» работой Евгения Филипповича полицейское начальство было довольно. Менялось и отношение к нему Герасимова, словно забывшего, что он еще совсем недавно решительно предложил Азефу сделать выбор: «честная работа» или виселица. Разумеется, Азеф выбрал первое, виселица в его планы, лелеемые с юности, никак не входила.
И Герасимов все в тех же своих воспоминаниях писал:
«Ввиду невыясненных обстоятельств покушения на Дубасова, ко всем донесениям Азефа приходилось относиться с большой осторожностью, но благодаря честному и добросовестному исполнению им своих обязанностей все сомнения, возникшие по отношению Азефа в деле Дубасова, вскоре рассеялись».
Между Герасимовым и Азефом, судя по дальнейшему развитию событий, разговор шел не только о «честной» работе на Департамент. Герасимова и ставшего теперь министром внутренних дел Петра Аркадьевича Столыпина не удовлетворяла больше полицейская игра в кошки-мышки с теми или иными боевиками центрального или местного террора. Надо было кончать с террором в целом, и, конечно же, с самой Боевой Организацией.
И когда начались заседания Государственной думы и в Москве собрался совет ПСР, подтвердивший предыдущие партийные решения о прекращении террора (в ожидании победы «прогрессивных сил» конституционным путем), инициатором роспуска Боевой Организации во второй раз за ее недолгую историю вновь выступил Азеф! Правда, как и прежде, он продолжал при этом исподтишка натравливать своих боевиков на ЦК и «массовиков», вновь оставивших их без «настоящего дела» как раз тогда, когда кризис в БО был преодолен (покушение на Дубасова, Севастопольское дело и ряд других удачных выступлений). Но никто ни в ПСР, ни в БО не мог и предположить, что происходящее — лишь начало «похода против БО», начатого Азефом, Герасимовым и Столыпиным. При этом Азеф считал себя наконец в полной безопасности, как со стороны социалистов-революционеров, так и со стороны полиции.
Однако судьба его, можно сказать, уже была решена. В мае того же 1906 года к Владимиру Львовичу Бурцеву, издававшему в Петербурге, пользуясь политической оттепелью, историко-революционный журнал «Былое», явился неизвестный ему молодой человек и попросил позволения поговорить с ним с глазу на глаз.
Оставшись с Бурцевым наедине, он выложил перед ним полицейский формуляр, заведенный на Бурцева секретной полицией. Растерявшемуся от неожиданности Владимиру Львовичу он объяснил, что служит в Департаменте полиции, где и взял этот формуляр, чтобы разыскать Бурцева. Себя он назвал Михайловским, чиновником особых поручений, сказал также, что по убеждениям он социалист-революционер и хотел бы быть полезен революции.
Опытный конспиратор Бурцев для начала решил свести разговор, как он потом вспоминал, на «безобидные темы».
Затем завязался разговор о происходящих в стране политических событиях, о Государственной думе. Михайловский высказывался смело и радикально, осторожный Бурцев больше слушал, чем говорил, задавал наводящие уточняющие вопросы. Выяснилось, Михайловский пытался установить контакты с революционерами еще в 1905 году, но ему не поверили.
Об охранном отделении он говорил с отвращением, все время повторяя: «Вы даже не подозреваете, какие ужасы там творятся!»
«Он говорил тоном искреннего человека, — пишет Бурцев, — и я тогда уже не сомневался в том, что он пришел ко мне без задней мысли (как не раз тогда приходили другие), а с желанием выйти на новую дорогу».
Словом, Бурцев поверил молодому человеку, Михайловскому (по словам Бурцева — 27—28 лет), который, в конце концов, был установлен им, как Михаил Ефимович Бакай, высокопоставленный сотрудник Варшавского отделения по охранению общественной безопасности и порядка.
Они начали встречаться — раз-другой в месяц, и Бакай приносил Бурцеву все новые и новые секретные материалы Департамента. Готовясь порвать с полицией окончательно, Бакай, по совету Бурцева, принялся сочинять «записки» для «Былого», которые Бурцев собирался опубликовать, как только Бакай окажется за пределами Российской империи.
Опытный конспиратор и придирчивый ученый-аналитик Бурцев долгое время проверял данные Бакая по другим, имеющимся у него в Департаменте источникам и, чем больше проверял своего «агента», тем больше убеждался в его правдивости и честности. Так, Бакай разоблачил проникшего в ряды эсдеков провокатора Бродского, «брата известных польских революционеров», отдавшего Департаменту группу и динамитную мастерскую эсдеков в Финляндии (в Келомяках), известного в то дни польского писателя Бржозовского, тоже провокатора. В конце концов, разоблачения нависли и над Азефом.
«Бакай настаивал, — писал в своих воспоминаниях Бурцев, — на том, что в партии эсеров среди влиятельных ее членов имеется какой-то важный провокатор, бывавший у них на съездах. Среди охранников этот провокатор назывался Раскиным. Но о нем Бакай не мог дать никаких точных сведений. Он только сказал мне, что один из главных филеров Медников как-то однажды сообщил ему в Варшаве в 1904 году, что туда должен приехать видный департаментский сотрудник среди эсеров Раскин...»
У Бурцева накапливались и другие, из иных источников прямые и косвенные сведения, что где-то в самом центре Партии социалистов-революционеров действует провокатор. Бурцев признается, что обнаружение этого провокатора стало для него поистине идеей фикс. Он буквально не спал ночами, перебирая имена и фамилии известных ему крупных деятелей ПСР. Но «ни личные качества, ни их биографии, ни сведения об их отсутствии или присутствии в Петербурге во время бывших террористических покушений, — пишет Бурцев, — не позволяли мне ни на одну минуту остановиться на вопросе — не тот ли он провокатор, которого я ищу...
Но вот однажды, перебирая все известное мне лично об Азефе, я вспомнил кое-что, что меня всегда заставляло избегать с ним знакомства».
А толчком этому послужила случайность. Однажды летом 1906 года Бурцев увидел Азефа, разъезжающего в открытой коляске по петербургским улицам — и это в самый разгар кампании арестов, обрушенной Герасимовым и Плеве на революционеров всех мастей. Бурцева поразило, что Азеф не боится позволить себе эту демонстрацию, хотя, как многолетний активный деятель ПСР, он наверняка должен быть известен агентам охранки!
К тому времени Бурцев, как говорится, почти «зациклился» на «вычислении» инженера-провокатора Раскина.
Первым, с кем Бурцев поделился своими подозрениями в отношении Азефа, был командир «Северного летучего отряда ПСР» (Летучего боевого отряда северной области) Альберт Давидович Трауберг (Карл).
Как и следовало ожидать, реакция того была однозначной.
«Трауберг выслушал, — писал Бурцев, — и, видимо, не желая как-то обидеть меня резким словом, только мягко сказал, что это мое «предположение недопустимо»...
Но до того, как Бурцев стал предпринимать первые шаги к разоблачению Азефа, события продолжали развиваться своим чередом.
На заседаниях Государственной думы сытые приват-доценты, барственные профессора, политиканствующие литераторы и рвущиеся к доходным местам адвокаты наперебой разглагольствовали о путях превращения самодержавия в конституционную демократию. Говорили длинно и красиво, брали слово по многу раз, изо всех сил стараясь, чтобы их речи непременно попали в газеты. Но даже самому куцему либерал-радикализму давался отпор, и постепенно становилось ясно, что дни думской говорильни подходят к концу.
А когда это стало очевидным, ЦК ПСР решил возобновить террор, и главной задачей быстро отмобилизованной Боевой Организации, возглавляемой все тем же Азефом, была объявлена постановка теракта против самого Столыпина, которого все считали основным врагом Думы и вдохновителем борьбы с нею.
Была признана необходимость и других, не столь «масштабных» акций. ЦК ПСР дал разрешение на убийство в Севастополе адмирала Чухнина, известного зверским подавлением восстания на Черноморском флоте в 1905 году. Чухнин был убит. Совершались и другие подобные акции, но обо всем этом Азеф Герасимову не сообщал.
Зато политическая информация шла от него настолько ценная, что Герасимов включал ее в свои ежедневные доклады Столыпину, обратившему на нее очень скоро свое внимание.
Доверие Герасимова к Азефу постепенно росло, он заочно представил Азефа Столыпину, и тот сразу же оценил этого секретного сотрудника политического сыска. Дело доходило до того, что Столыпин через Герасимова запрашивал мнения и политические прогнозы Азефа в связи с тем или иным поворотом событий и даже планировал личную встречу с этим ценнейшим агентом, которая, правда, так и не состоялась. Впоследствии в одном из официальных документов Столыпин назвал уже разоблаченного Азефа «сотрудником правительства», не агентом, не секретным сотрудником Департамента, а именно сотрудником правительства, что показывает, насколько ценил он осведомительскую работу инженера Раскина.
Герасимов несомненно передавал мнение Столыпина Азефу, и это, конечно же, тешило самолюбие Евгения Филипповича, способствуя его самоутверждению, то есть тому, чему была посвящена вся его жизнь с ранних лет.
Осенью 1906 года в Финляндии (на Иматре) собрались члены ЦК ПСР Павел Крафт, Марк Натансон, Панкратов, Чернов, Слетов и Азеф. На обсуждение был поставлен вопрос о работе Боевой Организации. Азеф старался убедить присутствовавших в том, что Боевая Организация переживает кризис, что методы, которыми она действует, устарели и хорошо изучены полицией, словом, центральный террор необходимо приостановить, чтобы перестроить всю работу па каких-то новых началах — на каких, пока неизвестно. По его требованию в ЦК было расширено представительство Боевой Организации — введен Савинков.
Примерно через месяц там же, в отеле «Туристен», хозяин которого Уго Серениус был всеми признанный «симпатик» ПСР, состоялось совещание почти двух десятков боевиков, которых Азеф и Савинков подбивали уйти в коллективную отставку в знак протеста против негативного отношения ЦК к БО.
«Сначала устами Азефа, а затем в ряде речей Савинкова боевики представили ЦК свои соображения о невозможности дальнейшей работы, — вспоминал об этом событии Аргунов. — Мотивы были следующие. Методы, применявшиеся до сих пор в боевой деятельности, устарели.
Правительство хорошо изучило все приемы слежения террористов, этого главного базиса наших предприятий, и соответственно этому создало свой защитный аппарат. Негодность старых методов стала очевидной после систематических неудач весны и осени 1906 года, и особенно на деле после Столыпина».
Аргунов имел в виду главным образом неудачи при постановке покушения на Столыпина, ибо 13 августа 1906 года эсерами был все же убит на платформе станции «Новый Петергоф» командир лейб-гвардии Семеновского полка свиты Его Величества генерал-майор Мин, а несколько позже совершено покушение на Дубасова.
От имени БО выступал в основном Савинков, два-три боевика получили возможность поддержать его. Азеф, как всегда, «был не словоохотлив». Отметил Аргунов и замкнутость, корпоративность БО, ее «враждебность партии».
В такой ситуации Центральному комитету ничего не оставалось, как распустить Боевую Организацию, возглавляемую Азефом и Савинковым. Взамен ее было решено создать два боевых отряда. Во главе одного Штифтарь (Зильберберг), во главе другого Белла (Эсфирь Лапина). Оба отряда базировались в Петербурге и должны были выполнять террористические задачи, поставленные перед ними ЦК ПСР.
Вот тут-то, как сообщает Аргунов, «появилась на нашем горизонте скромная фигура Карла Трауберга».
Этот человек был прямой противоположностью «генералу БО». Он был скромен и честен, глубоко порядочен и действительно беззаветно предан делу революции. Латыш, активный участник восстания на Балтике в 1905 году, был в свое время письмоводителем судебного следователя. После поражения революции бежал в Петербург и к началу ноября 1906 года организовал собственную боевую группу, которую затем и предложил в распоряжение ЦК ПСР. В отличие от боевиков Азефа, это были настоящие бессребреники.
В группе Карла (Альберта Давидовича Трауберга), как отмечал Аргунов, ведавший, кстати, партийной кассой, действовал «принцип не солдатской дисциплины, а свободного подчинения, причем единоличного, как исключение и как общее правило — коллективного».
Не признавали в отряде Карла и мотовства партийных денег вопреки утверждениям Азефа, что «широкая жизнь — хорошее конспиративное прикрытие». В группе не возмущались, когда ее поставили под контроль Северного областного комитета ПСР и посадили на мизерную субсидию — 200—300 рублей в месяц.
Группа Карла сразу же перешла на другую, чем у боевиков Азефа, тактику. «Извозчики» и «разносчики» ушли в прошлое. Операции теперь готовились путем кропотливого собирания косвенных разведывательных данных и использованием «симпатиков» в кругах, близких к намеченному объекту покушения. Новым было в тактике Карла и нанесение молниеносных коротких ударов: отряд базировался в Финляндии и действительно был «летучим»: быстрое прибытие в Петербург из-за границы, нанесение удара и мгновенный отход на базы в Финляндии.
За короткий срок отряд Карла провел несколько удачных операций против видных представителей властей. В его планы входило покушение на министра юстиции Щегловитова, начальника главного тюремного управления Максимовского, петербургского градоначальника Драчевского, московского генерал-губернатора Гершельмана.
Планировался даже взрыв во время заседания Государственного совета.
И это в то время, когда акции отрядов Штифтаря и «товарища Беллы» срывались одна из другой благодаря предупреждениям, поступившим Герасимову от Азефа.
Личные отношения Герасимова и Азефа продолжали улучшаться и крепнуть. Доверие Герасимова к Евгению Филипповичу дошло до того, что он сообщил ему (единственному!) адрес своей конспиративной квартиры и разрешил являться туда без предупреждения. Повышение жалования до тысячи рублей в месяц также способствовало этой «дружбе».
«Я посоветовал ему это жалование не тратить, — вспоминал потом Герасимов, — он ведь получал деньги на жизнь от партии, а все целиком класть в банк на текущий счет. Азеф последовал этому совету и составил завещание, хранившееся у меня, согласно которому все эти деньги в случае его смерти должны быть пересланы его жене».
Зная, что на содержание боевиков ЦК ПСР денег не жалел, Герасимов настоятельно советовал Азефу не стесняться в отношении партийной кассы, логично считая, что, разоряя эту кассу, Азеф помогает полиции бороться против эсеров.
«Впрочем, — вспоминает Герасимов, — я скоро убедился, что Азеф в этих моих советах не нуждался. Этим он занимался и до свидания со мною».
Да, действительно Азеф греб из партийной кассы столько, что кассиры и ведавший ею Аргунов даже стали потихоньку ворчать. Но это лишь давало Азефу повод лишний раз заявить, что ЦК ПСР притесняет боевиков и срывает их работу.
Интересно, что, когда в Чарджоу (Туркестан) эсеры в результате удачной экспроприации захватили 300 тысяч рублей, 100 тысяч по требованию Азефа были выделены в его личное распоряжение на «боевую работу».
Однако удачные террористические акции портили кровь и Герасимову, и Азефу. После того же, как отколовшаяся от ПСР группа эсеров-максималистов совершила в августе 1906 года неудавшееся покушение на Столыпина, положение Азефа как ценнейшего и самого высокооплачиваемого агента не только пошатнулось, по и оказалось под прямой угрозой. Все его сведения о политическом положении в ПСР и в революционных кругах оказались обесцененными новыми волнами террора. Азеф понимал, что Герасимов и Департамент опять могут вспомнить свои подозрения в двойной игре. Суровое предупреждение — «честная работа или виселица» — то и дело вспоминалось ему, вызывая панический страх и отчаяние. О том, что эсеры-максималисты должны совершить на Столыпина покушение в середине августа, Азеф знал, но Герасимова предупредить и не подумал.
«...B августе, в день взрыва дачи Столыпина, — говорится в воспоминаниях Валентины Поповой, работавшей в динамитной мастерской в Финляндии, — неожиданно к вечеру к нам приехал Иван Николаевич. Он был очень взволнован, таким я еще не видела его. Не только взволнован, но подавлен и растерян. Сидел молча, нервно перелистывал железнодорожный указатель. Хотел ночевать, но потом раздумал и ушел на станцию».
Азефу было отчего быть подавленным и растерянным. С самого начала возобновления террора он знал каждую деталь готовившихся операций, особенно всего того, что было связано с «походом против Столыпина». Кое-что он сообщал Герасимову, кое о чем умалчивал, как о «мелочах», например, о подготовке убийства адмирала Чухнина. Но самое главное было в том, что совместно с Герасимовым он разработал простой, но надежный план нейтрализации боевиков. Так, в «походе Столыпина» им были выданы Герасимову все участники боевой группы. Но с одобрения Столыпина аресты произведены не были. Боевикам, действовавшим по-старому и проводившим наблюдение за Столыпиным с помощью все тех же «извозчиков» и «разносчиков», позволяли до определенного момента «работать» спокойно, но потом, когда они, как им казалось, уже приближались к завершающему этану «работы», пускались «брандеры», боевики спугивались, разбегались и после стольких напрасно затраченных усилий все приходилось начинать сначала. Так повторялось раз за разом и вело, в конце концов, к деморализации боевого отряда: его члены теряли веру и в себя, и в то, что им удастся обмануть вездесущую полицию. Это укрепляло и авторитет Азефа, предупреждавшего, что с покушением на Столыпина ничего не получится, пока террор не будет полностью перестроен.
Столыпин лично одобрил эту «игру с БО» и был спокоен, оберегаемый Герасимовым и высоко ценимым им Азефом. И вдруг... эти несчастные самоубийцы эсеры-максималисты врываются среди бела дня на дачу Столыпина и взрываются, уничтожив при этом множества посетителей министра и случайно оставив целым и невредимым лишь его самого!
В такой ситуации инженер Раскин решил прежде всего доказать Герасимову и Столыпину, что он не ведет двойной игры и о предстоявшем выступлении максималистов заранее не знал.
Не любивший и не умевший составлять какие-либо документы, декларации и т. п., на этот раз он лично подготовил текст прокламации, в которой заявлялось or имени ЦК ПСР, что Партия социалистов-революционеров не только не имеет никакого отношения к взрыву на столыпинской даче, но отмежевывается от него и осуждает. Прокламацию эту Азеф буквально заставил членов ЦК принять и одобрить, и постарался, чтобы она была как можно быстрее опубликована, несмотря на многочисленные протесты рядовых членов ПСР и многих боевиков. Публикация прокламации в момент, когда никто даже и не думал приписывать взрыв на даче Партии социалистов-революционеров и ее боевикам, еще более обострила отношения между террористами и ЦК, захваченным, как они теперь были совершенно уверены, «массовиками», враждебными делу террора. Азеф, оставаясь в тени, продолжал подогревать эти настроения, а Савинков, приобретший после своего фантастического побега из военной тюрьмы в Севастополе, ореол дерзкого героя, вырвавшегося из когтей смерти и вернувшегося опять в террор, прямо обвинял ЦК в трусости и чуть ли не в предательстве. Он лично взялся поставить покушение на ненавистного Столыпина, уже введшего в моду свои знаменитые «столыпинские галстуки». Несмотря на то, что после покушения царь пригласил Столыпина переехать в усиленно охраняемый Зимний дворец, Савинков принялся строить самые фантастические планы убийства министра внутренних дел, вплоть до создания штурмовой группы смертников, готовых с боем пробиться в самый дворец. В то же время появившиеся среди боевиков диссиденты создали тайную группу по расследованию правильности действий своих товарищей и вскоре установили, что тех кто-то все время направляет по ложному пути.
Но не терял времени и Азеф. Собрав данные на руководителей максималистов, он, можно сказать, принес их головы жаждущим реванша Столыпину и Герасимову.
Был выдан им и выслеженный отряд Карла. Сам Карл был арестован на одной из своих конспиративных квартир в Финляндии в ночь на 5 декабря 1907 года. При этом были захвачены важные документы, позволившие арестовать и других членов отряда. Сведения, полученные от Азефа, способствовали этому.
Эта отдача была совершена Азефом почти с садистским наслаждением: в Карле он видел конкурента и претендента на собственную роль в ЦК и БО, прямого посягателя на эсеровскую партийную кассу.
«Вы никогда не можете быть спокойным, пока Карл не арестован, — подогревал он Герасимова, — у него всегда полно разных планов, один смелее другого». И, натравливая полицию на отряд Карла, одновременно вел против него, при активнейшей помощи Савинкова, кампанию дискредитации в самой ПСР.
Вообще же мстительность, как нам это уже известно, была, кроме алчности и жажды власти над людьми, одной из определяющих черт характера Азефа.
В октябре 1906 года после заседания ЦК и 2-го Совета ПСР на Иматре, о котором уже упоминалось в воспоминаниях Аргунова, Азеф, осуществляя план ликвидации БО, разработанный им совместно с Герасимовым и одобренный Столыпиным, фактически потерпел свое первое за все время пребывания в руководстве социалистов-революционеров поражение. Дело в том, что роли Азефа — Савинкова и «массовиков», якобы господствовавших в ЦК, переменились: Азеф и Савинков настаивали на сворачивании террора и полном роспуске Боевой Организации (в этом и заключался «поход Столыпина — Герасимова — Азефа» против БО). А такие члены ЦК, как Натансон, Чернов и Слетов (признанный «массовик» и последовательный, принципиальный противник Азефа), считали, что в разгар правительственного террора, обрушившегося на противников царизма, прекращать или сворачивать боевые действия социалисты-революционеры не имеют прав. Азеф и Савинков заявили о своей отставке, рассчитывая, что обработанные ими боевики их поддержат. Но на собрании боевиков (уже упоминавшемся) на Иматре против линии Азефа — Савинкова (читай: Столыпина — Герасимова) резко выступил такой авторитетный член БО, как Владимир Вноровский, родной брат Бориса Вноровского, погибшего при убийстве Дубасова. Его поддержали и некоторые другие боевики, не согласные, как они считали, с «отступлением» с поля боя в такой ответственный момент. Кроме всего прочего, Владимир Вноровский резко критиковал Азефа за полное подавление личной инициативы членов БО, за установленную им в БО личную диктатуру и требовал коренной перестройки работы всей Боевой Организации. Савинков, в свою очередь, в резкой и грубой форме накинулся на Вноровского и тех, кто был на его стороне.
Дело кончилось тем, что Азеф и Савинков оказались в отставке, Боевую Организацию было решено отпустить, но от террористических акций не отказываться, для чего и были созданы два петербургских боевых отряда Штифтаря и «товарища Беллы».
Уход в отставку совпал для Азефа с тяжелой болезнью — у него образовался нарыв в горле. Трудно сейчас сказать, насколько болезнь была действительно опасна, по Азеф постарался взять с ее помощью психологический реванш — члены ЦК наперегонки спешили навестить «умирающего» и «обиженного» ими соратника и готовились чуть ли не к общепартийному трауру. Но выражения раскаяния у его «смертного одра» было Азефу мало, он и на этот раз решил рассчитаться с теми, кто ого «предал», с помощью полиции.
Любопытно вспоминает о тех днях уже упоминавшаяся Валентина Попова.
«Опасность для жизни больного скоро миновала, — пишет она, — и я увидела Ивана Николаевича (Азефа), когда ему было уже лучше. На дверях его комнаты висело объявление: «Здесь больной, просим соблюдать тишину»... В один из таких моментов зашла к Ивану Николаевичу и я. Он указал мне на ящик маленького столика около кровати и сказал, правда, еще хрипло и с трудом:
— Там два женских паспорта. Один вы можете взять, — выберите себе, какой более подходит.
Я взяла паспорт на имя Анны Казимировны Янкайтис. Конечно, в этот момент я и не подозревала, какую опасность для меня представляла эта «товарищеская» услуга Азефа. Я чувствовала на себе его упорный, гнетущий взгляд. Было какое-то недовольство и раздражение в этом взгляде, для меня столь непривычном. Он был мне непонятен. «Что же, неужели он так раздражен на то, что мы не признали его аргументов и без него решаемся продолжать работу?» — думалось мне после этого визита».
Новыми паспортами Азеф снабдил и еще нескольких ослушников — список их имелся у Герасимова, по чьему приказу эти документы и были изготовлены охранкой.
Первые удачи в «походе против БО» несколько усыпили бдительность Герасимова. Он разрешил Азефу, формально уже развалившему Боевую Организацию, отправиться на отдых и лечение в Италию. Соратникам же по партии Азеф, объясняя свой «уход в отпуск», заявлял:
— Я со времен Гершуни в терроре и имею право на отдых.
В Аляссио, на итальянской Ривьере, он жил по-барски, заботливо опекаемый женой, твердившей знакомым, что муж ее крайне нуждается в этом, «ведь он все время с веревкой на шее ходит». Сам Азеф любил поговорить в кругу русских эмигрантов о своей тяжелой жизни «вечно травимого полицией революционера-террориста». Между такими «беседами по душам», бурными кутежами и наездами для встряски в игорные заведения Монте-Карло он старательно информировал Герасимова о том, что ему удавалось разнюхать в кругах революционной эмиграции. Сообщал он также и Герасимову, и членам ЦК, что изучает новые возможности осуществления террористических организаций с помощью новейших технических достижений. Писал он, в частности, что обнаружил за границей талантливейшего русского инженера-самородка — Сергея Ивановича Бухало, разработавшего летательный аппарат, который возможно использовать в операциях террористов.
— Господин Николаев? — женский голос в телефонной трубке был низок и бархатист, русское произношение — чистейшее, и я сразу же попытался вспомнить, кому в нашей советской колонии в Бейруте он мог бы принадлежать.
Моя собеседница словно предвидела это.
— Не напрягайте, пожалуйста, память, — насмешливо предупредила опа. — Все равно не вспомните, мы с вами никогда пока еще но встречались.
— Я вас слушаю, — сдержанно ответил я. — Чем могу быть полезен, мадам... или мадемуазель?
— Неважно, — рассмеялась она и сразу посерьезнела: — К теме нашего разговора это не имеет никакого отношения.
— А что же тогда имеет? — все так же сдержанно продолжал я.
— Хорошо, я вижу, что вы настроены по-деловому, — одобрила мой топ незнакомка. — Тогда скажите, вы еще не отправили в Союз бумаги вашего покойного друга Никольского?
— А почему вас это интересует?
— Ваши дипкурьеры прилетают через три дня. Мы знаем, что вы обещали Москве переслать с очередной диппочтой то, что вам досталось от Никольского...
— Допустим, — согласился я.
— Так вот. Не делайте глупостей. Зачем вам эти бумаги? Ну, напишете еще одну книгу и получите нищенские гонорар — у вас ведь писателям платят гроши, не больше. Мы хорошо знаем, сколько платят за литературный труд у вас там, в Союзе.
— II никогда не рвался в миллионеры...
— И напрасно, — усмехнулась моя собеседница, — сейчас вы скажете: не хлебом единым жив человек или что-нибудь такое же назидательно-поучительное.
— И вы звоните мне только для того, чтобы высказать все это?
— Вы правы, мы отвлеклись от дела. Так вот, мы готовы предложить вам определенную сумму за бумаги Никольского, гораздо большую, чем заплатит любое из ваших издательств за книгу, которую вы пишете. И притом — в твердой валюте. Повторяю — в твердой.
— Я не понимаю, для чего вам нужны бумажки, рассказывающие о делах давно минувших? Кто вы или те, от имени кого вы все время повторяете «мы», да «мы»?
— Не валяйте дурака, господин Николаев! — жестко отрезала незнакомка. — Но если уж вас так мучает любопытство, то скажу: бумаги эти мы намерены продать одному коллекционеру, он знает об их существовании и готов хорошо за них заплатить. А кто такие мы...
Она сделала многозначительную паузу, потом понизила голос до зловещего шепота:
— Мы — мафия...
И опять последовала пауза, подчеркивающая сказанное и дающая возможность его оценить.
— Н-да... — невольно вырвалось у меня.
— Нам не хотелось бы прибегать к силе, — уловив мою растерянность, уже мягче продолжала незнакомка. — Так что подумайте... Вы имеете возможность заработать хорошие деньги, которые дадут вам возможность перебраться на Запад и начать жизнь заново. Членский билет вашего Союза писателей, как вам, наверное, известно, на Западе тоже кое-что стоит... Словом, решайте!
— Я хотел бы подумать, все взвесить, право же, это все так неожиданно, — постарался ответить я как можно неувереннее.
Я не знал еще, что мне делать, но время надо было выиграть в любом случае — это точно.
— Хорошо. Но времени на раздумывание у нас немного. Завтра вечером я позвоню вам, и вы скажете, что решили. Тогда договоримся и о деньгах и... обо всем. Ждите нашего звонка.
Она положила трубку, а я в оцепенении еще несколько секунд продолжал слушать гудки отбоя.
Итак, за бумагами Никольского охотится мафия, за помощью к которой обратился какой-то богатый коллекционер! Известно, что такие люди становятся сумасшедшими, когда дело касается предмета их страсти, и готовы ни перед чем не останавливаться. Доказательством тому — гибель Никольского...
И тут же мне вспомнилась женщина в черной косынке и темных очках за рулем «мерседеса», чуть не врезавшегося в мою машину возле тупика, ведущего к библиотеке, в которой жил покойный Лев Александрович. А если это она только что разговаривала со мною по телефону? Вполне возможно, но не это сейчас главное. Сейчас надо что-то решить, что-то придумать. Бумаги Никольского в посольстве и наверняка уже упакованы для отправки с дипкурьерами — это делается заранее...
«Что-то надо придумать, что-то надо придумать, — стучало у меня в писках, — но что? Что?»
Так я промучился, сидя за письменным столом больше часа, но придумать так ничего и не смог. Походил по квартире, надеясь, что придет, появится какая-нибудь спасительная мысль, но все было напрасно. И я опять вернулся на свое рабочее место, вернулся и вдруг сразу успокоился, решив прибегнуть к уже многократно испытанному средству — забыться в работе.
Набрал шифр на замках сейфа и открыл его тяжелую стальную дверцу. После того, как я отвез бумаги Никольского в диппочту, в сейфе было непривычно пусто, здесь лежали лишь тетрадка с краткими конспектами документов, необходимых мне для завершения работы над рукописью, да несколько написанных мною в последнее время страниц, посвященных событиям 1907 года. Правда, в отдельном, особо укрепленном ящике хранился желтый конверт, который Никольский заклинал меня вскрыть лишь после окончания мною книги об Азефе...
И тут мне подумалось: книга практически написана, рукопись будет через несколько дней доставлена диппочтой в Москву, и можно считать, что в основном условие
Никольского выполнено... Тем более, кто знает, как развернутся события в ближайшие дни...
Когда хочется в чем-то себя убедить, чем-то оправдать свой тот или иной поступок, доказать самому себе, что ты прав — это всегда можно сделать. И через несколько мгновений я уже вскрывал длинный желтый конверт. В нем оказался всего лишь один листок бумаги — дорогой, с проступающими голубоватыми водяными знаками.
«Милостивый государь Петр Николаевич!» — начал читать я строки, выведенные твердым каллиграфическим почерком. Их было немного, листок был исписан не до конца... Я прочел их все одним взглядом, почти мгновенно, потом принялся перечитывать медленно, слово за словом, раз, потом другой раз...
Затем аккуратно сложил листок, вложил его в желтый конверт, положил конверт на край письменного стола и задумался: что ж, теперь многое становилось понятным... Только напрасно Никольский боялся, что, поняв все это, я не стану писать книгу, для которой он собирал материалы почти всю свою жизнь, не осуществлю за него его заветную мечту...
И, словно собираясь доказать это покойному Льву Александровичу, я вложил в пишущую машинку бумагу, проставил порядковый номер очередной страницы рукописи и принялся за работу, стараясь сосредоточиться только на ней...
...Без Азефа, отдыхавшего в Аляссио и не мешавшего теперь действиям боевиков, членам трех отрядов, пришедших на смену распущенной центральной Боевой Организации, эсеровский террор развернулся с небывалым до того размахом. Конечно, у Герасимова среди эсеров было достаточно «секретных сотрудников», но отсутствие Азефа сразу почувствовалось.
В тетради, в которой я конспектировал документы и записи из коллекции Никольского, я нашел составленный им список террористических акций, совершенных эсерами в те дни.
Обеспокоенный Герасимов потребовал, чтобы Азеф немедленно вернулся из-за границы в Россию. Как ни досадно было Столыпину и Герасимову, но им пришлось признать, что первая часть их «похода» против БО, считавшаяся ими успешной, окончилась полным провалом.
И это несмотря на то, что в своих письмах из Аляссио Азеф постоянно заверял Герасимова, что он держит ситуацию под контролем и ничего опасного боевики предпринимать не собираются, поэтому тревожиться по о чем.
Обо всем этом ему и напомнил Герасимов, как только Азеф в конце февраля появился в Петербурге, преследуемый воспоминаниями о выборе, который был ему в свое время предложен суровым Александром Васильевичем: «честно работать или пойти на виселицу». Впрочем, Герасимову он страха своего не выказал. Наоборот, у того сложилось впечатление, что Евгений Филиппович устал от своего «отдыха от мирной семейной жизни, что он сам стремится в Петербург с его большими доходами и бурными кутежами».
Впечатления эти подтверждались энергией, с которой Азеф принялся «за дело». С его помощью немедленно были арестованы Зильберберг (Штифтарь) и Гронский (тот самый вольноопределяющийся Сулятицкий, который вывел из севастопольской военной тюрьмы Савинкова). Первый — начальник боевого отряда, второй — член этого отряда, участвовавший в покушении па фон Лауница вместе с Кудрявцевым, но сумевший скрыться. Одновременно с фон Лауницем должны были стрелять и в Столыпина, приезд которого на открытие института тоже планировался. Но он не приехал, предупрежденный Герасимовым, который через своего агента узнал о готовящемся покушении. И Зильберберг и Сулятицкий были повешены. Кроме организации убийства фон Лауница, Зильбербергу (с подачи Азефа) инкриминировались разработка планов нападения на Зимний дворец с целью убийства Столыпина и взрыв поезда великого князя Николая Николаевича.
На место Зильберберга во главе отряда стал Борис Никитенко, бывший лейтенант Черноморского флота, вывезший в свое время в Румынию бежавшего из севастопольской военной тюрьмы Савинкова.
Азефом был пущен слух, что выдал всех боевиков швейцар отеля на Иматре, в котором была главная база Боевой Организации. Готовя все эти «провалы», Азеф основательно поработал в Финляндии.
Затем последовала очередь Карла, захваченного в Финляндии на конспиративной квартире, а через некоторое время и боевиков из его отряда, которые оказали при аресте ожесточенное вооруженное сопротивление.
Из девяти человек, арестованных 20 февраля 1908 года и пошедших под суд, семеро, в том числе три женщины, были приговорены к виселице и немедленно повешены. Это им посвящен Леонидом Андреевым «Рассказ о семи повешенных». Дело самого Карла и еще нескольких боевиков рассматривалось отдельно и тоже завершилось смертными приговорами.
Все они были выданы лично Азефом, с осени 1907 года, вновь ставшем во главе воссозданной по решению ЦК ПСР Боевой Организации. Карла он отдал с особым удовольствием, так как знал, что от него идут (с подачи Бурцева) разговоры о необходимости провести партийное расследование его, Азефа, провокаторской деятельности.
Я окончил страницу, снял ее с пишущей машинки и принялся заправлять новую. Заправил, придумал очередное предложение, и в тот самый момент, когда пальцы мои нависли над клавишами, где-то совсем рядом раздался звонкий грохот разрыва мины. Затем, через несколько секунд второй и третий. Пригнувшись, я пробрался из кабинета на балкон — сквозь настежь распахнутую стеклянную дверь. И балконные двери и окна у меня в квартире все время были распахнуты — считалось, что при обстрелах так безопаснее — взрывная волна не бьет стекла и меньше шансов быть раненный их осколками.
Мины рвались пока на пустыре перед фасадом нашего дома — в довольно глубоком и просторном котловане, в котором когда-то находились казармы французских колониальных войск.
Потом разрывы загремели в соседнем квартале, оттуда повалил дым начавшегося пожара. С набережной в направлении невидимых позиций минометчиков ударила ракетная установка, одна из тех, которые еще со времен второй мировой войны именовали «сталинский орган». Сорок ракет, одна за другой слетающих с ее пусковых рельсов через доли секунды, сливали свой вой в подобие жуткой, леденящей кровь музыкальной фразы. Где-то в нависших над Бейрутом горах заухали гаубицы. Им ответили орудия из западной части города... и начался один из так называемых «веселых вечеров» Бейрута, когда мусульмане и христиане нещадно принимались забрасывать друг друга сотнями ракет, мин и снарядов.
Местные газеты давно уже обучали бейрутцев соблюдению правил безопасности во время обстрелов. Рекомендовалось укрываться в убежищах, в которые были превращены в городе все подвальные помещения. Или, на худой конец, располагаться в квартире так, чтобы быть под защитой не менее двух бетонных стен. Таким местом у меня был длинный и узкий коридор, разделяющий квартиру вдоль — на две половины. Когда обстрел затягивался, я перетаскивал в коридор снятые с кровати матрас и подушки, передвигал сейф и ставил его так, чтобы он защищал мою голову со стороны входной, с лестничной площадки, двери, ставил рядом мощный электрический фонарь, будильник и устраивался на ночь в относительной безопасности.
И теперь я привычно стал готовиться к тому, чтобы провести очередную ночь в коридоре.
Вечер надвигался быстро. Короткие серые сумерки, резко сменились темнотою, но ни в одном из домов, которые я мог видеть из окна своего кабинета, не осветились окна. Лишь багровые вспышки разрывов, похожие на грозовые разряды, вдруг окрашивали ночную тьму то в одном, то в другом квартале замершего в ужасе города.
Теперь, когда мне было уже не до работы, беспокойство вновь охватило меня, вновь подступили тревожные мысли и мрачные предчувствия, рожденные телефонным разговором с женщиной, заявившей о своей принадлежности к мафии. И опять я принялся ломать голову в поисках выхода из ситуации, в которой оказался.
Обстрел продолжался. Разрывы то приближались, то удалялись, было ясно, что огонь ведется не прицельно, «по площадям», и это означало, что в отношениях между правыми христианами и мусульманами в очередной раз намечаются какие-то политические сдвиги: «огонь по площадям» был признан ими средством психологического давления.
Хорошо, что я хоть научился спать при обстрелах, зажимая голову между подушками так, чтобы не слышать грохота разрывов.
Я улегся на своем ложе в коридоре головой за сейфом и зажал уши подушками. Грохот обстрела сразу стал тише, под него теперь можно было и спать. Зато мрачные мысли становились с каждой минутой все настойчивее, на душе делалось тревожнее и тревожнее. Мне стало казаться, что этой ночью должно обязательно что-то случиться, что обещание подождать моего ответа до завтрашнего вечера дано лишь для того, чтобы усыпить мою бдительность, выиграть время и не дать мне возможности что-нибудь немедленно предпринять, например, перебраться хотя бы на ночь в посольство. И я пожалел, что я в самом деле так не поступил.
Я встал, сходил к своему письменному столу и принес из него бельгийский браунинг Никольского. Загнал патрон в ствол, снял предохранитель и положил оружие на матрас так, чтобы оно было у меня под рукой. Отодвинул сейф ближе к середине коридора, оставив между стальным ящиком и стеною подобие щели-бойницы, в которую хорошо виднелась входная дверь.
Затем принес из гостиной несколько стульев и расставил их в беспорядке между моим укрытием и дверью. Теперь, если ночью кто-то попытается бесшумно проникнуть с лестничной клетки в коридор моей квартиры, в темноте он обязательно с грохотом наткнется на лежащие стулья, дав мне выиграть несколько секунд...
Все эти манипуляции успокоили меня. Поудобнее устроившись под прикрытием сейфа и зажав в правой руке браунинг, я выключил электрический фонарь и закрыл глаза. На будильнике, на который я перед этим глянул, был двенадцатый час. Его тиктаканье неестественно громко отдавалось в моем мозгу, и вдруг я понял, что обстрел прекратился... С этой мыслью я провалился во тьму без сновидений и, как мне показалось, через мгновенье, вскинулся, разбуженный грохотом и чьими-то проклятиями. За стульями в конце коридора на мгновение вспыхнул ослепительно белый свет, сильный луч его ударил мне по глазам, я успел различить в коридоре чьи-то темные фигуры и вскинуть браунинг. Раз, два, три — нажимал я курок, считая почему-то при этом выстрелы. Вскрикнула женщина и сейчас же со стороны двери темноту прорезала огненная, трескучая трасса. Раскаленный металл врезался мне в плечо, разрывая, разваливая его, и, успев еще раз нажать курок, я потерял сознание...
Виктор Чернов, закуривая, нервно чиркнул спичкой:
— Опять Бурцев мутит воду, — зло бросил он и протянул аккуратно вскрытый конверт Герману Лопатину, старому народовольцу и гарибальдийцу, сидящему напротив него за столиком дешевого парижского кафе, в котором обычно встречались члены русской эмиграции.
Герман Александрович, сразу насторожившись и словно боясь запачкаться, осторожно взял конверт, прощупал его своими длинными пальцами, затем заглянул внутрь и извлек несколько аккуратно сложенных листков.
— Объявляет нам настоящую войну, так сказать — иду на вы! — возмущенно фыркнул Чернов: — Никак человек не угомонится! Не знаю уже, что о нем и думать — сумасшедший или провокатор?
— Не будем спешить с выводами, Виктор, — задумчиво протянул Лопатин. — Жизнь меня кое-чему все-таки научить успела. Боюсь, что Бурцев так упорствует неспроста... Он же понимает, что, если окажется не прав, ему останется...
— Только пустить себе пулю в лоб. Так пусть это он поскорее и сделает, — запальчиво вырвалось у Чернова. — Все в конце концов имеет предел, и Бурцев должен был бы это уже понять.
— Но ты читай, читай, что он пишет, — заторопился он, заметив неодобрение во взгляде Лопатина, одного из самых уважаемых эмигрантов, отдавшего революционной борьбе всю свою жизнь, приговоренного к смерти и проведшего в Шлиссельбурге 18 лет.
— Самая настоящая полицейская провокация!
Лопатин досадливо поморщился и взялся за первый листок.
«В Центральный комитет Партии социалистов-революционеров» — значилось в верхней строчке, и дальше шел текст:
«Товарищи!
Последние аресты в Петербурге вынуждают меня обратиться к вам со следующим заявлением.
Уже более года, как в разговорах с некоторыми деятелями Партии социалистов-революционеров я указывал, как на главную причину арестов, происходивших во время всего существования партии, на присутствие в ЦК инженера Е. Азова, которого я обвиняю в самом злостном провокаторстве, небывалом в летописях русского освободительного движения.
Более полугода, как существует комиссия, образованная ЦК для расследования причин петербургских провалов конца того и начала этого года. В этой комиссии я категорически заявлял, что, по моему глубокому убеждению, причина всех провалов — провокация, и при этом я все время указывал на Азова, как на провокатора.
Повторяю, последние петербургские события не позволяют мне более ограничиваться бесплодными попытками убедить вас и вашу комиссию в ужасающей роли Азова, и я переношу этот вопрос в литературу и обращаюсь к суду общественности.
Я давно просил ЦК вызвать меня на третейский суд по делу Азова. Насколько мне известно, решение вызвать меня на суд со стороны ЦК состоялось более месяца назад, но оно мне не объявлено до сих пор. Разумеется, на третейский суд я явлюсь по первому требованию, но события, происходящие в России в настоящее время, ужасающие и кровавые, и я не могу ограничиваться ожиданием разбора дела третейским судом, который может затянуться надолго — и гласно, за своею подписью, беру на себя страшную ответственность обвинения в провокаторстве одного из самых видных деятелей Партии социалистов-революционеров.
Рачковский, Герасимов, Медников, Столыпин — все те, кто сознательно ввели и поддерживали Азова в организации социалистов-революционеров, знали, что они делали. Для них успешная деятельность Партии социалистов-революционеров была страшнее всего. Чтобы парализовать ее, они решились через своего агента Азова на участие в целом ряде террористических актов, решились на ряд преступлений, караемых даже русским уголовным судом, лишь бы все время держать в своих руках партию, парализовав ее деятельность, и не дать ей выполнить ее главных планов.
Перед нами задача состоит не только в том, чтобы полностью изобличить и обезвредить на будущее время Азова, но и добиться полной ответственности Рачковских и Герасимовых за их чисто уголовные преступления.
О деятельности Азова и его руководителей мы много и часто будем говорить на страницах «Былого».
Вл. Бурцев
11 рю дю Лунейн (XIV аррондисман) Париж».
Лопатин осторожно положил прочитанные листки перед собою на стол и взял еще один, лежавший в конверте: печатный оттиск текста, который он только что прочел. Это был уже набор, журнальные гранки, можно сказать, листовка, документ, подготовленный для печати, для массового тиражирования. Бегло проглядев набранные строки, Лопатин задержал взгляд на приписке, сделанной знакомым ему бурцевским почерком. Владимир Львович писал:
1. Прошу переслать это заявление мое ЦК для того, чтобы после сдирижировать его совместно.
2. ЦК может добавить в этом листке все, что ему угодно.
P. S. Разумеется, это заявление не должно быть известно Азову и тем, кто ему может о нем передать.
Последние строки Лопатин прочел сначала про себя, а потом вслух с нажимом в голосе и многозначительно поднял взгляд на Чернова:
— ...не должно быть известно Азову и тем, кто ему может о нем передать.
— Герман Александрович! — обиделся Чернов. — Я не скрываю своего полного доверия к Ивану Николаевичу и уважения к нему, как к героическому бойцу нашей партии... И хотя я уверен, что Бурцев, по крайней мере, заблуждается в отношении нашего товарища по борьбе, я... я...
— Я понял вас, товарищ, — доброжелательно прищурился Лопатин. — Иван Николаевич от нас с вами ничего об этом заявлении не узнает. — Он задумчиво прикусил губу и, помолчав с минуту, продолжал, будто принимал решение, в котором был еще и не совсем уверен: — А в отношении третейского суда... От него нам теперь не уйти. Лучше разобраться во всем нам самим, среди нас самих, без огласки... Ведь Бурцев грозит выдвинуть эти обвинения, а они не только в наш адрес, а в адрес всей партии, публично... через литературу. И сделает это — человек он упрямый. Опубликует письмо для начала в своем журнале «Былое»...
— Этого нельзя допустить! — взорвался Чернов. — Склока запачкает всю партию! Вы же понимаете, что это значит и для нас, и для всего русского революционного движения!
— Понимаю, товарищ. — Голос Лопатина был теперь категоричен, свидетельствуя, что старый революционер принял решение: — Я за то, чтобы третейский суд, которого требует Бурцев, состоялся.
— И это будет суд над самим Бурцевым, на котором Бурцев сам себе подпишет смертный приговор, — поставил точку Чернов.
Знал ли Владимир Львович Бурцев, на что шел, выступая против одного из самых авторитетнейших деятелей ПСР? Знал, но иначе поступить не мог.
С тех пор, как летом 1906 года он пришел к выводу, что Азеф или, как он именовал его — Азов является провокатором, целью жизни его стало разоблачение предателя.
В Париже к нему, как к редактору-издателю историко-революционного журнала «Былое», стекалось довольно значительное количество материалов, разоблачающих деятельность Департамента полиции и охранки. Оказалось, что и среди сотрудников полиции имеется немало желающих раскрыть ее тайны. Одни шли на это из убеждений, как Михаил Ефимович Бакай, другие готовы были сотрудничать с Бурцевым за деньги, требуя порою довольно значительные суммы, как, например, некий Донцов, сотрудник Виленского охранного отделения. Петербургская охранка, руководимая Герасимовым, тоже пыталась завязать с Бурцевым «игру», используя некоего Доброскока, своего сотрудника и матерого провокатора, носящего кличку Николай — Золотые Очки.
В очередной раз оказавшись в эмиграции (в Париже), Бурцев решил посвятить свою жизнь борьбе именно с провокаторами и за сравнительно короткий срок сумел разоблачить известного эсера-максималиста Кесинского, одного из убийц Судейкина, шлиссербуржца Стародворского, известного польского писателя Станислава Бржозовского и нескольких других агентов полиции. Бурцевым на основании получаемых им разными путями сведений был составлен довольно значительный список агентов-провокаторов. Неоценимую услугу в этом ему оказывал все тот же Бакай. Его сведения Бурцев тщательно проверял и перепроверял, и они всегда оказывались соответствующими действительности. Убедившись в искренности Бакая, Бурцев посоветовал ему осуществить наконец свою заветную менту — уйти со службы в Департаменте, что Бакай и сделал к концу 1906 года. Бакай настаивал на том, что в высшем руководстве ПСР есть агент-провокатор по имени Раскин. И когда Бурцев стал собирать сведения об этой таинственной фигуре, он вышел в конце концов на Азефа.
Почуяв опасность, Азеф постарался с помощью Герасимова нейтрализовать и Бурцева и Бакая. За обоими была установлена слежка. И в середине апреля 1907 года Бакая арестовали как раз тогда, когда по совету Бурцева он готовился к побегу из Петербурга в Финляндию. В тот же день был произведен налет на петербургскую редакцию журнала «Былое». Обыск, произведенный в ней, однако, не дал ничего, что позволило бы немедленно арестовать и Бурцева. Повторного появления жандармов опытный Владимир Львович дожидаться не стал и буквально под носом у филеров бежал за границу. Франция, Швейцария, Италия — таков был его маршрут прежде, чем он решил обосноваться на некоторое время в Финляндии. Именно тогда он и познакомился с Карлом Траубергом и поделился с ним своими мыслями относительно Азефа.
«Вскоре после этого нашего разговора Трауберг и его товарищи при таинственной обстановке были арестованы», — вспоминал потом Владимир Львович.
Находясь в Финляндии, Бурцев узнал, что Бакая, которому грозил военный суд за измену и выдачу секретных сотрудников полиции, судить не решились из-за возможного скандала — все-таки высокопоставленный полицейский чиновник! На период следствия он был посажен в Петропавловскую крепость, а затем отправлен в ссылку в Сибирь. На пути в ссылку, воспользовавшись тем, что был отпущен в Тюмени на несколько дней для отдыха — на частную квартиру, Бакай бежал. Побег организовал Бурцев с помощью сестры Савинкова — Софьи Викторовны. Прибыв к Бурцеву в Финляндию, Бакай, как вспоминает сам Бурцев, чуть ли не сразу же спросил:
— Кому вы, Владимир Львович, говорили, что устраиваете мой побег?
Я ему категорически ответил:
— Никому!
— Странно! — сказал Бакай. — В Тюмени меня должны были арестовать по телеграмме из Петербурга в Тобольск. Значит, в Петербург кто-нибудь донес о том, что вы устраиваете мне побег.
И тут Бурцев вспомнил, что рассказывал о готовящейся операции Виктору Чернову. Стало ему известно и то, что Чернов сообщил об этом Азефу. О том, что Азефу это могло стать известным и через Савинкова, сестра которого участвовала в организации побега Бакая из Тюмени, Бурцев, судя по его воспоминаниям, не думал; зато после этой истории, писал он: «Про себя я повторил: «Азеф — предатель! Азеф — предатель!»
События эти разворачивались в 1908 году, и Азеф, чувствуя, что разоблачение приближается, шел на все, чтобы перехитрить судьбу. Именно в это время он взялся за самое крупное дело, как он говорил, своей жизни — за подготовку покушения на Николая II.
Если бы эта акция удалась, никто не осмелился бы обвинить его в предательстве революции, в гибели десятков отправленных им на виселицу революционеров, в пятнадцатилетней работе на Департамент полиции. Цареубийство перечеркнуло бы любые разоблачения, медленно, но верно подбирающегося к нему Бурцева — и тогда бы Азеф, героически завершив карьеру террориста, уехал бы со своими немалыми капиталами, почерпнутыми как из кассы полиции, так и из эсеровской, куда-нибудь в Австралию или в Южную Америку.
Несмотря на то, что среди рядовых эсеров о провокаторстве Азефа разговоры велись почти в открытую, члены ЦК ПСР, особенно Чернов и Савинков, верили ему безоговорочно и были твердо уверены, что слухи, порочащие Ивана Николаевича, распускают агенты Департамента, стремящиеся скомпрометировать героического революционера и мастера революционного террора.
Вопрос о покушении на царя был вычеркнут из планов эсеровского террора еще в 1902 году, когда руководство ПСР сочло эту акцию политически невыгодной и даже вредной. При этом учитывалась и отрицательная реакция в народе на убийство Александра II Освободителя, и глубокая вера народных масс в доброго «батюшку даря», который хочет добра простым людям, да которому во всем мешают его министры, губернаторы и генералы. Поднять руку на царя, по мнению эсеровского руководства, означало оттолкнуть массы от революции и, наоборот, вызвать и укрепить их поддержку самодержавия.
Но годы шли, и настроения менялись. Русско-японская война, первая русская революция, разгон сначала одной, а затем и другой Думы, разгул реакции и «столыпинские галстуки» в значительной степени изменили отношение народных масс к «царю-батюшке». В таких условиях, по мнению руководства ПСР, цареубийство могло бы явиться искрой, вызвавшей всеобщий взрыв, — революцию. После того, как боевой отряд Зильберберга- Никитенко получил разрешение таких влиятельных членов ЦК ПСР, как Кафт, Чернов и Натансон, боевики начали поиски «подходов» к царю и великому князю Николаю Николаевичу, то есть, решив вопрос о цареубийстве политически, они приступили к его решению технически. Через «симпатика», сына начальника дворцовой телеграфной конторы Наумова они вышли на казака дворцовой охраны Ратимова, оказавшегося провокатором. Герасимов с помощью Азефа дал заговору «созреть», а затем произвел в ночь на 14 апреля 1907 года аресты. Было арестовано 28 человек — членов боевого отряда Зильберберга и тех, кто был с ними связан. Восемнадцать человек были преданы военному суду, трое — Никитенко, Наумов и Синявский были приговорены к смерти и казнены 3 сентября 1907 года. Многие пошли на каторгу.
Столыпин с помощью Герасимова организовал громкий политический процесс о заговоре Партии социалистов-революционеров, имевшей во Второй государственной думе 30 депутатов, на жизнь монарха. На них и была возложена политическая ответственность за террор социалистов-революционеров. Герасимов, как спаситель государя, получил генеральский чин. Азеф в это время отдыхал в Крыму, где выдал большую группу местных боевиков, готовивших покушение на великого князя Николая Николаевича. Герасимов знал от него, что эсеры отныне считают возможным и даже необходимым царе-убийство, именно поэтому он и предложил милейшему Евгению Филипповичу не размениваться «на мелочи», а сосредоточиться на предотвращении покушения на царя.
Эсеры нервничали — все их «подходы» к царской семье на том или ином этапе обязательно перекрывались полицией.
Не помогало даже возвращение «художника в терроре» Гершуни, носившего теперь подпольную кличку Капустин. Появилась она в связи с тем, что Гершуни, бежавший с Акатуйской каторги, был вывезен с ее двора в бочке с квашеной капустой. Из России он выбирался через Владивосток — в Японию, а затем в Америку. Там он появился как герой, его лекции и выступления собирали толпы сочувствующих русской революции. Стекались значительные денежные пожертвования. И когда Гершуни наконец явился в Европу и в конце февраля 1907 года появился на Втором съезде ПСР в Таммерсфорсе под кличкой Капустин, участники съезда, знавшие, что за ней скрывается один из основателей партии и создатель Боевой Организации, приветствовали его восторженной овацией.
Азефа, все время державшегося рядом и купавшегося в лучах его славы, Гершуни называл своим учеником, превзошедшим учителя. Он уговаривал Азефа «вернуться в террор» и обещал помогать ему всеми силами. Но Иван Николаевич, по договоренности с Герасимовым и следуя собственным финансовым интересам, не соглашался: он теперь занимался чисто партийными делами, в том числе и издательскими, на которые партия выделяла значительные суммы, большая часть которых, разумеется, оседала в карманах Азефа.
Сразу же после разгона Столыпиным (16 июня 1907 года) Второй государственной думы ЦК ПСР на своем заседании в Выборге формально поставил вопрос о покушении на царя: Гершуни выступал особенно горячо, доказывая, что пришло время нанести удар по «центру всех центров». Его активно поддерживал Натансон, председательствовавший на заседании. Взвешивая все доводы за цареубийство и против, Натансон доказывал, что имеются аргументы только «за» и ни одного «против». С такой же позиции выступал и Чернов. Азеф лишь подавал реплики с места, но все знали, что он глубоко убежден: только цареубийство может что-то изменить в развитии событий по пути реакции.
Решение о подготовке покушения на царя было наконец официально принято Центральным комитетом, но Азеф не спешил взять на себя роль «руководителя похода», хотя Гершуни и доказывал ему, что цареубийство положит конец все шире распространяющимся в партии и в революционной эмиграции порочащих его слухов.
Герасимов же требовал, чтобы Азеф изо всех сил мешал принятию решения о цареубийстве, а если уж помешать не удастся, Азеф должен сам возглавить «поход против царя», чтобы подорвать его изнутри. Помешать решению вопроса о постановке цареубийства Азеф и не пытался — в принципе решение было принято. Но до его практического осуществления надо было воссоздать ранее распущенную, а затем обескровленную массовыми арестами Боевую Организацию. Эго было поручено сделать Азефу и Гершуни — Капустину. Они немедленно выехали за границу и активно принялись за дело, собирая боевиков и объединяя их под своим руководством. Именно тогда Азеф и вышел на отряд Карла, а затем вывел на него и Герасимова. Заодно было произведено и еще несколько «отдач», в основном тех, кто чем-либо мешал Азефу.
Разгул реакции между тем все острее ставил вопрос о цареубийстве, и Азеф согласился наконец возглавить «поход на царя», повторяя в доверительных беседах с боеви-ками, что это будет его последнее дело в революции и на этом он закончит свою революционную карьеру. Одновременно он доказывал необходимость сосредоточить все усилия возрожденной БО па организации цареубийства, отказавшись от всех других террористических акций, что, конечно же, соответствовало планам Герасимова. Цареубийство, рассуждал Азеф, потребует долгой и серьезной подготовки, которая, если все пойдет нормально, должна занять не менее года, а то и двух. Конечно же, предупреждал Иван Николаевич, на это потребуются и значительные денежные суммы, размер которых предсказать пока нет никакой возможности. Азефа поддерживал Гершуни, и опять партийная касса оказалась распахнутой настежь для «генерала БО».
Внешне могло показаться, что Азеф взялся за подготовку цареубийства всерьез. Боевики активно вели разведку и собирали самые разные, могущие им пригодиться сведения. Выдвигались и разрабатывались самые дерзкие и неожиданные планы: от убийства царя молодым сельским священником до покушения на него члена «депутации народа», явившейся во дворец на прием к «царю-батюшке». Наиболее серьезным из этих планов были попытки организовать покушения во время царской охоты и в дни поездки царя в Ревель, — на встречу с венценосным гостем — королем Великобритании. Ни один из этих планов, естественно, не удался: полиция, информируемая Азефом, вела с боевиками ловкую игру: им мешали, их спугивали, но их не арестовывали. И постоянные, неминуемые неудачи стали, как это уже бывало, вызывать в БО разочарование, уныние и апатию. Время шло, Азеф безотчетно брал в партийной кассе значительные суммы (он вкладывал их в ценные бумаги Российской империи), но ни до царя, ни до других членов царской фамилии дотянуться террористы не имели никакой возможности.
Было в планах Азефа и использование новейших технических средств: нападения на Петербургский или Царскосельский дворец во время пребывания там царя с воздуха (инженер Сергей Иванович Бухало получил из партийной кассы 20 тысяч рублей, но построить летающий аппарат так и не смог) или на море (подводная лодка против царской яхты). Все это, конечно, требовало денег, денег и денег! И опять кассиры ПСР ворчали: до них все чаще доходили слухи о кутежах Азефа в самых шикарных столичных ресторанах, о ночах, проведенных им в дорогих борделях. Вспоминалось, что еще в студенческие годы близко знавшие Азефа студенты прозвали его за похотливость «грязным животным».
И, наконец, довершением всех слухов явилось появление у него любовницы-немки, кафешантанной певицы госпожи Н., известной связью одновременно с великим князем Кириллом Владимировичем и его братом Борисом.
Приехав из Германии в Петербург для сколачивания «приданого», она уже перед русско-японской войной стала великосветской шлюхой, а когда началась война, была взята великими князьями в их так называемый «маньчжурский поезд», высокопоставленные пассажиры которого пьяными дебошами и скотскими оргиями наводили ужас по пути своего следования «на войну», а затем «на фронте» не только на солдат и офицеров, но и на главно-командующего генерала Куропаткина, обратившегося к царю с просьбой убрать поезд вместе с великими князьями в Россию, так как «они вносят деморализацию в среду армии». Зато госпожа Н. впоследствии с удовольствием вспоминала о «маньчжурском поезде»:
— Это была веселая, привольная жизнь!
Отправившись «на фронт» без гроша, она вернулась со значительным капитальцем, правда, порастрясенным чуть позже любовником, офицером-авантюристом, выдававшим себя за богатого волынского землевладельца.
Азеф увидел ее впервые на подмостках петербургского кафешантана «Аквариум» за несколько дней до наступления нового, 1908 года. Пышные формы и откровенная оголенность «роскошной женщины» взволновали его настолько, что роман начат был немедленно, в ту же ночь, в постели кафешантанной дивы. С тех пор, по словам Азефа, они уже никогда не разлучались. Азеф при первом знакомстве отрекомендовался как состоятельный коммерсант, имеющий семью, но намеренный обзавестись постоянной содержанкой.
Кутежи в дорогих ресторанах, номера в роскошных отелях, где он жил, и щедрые подарки, как драгоценностями, мехами, так и деньгами, быстро убедили пышнотелую красотку, рекламные открытки-фотографии которой широко распространялись по всей России с надписью «Ла белла Хедди де Херо», в том, что ей попался как раз такой «солидный знакомый», который был нужен для восстановления ее «сбережений», промотанных любовником-офицером.
Обладание столь знаменитой звездой кафешантана, надо полагать, было для Азефа высшей степенью самоутверждения. Он, выходец из нищего еврейского местечка, можно сказать, породнился через «прекрасную Хедди» с самой царской фамилией, ведь, переспав сразу с двумя великими князьями, она теперь спала с ним. И, распираемый тщеславием, Азеф старался, чтобы все знали о его победе. Он появлялся с «прекрасной Хедди» в модных театрах, на престижных вернисажах, катался в открытой коляске по Невскому. Оставаясь с красавицей наедине, упивался ее рассказами о близости с представителями династии Романовых, млел при ее воспоминаниях о «веселой, привольной жизни» в «маньчжурском поезде», жадно ловя каждую вспоминаемую ею смачную деталь, каждую интимную подробность из ее жизни великосветской б...
Подобное поведение, конечно же, не могло не шокировать социалистов-революционеров. Но на рядовых членов партии Азеф давно уже смотрел свысока, не скрывая своего презрения к «этим оборванным революционерам». Когда же о его скандально-вызывающем поведении пытался робко заикнуться кто-нибудь из членов ЦК, то в ответ звучала лекция о том, что необходимо делать для конспирации, особенно при таком ответственном деле, как подготовка покушения на царя. Говорилось при этом, что госпожа Н., как известно, близка к царской фамилии, и через нее поступает информация, необходимая при подготовке покушения.
Кого-то это, может быть, и убеждало, но большинство все сильнее начинало задумываться, почему главу Боевой Организации, ведущего такой вызывающе открытый образ жизни, полиция не трогает, и это при том, что ей не может не быть известно через многочисленных провокаторов, внедренных в ПСР, об истинной роли Ивана Николаевича в Партии социалистов-революционеров. Удивлялись этому и филера, неоднократно являвшиеся к Герасимову с предложением арестовать так беспечно подставлявшегося главаря террористов.
Дело дошло до того, что Герасимов принялся «по-дружески» уговаривать «милейшего Евгения Филипповича» изменить образ жизни и уйти в тень, но Азеф, как говорится, словно с цепи сорвался, решив, что «время собирать камни» прошло и наступило «время бросать камни».
Он жаловался Герасимову на нервы, на усталость, говорил, что за пятнадцать лет службы заслужил себе наконец право на отдых и нормальную человеческую жизнь. Герасимов относился к этому с пониманием и соглашался отпустить Азефа на «заслуженный отдых», вот только пусть он доведет дело до конца и совсем развалит подготовку покушения на царя.
И все же в какой-то момент инстинкт самосохранения сработал: заложив в ломбард обстановку квартиры, в которой он жил вместе с «прекрасной Хедди», и ликвидировав все свои финансовые дела в России, Евгений Филиппович вдруг уехал весной 1908 года за границу, увезя туда же и даму своего сердца. Правда, он вскоре вернулся — вместе с Хедди, с которой поселился в Петербурге, как всегда, в дорогом отеле. Прописались они как муж и жена. В России Азеф находился до июня 1908 года, помогая Герасимову сорвать подготовленную эсерами операцию по взрыву царского поезда и покушение на царя в Ревеле. А затем поставил вопрос о своем уходе с полицейской службы уже всерьез. С Герасимовым они расстались как друзья. На прощание Азефу было вручено Герасимовым несколько паспортов на разные имена, выплачено причитающееся жалование и обещана выплата на будущее — уже в виде пенсии за более чем пятнадцатилетнюю службу в Департаменте. Азеф же со своей стороны обещал снабжать Департамент по мере возможности политической информацией из-за границы. С террором же он, как сказали бы сегодня, завязал.
Полицейский и провокатор обнялись и расцеловались. Азеф вообще любил целоваться. И боевики, отправляемые им на заведомую гибель в ходе теракта или предаваемые полиции, что тоже обычно означало гибель — только на виселице, обязательно получали на прощание «поцелуй Иуды».
Целуя Герасимова, Азеф совершал последнее в своей жизни предательство. Он предавал и этого своего покровителя. Столыпин согласился на уход столь ценного и столь заслуженного секретного сотрудника Департамента после того, как был убежден Герасимовым, поверившим, в свою очередь, Азефу, что «поход против царя» натерпевшимися неудач эсерами прекращен и отменен.
А между тем именно в ото время Азеф вел свою последнюю игру — готовил покушение па царя, и на этот раз самым серьезным образом.
И дело это обстояло так. После потери большей части флота в Цусимском проливе царское правительство принялось за восстановление своих военно-морских сил, строя и заказывая за границей новейшие боевые корабли. Один из таких заказов получила и английская фирма «Виккерс», заложившая на своих верфях в Глазго новейший крейсер, который под именем «Рюрик» должен был пополнить русский Балтийский флот. Как водилось в таких случаях, на завершающем этапе строительства в Глазго была направлена группа русских инженеров и будущих членов экипажа, среди которых находились и социалисты-революционеры, и социал-демократы. Эсеровскую группу возглавлял военно-морской инженер К. П. Костенко. Считается, что именно он предложил организовать покушение на царя на борту «Рюрика» во время торжественной церемонии прихода крейсера в первый русский порт. По этому случаю царь готовился лично прибыть на «Рюрик», присутствовать на борту крейсера при его освящении, а также на торжественном банкете по этому случаю. Костенко получил от ЦК ПСР принципиальное одобрение этой акции, после чего к подготовке ее немедленно подключился «генерал ВО». Менее чем через месяц после расставания с Герасимовым Иван Николаевич появился в Глазго в качестве инспектора от ЦК. С помощью Костенко он облазил и осмотрел весь крейсер и забраковал первоначальный план покушения, согласно которому в Глазго, перед самым выходом «Рюрика» в море, на крейсер должны были тайком провести боевика, назначенного для совершения теракта. Чтобы боевика не обнаружили во время перехода в Россию, для него было подыскано тесное, но достаточно укромное укрытие. Осмотрев его, Азеф решил, что боевик не сможет перенести в нем переход к российским берегам, и забраковал предложенный Костенко план. Взамен он предложил найти среди эсеров — членов экипажа добровольца, готового совершить теракт и погибнуть.
В конце концов добровольцы были найдены, сразу двое — матрос Герасим Авдеев и вестовой Каптелович. Обработкой их занялись Савинков и Карпович, тот самый, что в 1901 году убил министра просвещенья Боголепова. Когда было решено, что Авдеев и Каптелович достаточно морально подготовлены к акции, с ними встретился Азеф. Будущим убийцам царя были вручены револьверы, от них же были получены прощальные письма, объясняющие их действия, и фотографии. И то и другое должно было быть опубликовано после цареубийства в зарубежной печати.
В августе 1908 года «Рюрик» покинул наконец Глазго и вышел в море. Царский прием крейсера и смотр его команды были назначены на 7 октября...
...В августе Бурцеву стало известно, что на проходившем в это время в Лондоне съезде эсеров присутствует Азеф, в провокаторской деятельности которого он был теперь совершенно уверен.
Именно в те дни и появилось первое письмо Бурцева с разоблачениями Азефа, которое он направил через своих друзей-эсеров в ЦК ПСР. Бурцев требовал немедленно удалить провокатора со съезда и начать против него партийное расследование, а также сообщить участникам о своих обвинениях в адрес Азефа. Ни одно из этих требований выполнено не было.
На одном из многочисленных колониальных собраний в Париже, где Чернов давал отчет о лондонском конгрессе, он с негодованием говорил о распространяемой клевете против наиболее видного члена их партии и о том, что до последнего времени она была неуловима, но теперь удалось поймать «ужа за хвост» и клеветник скоро будет разоблачен и пригвожден к позорному столбу. «Не все знали, кого обвиняют в провокации, но все знали, что в клевете Чернов обвиняет меня. Своими нападками на меня Чернов сорвал тогда у своей аудитории много бурных аплодисментов».
Можно только посочувствовать Бурцеву, оказавшемуся в полном одиночестве в своем «походе» против Азефа.
— Надо принять меры и усмирить Бурцева, который направо и налево распространяет слух, что Азеф провокатор! — кричал разъяренный Марк Натансон.
По-другому повел себя Савинков, относившись к Бурцеву куда с большим уважением и считавший, что этот старый революционер, редактор «Былого», просто поддался на дезинформацию, подброшенную ему полицией, поверил в нее и искренне заблуждается. Надо лишь объяснить Бурцеву истинную роль Азефа в ПСР, рассказать ему о полной опасностей героической жизни Ивана Николаевича — и дело будет улажено, считал Савинков, веривший «генералу БО» больше, чем самому себе.
Привыкший действовать решительно, Савинков договорился с Бурцевым о встрече и явился на нее уверенный, что ему удастся убедить Владимира Львовича изменить отношение к Азефу.
Разговор был долгий, откровенный и, пожалуй, даже дружеский. Говорил больше Савинков, Бурцев в основном молчал — так он привык держаться много лет, общаясь с теми, кто был для него источником ценных и в то же время опасных сведений.
Кое-что из услышанного от Савинкова было для Бурцева внове, например, рассказ о подготовке покушения на царя, которое должно было через несколько недель совершиться на крейсере «Рюрик».
В запальчивости Савинков приписывал Азефу и террористические акты, совершавшиеся либо помимо воли «генерала БО», либо вопреки ей.
Конечно же, он искренне верил при этом во все, что сейчас говорил Бурцеву.
— А у вас... у вас есть хоть что-нибудь подтвержденное документально, доказывающее, что ваши обвинения в адрес такого человека, как Азеф, не клевета? — перешел он в наступление, закончив «парад подвигов» своего кумира.
Бурцев молчал, и в глазах Савинкова светилось торжество.
— Молчите, вам нечего сказать, нечего возразить, вы ничего не можете опровергнуть, — торжествовал Савинков.
И вдруг Бурцев поднял бледное лицо. Глаза его были полны холодной ярости.
— Хорошо, — почти шепотом заговорил он наконец, — если вы дадите мне честное слово, что никому до тех пор, пока я не разрешу, не расскажете то, что я вам сейчас сообщу...
— Клянусь! — с готовностью перебил его Савинков, уверенный, что никакие аргументы не смогут опровергнуть то, что он только что излил в своем горячем, идущем от всего сердца монологе.
— Тогда слушайте...
Профессор уходил. Правительственный кризис разразился, разрешился и жизнь входила в обычную, рутинную колею. У руля теперь стали новые люди и новые метлы принялись по-новому мести давно не проветривавшиеся коридоры власти.
Но пока Профессор работал. Будучи педантом, он пунктуально продолжал выполнять свои служебные обязанности, как будто ничего и не предвещало его ухода, и сотрудники следовали его примеру, не позволяя налаживавшемуся годами механизму ни малейшего сбоя.
Вот и в это утро, войдя в свой кабинет как обычно в шесть часов — ни минутой раньше, ни минутой позже — и усевшись за стол, он привычно придвинул к себе папку с агентурными сообщениями, поступившими за минувшую ночь, и принялся изучать их, делая время от времени на полях отметки разноцветными карандашами.
На одни бумаги ему хватало лишь беглого взгляда, другие заставляли задумываться. Но слишком долго он не задерживался ни на одной и переворачивал их так, как будто что-то искал. Так оно и было: бейрутская резидентура докладывала, что...
Он прочел две тонкие, почти прозрачные странички, полные плотных строк, составленных из крупно отпечатанных, похожих на телеграфные слов. Потом принялся читать все заново, медленно, останавливаясь на каждом знаке препинания и все больше темнея лицом и хмурясь.
Бейрутская резидентура сообщала, что операция, на которую она была недавно нацелена руководством Системы, была проведена, но ожидаемых результатов не при-несла.
Ее объект оказал неожиданное сопротивление, в результате чего в группе, проводившей операцию, имеются потери: погибли члены группы Ф. и X., тела которых будут в ближайшие дни доставлены морем для почетных похорон. Сам объект в перестрелке погиб. В его сейфе, увезенном группой с места операции, не оказалось ничего, кроме двух тысяч ливанских фунтов, тысячи американских долларов и папки с квитанциями к бухгалтерскому отчету по содержанию корпункта за прошлый месяц. На письменном столе в рабочем кабинете были найдены листки, судя но содержанию, рукописи, над которой работал убитый, неоконченная страница была заправлена в пишущую машинку. Обнаруженные тексты, по мнению резидентуры, никаких ценных сведений не имеют и будут переправлены Профессору, как только для этого представится возможность. Тут же, на столе, находился длинный желтый конверт, вскрытый. В конверте короткое письмо, обращенное к объекту операции и подписанное Л. Никольским. Текст письма сообщался.
«Милостивый государь, Петр Николаевич! — медленно, слово за словом читал Профессор равнодушные печатные строки. — Конечно же, вскрыв конверт и прочитав мое письмо, вы будете разочарованы, ибо оно ничего не добавит к той книге, которую вы, я надеюсь, уже написали, осуществив мою тщеславную мечту. Надеюсь, что доставшиеся вам от меня — по праву законного наследника — документы были вам при этом полезны. Но дело, собственно, даже не в этом. Кроме определенной архивной ценности, эти бумаги особой цены не имеют, хотя некоторые из них будут опубликованы в вашей книге впервые.
Но те, кто охотится за ними (вы были свидетелем известной вам сцены), интересуются не архивной пылью. Не ведаю, как они узнали или, как говорят современные борзописцы, «вычислили», что у меня находились списки виднейших революционеров — агентов Александра Васильевича Герасимова, благородно отпущенных им в свое время от службы на пользу Российской империи и спасенных тем самым от расправы в 1917-м и последующих годах.
Среди этих лиц я нашел многих, кто поднялся высоко наверх после февральского и октябрьского переворотов. Тот, кто имел бы сейчас в своих руках эти списки, имел бы возможность употребить их во зло нашей стране. Я считаю, что можно поссориться с правительством, но нельзя поссориться со своим народом, с Родиной. И не хочу, чтобы те, у кого Родины нет, наносили вред моей стране, моей России.
Конечно, списки Александра Васильевича Герасимова, если бы они попали в руки честных людей, истинных патриотов, могли бы послужить нашей истории, помогли бы моим соотечественникам разобраться во многом и не блуждать в потемках, в которых мы сегодня невольно оказались. Но ведь могло бы все получиться и иначе?
Может быть, я поступил неправильно, чего-то не понимал в сегодняшнем нашем дне, но списки, доставшиеся мне когда-то от моего старшего друга и покровителя Александра Васильевича Герасимова, я уничтожил, и теперь никто не сможет воспользоваться ими ни во имя зла, ни во имя добра. Пусть наша история остается такой, какой мы ее знаем. Россия достаточно настрадалась от того, что с ней делали столько лет. Будем же к ней милосердны!
Прощайте и не поминайте лихом.
Лев Никольский.
P. S. Бумаги, которые я вам завещал, отвезите в Россию и подарите какому-нибудь архиву. Все-таки и в них есть крупинки нашей многострадальной истории!»
Профессор откинулся на спинку кресла и задумался. Что ж, вот и конец операции, на которую он возлагал столько надежд. Единственно, что могло бы послужить слабым утешением, — это то, что он в своих предположениях оказался прав: дальновидный Александр Васильевич Герасимов не уничтожил списки своих самых ценных агентов в революционных партиях. Эти списки сохранились, дошли до наших дней, еще совсем недавно были у Никольского. А раз они были у Никольского, кто осмелится исключить возможность, что копии их могли быть и у кого-нибудь еще, храниться у кого-нибудь из тех, кто был близок к Герасимову в годы его жизни в эмиграции, в Париже? Значит, можно предположить, что еще не все потеряно, что в Бейруте закончилась не вся операция, а лишь только часть ее! И даже, в конце концов, само письмо Никольского могло быть лишь отвлекающим маневром, попыткой сбить охотников с верного следа! А потому охоту следует продолжать, как бы ни было мало шансов на удачу.
Он опять склонился над папкой с донесением бейрутской резидентуры и принялся перечитывать его скрупулезно, тщательно, словно стараясь вычитать что-то между строк. Так... так... оказал вооруженное сопротивление... убиты...
Профессор всегда жалел своих погибших сотрудников. Вот и теперь — нет больше в живых Фелиции, вместе с нею погиб Саша.
Он тяжело вздохнул: а ведь какие способные были агенты! Вот только молодость с присущей ей самоуверенностью! Недооценили противника, ринулись напролом, как герои американских фильмов. А это ведь только в фильмах герои не гибнут!
Он осторожно закрыл лежащую перед ним папку — работать сейчас он не мог, надо было собраться, прийти в себя...
* * *
...Я открыл глаза и не сразу сообразил, где я. Надо мною плыл высокий голубой потолок, с которого свисала на бронзовой цепи хрустальная, под старину, люстра, а я лежал на просторной кровати, к спинке которой была прикреплена металлическая стойка капельницы. Пластиковая трубочка тянулась от капельницы к кисти моей левой руки и скрывалась под широким пластырем, фиксирующим толстую иглу, введенную мне в кровеносные сосуды на тыльной стороне ладони. Левое плечо ныло, придавленное тупой, тяжелой болью, и было плотно и надежно перебинтовано.
И попытался привстать, но сразу почувствовал, что но могу — широкие эластичные ремни фиксировали мое тело.
Тогда, с трудом приподняв голову, я оглядел помещение, в котором находился.
Стены больничной палаты были окрашены в приятный голубовато-бирюзовый цвет. Широкое окно выходило в сад, и за стеклами гигантский старик фикус покачивал глянцевитыми упругими ладошками листьев.
Рядом с моей кроватью, справа, стоял металлический медицинский столик с небольшим пультом, украшенным разноцветными кнопками — вызов санитарки, сестры, врача, просьба принести воды, еды и т. д.
Надписи под кнопками были на арабском, английском и французском языках.
Я собрался было уже нажать одну из кнопок, чтобы вызвать кого-нибудь, кто объяснил бы мне. что со мною произошло и как я оказался в больничной палате, как высокая стеклянная дверь в дальнем углу ее отворилась и вошли двое: один — в белом халате и белой шапочке, со стетоскопом, свисающим с шеи на грудь, явно — врач, другой — плотный, широкоплечий, в коричневой куртке, не застегивающейся на большом, похожем на шар животе, наш консул Михаил Иванович, или Миша, как он требовал, чтобы его называли по-свойски, запросто.
— Жив? — прямо с порога пробасил Михаил Иванович, и широкие толстые щеки его радостно расплылись. — Очухался!
Отстранив со своего пути тщедушного, аккуратного доктора, он устремился к моей кровати, и паркетины под тяжестью его слоновьих шагов жалобно поскрипывали.
— Привет, герой! — пробасил консул радостно, по в глазах его я увидел затаенную напряженность. — Как самочувствие?
— Как я сюда попал? — я попытался поймать его взгляд, по консул уже повернулся к доктору и заговорил с мим по-французски:
— Что скажете о нашем пациенте, месье Хаким?
— Для человека, из плеча которого извлекли три пули, он держится просто молодцом! — последовал осторожный ответ.
— Он у вас уже два дня. Как вы считаете, когда мы сможем забрать его?.. Только, ради бога, не думайте, что у нас есть к вам какие-то претензии. Как говорит наш посольский врач, вы сотворили хирургическое чудо. Такие серьезные ранения... потеря крови... У вас золотые руки!
— Не стоит благодарности, — скромно улыбнулся доктор. — Я сделал только то, что должен был сделать. И насчет золотых рук слишком сильно сказано. Просто за полтора десятка лет гражданской войны у нас, ливанских хирургов, к сожалению, слишком много практики в области военно-полевой медицины. — Он вежливо поклонился консулу и продолжал: — Благодарите лучше хозяина дома, у которого снимает квартиру ваш соотечественник. Это устаз Аднан проснулся от выстрелов и среди ночи привез его к нам в госпиталь. Здесь же, как вы можете догадываться, хирургическая бригада всегда готова к приему жертв нашей... ситуации...
Последнее слово он произнес с горькой иронией.
— Да, месье Аднан уже предъявил нам счет за залитую кровыо обшивку своей машины. И за испорченный кровью палас перед дверью на лестничной клетке, — фыркнул консул.
Доктор в ответ только развел руками, мол, что поделаешь.
— Вы, конечно же, хотите отправить раненого подальше от опасности в вашу страну, — продолжал он. — Что ж, это понятно — ведь под обстрелы попадают и наши госпитали. Тут уж все в руках Аллаха!
Доктор поднял взгляд к голубому потолку, словно над ним было само небо.
— Вот это нас как раз и беспокоит, — поспешил согласиться с ним консул. — Следующий самолет Аэрофлота прибудет в Бейрут через два дня. Если, конечно, позволит... ситуация... И мы бы хотели...
— Если к завтрашнему вечеру состояние раненого не ухудшится, — доктор помедлил, словно не решаясь принимать окончательное решение. — Пожалуй... вы сможете эвакуировать ого на родину.
Они говорили обо мне так, как будто меня здесь не было, и лишь доктор изредка бросал на меня быстрые взгляды.
— А что об этом думает месье Николаев? — обратился он наконец ко мне. — Как вы себя чувствуете?
И, не дожидаясь ответа, взял прикрепленную к спинке кровати картонку с листком бумаги, на который дежурная медсестра три раза в день заносила данные о моем состоянии — температура, давление, пульс...
— Пока у вас все идет довольно хорошо, — таков был его вывод. Он хотел было сказать что-то еще, но в этот момент из черной пластмассовой коробочки, торчащей из нагрудного кармана его халата, раздались тревожные звуки зуммера.
— Прошу прощения, меня срочно вызывают в операционную!
И, постаравшись изобразить на своем обеспокоенном лице вежливую улыбку, он поспешил к выходу. Теперь мы с консулом были одни.
— Ну и натворил ты дел, братец, — сурово обернулся он ко мне. — Аднан говорит, что там у вас происходило настоящее сражение. Отвез тебя среди ночи в госпиталь и сразу к нам, в посольство. Там, говорит, вашего русского, кажется, убили, но, похоже, что и он кого-то успел подстрелить. Так что случилось все-таки?
— Это что? Допрос? — возмутился я взятым им тоном.
— Не допрос, а дружеский расспрос, — смягчился он. — Снятие показаний будет уже в Москве. А пока я, как консул, как представитель нашего государства, должен узнать у тебя, что все-таки произошло вчерашней ночью? Или ты не признаешь за мною это право?
— Почему же? Это твоя работа, — согласился с ним я.
— Ну, ладно, не обижайся, — примирительно продолжал он. — Представляешь, какой у нас в посольстве переполох? Не знаем, что и думать. То ли это начало террористических актов против наших граждан в Ливане, то ли просто бандитское нападение грабителей. Согласись, что это разные вещи, и реагировать на них надо по-разному. Ты-то что-нибудь по этому поводу сказать можешь?
— Бандитское нападение грабителей, — выбрал я один из предложенных им вариантов. — Решили пощупать иностранца, знают, что западники, живущие здесь, люди богатенькие...
— Западники, но не советские граждане, — поправил он. — И это всем хорошо известно. Наша зарплата куда ниже зарплаты среднего ливанца, об этом тебе скажет любой местный лавочник.
— Ничего, — не сдержал я усмешки, — наши граждане и при такой зарплате довольно успешно, ухитряются кое-что поднакопить, не так ли?
— Н-да, — задумчиво согласился со мною консул. — Ухитряются...
— Кстати, — словно только сейчас что-то вспомнив, оживился вдруг он. — У тебя же в квартире был сейф. Ты еще передал мне на всякий случай дубликаты ключей от него. Ты его никуда не убрал из квартиры?
— Куда? — удивился я.
— Ну, не знаю — куда... Может, отправил на фирму — замок ремонтировать или еще что-нибудь?
— Никуда я его не отправлял. И замок его работал так, как надо...
— Значит, унесли грабители. Сейфа в твоей квартире мы не нашли. Зато нашли вот это...
Он сунул руку во внутренний карман пиджака и достал оттуда браунинг Никольского:
— Ты стрелял из этой штуковины, — теперь он не спрашивал, он утверждал. — Мы нашли в коридоре четыре расстрелянные гильзы. Где ты достал оружие и кто тебе разрешил это?
Я издевательски рассмеялся:
— Миша, не прикидывайся дурачком. Ты же прекрасно знаешь, что оружие в Бейруте можно купить на любом углу. Было бы желание и деньги. А при разгуле бандитизма в городе смешно спрашивать у кого-нибудь разрешение на покупку пистолета. Вы в посольстве мне все равно не разрешили бы это сделать.
— Конечно, нет! — отрезал он и решил сменить тему.
— То, что ты нарушил правила поведения советских граждан за границей, тебе, я вижу, ясно. Но, может быть, все-таки расскажешь, что произошло в твоей квартире?
— Расскажу, — согласился, видя, что консул начинает злиться.
— Спал в коридоре, я всегда там сплю во время обстрелов. Проснулся от грохота, кто-то выбил входную дверь и ввалился в квартиру. Кто там, спрашивать спросоня не стал и...
— Открыл пальбу, — докончил он мою фразу. — А если ты кого-нибудь убил? Что прикажешь нам с тобою тогда делать?
— Если бы убили меня, все было бы гораздо проще. Пошли бы, как водится в таких случаях, в американское посольство, приобрели бы там за символическую плату в один доллар цинковый гроб — у них ведь такие гробы числятся в списках необходимого инвентаря, и отправили бы меня, как полагается, самолетом Аэрофлота... А теперь и не знаю, что тебе посоветовать. Но... если вы не нашли в моей квартире трупы, значит, я никого и не убил. Не так ли?
— Ну и язычок у тебя! — неожиданно рассмеялся консул. — А вообще — считай, что легко отделался. Три пули в плечо, болевой шок и потеря крови. Досрочный отъезд в Союз в связи с бандитским нападением и необходимостью лечения. Понял?
Слова его звучали как решение суда.
— Что ж, достаточно гуманно, — оценил я их по достоинству, а про себя подумал: знай наши посольские о бумагах Никольского, о телефонном звонке дамы из мафии и о том, в какую историю я ввязался, так легко я бы не отделался. Теперь же... что ж! Роман об Азефе я буду дописывать в Москве в не столь, как в Бейруте, нервной обстановке. Тем более, что полечу в Союз тем же самолетом, что и дипкурьеры, везущие коллекцию Никольского Васе Кондрашину.
Савинков сдержал свое слово, хотя на партийном суде выступал против Бурцева яростнее всех других «обвинителей»: Чернова и Натансона.
Судьями же были выбраны люди авторитетные, уважаемые, умудренные опытом революционной борьбы и повидавшие на своем веку немало провокаторов.
Князь Петр Алексеевич Кропоткин, один из отцов анархизма, ученик Михаила Бакунина, пропагандист и ученый, познавший казематы Петропавловской крепости и опасности дерзкого побега из ее лазарета, активный участник революционного движения 70-х годов, славил ся трезвостью ума и жизненной мудростью.
Вера Николаевна Фигнер, бывшая народоволка и террористка, приговоренная царским судом к смертной казни, которая была заменена ей двадцатилетией каторгой и просидевшая все эти годы в шлиссельбургском каменном мешке.
Герман Александрович Лопатин, тоже познавший смертный приговор, замененный ему бессрочной каторгой и проведший в Шлиссельбурге восемнадцать лет, был выбран председательствующим.
Бурцев сразу же выразил полное доверие такому составу суда и заявил, что полностью подчиняется его решению, пусть даже оно будет смертным приговором. А что такое решение будет принято, если не удастся доказать, что Азеф провокатор, редактор «Былого» прекрасно понимал, но отступать не собирался. Он действительно шел в свой последний и решительный бой. Собственно, предстоящий суд должен был стать не судом над провокатором Азефом, а над его разоблачителем Бурцевым. Так понимали свою задачу и судьи, заявлявшие, что им «...предложено было заняться тем, чтобы выяснить, клеветник Бурцев или нет? И мало того, не только клеветник, но и человек, который легкомысленным образом распространяет клеветнически-злостные слухи относительно одного из самых выдающихся деятелей партии, одного из столпов ее. И вся... задача состояла в том, чтобы определить, действительно ли это было так или нет».
Вера Фигнер была настроена решительно.
— Вы знаете, Владимир Львович, — говорила она Бурцеву уже после начала суда, — что вы должны будете сделать, когда будет доказана неправильность ваших обвинений? Ведь вам останется только пустить себе пулю в лоб — за то зло, которое вы причинили делу революции.
Суд было решено проводить в Париже, и первое его заседание состоялось на квартире И. А. Рубеновича, бывшего народовольца, ставшего эсером, члена ЦК ПСР. В обстановке, в которой открылся суд, не было ничего торжественного или официального. И судьи, и обвиняемый, и обвинители — Чернов, Натансон и Савинков сидели все вместе, словно собрались для обычного товарищеского разговора или теоретического диспута.
«Слушание» открылось гневной речью Чернова, которая продолжалась почти четыре часа. Это был и блестящий панегирик Азефу, перечень всех его революционных заслуг и подвигов на ниве террора, в духе того, о чем так горячо говорил Бурцеву, стараясь не доводить дело до суда, Савинков. Чернов изливал на Бурцева потоки желчи, язвительно клеймил его, а в заключение обратился к суду от имени Партии социалистов-революционеров с требованием вынести приговор, обвиняющий Бурцева в злостной и преднамеренной клевете.
После речи Чернова слово было предоставлено Бурцеву. Владимир Львович принялся излагать имевшиеся в его распоряжении доказательства предательства Азефа. Он очень волновался, сбивался, путался в фактах.
Чернов и Натансон прерывали его откровенно злобными нападками, сбивали с мысли, оскорбляли. Особенно усердствовал Чернов.
Впоследствии Вера Фигнер вспоминала, что он «как ловкий следователь наступал на Бурцева и, можно сказать, преследовал его по пятам». Она же отмечала, что Бурцев ее «поражал отсутствием изворотливости, неумением отражать противника».
Бурцеву действительно приходилось туго. Обвинители не хотели слышать ничего того, что им не хотелось слышать. Все, что говорил Бурцев, с ходу отвергалось: героический образ Азефа в их глазах не мог быть запятнан. Признать его измену значило для них признать свое соучастие в этой измене.
Сам Азеф на суде присутствовать отказался, заявив, что это его морально разобьет. Этим же он объяснил и свои попытки вообще не допустить процесса. Именно такую цель преследовало и его письмо к Савинкову:
«...если бы еще можно было бы похерить суд над Бурцевым, то я скорее был бы против этого, чем за, но, конечно, не имел бы ничего, если бы вы там так решили это дело. Некоторые неудобства суда имеются».
Азеф знал, что Бурцев припас какой-то ультрасенсационный «материал», который пока держит в тайне, рассчитывая поразить суд».
— Но то, что я знаю, — писал он, — действительно не выдерживает никакой критики, и всякий нормальный ум должен крикнуть: «Купайся сам в грязи, но не пачкай других!» Я думаю, что все, что он держит в тайне, не лучше достоинства. Кроме лжи и подделки, ничего быть не может. Поэтому, мне кажется, суд, может быть, сумеет положить конец этой грязной клевете. По крайней мере, если Бурцев и будет кричать, то он останется единственным маниаком. Я надеюсь, что авторитет известных лиц будет для остальных известным образом удерживающим моментом».
Нетрудно заметить и понять, что Азеф в письме к Савинкову старается скрыть свой страх и блефует. Хотя он и ссылается на таинственного X., который якобы держит его в курсе намерений Бурцева, на самом деле он пока не знает о таинственном оружии Владимира Львовича, о котором тот поведал Савинкову и которое, судя по письму, Савинков пока не рассекретил для своего воспитателя и учителя.
«...Если суда не будет, — храбрится Азеф, — разговоры не уменьшатся, а увеличатся, а почва для них имеется — ведь биографии моей многие не знают».
Если бы только Евно Фишелевич знал, насколько хорошо к этому моменту была его биография известна Бурцеву!
Поняв же, что третейского суда не избежать, Азеф, верный своей излюбленной наступательной тактике, наращивал давление не только на судей, но и на Центральный комитет ПСР:
«Конечно, мы унизились, идя на суд с Бурцевым. Это недостойно нас, как организации. Но все приняло такие размеры, что приходится и унизиться. Мне кажется, что молчать нельзя, — пишет он Савинкову, — ты забываешь размеры огласок. Но если вы там найдете возможность наплевать (Азеф, как утопающий, хватается за соломинку), то готов плюнуть и я вместе с вами, если это уже не поздно. Я уверен, что товарищи пойдут до конца в защите чести товарища, а потому я готов отступиться от своего мнения и отказаться от суда».
И опять не может сдержать животного страха:
«...Мне хотелось только не присутствовать во время этой процедуры. Я чувствую, что это меня совсем разобьет. Старайся, насколько возможно, меня избавить от этого».
Заседания суда проходили изо дня в день на различных парижских квартирах, но чаще всего собирались в тесном, по-спартански обставленном жилище Савинкова.
И это был действительно суд над Бурцевым. Его главный свидетель Бакай, согласившийся выступить перед судьями, Черновым, Натансоном и Савинковым, был дезавуирован, как профессиональный агент-провокатор, подосланный полицией. Таково же было отношение «обвинителей» и ко всем другим информаторам, на которых ссылался Бурцев. Доказать обратное было практически невозможно, ведь эти люди действительно были так или иначе связаны с полицией.
Дело явно шло к концу, судьи видели, что Бурцев прижат к стене, но чего-то не договаривает, из последних сил старается что-то скрыть.
И «обвинители» уже готовились торжествовать победу. Добить Бурцева поручили Савинкову, который заключил свое выступление, прославляющее героические подвиги Азефа, следующим патетическим пассажем:
— Я обращаюсь к вам, Владимир Львович, как к историку русского революционного движения, и прошу вас после всего, что мы рассказывали здесь о деятельности Азефа, сказать нам совершенно откровенно: есть ли в истории русского революционного движения, где были Желябовы, Гершуни, Сазоновы, и в революционных движениях других стран более блестящее имя, чем Азеф?
Вот тогда-то Бурцев и услышал от Веры Фигнер, что ему остается только пустить себе пулю в лоб, — «за то зло, которое вы причинили делу революции...».
Услышал и понял, что именно сейчас он должен выложить на стол свою последнюю, козырную карту, тайну, доверенную им совсем недавно Савинкову, который, несмотря на близость с Азефом, сумел благородно ее сохранить. Именно сейчас, ибо, если он не сделает этого, положение его станет совершенно безнадежным.
Побледнев от волнения, он встал со стула, на котором сидел, и решительно шагнул на середину комнаты.
— Товарищи, — сказал он глухо, и выражение его лица было таким, что все поняли: сейчас должно произойти нечто совершенно неожиданное.
— Товарищи, — крепнущим голосом повторил Бурцев, — у меня есть еще доказательство того, что Азеф — провокатор! И я готов привести его, но только в том случае, если получу от вас клятвенное обещание, что сказанное мною останется в стенах этой комнаты и никто не воспользуется моим рассказом иначе, как только с разрешения присутствующих здесь членов суда.
— Я считаю, что мы можем дать такое обещание, — прервал наступившее было молчание седовласый Кропоткин.
— Говорите же, Владимир Львович, — поддержал его Лопатин.
— Революционеры умеют хранить тайны, — высокомерно взглянула на Бурцева Фигнер.
— Если бы! — хотел воскликнуть Бурцев, но, поймав напряженный взгляд Савинкова, передумал.
— Дело в том, что мне придется назвать вам имя человека, которому я пообещал не делать этого.
Фигнер презрительно поморщилась: уж продолжает извиваться!
— Кто же? — издевательски спросил Натансон. — Еще один ваш дружок из Департамента полиции?
Тон его, как уже не раз до этого, заставил Бурцева дрогнуть. Словно ища поддержки, он взглянул на Савинкова: лицо того было каменным, но в глазах стыли тоска и немая мольба о пощаде. Да, Савинков знал, о чем сейчас будет говорить Бурцев, знал, кого он сейчас назовет.
Тогда, за несколько дней до суда, когда Бурцев открыл ему свою тайну, он выслушал рассказ, который ему сейчас предстояло выслушать еще раз, с откровенным неверием. И Бурцев, поняв это, был уверен, что Савинков именно потому и не передаст его рассказ Азефу, чтобы не травмировать своего кумира. Тогда Бурцев и Савинков расстались каждый при своих убеждениях откровенными, правда, уважающими друг друга, противниками. Савинков считал, что Бурцев искренне заблуждается и нужно во что бы то ни стало рассеять его заблуждения. Потому-то в отличие от Чернова и Натансона его выступления на суде были хоть и горячи, но корректны и вежливы. Но сейчас Бурцев понял, что ему все-таки удалось посеять в душе Савинкова сомнения, и теперь этот человек, именующий себя «учеником Азефа», боится, что вот-вот всплывет страшная истина, которая обрушит небеса на землю, раздавит весь мир, в котором все свои сознательные годы жил Савинков и вне которого для него теперь уже не могло быть жизни. И потому во взгляде его была невольная мольба о пощаде.
Это подхлестнуло Бурцева. И, сразу почувствовав необыкновенный прилив сил и решимости, он произнес тихо, но отчетливо:
— Я говорю об Алексее Александровиче Лопухине, бывшем директоре Департамента полиции, непосредственном начальнике Евно Фишелевича Азефа, он же, Азеф — Евгений Филиппович Раскин, Виноградов, Филипповский, Вилинский, Валуйский, Диканский, Даниельсон.
— Алексей Александрович Лопухин? — с удивлением переспросил Лопатин.
— Ну, конечно же, Бурцев продолжает свои игры! — взорвался Марк Натансон. — И опять пойдет сказка про белого бычка. Вы, как хотите, товарищи, но мне, например, давно уже все ясно, пора кончать эту бездарную комедию и принимать решение. Предлагаю голосовать за окончание суда. Кто за?
И он решительно поднял руку, взглядом требуя следовать его примеру.
— Погодите, погодите, товарищи, — прозвучал в ответ неторопливый голос Кропоткина. — Я считаю, что суд должен выслушать уважаемого Владимира Львовича. А уж какие будут сделаны выводы из его рассказа, это, надеюсь, он позволит решить нам. Не так ли, Владимир Львович?
— Я только этого и хочу, — поспешно отозвался Бурцев.
— Мы слушаем вас, Владимир Львович, — поддержал Кропоткина Лопатин. — Рассказывайте, только, ради бога, не волнуйтесь, это ведь так важно!
Натансон хотел было что-то возразить, но против мнения сразу двух таких уважаемых членов суда пойти не рискнул и лишь обменялся быстрыми и многозначительными взглядами с Черновым. Савинков тяжело вздохнул и опустил взгляд.
— Так вот, товарищи... — Бурцев откашлялся, и глубоко вздохнул, набрал воздуха полную грудь, словно готовясь погрузиться в глубокую воду. — Да, занимаясь историей русского революционного движения, я, как вам, товарищи, всем известно, всеми доступными мне способами добывал и добываю самые секретные, я бы сказал — совершенно секретные материалы, с которыми знакомлю широкую общественность на страницах журнала «Былое». Среди тех, кто, как я решил, мог бы нам быть полезен в разоблачении политических и полицейских тайн самодержавия, и бывший директор Департамента полиции Алексей Александрович Лопухин. Насколько я имел возможность его изучить, это человек умный, порядочный, интеллигентный, хотя и убежденный монархист и сторонник самодержавия. Словом — наш политический противник, но противник уважаемый. К тому же, каквы знаете, жертва грязных интриг и происков, раздирающих год за годом правительства Российской империи. Не скрою, подыскивая подходы к Лопухину, я надеялся сыграть на его обидах, на его возмущении интригами, жертвой которых он стал...
Опальный начальник Департамента полиции... конечно же, Бурцев, начав беспощадную борьбу с этим зловещим учреждением, не мог не попытаться использовать в ней и Лопухина. В 1906—1907 годах он сумел познакомиться с Лопухиным и даже несколько раз встречался с ним, будучи в Петербурге. Лопухин, оценив в Бурцеве интересного собеседника и специалиста по российскому, революционному движению конца XIX века посещал Владимира Львовича в петербургской редакции журнала «Былое». Они явно испытывали взаимные симпатии, но сколько ни пытался Бурцев осторожно навести своего собеседника на дела полицейские, Лопухин вежливо, но решительно уходил от таких разговоров. И все же встречи их продолжались. Даже когда Бурцеву пришлось бежать из России и он очутился в Финляндии, Лопухин по приглашению преследуемого полицией Владимира Львовича тайно приехал для встречи с ним в Териоки.
Расставаясь, они договорились о встрече в Германии, куда Лопухин собирался приехать летом 1908 года. Бурцев дал ему свой парижский адрес и просил обязательно написать, как только Лопухин окажется за границей. Лопухин обещал и свое обещание выполнил. Правда, письмо из-под Кельна, из курортного местечка, где отдыхал Лопухин, шло в Париж около месяца, и когда Бурцев наконец получил его, ответить и договориться о встрече было уже невозможно.
К счастью, в самый последний момент, Бурцеву удалось узнать, когда Лопухин должен был возвращаться в Россию. В тот день он приехал в Кельн, на вокзал, где, по его словам, «стал осматривать поезда, приходившие с курорта, где жил Лопухин».
Бывшего директора Департамента полиции он проследил до Восточного экспресса, шедшего через Берлин в Россию, занял место чуть ли ни в том же вагоне и, как только поезд тронулся, явился в купе Лопухина.
Лопухин, как был убежден Бурцев, нимало не удивился этой встрече.
«Лопухин прекрасно понимал, зачем я хотел его видеть и о чем я хотел его расспросить, — писал в своих воспоминаниях Владимир Львович. — Этого он не мог не понять еще из разговора со мной в Териоках. Он легко мог уклониться от встречи со мной за границей, однако он этого не сделал, и я надеялся, что в частной беседе он даст нужные мне указания насчет Азефа. Но я, конечно, понимал, что Лопухину нелегко было делать разоблачение об Азефе».
И, понимая сложность положения своего собеседника, Бурцев поначалу завел беседу на нейтральные темы, рассказывая о своей журналистско-исследовательской работе, об издательских планах «Былого» и сотрудничестве, к которому давно пытался привлечь и Лопухина, уговаривая его написать и передать для публикации свои воспоминания.
С литературно-исторических тем, которые несколько смягчили державшегося настороженно Лопухина, Бурцев перевел разговор на тему полицейской провокации вообще, а затем стал постепенно подбираться к Азефу, не называя пока его имени. Сначала надо было убедить Лопухина в том, что сам он знает о деятельности этого провокатора гораздо меньше, чем уже известно Бурцеву, и от него, Лопухина, не требуется давать какие-то дополнительные сведения об Азефе, то есть изменить делу, которому он так верно и искренне служил. Проделал Бурцев это довольно искусно.
— Что же касается страшных провалов, бывших в последние годы в эсеровской партии, — подвел итог Бурцев, — то они, Алексей Александрович, объясняются, по-моему, тем, что во главе ее Боевой Организации стоит агент-провокатор.
«Лопухин как будто не обратил внимания на эти мои слова и ничего не ответил, — вспоминал потом Владимир Львович. — Но я почувствовал, что он насторожился, ушел в себя, точно стал ждать каких-нибудь нескромных вопросов с моей стороны».
И тогда Бурцев перешел в решительное наступление.
— Позвольте мне, Алексей Александрович, рассказать вам все, что я знаю об этом агенте-провокаторе, о его деятельности как среди революционеров, так и среди охранников. Я приведу все доказательства его двойной роли. Я назову его охранные клички, его клички в революционной среде и его настоящую фамилию. Я о нем знаю все. Я долго и упорно работал над его разоблачением, и я могу с уверенностью сказать: я с ним уже покончил. Он окончательно разоблачен мною! Мне остается только сломить упорство его товарищей, но это дело короткого времени.
Лопухин не прервал разговора, не попросил Бурцева покинуть купе, и Владимир Львович понял: он выиграл!
Когда, уже после разоблачения Азефа, Лопухина судили, обвиняя в выдаче государственной тайны, он рассказывал на предварительном следствии об этом длившемся почти четыре часа разговоре с Бурцевым:
— Больше всего меня поразило то, что Бурцев знает об условных на официальном полицейском языке кличках Азефа как агента, о месте его свиданий в Петербурге с чинами политической полиции... Все это было совершенно верно.
Но тогда, в вагоне Восточного экспресса, Лопухин продолжал держаться невозмутимо и не проявлял видимого интереса к рассказу горячившегося Бурцева. Он умел быть хладнокровным и скрывать свои чувства, как истинный аристократ.
Теперь Бурцева не перебивали ни судьи, ни обвинители. Он продолжал свой рассказ в гробовом молчании присутствующих, отмечая про себя то ненависть, с которой смотрит на него Натансон, то жгучее презрение в глазах Чернова, то боль, искажающую лицо Савинкова.
Вера Фигнер нервно барабанила пальцами по ломберному столику, стоящему перед нею, Кропоткин, казалось, дремлет, прикрыл глаза холеной ладонью, и только Лопатин слушал, как ребенок, приоткрыв от волнения рот и откровенно сопереживая рассказу Бурцева.
— Я приводил Алексею Александровичу все новые и новые доказательства того, что мне известно об Азефе и его работе на полицию буквально все, — рассказывал Бурцев. — Он слушал меня, не перебивая, и по его молчанию я понимал, что он знает, о ком идет речь. Однако после каждого моего доказательства я задавал ему один и тот же вопрос:
— Если позволите, я вам назову настоящую фамилию этого агента. Вы скажете только одно: да или нет?
Но Лопухин молчал, хотя и не прерывал меня, и я видел, что интерес к моему рассказу у него все время возрастал.
...Поезд скоро должен был прибыть в Берлин, где Бурцеву предстояло, по его плану, сойти, он мог бы уже удовольствоваться молчанием бывшего директора Департамента полиции, как косвенным подтверждением предательства Азефа. Но было бы это достаточным доказательством для судей, перед которыми Владимиру Львовичу предстояло предстать по собственной воле и благодаря собственной настойчивости?
И тогда он решил разыграть свою последнюю карту — последнюю надежду на то, что ему удастся вырвать у Лопухина прямое подтверждение роли Азефа.
— Позвольте мне рассказать вам еще одну подробность о деятельности этого агента, — понизил голос Бурцев, доверительно приблизив лицо к лицу собеседника, словно собираясь сообщить нечто сверхважное.
— Пожалуйста, пожалуйста, — с готовностью откликнулся Лопухин, явно заинтригованный.
И тогда Бурцев стал рассказывать, как было организовано убийство Плеве и кто его организовал. При этом впервые за четыре часа их беседы было названо имя — Азеф!
Лопухин изумленно отшатнулся от Бурцева, на лице его отразилось недоверие.
— И вы уверены, что этот агент знал о приготовлении к убийству Плеве? — почти выдохнул он.
— Не только знал, — уверенно продолжал Бурцев, — но был главным организатором этого убийства. Ничто в этом деле не было сделано без его ведома и согласия. Он три раза приезжал для этого дела в Петербург и осматривал позиции, занятые революционерами. Это он непосредственно руководил Сазоновым.
— Но откуда вам все это известно, Владимир Львович? — все еще не хотел верить услышанному Ло-пухин.
— Вы, Алексей Александрович, конечно же, знаете Савинкова и его близость к Азефу? — не отступал Бурцев. — Так вот, он сообщил мне все это в одном из наших разговоров. Не верить ему в таком деле я считаю невозможным!
Лопухин опустил голову. А Бурцев начал рассказ о роли Азефа в убийстве великого князя Сергея Александровича, о руководимой им охоте боевиков на царя и великого князя Николая Николаевича.
Лопухин, подавленный обилием фактов, обрушенных на него собеседником, уже не мог не верить рассказу Бурцева. Но главное было то, что со смертью Плеве рухнула и вся карьера его протеже — Лопухина. Рачковский, Трепов и другие позаботились о том, чтобы директора Департамента полиции отправили в отставку. И выходило так, что сделано это было с помощью Азефа: убийство Плеве лишило Лопухина высокого покровительства, а убийство великого князя Сергея Александровича послужило непосредственным поводом для того, чтобы разгневанный царь выразил директору Департамента недовольство его работой. За этим же последовало неизбежное в подобных ситуациях — отставка!
Ярость охватила Лопухина: ведь его врагам помогал Азеф, тот самый, которого они с Плеве так поддерживали и на которого так надеялись, которому так хорошо платили... А этот мерзавец предавал не только революционеров полиции и полицию революционерам, но и своих благодетелей их врагам-интриганам! Нет, дольше Лопухин не мог отмалчиваться: предатель должен получить по заслугам и за все сразу! И если он, Лопухин, рассчитаться с ним бессилен, пусть это сделают революционеры!
— Вы, будучи директором Департамента полиции, не могли не знать этого провокатора, — продолжал звучать взволнованный голос Бурцева. — В Департаменте полиции он был известен, как Раскин, Виноградов, были у него и другие клички. Как видите, я его теперь окончательно разоблачил, и я еще раз хочу попросить вас, Алексей Александрович, позвольте сказать вам, кто скрывается под псевдонимом Раскина?
— Никакого Раскина я не знаю, а инженера Евно Азефа я видел несколько раз!
И громко повторив перед судьями эту фразу, произнесенную Лопухиным, Бурцев, словно стараясь смягчить удар, наносимый им эсерам, добавил:
— Когда я рассказал обо всем этом за несколько дней до начала суда Савинкову, то услышал от Бориса Викторовича:
— Лопухин лжет! Он подослан к вам! Ему надо скомпрометировать вас и выслужиться! Азеф выше всех обвинений Лопухина!
И опять я возвращаюсь к воспоминаниям Бурцева, к тому, как он описывает этот момент, самый драматический в своей жизни и роковой для Азефа, положивший конец пути, пройденному сыном местечкового портного к вершинам богатства и власти над людьми.
«...все враз заговорили и встали со своих мест.
Взволнованный Лопатин со слезами на глазах подошел ко мне, положил руку мне на плечи и сказал:
— Львович! Дайте честное слово революционера, что вы слышали эти слова от Лопухина...»
Все это произошло в первый же день работы суда, но понадобился еще почти целый месяц допросов Бурцева и представленных им свидетелей, чтобы принять решение. В ходе заседаний припоминалось, что еще в 1903 году Крестьянинов сообщал в ЦК ПСР, что Азеф — провокатор. Сообщения об этом поступали и в 1905 году (письмо Меньшикова об Азефе и Татарове, письмо от саратовских революционеров). Выяснилось: в ЦК знали, что Азеф был в 1906 году арестован и через несколько дней почему-то очутился на свободе. Но когда Бурцев напоминал об этом, Натансон и Чернов всячески старались его дискредитировать и обвинить в провокаторстве. Один драматический момент сменялся другим, но Бурцев твердо стоял на своем. Отвечая на патетический вопрос Савинкова, знает ли он «в освободительном движении других стран более блестящее имя, чем Азеф», Бурцев, научившийся за целый месяц судебных заседаний держать себя в руках, твердо и решительно ответил:
— Нет! Я не знаю в русском революционном движении ни одного более блестящего имени, чем Азеф. Его имя и деятельность более блестящие, чем имена и деятельность Желябова, Сазонова, Гершуни, но только... под одним условием, если он — честный революционер. Но я убежден, что он — провокатор, агент полиции и величайший негодяй! — И, помолчав, добавил: — Вот, товарищи, какое положение! Мы с вами горячо несколько недель подряд рассуждаем о том, первый ли человек в революционном движении Азеф или это первый негодяй, и не можем убедить друг друга, кто из нас прав! Что касается меня, то я по-прежнему твердо убежден, что прав я: Азеф — провокатор!
В конце концов было решено сделать в заседаниях перерыв. От имени судей Кропоткин объявил о необходимости тщательно проверить рассказ Лопухина. Решили поручить проверку Аргунову как одному из самых уважаемых членов ПСР.
Все это время Азеф, что называется, кружил вокруг суда. Нет, он не являлся на него и даже демонстративно уехал из Парижа в Пиренеи, где находились его жена и дети, заявив, что хочет отдохнуть, восстановить силы и ему, конечно же, «противно купаться в грязи, которую поднимает Бурцев». Демонстрируя товарищам по партии оскорбленную невинность, он даже прервал на время сладостный роман с госпожой Н., с которой последние несколько месяцев проводил время в кутежах по различным европейским столицам, осыпая расчетливую алчную диву кафешантана богатыми подарками и драгоценностями, приобретенными на деньги из партийной казны. Но обвинители Бурцева явно держали Азефа в курсе всего, что происходило на суде, и по мере того, как развивалось дело, нервы его сдавали, сдавали...
Любовь Григорьевпа Менкина (Азеф) рассказывала потом Судебно-следственной комиссии ПСР:
«...может быть, у него тогда уже было очень такое подозрительное отношение ко мне, он боялся меня. Он думал, может быть, что я что-нибудь знаю и что я хочу его убить, что ли. Что-нибудь в этом роде.
Ночью спрашивает — ты не спишь? Почему ты не спишь?
Подойдешь к нему, он с ужасом вскакивает, иногда с ним были будто бы припадки.
...знал, что если я что-нибудь узнаю, то я действительно могу что-нибудь подстроить. Он страшно пугался тогда... очевидно, что на самом деле боялся, что они могут его убить...»
Но это было уже к концу судебных заседаний, продолжавшихся почти весь октябрь. В первые же дни Азеф был абсолютно уверен, что «грязная процедура судебного разбирательства» завершится очень быстро и его полным триумфом. Он знал, что на 7 октября назначен царский смотр на «Рюрике», что Авдеев и Каптелович убьют царя — и тогда уже никто не посмеет поверить ни единому слову обвинений, выдвигаемых Бурцевым, тем более, что у Азефа было «предсмертное письмо Авдеева и его фото, доказательства организаторской роли Азефа в этом деле. Но смотр состоялся, а цареубийство — нет.
Есть разные версии того, почему ни Каптелович, ни Авдеев не стреляли в царя, хотя были с ним совсем рядом, а один из них даже подал Николаю II бокал шампанского. Но так или иначе надежды Азефа рухнули. Не могла избавить его от животного страха и реакция на происходящее верных членов БО. Карпович, например, пригрозил, что если с головы Азефа упадет хоть один волос, он лично перестреляет и судей и весь ЦК. Товарищ Белла (Эсфирь Лапина) угрожала Бурцеву. Она верила в Азефа до такой степени, что после того, как он был окончательно разоблачен, застрелилась.
И что из того, что Аргунов, выделенный для расследования «рассказа Лопухина», написал перед отъездом в Петербург дружеское письмо Азефу, в котором не скрывал, что считает его невиновным — ужас буквально душил Азефа, лишая его способности принимать правильные решения. Он бросил все и в панике помчался в Россию, чтобы, опередив Аргунова, заставить замолчать Лопухина с помощью Герасимова. Из этого, как мы знаем, ничего не получилось, Аргунов получил возможность встречаться с Лопухиным.
«Вечером 18 ноября, — вспоминал он, — я был у Л.
Явился Лопухин. Нас познакомили. Я жадно впился в эту фигуру. Передо мною стоял человек, мало напоминающий полицейского. Скорее, это дворянин-помещик, не лишенный во внешних манерах, голосе, жестах интеллигентности. Первые мои впечатления от Лопухина были в его пользу, и они все росли в эту сторону помимо моей воли и вопреки рассудку по мере того, как шло наше свидание. Только глаза Лопухина не мирили меня с ним — серые, холодные глаза, столь обычные у прокуроров, бюрократов, сановников. Но и эти неприятные глаза не были глазами полицейского, жандарма, сыщика. Они не бегали, не щурились, а смотрели прямо и выдерживали мой упорный, пристальный взгляд. Казалось — они не лгали.
Держался Лопухин свободно, просто. Говорил не торопясь, излагал факты в том виде, как они ему приходили на память, делая дополнения и отвечая на все вопросы без интервалов, которые могли бы навести на мысль, что он явился с подготовкой, с определенными планами.
Я слушал молча, не прерывая Лопухина. Развертывающаяся картина азефовщины давила на мозг своей тяжестью. Хотелось поймать рассказчика на одном каком-нибудь фальшивом пункте, чтобы, ухватившись за него, отбросить всю эту мистификацию, всю хитроумную сеть его доказательств. Но я не находил ни одной фальшивой ноты в его изложении, ни одной несообразности, нелепости.
Все дышало правдой. Я попросил его описать фигуру Азефа. Лопухин несколькими штрихами обрисовал все характерные особенности Азефа: его толстые губы, скуластое лицо, уши, нос, отметил его манеру сидеть, вобрав голову в плечи; даже отдельные части туалета...»
Следует добавить ко всему этому, что встреча с Аргуновым хоть и не была для Лопухина неожиданной, о теме предстоящей беседы ему заранее ничего известно не было. И другое: как видно из воспоминаний Аргунова, Лопухин вызвал в нем определенную симпатию, несмотря на то, что именно в бытность Алексея Александровича директором Департамента полиции Аргунов был арестован и осужден на восьмилетнюю ссылку в Сибирь.
Не успел Аргунов покинуть Петербург, как появилось уже известное нам письмо Лопухина Столыпину, рассказывающее о визите к нему Азефа (11 ноября — Азеф все-таки опередил Аргунова) и Герасимова (21 ноября). Письмо это стало известно эсерам и явилось еще одной уликой против Азефа. Кроме того, Лопухин согласился приехать в Лондон, чтобы повторить свои показания перед членами третейского суда, перед которыми уже выступал Бурцев.
В Лондоне, в «Уолдорф отеле» и состоялась в начале декабря 1908 года встреча Лопухина с тремя представителями эсеров — с Аргуновым, Савинковым и Черновым, в ходе которой к своим прежним показаниям он добавил и рассказ о том, как явившийся из Парижа в Петербург Азеф уговаривал его ничего не сообщать приезжающему для расследования Аргунову. Лопухин точно назвал дату своей встречи с Азефом — 11 ноября.
К этому моменту было уже известно, что Азеф, живший в Париже, где-то пропадал с 9 по 13 ноября, а так-же что его видели у дома, где, как было известно, живет «на покое» Ратаев, продолжающий поддерживать связи с Департаментом полиции в качестве «частного лица».
Бурцев настаивал, чтобы от Азефа потребовали по этому поводу объяснений, что и было сделано.
— Да, — признался Азеф, — я уезжал на несколько дней из Парижа. Мне надоела вся эта канитель, и я не хочу больше работать в партии. Я решил найти себе службу по специальности, я — инженер, к тому же на партийные деньги прожить невозможно.
И он рассказал, что ездил в Мюнхен и Берлин, чтобы встретиться с представителями некоторых компаний, с которыми намерен начать переговоры о поступлении к ним на службу. Компании эти он не назвал, так как, по его словам, если эсеры явятся к их директорам и начнут наводить о нем справки, это вызовет нездоровый интерес к его персоне и он не получит работу.
Представил он и доказательства того, что жил три дня в Берлине — счет из гостиницы, владельцем которой был некий русский подданный по фамилии Черномордик.
Отель был подозрительный, но Азеф, по его словам, поселился в нем потому, что там было на две марки дешевле, чем в немецком отеле, в котором он сначала было остановился. Представил он и счета от Черномордика, свидетельствующие, что в этом же «русском» отеле он и питался все три дня, проведенные в Берлине.
Всерьез «алиби» Азефа принять было невозможно: все слишком хорошо знали его привычки останавливаться лишь в роскошных отелях, не считаясь с расходами, и никогда не брать счетов. Когда же всерьез занялись счетами от Черномордика, то установили, что обеспечил ими Азефа Департамент полиции, давно уже использовавший дешевый «русский» отель в работе своей заграничной агентуры.
Развязка приближалась. Ни о каком продолжении суда над Бурцевым теперь, разумеется, не могло быть и речи. Надо было решать, что же делать с Азефом, в невиновность которого продолжали верить его боевики и многие члены ЦК, которые были не в курсе представленных Бурцевым и Лопухиным доказательств предательства Ивана Николаевича. Участники же третейского суда не могли оправиться от шока, буквально парализовавшего их способности к действию.
Не в лучшем состоянии находился и Азеф, понимавший, что для него теперь все кончено. Да, его товарищи по партии, друзья, не верившие слухам, просачивавшимся из «зала суда», еще по-прежнему навещали его, ободряли, приглашали на прогулки, и Азеф цеплялся за все это, как за надежду, что ему, всю жизнь ловко выворачивавшемуся из не менее сложных ситуаций, удастся вывернуться и на этот раз, что подвернется какой-нибудь счастливый случай... Но с каждым днем ему становилось все яснее, что конец приближается, конец всему, к чему он стремился всю свою жизнь, ради чего он и жил, преступив все нормы человеческой морали. Он уходил по вечерам из дома и метался по парижским улицам до глубокой ночи, гонимый животным страхом и отчаянием загнанного зверя.
Когда ничего не подозревавшая жена пыталась робко заговорить с ним, орал на нее со зверски перекошенным лицом:
— Молчи! Ты ничего не понимаешь!
А однажды, как вспоминала Любовь Григорьевна, у него вырвалось с искренним отчаянием:
— Когда уж наконец это случится!
Одну из последних встреч Азефа с бывшими друзьями и товарищами по партии она описывает с подлинным драматизмом:
«...Они приходили, между прочим, за несколько дней до его побега, и когда мы сидели и обедали, он ничего не ел, а на глазах у него были слезы, то есть он прямо-таки плакал, но так, что они не видели этого. Потом, когда все ушли в другую комнату, он мне говорил, что «я их не могу никого видеть».
Узнав самой последней, что ее муж провокатор в партии, Любовь Григорьевна впоследствии считала, что в тот вечер Азефа допрашивали.
«...в то время, как они его допрашивали, я сидела в соседней комнате и ничего не знала... — рассказывала она Судебно-следственной комиссии ПСР. — До меня долетали отдельные слова, но я ничего не могла разобрать».
Рассказывала она и о странной, на ее взгляд, нелогичности в поступках Азефа в те критические для него дни. Он, готовясь к побегу, решил заранее переехать из дома в отель и перевезти туда же свои вещи.
«...B такой момент, — поражалась Любовь Григорьевна, — человек забирает — это ведь было зимой, не забудьте — свой костюм для лаун-тенниса, летний костюм. Это было что-то такое ужасно нелепое, дикое. Он даже хотел забрать свой ящик с вещами, он ему всегда очень нравился... Я тогда ничего не знала, но он уж тогда, очевидно, думал уехать. А затем побег его...»
Лишь 5 января 1909 года ЦК ПСР решился собрать наиболее видных членов партии, чтобы изложить все то, что произошло, и задать вопрос: что делать с Азефом?
Разговор был тяжелый. Четверо из восемнадцати участников совещания (Зензинов, Прокофьев, Савинков и Слетов) потребовали немедленно казнить предателя. Натансон заявил, что все еще надеется на оправдание Азефа, остальные колебались. В конце концов было решено отправить к Азефу для «последнего допроса» трех делегатов — Чернова, Савинкова и боевика Попова. Зная горячий нрав всех троих, им запретили брать с собою оружие, боялись, что над Азефом может быть учинен самосуд.
Одновременно Аргунову было поручено отправиться куда-нибудь в провинцию, где можно будет снять виллу для суда над Азефом. Такую виллу он подыскивал на границе между Швейцарией и Италией, на берегу Луганского озера. Прихватил он с собой и веревку для Азефа, которую, по его словам, «спокойно собирался накинуть на его жилистую шею...».
«...B тот день, в 7 часов вечера, когда был допрос, — рассказывала Любовь Григорьевна Азеф-Менкина, — его не было дома. Целый день. Затем он пришел, а через полчаса пропел звонок. Приходят Ал, Аз и Николай. (Чернов, Савинков и Попов).
Когда он увидел их, он страшно пожелтел. Он вышел на кухню взять воды, и когда я увидела, что он такой желтый, я его спрашиваю: «Почему ты так пожелтел?» Он говорит: «Это тебе так показалось».
Любовь Григорьевна утверждала, что не слышала разговора своего мужа с пришедшими, ее выставили в соседнюю комнату, и лишь иногда до нее доносились отдельные фразы и слова, из которых было трудно что-либо понять о происходящем.
А пришедшие, двое из которых еще недавно выступали на третейском суде против Бурцева и с пеной у рта защищали своего героического Ивана Николаевича, настроены были решительно и не скрывали этого. Отворив дверь и впустив их в квартиру, Азеф пожелтел от ужаса. Ведь точно так по его приказу был убит Татаров — в собственном доме — на глазах у отца и матери. И хотя он наверняка уже знал, что Чернов, Савинков и Попов были направлены к нему лишь для «последнего допроса», он знал и горячность Чернова, и решительность Савинкова и революционный идеализм Попова — любой из них мог разрядить сейчас в него браунинг. И Азефу было отчего пожелтеть. Но уже после первых нескольких фраз он понял, что стрелять в него никто не будет. Наоборот, во взгляде Чернова он заметил почти сочувствие, а на лице Попова явно читалась неловкость. Зато лицо Савинкова было каменным, слова он цедил сквозь зубы, и глаза казались свинцово-ледяными. Он смотрел на Азефа так, будто тот сидел перед ним на скамье подсудимых и задавал точно рассчитанные вопросы, словно вколачивал гвозди в строящуюся виселицу. И тут впервые в жизни Азеф почувствовал, что теряет волю, что не он, как бывало прежде, подчиняет себе собеседника, а сам подчиняется ему, не в силах собраться и противостоять чужой гипнотической силе.
И уже через несколько минут разговора (допроса!) он стал сбиваться и путаться в ответах, и прижатый вопросами Санникова к стене, в конце концов в отчаянии воскликнул:
— Я не могу сейчас продолжать этот разговор, не могу давать удовлетворительные ответы на ваши вопросы! Да, обстоятельства против меня, и я чувствую себя как во враждебном лагере, вы все, все против меня!
Он метался по комнате под взглядами не спускавших с него глаз бывших товарищей по партии, и лица их все больше и больше мрачнели.
— Виктор! — резко остановился он вдруг перед Черновым. — Мы жили столько лет душа в душу. Мы работали вместе. Ты меня знаешь... Как мог ты прийти ко мне с таким... с таким гадким подозрением?
— Да, мы много лет были с тобой друзьями, — опустил глаза Чернов. — И мне сейчас тяжелее, чем другим товарищам. Но... — Он вдруг вскинул голову, и на лице его отразилась надежда: — Ты знаешь, в революционном движении оступались многие. Но когда они раскаивались — вспомни Дегаева — и приходили с повинной, им давали возможность искупить вину и потом уйти из революции, скрыться с глаз долой. Мы можем, я думаю, дать тебе такой шанс, Иван Николаевич...
— Но для этого надо, во-первых, раскаяться, а во-вторых, доказать свое раскаяние, искренне сообщив о своих связях с полицией, раскрыв всю глубину своего падения!
Сказав это, Савинков перевел взгляд на Попова, одного из тех, кто до самого последнего момента не верил в предательство Азефа и был приглашен сюда в качестве полномочного представителя тех боевиков, которые продолжали выступать на стороне своего «генерала».
На лице Азефа отразилось замешательство. Он уже сумел собраться и должен был принять мгновенное решение. Действительно ли партия дает ему шанс сохранить жизнь? Ведь его разоблачение — это прежде всего удар по партии! Да, Дегаеву жизнь сохранили, как и никоторым другим отступникам, пошедшим на сотрудничество с полицией, но потом раскаявшимся... А если сказанное Черновым — ловушка? Если у эсеров все же нет твердых доказательств против него? Тогда единственным таким доказательством станут его собственные признания? И тогда, если даже ЦК решит дать ему возможность уйти со сцены без скандала, все равно объявится какой-нибудь фанатик вроде Савинкова или Карповича, который найдет возможность пристрелить его, как бешеную собаку!
— Мне не в чем раскаиваться! — с возмущением отрезал Азеф. — За меня говорит вся моя жизнь. И если бы цареубийство, которое я организовывал на «Рюрике», совершенно случайно не сорвалось, вы бы сейчас разговаривали со мною по-другому!
— В таком случае... — Савинков встал, и его примеру последовали его товарищи. — Мы уходим, но вынуждены поставить вам, Иван Николаевич, условие: завтра явиться к полудню на квартиру к Чернову.
Чернов и Попов в знак согласия разом кивнули.
— Вы даете слово? — холодно продолжал Савинков.
— Даю! — выдохнул Азеф. — К этому времени я успокоюсь, и мы можем продолжать наш разговор в нормальной обстановке...
Страх, терзавший его все это время, исчез: самое главное, его не убили сейчас, на месте, а это значит — игра продолжается, а значит, есть шанс и на выигрыш.
«Уходя, не подали руки», — поражалась потом в показаниях Судсбно-следствеипой комиссии ЦК ПСР Любовь Григорьевна.
— Зачем они приходили? — встревоженно спросила она мужа, как только за ушедшими закрылась дверь.
— Там им что-то неясно в связи с моей поездкой в Берлин, — почти весело ответил Азеф.
— Что же в этом может быть неясное? — искренне удивилась Любовь Григорьевна.
— Да вот... Они думают, что я был не в Берлине, а в Париже, у Ратаева. Кому-то показалось, что меня видели возле его дома.
— Но ты же мог сказать им, что был у директора «Алгемайне Электриститетс Гессельгаафтс», договаривался с ним о службе?
— И тогда бы не видать мне этой службы как собственных ушей. И вообще, отстань от меня. Замолчи! Ты ни черта не понимаешь и не лезь не в свои дела!
Лицо его перекосилось от злобы, и он заметался по квартире, хватая то заранее приготовленные баулы, то какие-то случайные вещи, попадающиеся под руки. Потом успокоился, прошел к своему письменному столу и стал лихорадочно просматривать бумаги, которые доставал из ящиков. Одни из них бросал в баул, другие оставлял на столе. Затем тщательно просмотрел оставленное на столе, кое-что порвал, сунул в топку печки-голландки и поджег, в баул сунул чертежи летательного аппарата инженера Бухало, письма от друзей по партии, письма Сазонова из Шлиссельбурга, а «предсмертное» письмо матроса Авдеева, так и не выстрелившего в царя на «Рюрике», положил посредине стола как доказательство того, что цареубийство он готовил всерьез.
Было полчетвертого ночи 6 января 1909 года.
— Мне нужно срочно уехать, — сказал он молчаливо следящей за его действиями жене. — У тебя есть деньги?
— Пятьсот франков, — все еще не понимая, что происходит, тихо отозвалась она.
— Дай мне триста... На первое время хватит.
И, поймав ее печальный, полный недоумения взгляд, взорвался:
— Да пойми же ты наконец, меня оклеветали и травят. Я должен уехать, чтобы успокоиться и очиститься от всей этой грязи, которую вывалила на меня полиция с помощью негодяя Бурцева. Мне нужно собрать доказательства своей невиновности и подготовиться к оправдательному суду партии!
Он бросился в переднюю и стал одеваться.
— Можно я провожу тебя? — робко последовала за мужем Любовь Григорьевна.
Он безразлично пожал плечами, и она тоже стала одеваться.
«...Мы вышли на улицу, — рассказывается в протоколе ее допроса Судебно-следственной комиссией. — Он даже не посмотрел на ребят... «Да, — говорил он мне потом, — я не хотел бы, чтобы мои дети были революционерами!»
«...И вот мы с ним всю ночь, до самого утра бродили по улицам... Это был такой ужас... Он был прямо-таки противен, ужасно неприятен!
Какой-то страшный жалкий вид... все время он оглядывался по сторонам и все боялся, что за ним следят... Он уже успел перед этим из гостиницы отправить свои вещи на вокзал Сен-Лазар.
И вот мы гуляем, и он мне говорит, что «мне бы только отсюда выбраться!». Я говорю: «Что это значит, почему ты считаешь свое положение таким ужасным?» — «Да, — говорит, — мне бы только выбраться отсюда, тогда мне наплевать на все, а вот твое положение действительно ужасное». Это было все, что он мог сказать мне, больше он ничего не сказал. Я так и не понимаю, почему мое положение казалось ему таким ужасным.
И вот он так все ходил и оглядывался, потом зашел в маленький кабачок на Монмартре, когда вышли оттуда, сели на извозчика, и он все оглядывался по сторонам, смотрел, не следят ли за ним. Приехали на вокзал. На вокзале, кроме сторожа, никого не было, только один сторож-француз подметал вокзал, но он и его боялся. Это было в 5 часов утра. Я пошла домой, а он поехал в Бордо».
На следующий день, после того как Азеф не явился в назначенный час на квартиру Чернова, на берег Луганского озера Аргунову пришла телеграмма: «Все кончено».
Это означало, что Азеф бежал, и ни суда, ни казни его не состоится.
Любовь Григорьевна утверждала на следствии, что ее супруг уехал в Бордо. Но, как потом выяснилось, писать он просил ему по адресу: «Вена, до востребования». Любовь Григорьевна отправила по этому адресу письмо на следующий же день. Она умоляла супруга как можно скорее собрать «оправдательные документы»; по ее словам, «положение становится совершенно невыносимым, так как самые преданные друзья» начинают сомневаться и смотреть на нее с недоверием и даже подозрением».
А разоблаченный провокатор в тот же день писал свой последний донос в Департамент полиции, сообщая о роли, которую сыграл в его разоблачении Лопухин. Алексей Александрович стал его последней жертвой: он был отдан под суд и приговорен к каторжным работам за разглашение государственной тайны.
Донос на него Азеф писал в тихом германском городке, наслаждаясь гостеприимством матери госпожи Н. и ласками обретшей теперь добропорядочность бывшей кафешантанной звезды. С этого времени он звался уже не Евно Фишелевичем Азефом, не Евгением Филипповичем Раскиным, а купцом Александром Неймайером. Паспорт ему «выправил» Александр Васильевич Герасимов, который в качестве еще одной последней услуги своему бывшему сотруднику отправил за решетку Лопухина.
Кроме этого паспорта, Герасимов снабдил Азефа и еще несколькими — на разные имена. Именно с этими документами Евно Фишелевич и отправился в длительное «свадебное путешествие» с госпожой Н.: Италия, Греция, Египет, отдых на островах в Эгейском море, плавание по Нилу, пирамида Хеопса, Колизей... А затем, чтобы отдохнуть от летней жары, — Северная Европа: Швеция, Норвегия, Дания. Денег «молодые» не жалели: самые дорогие билеты на поезд и пароход, самые дорогие отели и рестораны, самые роскошные портные.
И все же это больше походило на паническое бегство: Азеф метался по городам и странам, заметая следы и изменив, как мог, свою внешность — отпустил мягкую бородку, не останавливался в отелях, в которых в списке постояльцев числился хоть один русский. — Он знал, что эсеры ведут на него настоящую охоту: в эмигрантских кафе и столовых расклеены листовки с фотографиями и описаниями его внешности. Газеты публиковали сообщения о разразившемся в России скандале: депутаты Думы внесли запрос правительству о содействии Департамента полиции уголовным преступлениям, совершенным агентом полиции Евно Фишелевичем Азефом.
На запрос депутатов отвечал сам Столыпин, решительно взявший под защиту и Департамент и его агента, которого в своей речи он назвал «сотрудником правительства».
Эсеры созвали специальную Судебно-следственную ко-миссию, которой было поручено разобраться, как могла появиться «азефовщина».
Любовь Григорьевна Менкина, уже обратившаяся к раввину, чтобы оформить развод с мужем, активно с ней сотрудничала. Еще до начала работы комиссии она обратилась в ЦК ПСР с просьбой обелить ее имя и с заявлением, что ничего о делах своего мужа никогда не знала и ни в чем ему не помогала. Она сообщила Юрьеву (Зензинову), что Азеф время от времени пишет ей, указывая каждый раз разные обратные адреса. В письмах этих Азеф по-прежнему старается оправдаться и если что и признает, то только то, что совершил в молодости «по глупости» какую-то маленькую ошибку, которую мог бы исправить, да вот не сумел. Читая письма, полные любви к ней самой и детям, и даже со следами «слез» на чернильных строчках, Любовь Григорьевна и подумать не могла, что в это время ее «любящий и заботливый» муж наслаждается обществом госпожи Н., бывшей любовницы сразу двух великих князей, и что живет в роскоши и богатстве в Берлине, в роскошной шестикомнатной квартире, удачлив в игре на бирже и ведет светскую жизнь в избранном берлинском обществе, азартно играет в преферанс и... угощает гостей-немцев чаем из экзотического русского самовара.
Да и откуда быть бедности? По некоторым подсчетам, Азеф «заработал», посасывая, как ласковое дитя, сразу «двух маток», около четверти миллиона германских марок — сумму по тем временам достаточно солидную.
Узнав о письмах Азефа супруге, не имеющей возможности развестись с ним в его отсутствие, Чернов предложил Любови Григорьевне заманить летом — осенью 1909 года беглого супруга в ловушку и расправиться с ним. Она, по словам Чернова, «дала полное согласие». Но уже в январе 1910 года Чернов написал Юрьеву (Зензинову) о полной «неудаче этого дела».
Юрьев же в ответ ему писал:
«Полагаю, что формальная ответственность за поимку или непоимку Азефа падает на новый ЦК, выбранный на 5-м съезде партии, в чем он (Зензинов. — Е. К.) представит отчет лишь полномочному партийному собранию».
Из этого можно сделать вывод, что Чернов упрекает Юрьева (Зензинова) в неудаче операции по захвату Азефа, который действительно оказался для эсеров неуловимым, хотя они и договорились о помощи в охоте на него даже с Карлом Либкнехтом.
Правда, неутомимому Бурцеву однажды все-таки удалось встретиться с Азефом и побеседовать с ним в одном из германских кафе.
Азеф не питал, судя по рассказу Бурцева, ни обиды, ни злобы к своему разоблачителю.
— Эх, Владимир Львович, — говорил он Бурцеву с искренним сожалением:
— А ведь если бы вы меня не разоблачили, я бы все равно наверняка бы убил царя,..
Сообщил ли Бурцев эсерам, гоняющимся по всей Европе за тенью «генерала БО» какие-нибудь данные, выводящие на след провокатора? Вряд ли! Ведь Азеф — Александр Неймайер — продолжал спокойно жить и процветать в Берлине до самого начала первой мировой войны, когда он был арестован германской полицией по подозрению в шпионаже в пользу России и оказался в тюрьме. Правда, ему довольно скоро удалось доказать немцам, что он всю жизнь боролся против русского правительства.
Тогда ему был предложен перевод из-за решетки в лагерь для интернированных российских подданных. Однако германская бюрократия требовала, чтобы он был помещен в лагерь под его настоящей фамилией...
Азеф предпочел остаться в тюрьме, тем более, что условия ему были созданы за решеткой более чем сносные: свидания и переписка с госпожой Н., которой он писал любовные письма, густо сдобренные отводящим душу матом (в латинском написании), возможность покидать камеру и гулять по берлинским улицам. А к концу войны он и вообще перебрался в тюремную больницу, откуда руководил коммерческой деятельностью госпожи Н., открывшей корсетную мастерскую и занявшейся по его подсказкам биржевыми операциями. Судя по некоторым предположениям, помогал он советами и подсказками и германским спецслужбам. Во всяком случае, после освобождения в конце 1917 года из заключения он был взят на работу в министерство иностранных дел Германии...
— Герр Неймайер? — сидящая за столиком в начале больничного коридора сестра милосердия подняла взгляд на стоящую перед ней красивую, хорошо одетую даму. — Он очень плох, фрау, но если вы его близкая родственница, то...
— Я его жена, фрейлейн.
— Тогда позвольте я провожу вас к нему...
Войдя в палату, госпожа Н. брезгливо подернула носом — в небольшой неуютной комнате с голыми, крашенными белой масляной краской стенами пахло тем специфически больничным запахом, который трудно описать словами — нечто химическое в смеси с тяжелым, спертым воздухом и запахом человеческого тела.
Посреди палаты стояла высокая железная кровать, крашенная все той же белой больничной краской, а на ней возвышалась человеческая груда, прикрытая серым казенным одеялом.
Азеф был без сознания. Госпожа Н. тихо смотрела на его желтое оплывшее лицо с дряблыми отечными мешками под плотно закрытыми глазами и нервно нюхала крепко надушенный платок, пытаясь спастись от запаха смерти, который, казалось ей, наполнял сейчас все вокруг.
Неожиданно веки умирающего дрогнули и тяжело приоткрылись. Взгляд мутных глаз остановился на холеном лице госпожи Н.
— Ты? — почти простонал Азеф. — Хорошо, что ты пришла.
— Как ты себя чувствуешь, милый? — Госпожа Н. постаралась вложить в этот вопрос всю нежность, которую ей удалось найти в своей душе.
— Как идут дела... в твоей мастерской? — с трудом, морщась от боли, процедил сквозь зубы Азеф.
— Идут, — выдохнула госпожа Н., поднося к глазам платок.
— Не делай корсеты больших размеров. Наступают тяжелые, голодные времена... Дамы будут худеть... — Глаза его закрылись, потом приоткрылись опять: — Я сделал глупость, вложив все мои деньги в русские ценные бумаги, — прошептал он. — Война и революция обесценили их... Мы все потеряли. Все зря... Я опять нищ. Нищ, как в самом начале. Нищ...
Это был уже бред. Евно Фишелевич Азеф, «Великий провокатор», как назвал его один из известных в те годы политических журналистов, скончался от болезни почек в берлинской больнице в 4 часа пополудни 24 апреля 1918 года, пробыв на больничной койке всего несколько дней. Кончилась жизнь, которая была чернее самой черной ночи, залитая грязью и кровью.
26 апреля он был похоронен по второму разряду на кладбище в Вильмерсдорфе (Берлин). Кроме госпожи Н., за гробом никто не шел. На обнесенной оградой могиле не было поставлено ни памятника, ни даже могильного камня. Только две туи, куст шиповника, да табличка с кладбищенским номером — 446.
Госпожа Н., заботливо ухаживавшая за могилой, так объяснила это одному из русских эмигрантов, написавшему книгу об Азефе:
— Знаете, здесь сейчас так много русских, часто ходят и сюда... Вот видите, рядом тоже русские лежат. Кто-нибудь прочтет, вспомнит старое, — могут выйти неприятности... Лучше не надо...
Это было сказано весной 1925 года.
* * *
...Я поставил последнюю точку и задумался. Вот и окончен мой труд, выполнено обещание, данное Льву Александровичу Никольскому в далеком теперь от меня Бейруте. Работая над книгой, я окунулся в чужую жизнь и попытался пройти ее со ступеньки на ступеньку. Да, это была жизнь алчного мерзавца, и в то же время Азеф — фигура глубоко трагедийная, характер крупный, хоть и отрицательный...
С какой-то непонятной грустью я стал убирать с моего письменного стола конспекты документов Никольского, листки бумаги с выписками из архивов, книги, содержащие, как говорится на языке исследователя, «справочный аппарат». Их было много. И каждый из их авторов посильно помогал мне в моей работе. Если бы я писал научный труд, я перечислил бы в заключение каждого из них. И теперь говорю им всем, давно покинувшим нашу землю, самое искреннее спасибо за то, что они мне дали, за ту помощь, которую они, не зная уже об этом, оказали мне в моей работе.
...На моем столе зазвонил телефон, и я снял трубку:
— Господин Николаев? — услышал я голос пожилого человека, низкий, вкрадчивый, с характерным ближневосточным акцентом.
— Я вас слушаю.
— Я знаю, что вы работаете над книгой об Азефе, — продолжал мой невидимый собеседник. — Это ведь так?
— Я ее заканчиваю...
— В таком случае вы, вероятно, скоро уже не будете нуждаться в архиве покойного господина Никольского. Я точно знаю, что он у вас есть, не отказывайтесь.
— Да, есть, — на душе у меня стало тревожно, как тогда, в Бейруте, когда мне звонила женщина, назвавшаяся представительницей мафии.
— Видите ли, я — коллекционер, коллекционер и историк, занимающийся эсеровским движением в России начала XX века. А в Москву я приехал на международный семинар. Я готов предложить вам за коллекцию Никольского хорошие деньги.
— Все бумаги Никольского уже в государственном архиве. Вы опоздали, господин... историк.
— И все же подумайте, мистер Николаев. Подумайте.
В голосе говорящего проскользнула плохо скрытая угроза.
Я положил трубку.
Бейрут — Москва. 1985-1990 гг.
* * *
Коршунов Евгений Анатольевич
Писатель Евгении Коршунов начал сотрудничать с нашим издательством более двадцати лет назад. Его литературная биография открывается выходом в «Молодой гвардии» в 1971 году остросюжетного политического романа «Операция «Хамелеон» — первой части трилогии, которую сам автор называет «африканской».
Вторая часть трилогии — роман «И придет большой дождь» — вышла в «Молодой гвардии» в 1971 году, а третья, роман «Наемники»,— в 1982 году. В те же годы в других московских издательствах вышли и другие «африканские» книги Евгения Коршунова: роман «Гроза над лагуной» и публицистическое исследование «Псы воины... Кому они служат!» — о военном наемничестве.
С 1978 года по 1985 год Евгений Коршунов работал в Бейруте, занимая должность регионального ближневосточного корреспондента газеты «Известия», и за эти годы написал и опубликовал такие книги, как романы «Амаль» и «Рейд», остросюжетные политические повести «Убить шейха» и «Призрак зовется Зейтун», публицистические произведения «Арабская вязь», «Репортаж из взорванного рая», «Я — Бейрут», «Горячий треугольник», «Шпионы, террористы, диверсанты».
И в дни, когда выходит эта книга, Е. Коршунов продолжает совмещать писательскую работу с журналистикой.
1
Определенный набор из нескольких блюд. Малая меза — не менее семи.
2
Небольшая плоская бутылка.
3
Здравствуйте, добро пожаловать! (арабск.)