Книга: Сентиментальное путешествие на двухместной машине времени. Сборник

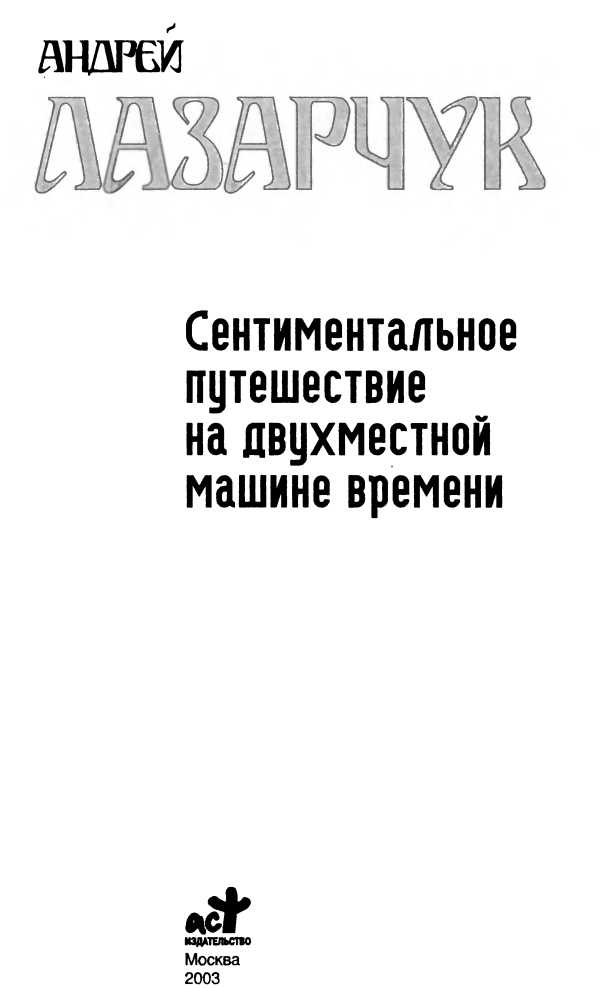
Наверное, начиналась осень. Днем уже не было такой духоты, а ночи стали темными и длинными. Лес затянуло паутиной. В кронах берез пробились желтые пряди.
Кузнечик помнил, что после осени всегда бывает зима, но не задумывался над этим. Все равно скоро приедет отец и отвезет его обратно в город. Ведь он знает, что Кузнечику плохо одному. И продуктов почти совсем не осталось…
У Кузнечика никогда не было мамы. Зато был отец. Отец был большой и сильный, он учил Кузнечика читать и ловить рыбу. У них было много книг и моторная лодка. По вечерам, когда отец приходил с работы, а Кузнечик — из садика, они читали друг другу вслух, а по выходным дням плавали на рыбалку. Кузнечик умел почти все: разводить костер, ловить рыбу, снимать ее с крючка; теперь он научился чистить ее и жарить в костре на прутике — так же, как отец. Сначала ему было очень тоскливо одному и все время хотелось плакать. Потом он привык. Потом к нему пришла собака, и они стали жить вместе.
Собака была огромная, черная, лохматая и умная. Кузнечик часто и подолгу разговаривал с ней, и собака, наклонив голову, слушала внимательно, не перебивая. Особенно она любила, когда Кузнечик рассказывал ей про отца. Например, как однажды они с отцом просто так бродили по городу, и отец купил Кузнечику воздушный шарик. А когда они зашли перекусить, шарик вдруг отцепился от пуговицы, к которой Кузнечик его привязал, и улетел на потолок. Кузнечик расстроился, все время смотрел на шарик, и скользкое заливное упало с его тарелки на пол. Кузнечик расстроился еще больше, потому что заливное любил. А когда они вышли из кафе, отец подошел к тетеньке с шарами и купил все шары, какие у нее были, а потом они шли по городу, вернее, это отец шел, а Кузнечик изо всех сил держался за связанные нитки и летел, и не было никого на свете счастливее, чем он… И разные другие истории он ей тоже рассказывал.
По утрам собака уходила в лес, возвращалась вечером и каждый раз приносила зайца. Но Кузнечик не знал, что нужно делать с зайцами. Кроме того, он их жалел. Рыб он не жалел: они были глупые и холодные. А зайцев собаке приходилось съедать самой.
Вечерами они сидели около избушки просто так. Иногда на небе разыгрывались Небесные Картины. Светящиеся полосы свивались спиралями, рассыпались огненными брызгами, гасли и вновь появлялись в другом месте; иногда будто бы яркая звезда срывалась с неба и падала, разбрасывая искры… А иногда на полнеба разливалось голубоватое зарево, краснело, меркло, а потом возникал гул, будто приближался поезд, и земля вздрагивала. Однажды такие вспышки сверкали всю ночь, весь день и еще одну ночь, а на другой день небо заволокло тучами, и солнце больше не показывалось. И вспышки тоже стали очень редкими.
— Один раз что-то черное, охваченное пламенем, пробило тучи и упало в озеро. К счастью, Кузнечик и собака были не на берегу, а в избушке. Волна, поднятая взрывом, докатилась до самого крыльца. Зато в этот день можно было не рыбачить: на берег выбросило много-премного рыбы, и надо было только пройти и собрать самую крупную.
В этот вечер Кузнечик рассказал собаке, как отец привез его сюда. Они долго, целых три дня плыли на лодке, и река становилась все уже и уже, и потом вдруг берега раздвинулись, и они оказались на этом озере. А потом они нашли избушку и причалили около нее. Кузнечик сразу выпрыгнул на песок, а отец стал выгружать из лодки мешки и ящики. Потом они перенесли все это в избушку. Во всех мешках и ящиках были консервы и сухари, и сахар, а в одном ящике книги и мешочек, полный прозрачных пакетов. Отец показал Кузнечику, где лежат дрова, и Кузнечик разжег костер. Они поужинали и легли спать в избушке. Только ночью Кузнечик проснулся и увидел, что горит свеча, отец сидит за столом, а на столе лежат книги. Отец заворачивал книги в те прозрачные пакеты и складывал в сундук. Многие книги он перелистывал, печально и бережно, а потом вдруг закрыл лицо руками и застыл, и Кузнечик страшно испугался, потому что понял, что отец плачет, но ведь это было невозможно, немыслимо — чтобы отец плакал…
Утром отец обнял Кузнечика и долго не отпускал.
— Вот так, малыш, — сказал он. — Щи в котле, каравай на столе, вода в ключах… Вода в ключах… Помнишь дальше? — Кузнечик помнил. — И не плачь, — добавил отец. — Мужчины не плачут. — А сам? — спросил Кузнечик. — Я нечаянно, — сказал отец. И еще он сказал, что должен плыть обратно — Кузнечик знает, что такое «должен», — а сюда к Кузнечику приплывет Полина. Через несколько дней. А до тех пор, ничего не поделаешь, Кузнечику придется пожить одному.
Кузнечик очень крепился и не плакал, пока было видно лодку. Потом он, наоборот, плакал очень долго, до самой ночи, и уснул на берегу. А ночью в первый раз появились Небесные Картины и стали вспыхивать зарева. И вот уже сколько дней прошло, а Полина так и не приехала. И отец все не возвращается и не возвращается…
Собака слушала и молчала, и Кузнечику было немного досадно, что она молчит. Ведь бывают же говорящие собаки, да и не только собаки — он сам читал. А с Полиной Кузнечик познакомился совсем недавно. Сначала они с отцом пришли к ней в гости, а потом все вместе пошли гулять. Это было интересно, потому что Полина оказалась добрая и смешная. Они все вместе ели мороженое, а потом катались на маленьком пароходике. Самое интересное было то, что Полина приехала издалека, из Франции. Кузнечик не знал, где это, и потихоньку спросил отца. Отец-то ему и сказал, что это очень далеко. Дальше Северного полюса? — спросил Кузнечик. Отец подумал и сказал, что, пожалуй, дальше, только в другую сторону. Тогда Полина стала нравиться Кузнечику еще больше, потому что только смелые люди ездят на Северный полюс и дальше, а к смелым людям у Кузнечика было особое отношение. Взять, к примеру, пограничников…
Дома отец немного рассказал о Полине. Оказывается, ее мама очень давно уехала во Францию, а потом вернулась. А Полина родилась во Франции, хорошо знает язык и работает переводчицей. Но теперь мама ее умерла, и Полина живет совсем одна. Ей плохо одной, сказал отец. Как твое мнение, может, возьмем ее к себе? Кузнечик подумал и сказал, что это, пожалуй, стоящее дело… Собака повздыхала немного, потом принялась зевать, и они отправились спать.
Ночью Кузнечика разбудил грохот. Он выглянул из избушки. Ветер чуть не сбил его с ног. Небо было исполосовано молниями, гром ревел непрерывно, хлестал ливень, это была страшная, небывалая, кошмарная гроза, но это была обычная гроза, и Кузнечик ничуть не испугался, а даже обрадовался ей, как старому знакомому. Наверное, все возвращается к старому, и скоро приедет отец. Потом Кузнечик закрыл дверь, но уснуть не удалось: дождь молотил по крыше, потекло с потолка…
Ливень прекратился внезапно, как и начался. Кузнечик вышел на крыльцо — и замер. Такого он не видел никогда. Лес светился. Каждое дерево, каждый лист на ветке, каждая травинка будто бы изнутри светилась сиреневатым холодным светом; это было красиво, но почему-то жутковато. Может быть, потому, что небо из-за этого света стало еще чернее, чем раньше, и опустилось совсем низко, на самые верхушки деревьев…
Утром собака, как обычно, ушла в лес, а вечером не пришла. Кузнечик долго ждал ее, потом уснул. Ему приснился отец: как он сидит за столом и упаковывает книги, и кладет их в сундук… Проснулся Кузнечик оттого, что ему было плохо. Тошнило, и очень болел живот. Он сбегал на двор, стало немного полегче, но потом сильно закружилась голова, он упал и не мог встать до утра. Утром головокружение почти прошло, но страшно, до слез, заболело все тело. Совсем не хотелось есть, при одной мысли о еде начинало мутить. Было холодно, очень холодно. Зато теперь Кузнечик знал, что ему нужно делать.
С трудом он сел за стол. Перед ним, как перед отцом тогда, лежала стопа книг. И Кузнечик, в точности как отец, стал брать книги, заворачивать их в полиэтиленовые пакеты и класть в сундук. Последнюю книгу он раскрыл и перелистал. Называлась она «Девяносто третий год», и написал ее писатель Гюго — тот самый, который написал «Гавроша». На титульном листе был их с отцом экслибрис: веселый чертик примостился на месяце, свесив копытца. Но ниже этого экслибриса Кузнечик с изумлением увидел другой, новый: на толстой книге, задумавшись, сидит обезьяна и держит в руке человеческий череп. На корешке книги написано: «Дарвин». Кузнечик знал, кто такой Дарвин, отец читал и рассказывал про него. Дарвин первым придумал, что человек произошел от обезьяны. «Пап, а что, — спросил тогда Кузнечик, — тебя сделали из большой обезьяны, а меня из маленькой?» И они потом долго вспоминали это и смеялись. Так что про Дарвина Кузнечик знал всё. Но смысла этой картинки он, как ни старался, понять не мог. Потом у него заболела голова, и он не мог больше размышлять.
Он положил эту последнюю книгу в сундук и закрыл крышку. Теперь надо было для надежности опустить сундук в подвал. Кузнечик попытался сдвинуть его — не получилось. Тогда он вспомнил, как отец объяснял ему, что такое рычаги. Он нашел веревку, один конец привязал к ручке сундука, а другой — к черенку лопаты, встал так, чтобы веревка проходила над открытым люком, воткнул лопату в щель между половицами и всем весом налег на черенок. Тяжелый сундук сдвинулся на несколько сантиметров. Кузнечик намотал образовавшийся излишек веревки на черенок, снова воткнул лопату и снова налег. Так он делал много раз, пот заливал лицо, в глазах потемнело, сердце колотилось, он падал от боли и слабости, но опять поднимался и принимался за работу, и наконец проклятый сундук дополз до люка и обрушился вниз. Кузнечик очень долго лежал, на полу, потом подполз к люку и захлопнул крышку. Теперь он сделал все.
Он добрался до двери и сел, опершись о косяк. Тела он уже не чувствовал, оно то ли уплыло куда-то, то ли растворилось. Так он сидел и смотрел, как прячется за деревья солнце. Небо было синее-синее и чисто-чистое, как раньше. Собака подползла к нему и легла рядом. Она тяжело дышала и смотрела на Кузнечика с надеждой — ждала, что он ей поможет. Кузнечик обнял ее, зарылся лицом в шерсть и закрыл глаза. Он слышал, как подошел отец, сел рядом и положил руку ему на голову, но не пошевелился и не откликнулся, когда отец позвал его.
Ему было тепло.
Чисто настроенческая вещь, за которую меня, когда я подал в издательство свой первый сборник — 1986 год, — вдруг принялись беспощадно избивать. Здесь находили призывы к эмиграции, клевету на советскую науку, еще какую-то муру. Смешно…
Луна, как могла, освещала кремнистую тропу. Лес здесь подступал вплотную: давил, трещал, гукал, свистел, а когда тропа поворачивала так, что луна скрывалась за кронами, в зарослях кто-то начинал тяжело ворочаться, и конь хрипел и рвался, а рыцарь крепче сжимал рукоять меча и напряженно всматривался в темноту.
Луна уже цеплялась краем за льдисто поблескивающий горный пик, когда сквозь чернь листвы впереди рыцарь увидел оранжевый отсвет костра.
Костер горел прямо на тропе. Перед ним, глядя в огонь, сидел человек. Услышав шаги, человек поднял голову и стал всматриваться напряженно и тревожно, и рыцарь понял, что глаза человека полны светом огня и не видят его, облитого темнотой, — и шагнул в отброшенный костром свет.
— Здравствуйте, человек, — негромко сказал он.
— Здравствуйте, рыцарь, — сказал человек. — Садитесь поближе. Вы устали, наверное?
— Я уже не надеялся выбраться, — признался рыцарь, переводя дыхание.
— Как же вы так — в Лес и без огня? Неосторожно.
— Я промочил спички на переправе, — сказал рыцарь, снимая с коня седельные сумки, щит, копье, запасной меч и седло. — Но я самоуверенно решил, что успею выйти к горам засветло.
— Я вам дам спичек, — сказал человек. — У меня много.
— Вы живете здесь? — спросил рыцарь, озираясь.
— Я здесь работаю, — сказал человек. — Я сторожу Круг Света.
— О-о!.. — рыцарь с уважением осмотрелся. — Круг Света… Я думал, это легенды.
— Нет, не легенды. Раньше Кругов было много, по всей тропе. Теперь, наверное, остался только мой.
— Почему же так?
— Кому они нужны в наше время… Позвольте, однако же, полюбопытствовать: вы собираетесь сражаться с драконом?
— С драконом? — рыцарь изумленно поднял бровь. — С каким драконом?
— Ну как же: здесь еще водятся драконы. Они, правда, совсем не те, что раньше водились в Долине, помните: огромные и страшные и по-настоящему опасные… Да вот, к примеру, тут рядом есть пещера — утром я вас отведу, — где живет дракон. Он ничего не соображает, одно крыло у него парализованное, а огня не больше, чем от паяльной лампы. Вы его убьете… У вас ведь волшебный меч?
— Волшебный.
— Ну, тогда это вам вообще не будет стоить никаких усилий… Вы его убьете, а потом наймете какую-нибудь газету, и она распишет, что дракон был ростом с шестиэтажный дом, о двенадцати головах и страшно свирепый.
— А… зачем все это?
— Ну то есть как зачем? Многие так делают. Прослыть драконоборцем, знаете ли, не так уж плохо. Да и премия за него какая-то положена, хоть и небольшая, правда… Но подождите! Если вы не за драконом, то куда же?
— Я иду к Перевалу.
— Вот как… — человек надолго замолчал. Молчал и рыцарь. Потом человек поднял голову и посмотрел на рыцаря, но посмотрел уже как-то по-иному. — К Перевалу давным-давно никто не ходит, — сказал он.
— Я знаю, — сказал рыцарь. — Я только не знаю, почему?
— Потому, наверное, что из тех, кто ушел, ни один не вернулся. Никто не знает, что с ними случилось…
— Неужели это правда: не вернулся никто?
— Никто из тех, кто ушел за Перевал. Некоторые доходили до Перевала и возвращались обратно. Теперь они живут в Долине и пишут мемуары. А из тех, кто ушел дальше, не вернулся никто.
— Что же могло с ними случиться?
— Что угодно… Может быть, они погибли. Может быть, просто не нашли обратной дороги — так, говорят, бывает. А может быть, за Перевалом время течет медленно, как на небесах, и пока они там оглядываются по сторонам, у нас уже прошло три десятка лет. Никто этого не знает, рыцарь… Слушайте, я давно не был внизу. Расскажите, как там?
— Там? Там странно. Все живут так, как будто ни разу не видели моря и никогда не слышали о Перевале.
Море продолжает наступать, все строят дамбы, но ведь на пути воды можно насыпать еще вал, ну, пять валов, ну, десять — когда-нибудь земли уже просто не хватит, и в один прекрасный момент море прорвет последнюю дамбу и хлынет в Долину, и вот тогда-то им всем придется вскакивать среди ночи и ломиться сквозь Лес, и бежать к Перевалу, побросав наконец все свои драгоценные деревяшки и тряпки…
— Да, — согласился человек. — К Перевалу можно идти только налегке. И то, что вы говорите про бег сквозь ночь, верно — все в нашей жизни свершается в порядке катастрофы. Такова, видимо, наша природа… Но неужели Перевал настолько никому не интересен?
— По-моему, в него просто никто уже не верит. Кому он, в конце концов, нужен?
— Ну — вам-то ведь нужен?
— Я просто неумеренно и болезненно любопытен — в этом корень моих бед… Нет, я не все рассказал. Существует, конечно, Институт Перевала, там люди работают, делают науку…
— Науку? Но ведь Перевал из Долины не виден, а сюда никто из ученых не поднимался…
— Им и незачем подниматься. Они изучают Перевал на моделях. Для этого не нужно подниматься. Достаточно знать, что он принципиально возможен. Они читают античных авторов, пишут диссертации, ставят эксперименты, у них интересная и обеспеченная жизнь… Зачем им сам Перевал?
— Н-да… — протянул человек. — Вы хотите есть, рыцарь?
Рыцарь прислушался к себе.
— Хочу, — сказал он и встал.
— Нет-нет! Оставьте в покое ваши сумки, запасы вам еще пригодятся. Здесь вокруг полно мясной травы и сырных грибов, и хлебных цветов, а листья деревьев — превосходные специи. Сейчас я угощу вас таким жарким… Удивительное это существо — Лес.
— Но и опасное, наверное?
— Бывает. Это если его не любить или бояться. А я живу с ним в мире. Он очень нервный и очень гордый — Лес. И слабости свои старается никому не показывать. По-моему, его, как и нас когда-то, забросила в Долину злая сила. Как и мы, он шел к Перевалу — и не дошел… — человек нервно замолчал и стал подкладывать в огонь обломки сучьев.
— Или дошел, но не весь, — подхватил рыцарь. — Частью дошел, частью остался. Может быть, поэтому он такой нервный и гордый?
— Может быть, рыцарь, может быть…
— Вы были на Перевале? — вопрос был короток и зол.
Человек долго не отвечал.
— Был, — сказал он наконец. — И повернул назад.
— Что там? — жадно спросил рыцарь.
— Там длинный и прямой спуск, — сказал человек. — И синий туман. Густой синий туман. Сколько людей ушло в него… И мои друзья — все. Я долго ждал их, хотел пойти за ними — и не решился. Но жить в Долине я больше не смог…
— Пойдемте со мной, а? Правда, пойдемте. Мы догоним их, найдем ваших друзей, поможем им, если они нуждаются в помощи, разделим их радость, поддержим в горе… Пойдемте!
— Нет, рыцарь, — сказал человек, — я не пойду. Здесь мое место, у моего Круга Света. Поймите, я просто не могу. Я выгорел изнутри, осталась одна оболочка. Все, что я могу, — это помогать таким, как вы, тем, кто еще куда-то идет… Так что не смотрите на меня — идите. Поешьте вот и идите. Через час взойдет солнце, и Лес пропустит вас.
— Замечательное жаркое, — сказал рыцарь. — Вы настоящий мастер.
— Да… хоть в чем-то. И возьмите спички, огонь вам еще пригодится.
— Спасибо, — сказал рыцарь, седлая коня.
— Господи, — вдруг с мукой в голосе проговорил человек, — ну как узнать, что там, за Перевалом, как узнать! Ведь нельзя же вот так, не зная…
— Там длинный и прямой спуск, — сказал рыцарь. — И синий туман, скрывающий всех, входящих в него.
— Вернитесь хоть вы, — сказал человек. — Пожалуйста, вернитесь.
— Я постараюсь, — сказал рыцарь. — Я очень постараюсь вернуться и все рассказать.
— Врете вы все, — с тоской сказал человек. — Не вернетесь вы. Эта дорога ведет только в одну сторону…
Это не рассказ — это самое первое начало романа «Опоздавшие к лету». Потом, когда уже были готовы и «Мост Ватерлоо», и «Путь побежденных», я переписал заново начало романа, а этот текст «освободился».
Раз уж я заговорил об «Опоздавших»… Роман писался тогда, когда надеяться на публикацию сколько-нибудь объемной вещи не приходилось, поэтому он состоял из сюжетно законченных фрагментов, глав, которые можно было публиковать в периодике порознь (что и было сделано). Поэтому многие называют его «гиперроманом» или «сериалом». На самом деле это не так: текст там цельный, а сюжеты произведений переплетаются, образуя единый и сквозной главный сюжет. Поэтому лично у меня нет оснований считать главы этого романа повестями и рассказами.
Но вот этот, который выпал из гнезда… кажется, он обрел самостоятельность.
Черт сидел на подоконнике, покачивал копытцами и вертел в пальцах тросточку. Цилиндр он снял и поставил рядом с собой и теперь время от времени машинально облокачивался о него, уморительно пугался, отдергивал руку и потом долго выправлял и разглаживал вмятину. В эти минуты он был такой настоящий, что Генрих не без смятения думал: а не явь ли это? В конце концов, я не так уж много выпил вчера… хотя много, конечно, но не до чертей же и не до голубых же слонов… Кстати, где это я?
На этот вопрос ответ пока не приходил. Комната плыла и покачивалась, и единственное окно ее подергивалось рябью, и черт, кстати, тоже подергивался рябью и плыл куда-то (кстати, может ли подергиваться рябью галлюцинация?), но даже через эту рябь и покачивание можно было разобрать, что когда-то, очень-очень давно, может быть, еще до Рождения Христова (кстати, кто это такой?) комнату эту оклеили желтыми обоями с мелкими голубенькими цветочками, не то ландышами, не то незабудками (фергиссмайннихт… кстати, кто-то недавно говорил мне: фергисс майн нихт, кто-то говорил… кто? А при чем здесь это!), но теперь цветочки выцвели или отцвели, обои кое-где топорщились, кое-где лопнули, местами проступили какие-то пятна и потеки, и вообще все выглядело до крайности непрезентабельно (от французского «презент», что значит «подарок»… кстати, о подарках: я ведь собирался кому-то что-то подарить… или это мне собирались? Кстати, что такое «подарок»?): и эти обои, и кривоногий стол с раскатившимися под ним бутылками, и скрипучая кровать с расхристанной постелью (кстати, откуда я знаю, что она скрипит?..), и затоптанный и заплеванный ковер, на котором Генрих лежал, абсолютно голый, кстати, на что-то удобно опираясь затылком и совершенно не собираясь менять позы. Все нормально, все обычно, вот только этот черт, черт бы его побрал… Пришел, понимаете, незванно-непрошенно, так хоть бы сидел помалкивал, так нет — бубнит и бубнит…
Значит, ты все понял, сказал черт. Но запомни: только один раз. Один-единственный.
«Понял», — сказал Генрих. Что понял? Что-то ведь понял, раз так сказал.
Ну вот и хорошо, сказал черт. А я пошел.
Он нахлобучил цилиндр и сунул тросточку под мышку.
«Подожди, — сказал Генрих. — Это что же получается? Выходит, ты меня облагодетельствовал?»
Фи, скривился черт, какие слова ты говоришь, просто неприлично. А ведь что ты о нас, чертях, знаешь? Наслушался небось бабьих россказней, будто мы только и делаем, что души ваши за шкирятник — и в ад. Так, что ли?
«А разве нет?»
Черт поерзал, уселся поудобнее, закинул ногу на ногу.
В общем-то так, сказал он. Но не совсем. Очень даже не совсем, хотя, конечно, и свой интерес соблюдаем, так ведь из одного альтруизма кто теперь работает? Это раньше бывало… Ну, ладно. Нам ведь, брат, эта война во где застряла, без дела сидим. Понимаешь, этот (черт ткнул тросточкой вверх) когда-то давно договорился с нашим главным, что, мол, которые на поле боя — все в рай, без разбора, грехи там и прочее. Вот он и гребет теперь души лопатой, стервец, он же все это нарочно устраивает, как вы не понимаете, ему же давно все равно, как вы тут, что вы, ему бы лишь души ваши получить, а каким путем — безразлично, вот он и выбрал легчайший. Ну а с тобой мы хоть чуть-чуть, да угрызем его, маленькую такую подляночку ему кинем, как ты на это смотришь?
«А я куда попаду в таком случае?»
Ну, брат, сказал черт, ты ведь своей смертью помрешь, когда время твое подойдет, тут уж тебя на весы — и куда перетянет. Так что за тебя мы еще поборемся.
«Значит, если я соглашусь, то еще не значит, что прямо к вам?»
Какой же ты, ей-богу, сказал черт. Что ты везде подвохи ищешь? Нет здесь подвоха, все чисто, как весеннее утро. Мы ведь, черти, не такой уж плохой народ, как о нас болтают, и сочувствие имеем, и жалость, и вообще ничто человеческое нам не чуждо. Это ваш баран упрямый от вас чего-то требует, а мы принимаем такими, какие есть. Да и ада ты зря боишься. Конечно, климат у нас не ах, зато какая компания подобралась!
«А как это сделать? Чисто технически?»
Опять двадцать пять, сказал черт. Да ничего не надо делать. Только захотеть. Как захочешь по-настоящему, так и получится. Можно прямо сейчас. А? И ее тоже?
Черт ткнул тросточкой куда-то мимо Генриха. Генрих чуть-чуть приподнялся (в голове тут же всколыхнулась и закружилась муть) и осторожно оглянулся. Ага, вот, значит, на чем я так удобно лежал. На ляжке этой бабы. Интересно, как она сюда попала? А, это не она попала, это я попал. Обычным путем. В смысле, через дверь. Вспомнил.
У женщины было рыхлое грязновато-белое тело, квадратный, как чемодан, зад и свалявшиеся обесцвеченные волосы. Она спала. Из уголка отрытого рта свисал жгутик слюны.
М-да… Генрих на четвереньках кое-как добрался до кровати, повалился на нее — кровать заскрипела — и натянул на себя одеяло. Это я с ней, значит… Хорош.
Ну так как решим, спросил черт. Сейчас или потом сам?
«Потом, потом…» — пробормотал Генрих и заснул, как провалился.
Черт вздохнул и канул.
* * *
Ближе к вечеру Генрих сидел в маленьком коммерческом кафе на террасе на берегу моря и пил кофе. Никого больше в кафе не было. Буфетчик дремал, подперев щеку кулаком. Тишина и спокойствие. Будто бы и нет никакой войны… Кофе здесь подавали натуральный, ароматный, совсем довоенный, такого Генрих не пробовал лет, наверное, пять, и теперь с наслаждением просаживал последние деньги — благо, они были уже не нужны. После четвертой чашечки голова вроде прочистилась, и появились кое-какие мысли — опасная роскошь для унтер-офицера императорской армии, но привычка и даже необходимость для экс-студента четвертого курса филологического факультета…
Думаешь, значит, ехидно сказал внутренний голос. Ну-ну. Давай думай. Может, что и придумаешь. Наподобие пороха.
Если бы пороха… Почему это так: выдумываешь порох, а получается всегда велосипед? Причем скрипучий-скрипучий?..
Да потому, что сдохнуть можешь так вот, наедине со своими мыслями, или слететь с катушек, или разбить башку о камни — и все равно ничего не произойдет. И война как шла, так и будет идти. За передел границ, за нефть, за сферы жизненных интересов, а между делом — против мирового коммунизма, сионизма, панславизма, технократии, анархизма, постиндустриализма, нонконформизма и чего там еще?.. Ну кто мы такие, скажите, что нам все не по нраву? Ведь действительно не по нраву, и дело тут не только и не столько в этом когда-то ефрейторе, потом адвокатишке, потом порнозвезде, а ныне императоре…
Стадность, подсказал внутренний голос. Стадность, согласился Генрих. Страх отстать от стада и просто страх, который трусость. Терпеть же их не могу, этих черных, затянутых, лощеных и вышколенных, и этого толстого дергунчика со значительным лицом и в горностаевой мантии — додумался! — а ведь все равно веду себя и поступаю так, как они того хотят. Перестану — раздавят. Совершенно автоматически. Как машина. Такая отлаженная и хорошо смазанная машина. С гаечками, винтиками и шестеренками, не ведающими, что творят. Или ведающими, но закрывающими глазки. Не я. Не только я. Только не я…
«…нижеследующие приговоры полевых судов довести до сведения войск и сделать предметом обсуждения. За трусость приговорены к смертной казни и расстреляны: стрелок Людвиг Зейберт, обер-ефрейтор Карл Ворк, обер-ефрейтор Бруно Дрест. За трусость приговорен к смертной казни и повешен фельдфебель Эдуард Пишел. За трусость и дезертирство приговорены к смертной казни и расстреляны: гренадеры Максим Энгелысласт, стрелок Иоган Хагс, ефрейтор Бертран Гленке, лейтенант Арчибальд Лонг, лейтенант Адам Валь. За дезертирство и предательство, выразившиеся в переходе на сторону врага, приговорены к смертной казни: вахмистр Вольдемар Лански и вольнонаемный Александр Энгельхен. За саботаж и преднамеренную порчу военного имущества приговорен к смертной казни и повешен оружейный мастер Эммануэль Пирпр. За неповиновение приказу приговорены к смертной казни и расстреляны: гренадер Бэзил Баллард, ефрейтор Антон Хакман, полковник Зигмунд Карузо. За самовольный уход с занимаемых позиций приговорены к смертной казни…»
И так далее. А потом получается, что голова у меня сама по себе, а руки и ноги непосредственно подчиняются приказам вышестоящего начальства. Ибо, как известно, битие определяет сознание…
Ну, старина, как будем жить дальше? Можно, конечно, прийти на вокзал, сесть в поезд, доехать до станции назначения и продолжать служить Императору, между делом презирая себя; тем более что все нутро мое так и рвется в уютный окоп, лишь только подумаю о той травле, которая развернется, если… Если что? Ну, в общем… это… понятно, короче.
Дошел ты, брат, до ручки. Даже сам с собой намеками объясняешься. Дрессировка, ничего не скажешь…
Ну и боюсь — а что тут такого необычного? Где они теперь, храбрые? Все боятся, не только я.
Вот именно, «не только я»…
Так что же все-таки делать-то будем?
Не знаю.
Эх, плюнуть бы на все, подумал он, сидеть бы вот так и потягивать кофе… Выпасть бы из времени…
Стоп. В этом что-то есть. Сидеть. Вот так. И потягивать кофе…
А ни черта в этом нет…
Черт! Давешний черт!
Слушай, не сходи с ума, изумленно сказал внутренний голос. Ты же разумный человек, ну какой может быть черт? Напился до чертей…
Какая разница, откуда взялся черт? Главное — что он сказал? Ведь он же сказал что-то такое…
Ты можешь остановить время, — вспомнил Генрих очень отчетливо, будто кто-то шептал ему на ухо, — и до конца жизни жить в этом остановленном мгновении. Но только один раз — и насовсем. Навсегда. И чтобы сделать это, надо просто очень захотеть.
Что ж, легко проверить. Надо только захотеть. Сейчас. Вот сию минуту. Пять часов. Безумное чаепитие, Чарльз Лютвидж Доджсон, он же почему-то Льюис Кэрролл. Вечно пять часов. Устрою безумное кофепитие. Сюда бы еще Соню и Шляпника — для компании…
Такой реакции Генрих от себя не ожидал: спину стянуло холодом, лицо залил пот; он сжал зубы, сцепил руки, чтобы унять дрожь, — не помогло. Раз в окоп под ноги к нему скатилась маленькая неразорвавшаяся авиабомба ощущения были похожие.
Ну и нервы у тебя, презрительно сказал внутренний голос. Генрих встал и подошел к парапету.
«Блажен, кто вырваться на свет надеется из лжи окружной. В том, что известно, пользы нет, одно неведомое нужно. Но полно вечер омрачать своей тоскою беспричинной…»
Да, здесь можно на секунду забыть, что идет война. Море синее-синее, теплое и ленивое, и такое же голубое, как море, небо над ним. Пальмы и прочая буйная тропическая зелень — вот она, перегнись через парапет, и можешь потрогать. Звенят цикады, поют птицы, а ночью, бесстрашно нарушая приказ о светомаскировке, будут летать светлячки…
Да, на секунду можно поверить, что войны нет. Это если не смотреть вперед, где на горизонте разлегся серый дредноут, угрюмый и безжизненный, как каменный остров. И если не смотреть направо — там длинный узкий мыс, и на нем нахально торчат, не маскируясь, иголочки ракет береговой обороны. И если не смотреть вниз — где на такой же зеленой террасе, задрав в небо хоботы, стоят зенитки, а рядом, под пальмами, спит орудийная прислуга. И если не смотреть вверх — там проплывает, натужно ревя, тяжелый восьмимоторный рейдер с подвешенными под крыльями блиц пикировщиками. И если заткнуть уши, потому что пробило пять часов, и черный репродуктор на столбе начинает выкаркивать военную сводку…
Генрих вернулся за столик, сел, обхватив голову руками, и закрыл глаза.
Нет. Не сейчас. Попозже. Я еще не готов.
Ничего себе, неужели ты поверил во всю эту ерунду? Ты, всегда гордившийся именно тем, что не принимаешь ничего на веру? И во что — в черта!
Да не в черта. Черт, может, и на самом деле привиделся. А время я остановить смогу — точнее, сам смогу остановиться во времени и не идти дальше. Я это чувствую. И я это сделаю. Вот так, дорогие мои, — я сбегу от вас, да так хитро, что вы меня никогда не сможете поймать…
На перроне было малолюдно: два десятка таких же, как он, отпускников, возвращающихся в свои части; заплаканные девушки и женщины, угрюмые усатые отцы; священник; несколько шпиков; несколько спекулянтов; несколько проституток; продавщица цветов; две девочки-школьницы в косынках с красным крестом; пацан-беспризорник стреляет глазом, что бы такое спереть; полицейский искоса следит за пацаном-беспризорником; кошка гуляет сама по себе…
Ну, вот и все. О прибытии поезда не сообщают, и он появляется неожиданно, возникая из-за толчеи неразобранных вагонов: впереди две платформы, одна с песком, одна с зенитками, потом черный, пузатый, лоснящийся, пыхтящий паровоз, за ним вагоны, синие и зеленые вперемежку. Все это погромыхивает, полязгивает, подтягивается к перрону, поскрипывает и повизгивает тормозами, останавливается, открываются двери, и на твердь земную выкатываются развеселые отпускнички…
А может быть, сейчас? — подумал Генрих. — А? Поезд уйдет, а я останусь?
Поезд уйдет…
Нет. Рано… боже, дурак какой, ну чего ты тянешь, упустишь момент… Потом. Попозже.
Эх, шестереночка ты, Генрих, шестереночка. Как тебя закрутили, так ты и крутишься, никак не остановишься. Шестерочка-шестереночка… В какой вагон садимся? Вот в этот.
Генрих вскочил на подножку. Хорошо хоть, никто не провожает.
Жалко, некому провожать…
Повезло — купейный вагон, и половина купе пустые. Генрих сбросил рюкзак, повесил автомат на вешалку для одежды и открыл окно.
На перроне прощались. Прямо под окном лихой вахмистр-кирасир, придерживая саблю, взасос целовал яркую высокую брюнетку. Девочки в косынках раздавали благотворительные бутерброды: тоненькие ломтики хлеба с маргарином и брюквенным повидлом. Напротив вокзала подрались две проститутки, их не могли растащить, пока какой-то железнодорожник не вылил на них ведро воды; теперь они стояли жалкие, растерянные, похожие на ощипанных ворон…
Лязгнув буферами, поезд тронулся. Медленно проплыл под окном кирасир со своей девицей, девочки с бутербродами, железнодорожник с флажком, плачущие мамы и мрачные папы, машущие руки, платки, шляпы, зонтики, воздушные поцелуи, газетный киоск, мальчики из «Гвардии Императора» замерли в почетном карауле, тоненькие ручонки вскинуты в истовом римском приветствии, семафор, пакгаузы, разбитые вагоны и паровозы, зенитки, дочерна пропыленная живая изгородь, снова зенитки, развалины элеватора, а поезд все набирает скорость, все чаще, бьют колеса на стыках, все меньше времени остается, все меньше, меньше и меньше…
— О-о, я, надеюсь, не п-помешал? — спросили за спиной не вполне твердым голосом.
Генрих обернулся. В дверях стоял давешний кирасир, за его спиной маячили еще двое.
— Нет, конечно, — сказал Генрих. — Входите, дружище. И вы тоже.
Кирасир качнулся вперед и не устоял бы, не прими его Генрих в свои объятия. За кирасиром ввалились мрачноватый фельдфебель-танкист, бритоголовый и лопоухий, и «зеленый берет» в пятнистом комбинезоне без знаков различия. Произошел небольшой веселый кавардачок, в ходе которого рюкзаки были рассованы по углам, а оружие пристроено так, чтобы не мешало и в то же время всегда было под рукой. Затем кирасир, азартно сопя, эффектнейшим жестом профессионального иллюзиониста извлек будто бы из воздуха трехлитровую банку самогона и торжественно водрузил ее на стол.
— Вы ведь, кажется, т-трезвы, мон шер ами? — неодобрительно сказал он, пытаясь посмотреть Генриху в глаза; это у него получилось не сразу. — Неп-позволи-тельно!
Ну и ладно, подумал Генрих, ну и правильно. Успею. У меня ведь чертова прорва времени: ночь, день и вечер — в поезде; потом переночую где-нибудь и еще пять часов буду ехать на машине; потом пешком. Неужели же я не улучу подходящей мне минутки!
Самогон был хорош. Он не драл горло, не отдавал сивухой, а на языке оставлял приятный привкус не то ореха, не то еще чего-то похожего. Кирасир победно поглядел на остальных, как должное принял восхищенные замечания и пояснил, что первое дело — это процедить самогон через десяток противогазных фильтров, ну а потом с ним надо делать кое-что еще, а что именно — он не скажет даже под угрозой медленного перепиливания пополам, — и действительно не сказал, паршивец, как все трое на него ни наседали.
Когда в банке осталась треть, а весь завтрашний и часть послезавтрашнего пайка были приговорены, выяснилось, что поезд стоит на станции, и «берет» вознамерился было сбегать за сигаретами, но тут в купе кто-то попробовал вломиться под смехотворным предлогом, что все прочие уже переполнены, и пришлось силой выдворить нахала и запереть дверь.
— Ну вот, — сказал кирасир, — мы и в котле. Я, н-например, три раза был в котлах и все три раза как-то выбирался. Фортуна, братцы, редкая каналья, но уж кого пометит — тот живой.
— Ты на фортуну не кивай, — сказал танкист, — ты на меня кивай. Вы там в котлы залазите, а нам их разбивай.
— А может, в карты, как настрой? — спросил «берет». — Есть свежая колода.
— В картишки — это хорошо, — сказал Генрих, — да только денег нет.
— А, деньги — это чепуха, мы на уши играем. Держи-ка этот вот листок — расписывай, пехота!
— Темно, не видно ни черта, и свет не зажигают…
— И не зажгут, чего ты ждешь — ведь светомаскировка. Есть где-то свечи у меня, подай-ка мой рюкзак.
— Ежа бы в задницу тому, кто это все затеял…
— Ты это мне? Или кому? О чем ты говоришь?
— А, просто так, тоска взяла… Ну ладно, где там карты?
— Ишь, снова барабанят в дверь — чего от нас им надо?
— Хотят по морде получить — мы это обеспечим!
— Ага, нашел, сейчас зажжем. Залезь, спусти-ка штору. Что нас убьют — сомнения нет, и очень даже скоро. Когда помрем, тогда взгрустнем, а нынче — веселимся!
— Опять стучат, а ну, пусти, я им начищу клювы!
— Не открывай, пускай себе стучат. Мы заперлись, мы пьем, мы отдыхаем. Играем в карты, хлещем шнапс, жжем свечи, ругаем власть — а завтра все подохнем. Давайте же, пока мы не подохли, пить шнапс, жечь свечи, резаться в картишки… Сдавай, пехота. О-ла-ла! Сто десять!
— Я пас.
— Я тоже пас.
— Сто двадцать.
— Смело! Но черт возьми, вы взяли, это ж надо? А ну, по-новой!
— Кирасир, сдавайте.
— Опять стучат, сто дьяволов им в глотку!
— Не знаю, как для вас, а для меня все это — представление о рае…
— Предпочитаю мусульманский рай — там гурии, не то что в христианском: сидишь себе и тренькаешь на лире. Какой же это для солдата рай?..
Металось пламя свечей, и вместе с ним металось по стенам множество причудливых теней. Они вели свою, независимую жизнь и свою игру, прыгали, переплетались, наслаивались, к тени кирасира прижималась тень его девицы, оставшейся на перроне, тень танкиста весело порхала, взмахивая ушами, как бабочка крыльями, несколько теней «зеленого берета» боксировали между собой, а у себя на плече Генрих обнаружил черта. Черт изящно с кем-то раскланивался, приподнимая цилиндр. И еще что-то неуловимое мелькало между всем этим, какие-то обрывки образов, крыльев, снов, желаний, надежд…
Сейчас, подумал вдруг Генрих, и снова липкий холод обрушился на него. Именно сейчас, все равно уже никогда не будет ничего лучше этого…
Но тогда я никогда больше не увижу солнца… Нет, так я не могу. Даже казнят на рассвете… Утром. Решено — утром. А сейчас — можно я ни о чем не буду думать?
— Я так люблю вас всех, — сказал он. — Я так люблю…
Кирасир вдруг икнул и уронил карты. С минуту он потерянно смотрел на свои руки, потом пробормотал: «Пардон, ма лирондель», — и полез под стол. Там он немного повозился и заснул. Объединенными усилиями его водрузили на полку, он вытянулся и захрапел.
Веселье иссякло. Свечи догорели. Танкист и «берет» забрались на верхние полки, Генрих стянул сапоги, расстегнул ремень, подложил рюкзак под голову и закрыл глаза. Вагон мотало и раскачивало, колеса часто-часто барабанили по стыкам, и чувствовалось совершенно отчетливо, осязаемо, как ночь, поделенная, будто книга, на страницы-секунды, с шелестом проносится сквозь эшелон…
Ехать бы так всегда, заведомо зная, что никуда не приедешь…
Поймите меня правильно: я не трус. Но я и не борец. Я ничего не могу сделать в одиночку, я не знаю, что можно сделать в одиночку, я не в силах помешать преступлению, но я не желаю в нем больше участвовать. И если у меня не получится это, я уйду по-другому…
«И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть Книга Жизни; и судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими…»
Генрих проснулся от того, что поезд стоял. Кто-то бегал вдоль вагона, хрустя гравием, доносились слова команд, шипение пара и частые, не в такт, металлические удары. Тут же несколько раз чем-то тяжелым постучали в дверь, и властный голос произнес:
— Откройте!
Генрих открыл; в лицо ему ударил луч фонаря.
— А-а… — сказал обладатель властного голоса, — унтер. Собирайтесь, унтер. Остальные здесь тоже унтера?
— Так точно, — тупо сказал Генрих.
— Я капитан Эган, начальник эшелона. Через пять минут доложить мне о готовности.
— Так точно, — повторил Генрих еще тупее.
— А ну-ка, что это у вас? — совсем другим голосом сказал капитан Эган. Он шагнул в купе, прикрыл дверь, взял двумя руками банку, приложился к ней и несколько раз глотнул. — Фу-у, — выдохнул он, — вот это да! Совсем другое дело! Нет, я всегда говорил, что в нашей армии унтер-офицер — это главное звено, всё на них держится! Вот и сейчас — ни у кого нет, а у унтеров есть! Молодцы! Сами-то что скромничаете, глотните.
— Благодарю, — сказал Генрих.
— Он еще и благодарит, — захохотал капитан Эган. — Ор-ригинал! Эй, там, по полкам! Скунсы! Подъем! Унтер, разбудите же их!
Но «берет» с танкистом уже проснулись и, переключаясь на новый режим функционирования, деловито спускались вниз; кирасир обалдело сидел, держась за столик, и пока ничего не соображал. Ему Генрих налил больше всех. Взор бедняги несколько прояснился, но до полной его осмысленности было еще далеко.
Капитан Эган поднял штору, посмотрел в окно. Снаружи таяли серые сумерки. Вдоль эшелона в две шеренги строились солдаты. Сеял мелкий дождь, каски склизко блестели. Лучи прожекторов шарили по полю, по синему перелеску, перекидывались на далекие щетинистые холмы.
— Партизаны взорвали мост, — не оборачиваясь, сказал капитан Эган. — Часа два назад мы пропустили вперед себя бронепоезд. Ну и… В общем, наше счастье, что пропустили. Сейчас организуем преследование, далеко уйти они не могли. С восходом солнца нас будут поддерживать вертолеты.
Он обернулся, с удовлетворением оглядел бравых, готовых к маршу, бою, смерти и славе унтер-офицеров, кивнул им: «За мной», — и вышел из купе.
— Вот так, — сказал танкист. — Раз-два — и в дамки. Пошли, что ли?
По очереди они спустились на насыпь. Капитан Эган сдал их под команду огромного, как шкаф, обер-лейтенанта, и тот развел унтеров по отделениям. Генрих оглядел своих солдат и даже зашипел с досады: только два пехотинца-окопника, остальные сброд, бестолочь: сутулый очкарик, явно писаришка, военный полицейский, зенитчик, двое из аэродромного обслуживания, химик, толстый старик-повар…
Ну, Генрих, изумленно сказал внутренний голос, ну военная же ты косточка, да ты никак повоевать собрался? Все, хватит. Я больше не дам в себя стрелять, тем более настоящими пулями…
— На…во!., ом… арш! — неотчетливо, как сквозь вату, донеслась команда капитана Эгана; Генрих посмотрел, куда поворачиваются остальные, продублировал: «Налево, шагом марш», — пропустил свое отделение мимо себя, посмотрел, все ли идут как надо (все шли нормально, без энтузиазма, но и без уныния), потом, оскальзываясь на мокром гравии, обогнал солдат и занял свое место в строю. Теперь можно было расслабиться и никуда специально не смотреть — так, чтобы ничего не оставалось, кроме тихого падения дождевых капель, хруста гравия под ногами, мерного дыхания идущих людей и бряцания железа.
И никуда не деться от этого бряцания, такое впечатление, что исходит оно от нас самих. Железные побрякушки…
Иди-иди, философ. Рассуждай, но иди, куда ведут, делай то, что велят, думай так, как рекомендуют. А рассуждать — это пожалуйста. Про себя.
Колонна опустилась с насыпи и двинулась по дороге. Идти стало труднее, дорога раскисла, грязь плотоядно чавкала, хватала за сапоги, не пускала. На развилке дорог разделились: три роты под командованием шкафообразного обер-лейтенанта направились прямо, в седловину между холмами, а три других, ведомые капитаном Эганом, — направо, в обход, имея целью выйти до полудня к деревеньке с непроизносимым названием; считалось, что где-то там находится партизанская база.
Понемногу становилось светлее. Солнце, видимо, уже взошло, но пробиться сквозь низкие набрякшие тучи было не в силах. Дождь лил, то ослабевая немного, то снова припуская, лил спокойно и самоуверенно, и не было у него ни конца, ни края. Справа, за лесом, разгоралось темное зарево — облава началась. И вдруг сквозь дождь, сквозь мокрый полумрак и сырость там, впереди, на востоке, куда лежал путь колонны, проступил и засветился клочок синего неба…
Генрих, сняв зачем-то автомат с плеча и не отрывая глаз от окошечка синевы, побрел в сторону от дороги. Он шел по колено в мокрой траве и не думал ни о чем, и не слышал окриков за спиной, и знал только одно: вот сейчас… сейчас… Сейчас выглянет солнце.
Сейчас. Прямо сейчас…
Он упал лицом в траву, вдохнул запах мокрой земли, уввдел, как все перед глазами залил оранжевый свет, а от травинок брызнули строгие черные тени, еще раз вдохнул, секунду помедлил, как перед выстрелом, — и остановил время.
Ощущение было такое, будто поезд тормозит на полном ходу. Его вдавило в землю, но он собрал все силы и сел — и успел заметить, как все вокруг: и поля, и холмы, и деревья — расступились и пропустили людей сквозь себя, и снова сомкнулись над ними, как вода…
Генрих засмеялся тихонько и лег на спину. Лил дождь, и теперь он будет лить нескончаемо во веки веков, и это хорошо, это прекрасно, это изумительно… И вечно этот кусочек голубого неба, и этот заливающий все вокруг чудесный оранжевый свет, и краешек солнца… И можно встать (потом, потом!) и пойти, и вернуться на ту террасу над морем, где было так хорошо и где почему-то не решился остаться, только теперь там не будет ничего из войны: ни репродуктора на столбе, ни рейдера в небе, ни дредноута на горизонте, — ничего, а только белый камень парапета, белое солнце, синее море и синее небо, такое же голубое, как море.
Ничего этого не будет, там ведь ночь…
Пусть ночь. Пусть. Все равно. И, может быть, там, или где-нибудь в другом месте, я встречу кого-нибудь еще, кто решил остаться, — не один же я такой…
А дождь все падал, и падал, и падал — тихий и вечный…
…и потом, когда разговорчики в строю уже утихли, кирасир все оглядывался через плечо туда, где остался лежать, забросанный мокрой землею, этот чудной длинноволосый старик с такой глубокой тихой улыбкой на темном лице… Рядом дышали друзья, сурово и просто чавкала грязь, и что-то обязательно должно было произойти, но никак не происходило.
Это тоже начало романа: фантастического романа под названием «Фантастический роман». Я написал это начало и застрял. На следующий год сделал еще одну попытку, в результате появилась «атомная сказка» «Тепло и свет». Но дальше дело не пошло, и третьей попытки я не предпринимал…
Может быть, надо сказать: пока не предпринимал.
Таких морозов в это время не бывало никогда. Во всяком случае, дед Александр, что живет этажом ниже, ничего похожего не помнит. Он говорит, что это спутниками да космонавтами все испохабили. И то: минус тридцать в конце октября… пардон, у нас не Диксон.
Где-то я читал, как один оригинал несколько лет подряд считал прохожих на улице и измерял температуру воздуха. Результат сенсационный: оказывается, в мороз люди предпочитают сидеть дома. Чудак, спросил бы меня. Я бы ему это за две минуты разъяснил.
По ящику гнали какую-то многосерийную ерунду, и я его выключил. Пол, что ли, подтереть? Да нет, Нина только вчера порядок наводила. Пожрать приготовить? Что там у нас в холодильнике? Я поплелся на кухню, и тут позвонили в дверь.
На площадке стоял, весь скукожившись, какой-то полузнакомый бородач. Одет он был явно не по погоде: белая шляпа, светлый плащик, кремовые брючки и — бог ты мой! — летние туфли с дырочками! Хотя бывает, конечно… летел человек, скажем, в Сухуми, а попал сюда. «Ирония судьбы», дубль два…
— Это квартира Орловых? — замороженным голосом спросил он.
— Да, — сказал я. — Входите.
— А вы — Николай.
Интонация была неуместная — утвердительная; но явно уж никак не до интонаций ему сейчас было…
— Николай, Николай, — подтвердил я, почти волоком втаскивая его в прихожую. — Раздевайтесь скорее, я сейчас чаю… Унты вот наденьте, ноги согреются.
Он долго лил воду в ванной — отогревался. Я успел вскипятить чайник, поджарил яичницу, нарезал хлеб и сало, разлил водку по стаканам. Наконец он появился, чуть оттаявший, и сел напротив.
— Да, я не представился, — сказал он, протягивая через стол руку. — Николай.
— Прекрасно, — сказал я. — Можно не насиловать память. У меня с этими именами собственными…
Он сочувственно покивал.
— Я, знаете, по делу… — начал он.
— Догадываюсь, — сказал я. — Но сначала водку.
— Да. За знакомство…
— Долой внутренний холод!
— Долой. А о чем вы догадываетесь?
— Что по делу. Безадела сейчас, думаю, редко кто отважится.
— А что такое? — насторожился он.
— Мороз ведь.
— A-а… Ну да, конечно, такой мороз… — с явным облегчением сказал тезка.
Честно говоря, я удивился. Такая отчетливая, хоть и сдержанная реакция на в общем-то тривиальные и безобидные слова…
— Так вот, о деле, — продолжал он. — Вам не кажется знакомым мое лицо?
— Кажется, — признался я. — Но вспомнить не могу.
— Это потому, что вы никогда не стриглись так коротко и не отпускали бороду. Вот, — и он прикрыл низ лица рукой.
Ощущение было, как от удара током. На меня смотрел я — я сам.
— Не может быть… — слова застревали, их приходилось выталкивать силой.
— И тем не менее, — спокойно сказал он. — Мое имя Николай Орлов. Мы не двойники, не близнецы, мы — один и тот же человек.
— Погоди, — сказал я. — Погоди, дай очухаться… Ничего не понимаю!
— А что тут понимать? — возразил он. — Параллельные миры. Ясно?
— Параллельные миры… Ага. Действительно, что может быть проще… А ты, значит?.. — я изобразил пальцами идущего человечка.
— Совершенно верно.
— А зачем?
— Зачем? — переспросил он. — Это, брат, долгая история. Налей-ка чайку. Ты ведь женат?
— Н-ну… В общем, да.
— Как и все мы — «в общем»… Хорошо живете?
— Вполне, — улыбнулся я. — И ты что, у многих побывал?
— У многих. Это уже двадцать седьмой мир, считая от моего. В девятнадцати есть мы.
— Здорово живем, — сказал я. — Вот бы всем собраться!
— Ты знаешь, — сказал он, — это, наверное, вовсе не так интересно, как кажется. У всех почти все одинаково. Так, разница в деталях. Хотя… В принципе можно. Мне это даже и в голову не приходило… Свежий взгляд.
Несколько минут мы молча пили чай. Я почему-то сразу и безоговорочно поверил ему. Как будто это самое обычное дело — путешествовать из одного параллельного мира в другой. Наподобие трамвая. Сел, понимаете, на одной остановке, вышел на следующей… Ведь не чайку же он попить забежал и не туризмом решил заняться… хотя, с другой стороны, почему бы нет? Мне не хотелось лезть с расспросами — знал, что все расскажет сам, когда сочтет нужным. Но молчание затягивалось, и я не выдержал.
— Так ты говоришь, что мы есть не везде? — спросил я.
— Да. То есть иногда совершенно никаких следов. Но это довольно странные миры. В одном меня чуть не пристрелили. Вот, — он оттянул воротник свитера. Под левой ключицей белел грубый звездообразный шрам. — Чудом уцелел. Теперь — особая примета… Машина у тебя есть?
— Старый «Запорожец», — подтвердил я.
— Ну и как он?
— Ничего, бегает. В прошлом году движок сменил, теперь вообще никаких проблем.
— А раньше, значит, глох?
— Раньше глох. Да ведь ты, наверное, и сам все знаешь.
— Все, да не все. На самолет вы из-за этого не опаздывали?
— Было дело. Это уже сколько?.. Лет пять прошло. Нина тогда выиграла в лотерею путевку в Самарканд…
— Как ты сказал? — он схватил меня за руку.
— Что — как?
— Как ее зовут? — Лицо его исказилось страшно, покрылось каплями пота, глаза вылезли из орбит. — Как ее зовут?!
— Нина, — ничего не понимая, пробормотал я.
— Нина? Не Ольга? Нет?
— Да что случилось?
— Подожди… Подожди… Нет, имя — это тоже случайность… Фотографию покажи!
— В комнате…
Он рванулся из кухни, опрокинул табуретку; еще ничего не понимая, побежал за ним.
Он стоял, озираясь, посередине комнаты. Я вынул из стола и подал ему пакет с фотографиями. Он дрожащими пальцами попытался вытащить их, не получалось; тогда я порвал пакет.
Карточки рассыпались, разлетелись по ковру, он схватил несколько, поднес к глазам… Потом, обмякнув, медленно подошел к креслу, упал в него и закрыл лицо руками.
Я собрал фотографии, положил их на стол.
Он сидел все в той же позе.
— Что — не она? — осторожно спросил я.
— Наоборот, — тускло сказал гость. — Она.
Я молчал, ждал, когда заговорит снова. И он заговорил.
— Оля тогда выиграла путевку, и мы долго спорили, кому лететь. Решили бросить монетку. Выпало лететь ей. Я отвез ее в аэропорт, проводил. А через день сообщили, что самолет разбился. Погибло девять человек, в том числе она…
Вот оно что, подумал я. Вот оно что…
— А у меня заглох мотор, и мы опоздали. Нина улетела следующим рейсом. Да, а тот самолет, я слышал, действительно садился где-то на вынужденную…
— До меня все это очень долго доходило, — продолжал он. — Теплопроводность плохая. Потом в депрессию впал, травиться собрался — ну и положили меня в психушку. Заведеньице, знаешь, — чуть на самом деле крыша не поехала. Ладно, полечили, выписали… Потом бессонница навалилась. И вот лежу я и все эту монетку представляю — как она то орлом падает, то решкой. Орлом — решкой, орлом — решкой…
Он вытащил из брючного кармана бумажник, раскрыл его и показал мне фотографию: Нина (она же, получается, Ольга) была снята где-то на природе — в полосатой майке, с ракеткой в руке, волосы развеваются…
— Так вот, понял я, что монетка эта должна падать и орлом и решкой. Понимаешь? Любая вероятность должна реализоваться. Иначе равновесие мира нарушится. Как если бы молекулы воздуха стали двигаться не во всех возможных направлениях, а только в некоторых, воздух собирался в одной половине комнаты… Или взять ту же монетку: бросишь сто раз, получится примерно пятьдесят на пятьдесят. А если бросок может быть только один — принципиально один? Тогда, чтобы вышло пятьдесят на пятьдесят, миров должно быть два: в одном выпадет орел, в другом решка. Понял? Вот так я тогда рассуждал — и рассуждал, выходит, верно. Ну а поскольку случайностей таких бесчисленное множество, то и миров, соответственно…
— А это? — я опять изобразил пальцами пешее хождение.
Он пожал плечами — фамильный жест! — и улыбнулся.
— Само получается. Надо только настроиться. Одиночество, знаешь, это такая сила…
— Пошли чай допьем, что ли, — сказал я.
— Пошли… Хороший у тебя чай. Индийский?
— Подымай выше, — сказал я. — Цейлонский.
— Здорово. А то грузинский мне уже….
— Случайно достал, — ответил я и осекся.
— Вот-вот. Я что и говорю. — Он поболтал ложкой в чашке. — Она ведь эту путевку четыре раза выигрывала — это если и вас считать. Один раз все нормально обошлось — долетели без приключений; второй раз, как и вы, — опоздали; а в третьем мире он полетел, и самолет разбился, но я остался жив. Черт, запутался, как говорить: «он», «я»…
— Так вот что ты ищешь, — понял я наконец.
— Ну да, — сказал он. — Мир, в котором я погиб.
Он допил чай и поставил чашку на стол.
— Надо идти.
— Куца же ты, на ночь глядя… Подожди, Нина придет…
— Потому и хочу уйти. Не обижайся. Трудно мне ее видеть…
Он уже одевался, когда зазвонил телефон.
Я взял трубку. Это была Альбина.
— Колечка, дорогой, — защебетала она, — ты очень скучаешь?
— Не очень, — честно признался я.
— Ты ведь не возражаешь, если Ниночка останется ночевать? Такой день, я ее заставила шампанского выпить, теперь ей за руль никак, а автобусы плохо ходят, такой мороз…
— Пусть остается, — сказал я. — Сама-то почему не позвонила?
— Стесняется чего-то, меня заставила. Ты что, такой ревнивый?
— Дай ей трубку.
В трубке зашуршало, потом виноватый-виноватый Нинин голос произнес:
— Алло…
— Привет. Утром домой не зайдешь?
— Зачем? Сразу на работу, тут близко.
— Ладно. Тогда ключи от машины оставь в лифтерной, я приеду, заберу. Ну, целую. Альку еще раз от меня поздравь…
Я положил трубку. Он стоял, прислонясь к стене.
— Так что все, — сказал я. — Переночуешь, а там посмотрим.
Когда мы завалились спать, я спросил:
— А как ты все-таки это… перемещаешься?
— Пещеру нашу помнишь? Ну еще бы! Забираюсь я в нее… Я почему, собственно, ее выбрал? Она ведь никаким случайностям вроде бы не подвержена, значит, должна существовать во всех мирах… Так вот, забираюсь в нее, закрываю глаза и настраиваюсь. Словами этого не объяснить. Тут, наверное, просто прочувствовать надо все, что я прочувствовал, — а этого, брат, и врагу не пожелаю. Ну вот, а потом выхожу из пещеры и иду сюда, адрес почти везде один и тот же. Если здесь прокол, тогда в адресное бюро. Вот и все. Давай спать.
— Подожди, еще спрошу. Сильно различаются миры?
— Всяко. А уж погода всюду разная. Сам видишь, как я влип здесь… Понимаешь, это я поначалу любопытствовал, нос везде совал, особенно когда что-нибудь необычное. Потом отучился. Отучили… Так что теперь быстро выясняю главное — и дальше…
— Надоело тебе, наверное, всем одно и то же рассказывать?
— Да пока еще нет, бог миловал. Правда, давай-ка спать. Сморило меня что-то…
Утром я съездил к Альбине, забрал машину и вернулся. Он еще спал.
Потом мы выпили кофе, и я заставил его одеться как следует. Пещера была недалеко, километров пять от города, но как он добирался вчера… Я представил — и поежился.
Всю дорогу мы почему-то молчали. То ли сказать было нечего, то ли наоборот… Подъехать мне удалось почти к самой пещере. Отсюда был отчетливо виден вход — черное продолговатое пятнышко на белом фоне. Отсюда к дороге по снежной целине тянулась цепочка оплывших следов. Здесь он шел вчера.
— Ну, будь, — сказал он.
— Счастливо, — сказал я. — Счастливо тебе.
Он помолчал немного, потом свирепо взглянул на меня.
— Ты! — рявкнул он. — Хоть теперь-то ты понимаешь, что ты имеешь?
— Понимаю…
— Ни черта ты не понимаешь! Все вы ни черта не понимаете! — он в сердцах хлопнул дверцей и быстро пошел, почти побежал к пещере, разбрасывая ногами снег, и только раз оглянулся и коротко махнул рукой; но все это время, пока он шел, я внушал себе, что это я, я иду по снежной целине, я и никто другой, что все, что произошло, произошло со мной, вот с этим Колькой Орловым, которого я знаю сто лет, знаю со всей его подноготной — но, оказывается, не знаю совсем; что это в меня стреляли где-то там, в странном мире, это у меня след от пули под левой ключицей; а может — не только стреляли; а может быть, еще будут стрелять, и более метко, и я знаю это и все равно иду туда, иду навстречу… чему?.. Умом я это вроде бы понимал, а до души все равно не доходило, потому что он шел, упорно шел к своему счастью, а я — вот он я…
Потом я зачем-то бежал к пещере… Глупо. Что я мог сказать ему или сделать для него? Но в тот момент думал, что мог.
В пещере его уже не было…
Он не обещал вернуться — да и зачем ему возвращаться? Но я почему-то жду его. Их. Столько времени прошло, а я все жду.
(Странная история в шести письмах, полученных Ольгой
Владимировной Б. в апреле 1984 — январе 1985 г.)
Здравствуй, милая моя!
Вы удивлены? Получить письмо от совершенно незнакомого человека, которое начинается такими словами! Впрочем, насколько я Вас знаю, такое обращение Вас не обидит, а скорее наоборот. Сейчас в Вас проснется любопытство: а насколько это я Вас знаю, а откуда, а почему осмеливаюсь так обращаться, а почему-почему-почему, и вообще — кто же я такой? Правильно? Именно это Вы и подумали? Вот видите!
Господи, какие глупости я пишу. Простите за развязный тон, я просто очень волнуюсь. Представьте, целый месяц пытаюсь придумать начало письма, и ничего толкового не выходит. Кажется, самое простое: взять и обычными словами написать, что же именно произошло со мной, где пересекались наши судьбы и почему, наконец, я решился на это письмо. Но забавно: те обычные слова никак не ложатся на бумагу. И ничего я с этим не могу поделать.
Сразу скажу: Вы меня не знаете и даже никогда не видели. Я, наоборот, знаю Вас хорошо; так, наверное, Вас никто больше не знает. Если получится, я потом объясню Вам, как сложилась такая парадоксальная ситуация. И еще: я не сумасшедший, не маньяк и не интриган. Может быть, мне вообще не следовало писать — нет, не могу. Поверьте, я сдерживался, сколько мог.
Перечитал сейчас то, что написал, и стало смешно: сплошные «не могу», «не могу», «не могу»… Просто я все еще борюсь с собой, причем с переменным успехом. Давайте, я, пока эта борьба не утихнет, буду рассказывать Вам сказку. Ей-богу, это замечательная идея, причем экспромт!
Итак, сказка.
Жила-была планета. Это была прекрасная планета, как две капли воды похожая на Вашу. В какой-то мере она и была Вашей, точнее — ее копией, аналогом. К фантастике Вы относитесь прохладно, но термин «параллельные миры» Вам понятен, я не ошибаюсь? Так вот, жила-была планета — жила до тех пор, пока к власти на ней не пришли люди, не умеющие в себе сомневаться. Вот они-то и довели дело до того, что наступила Последняя Зима.
Она наступила, когда пыль и гарь тысяч взрывов, когда дым и пепел горящих городов, когда пар вскипевших океанов поднялись высоко в небо и закрыли плотной пеленой солнце. Наступила тьма, и стоградусный мороз сковал землю и покрыл океан многометровым ледяным панцирем. Потом пылинки, плавающие в воздухе, стали падать вниз, обрастая по дороге инеем, и когда они выпали все, земля оказалась закрыта толстым слоем снега, который, подобно зеркалу, отражал все солнечные лучи. Планета, нарядная, как елочная игрушка, каталась по своей орбите, и две тысячи лет должно было пройти, прежде чем ее собственное тепло, накопившись в океанах, взломало бы лед, и первые дожди, пролившись на снег, сделали бы его серым и ноздреватым…
А пока планета была нарядна, как елочная игрушка, и так же безжизненна. Снег похоронил под собой все, и если бы даже кто-то мог посмотреть на нее со стороны, он вряд ли бы обнаружил следы человека. Может быть, и можно было угадать города, или плотины на реках, или развалины каких-то особенно грандиозных сооружений… Только некому было угадывать. Потому что жизнь теплилась в одном лишь месте, и то глубоко-глубоко под землей.
Здесь многие сотни лет люди добывали соль, и в результате получился громадный круглый зал с неимоверно высоким сводчатым потолком и множество помещений поменьше, соединенных коридорами и тоннелями. Спрятанный в одной такой пещерке атомный реактор давал тепло и электричество, лампы заливали помещения ослепительным белым светом, и местами даже росли жиденькие кустики. Устроители убежища позаботились о плодородной почве, но ее никто не возделывал: не было нужды. В специальных, насквозь просвечиваемых ваннах, насыщенных углекислотой и органикой (о происхождении которой лучше умолчать), вырастали водоросли; автоматы, примитивные, а потому безотказные, отцеживали их, перерабатывали и выдавали на-гора питательные кубики, желе, кисель и пористую массу, имитирующую хлеб. Таким образом, еды было вдоволь, а словосочетание «вкус пиши» постепенно вышло из употребления за отсутствием объекта приложения…
Я не утомил Вас этими подробностями? В сказке вроде бы не должно быть реакторов и съедобных водорослей?
Видите ли, часто то, что сказка у нас, в других местах — горькая правда.
Я еще продолжу эту историю. До свидания.
9.04.84.
Здравствуйте, Ольга!
Простите, но никак не могу заставить себя обращаться к Вам по имени-отчеству. Не обижайтесь, ладно? И еще простите, что так внезапно прервал предыдущее письмо — это от меня не зависело.
Итак, на чем я остановился? На пище? Так вот: был там и склад обычного продовольствия, громадный и очень секретный, и знали о нем только четыре человека: Принцесса, Полковник, Пастор и Физик. Причем первые трое знали это по чину и имели ключи, а четвертый (вернее, четвертая) — по долгу службы и ключей не имела.
Что ж, четырех участников грядущих событий я назвал. Расскажу о них чуть подробнее.
Принцесса — настоящая принцесса, ее папа был король, а мама королева. Это они в свое время (и очень своевременно) позаботились об устройстве Ковчега — так называлась эта пещера. А еще так назывался когда-то громадный деревянный ящик, на котором человек по имени Ной спасся сам, спас свою семью и многих зверей, не умевших плавать, от потопа. Потоп наслал на землю Бог. Он же, по слухам, предупредил загодя Ноя. Такие противоречивые действия Бога свидетельствуют о глубоком творческом кризисе, поразившем его в то время. Картина Мира, написанная им самим, стала вызывать у него непреодолимое отвращение, и он замазал холст, чтобы начать новую. И первым мазком как раз и были Ной, его семья и звери; и кто может знать, почему Бог начал писать новую картину старой краской — из суеверия ли, или просто потому, что не осеняло его высшее вдохновение — то, на волне которого он сотворил Человека? И вообще, если помнить, что Бог — художник, да еще не слишком умелый и удачливый, причем в глубине души понимающий это и потому страдающий комплексом неполноценности, пытающийся умом и техникой сотворить то, что должно творить сердце, многое в мире становится понятным. Вот и сейчас — он плеснул на холст белой краской, и новый Ковчег поплыл — теперь не по водам Океана, а по водам Времени…
Это не мои слова, это слова Пастора. Он — единственное духовное лицо в Ковчеге, ему под семьдесят, но держится он бодро. Отношения его с Богом сложные…
Но я отвлекся от Принцессы. Ей только-только исполнилось шестнадцать лет, из них три года она сирота: ее папа и мама не успели воспользоваться Ковчегом. Воспитанием ее сообща занимались Пастор, Полковник и Кукольный Мастер.
Полковник — тоже вполне настоящий полковник. Полковник дворцовой охраны. Страшно хочет выглядеть боевым офицером — но не может, не получается. И еще страшно хочет стать генералом. Но в генералы его может произвести только Принцесса — а она не торопится и намеков, кажется, не понимает… А вообще Полковник, по первому впечатлению — исправный служака, у которого, по анекдоту, «да» — это «да», а «нет» — это «нет», а слов «может быть» он не знает. И сомневаться он тоже не умеет. И еще у него есть пистолет.
Кукольный Мастер… Это невысокий, худощавый, застенчивый человек тридцати восьми лет, и двадцать пять из них он делает игрушки. Он достиг в этом немыслимого мастерства. Принцесса всю свою жизнь провела среди его игрушек, а теперь она становится взрослой…
Физик — симпатичная тридцатилетняя женщина. Чуть-чуть слишком резка — впрочем, не всегда. В ее обязанности входит следить за реактором, что она и делает. Однако у нее остается масса свободного времени.
Художник — нервный пожилой человек. Почему-то даже здесь не расстается с зеленой тирольской шляпой. Где-то имеет не то запас спиртного, не то самогонный аппарат, потому что часто бывает пьян.
Клерк — самый обычный клерк, ничем не выделялся среди себе подобных. В последнее время прибился к Полковнику.
И еще сто тридцать два человека, мужчин и женщин всех классов и сословий, волею судеб попавших в Ковчег и оставшихся жить. Оставшихся жить, чтобы продолжить род людской — потом, через сто поколений, их потомки должны будут выйти на поверхность и возродить освободившуюся ото льда планету. Так это задумано.
Ну вот, дорогая, декорации расставлены, с действующими лицами Вы познакомились, занавеса в этом театре нет, можно начинать спектакль… Да, совсем забыл обозначить жанр. Но тут возникают сложности. Что это, трагедия? Безусловно, ведь главных героев ждет смерть. Но можно сказать, что это комедия — потому что конец счастливый. Или мелодрама — любовные треугольники, сильные страсти, а чего стоит сцена смерти главного героя на руках возлюбленной? Или фарс — потому что, по сути, на каждое лицо надета маска? Не знаю. Не берусь судить. Просто все так и было.
Представьте себе: огромное помещение, такое огромное, что не видно стен, и луч света, падающий с потолка, освещает Кукольного Мастера.
Кукольный Мастер заканчивал радугу. Радуга была давнишней его придумкой, но только сейчас до нее дошла очередь. Надо было научить петь плюшевого кота, хорошо отрегулировать механического слугу Принцессы, доделать, наконец, клоуна… Но вот и радуга, можно сказать, готова. Потом все это оформить поприличнее, а пока надо попробовать, как она работает..
Мастер положил на пол два медных зеркальца, соединенных проводами с плоской коробочкой, и замкнул цепь. Не сразу, секунд через тридцать — Мастеру они показались очень длинными — в воздухе, опираясь на зеркала, появилась радуга, сначала бледно-сиреневая, мерцающая, как лампа холодного света, потом проступили цвета, налились — и перед Мастером, чуть покачиваясь, заиграла настоящая, свежая и яркая, как после короткой грозы, радуга. Что с того, что под ней можно было пройти, пригнувшись, и потрогать ее рукой? Радуга была настоящая…
— Сын мой! — воскликнул подошедший Пастор. — Неужели и это сделали вы? Невероятно! Таким чудом мог бы гордиться сам Христос! Нет, вы сами не понимаете… А лет триста назад вас обязательно сожгли бы на костре.
— Вряд ли, — усмехнулся Мастер. — Лет триста назад я и не мог бы соорудить ничего такого.
— Не скажите, — возразил Пастор. — Вы гений, а гений в любую эпоху найдет себе материал для творчества. И в любую эпоху он представляет опасность для сложившегося положения вещей… Полковник на вас еще косо не смотрит?
— Полковник? У нас с ним вполне приличные отношения… И потом, какой я вам гений? Я мастер — но не больше.
— Вы слишком добры, чтобы быть только мастером… Ладно, не будем об этом. Скажите, вы не думаете, что эта игрушка окажется в тягость Принцессе?
— В тягость? Вы имеете в виду воспоминания?
— Конечно.
— Может быть — на первых порах. Потом это пройдет. У меня, например, почти прошло. А потом… Ведь на настоящую рассчитывать не приходится. А из ее предков один, например, предпочел заводного соловья живому — помните эту историю?
— Помню. Но там же речь шла о китайском императоре?
— Совершенно верно. Это ее прапрапрадядя по материнской линии.
— Забавно, я и не знал.
— Я тоже узнал недавно… А еще эта игрушка для того, чтобы не забывать, что нас ждет в конце пути.
— Иногда я думаю, — сказал Пастор, — карим благом было бы забвение всего, что было. А иногда — пугаюсь, что мы действительно все забудем и наделаем прежних ошибок — если это были ошибки… Скажите, Мастер, а вам не хочется создать мир?
— Кукольный мир? Зачем?
— Хотя бы для того, чтобы не забывать о настоящем… то есть прошлом мире.
— Создать этот мир еще раз?.. Нет, не хочется.
— А новый?
— Для этого нужна мудрость целого мира. А в одиночку… Сколько их уже было, этих попыток создать новый мир.
— Если бы не эти попытки, человечество все еще жило бы в пещерах и питалось корешками.
— Человечество и так сидит в пещере и питается собственным дерьмом.
— Я вижу, вы при случае могли бы быть беспощадным, Мастер.
— Пока еще не пробовал, не было нужды… С куклами в этом отношении легко. Надо просто вкладывать в них побольше души, и все будет в порядке.
— Так ведь и с людьми точно так же…
— Возможно, — вздохнул Мастер.
Радуга продолжала сиять в двух шагах от них, а дальше была скалистая стена, уходящая вверх, во мрак, у стены — строительные механизмы, к которым давно никто не притрагивался, а в самой стене — черный провал коридора.
— Может быть, — подумал вслух Мастер, — имеет смысл как-то украсить это все? Я смогу. Подвесить вверху солнце, луну и звезды, понаделать механических птах, разрисовать стены… деревья вот подрастут, траву посеем… Надо только всем взяться.
Пастор сосредоточенно молчал и, кажется, не слышал Мастера.
— Ненависть, — сказал он наконец. — Ненависть и насилие. Они так вросли в нас… Да что говорить — во все времена ненависть и насилие были первыми помощниками в борьбе за выживание. Еще со времен обезьян. Вообще в нас слишком много осталось от обезьян и слишком мало привнеслось человеческого — до отчаянья мало. Стадность наша, наше слепое повиновение вожаку, который распоряжается пищей… Когда-то это было необходимо — или неизбежно. И вдруг все нарушилось: стадо стало ненужным, нам никто не угрожает; пищи вдоволь, причем даром, без труда; Что касается размножения, то тут природа, конечно, имеет в запасе сладкий пряник, но впервой ли нам обманывать природу? В прошлом году родилось трое детей, в этом — один… Мы стали не нужны друг другу. Мы можем прекрасно существовать по отдельности — и из-за этого-то благополучно вымрем… Вы говорите: взяться всем вместе. Попробуйте предложить это кому-нибудь. Вас поднимут на смех, если не изобьют. Вы просто не можете представить, что делается кругом. Ненависть… Знаете, последнее время я перестаю восхищаться мудростью, проявленной богом в этой истории с Адамом и Евой; он не просто изгнал их из рая, где они стремительно деградировали бы, он еще и обрек их на труд…
— Но ведь и я предлагаю трудиться!
— Вы ничего не понимаете, сын мой. Труд должен быть необходим — только тогда он в радость. А труд от нечего делать… Вам хорошо, вы творите. Вы способны творить, и кто знает, что это: редкий ли дар, воспитание ли — или, может быть, дар, проявившийся вопреки воспитанию? Может быть, вас дурно воспитали? А других воспитали хорошо, творить они, правда, не могут, зато могут стоять у конвейера, или разносить почту, или считать чужие деньги, или свои… Вас-то ведь не заставишь, а? Воспитание плохое. Но так оказалось, что за всю жизнь они не научились ничему больше, кроме как своему делу. Труд же свой все они рассматривали как тяжкое бремя, и вот теперь они стряхнули его. И в душах их отверзлась черная бездна, которую им нечем заполнить… Когда-то они трудились для того, чтобы жить в тепле и сытости. Тепло и сытость они получили.
— Вы хотите сказать, что человеку больше ничего не нужно?
— В сущности, ничего.
— Вы просто клевещете на людей.
— Ну что вы! Наоборот… Впрочем, не стоит об этом.
— Жаль. Мы часто с вами беседуем, но всегда чего-то недоговариваем.
— Простите меня. Просто я уже старый человек, и у меня масса предрассудков, в том числе самых распространенных. Например, если чего-нибудь не называть вслух, то этого как будто бы и нет. Причем такого мнения придерживаются не только частные лица. Сами понимаете, время такое.
— Не понимаю. Я, как правило, все говорю вслух.
— Вам проще. Вы молоды, и потом… не обижайтесь, ладно?… Вы ведь почти не общаетесь с людьми. Все куклы…
— Вы хотите сказать, что я много не понимаю? Или просто не вижу? А впрочем, вы правы. Я действительно многого не вижу и многого не понимаю.
— Вы говорили о ненависти…
— Именно. Это не дает мне покоя. Она пока еще всем не видна, эта ненависть, но она есть, и она зреет. И мне страшно подумать, что будет здесь завтра или послезавтра. Или через месяц.
— Но откуда взяться ненависти? Вы сами говорите: тепло, сытость.
— И безделье, добавьте. Кажется, здесь ничто не может вырасти, кроме равнодушия… хотя и равнодушие страшно даже само по себе, а еще страшнее в соединении… Простите, я говорю слишком банальные вещи — дурацкая поповская привычка изрекать значительным тоном прописные истины, — так вот, о ненависти: как вы понимаете, людей объединяет немногое: или стремление защититься от опасности, или совместный труд. Третьего не дано. Когда же обе эти опоры выбиты, человек повисает над той бездной — помните, я говорил? И начинает проваливаться в нее. И падение это воспринимает как опасность, а как еще человек может отреагировать на опасность, если не ненавистью? Никак. Не приспособлен. И обращает эту ненависть против ближних своих — за неимением иных объектов приложения… Иногда мне становится так страшно, что хочется умереть тут же, на месте. Наш дорогой Художник два раза говорил при мне фразу: «У нас нет будущего». Если он убежден в этом, то я ему завидую. Но скорее всего он, как и я, просто боится поднять глаза и взглянуть будущему в лицо.
— Не представляю, как вы еще держитесь, — сказал Мастер. — Будь у меня такие мысли, я бы давно отобрал у Полковника пистолет и застрелился.
— У Полковника невозможно отобрать пистолет, — сказал Пастор. — Это его инструмент власти.
— Интересно, зачем ему власть?
— Видите ли, Полковник не меньше нашего обеспокоен современным положением дел. И намерен всерьез взяться за устройство дальнейшего бытия.
— Взяв за образец казарму?
— А что же еще?
Они помолчали, потом Мастер сказал:
— Знаете, я, наверное, начну отсюда. Сделаю фонтан, качели. Сделаю дерево — когда еще вырастут настоящие! — и посажу на него медведя. И пусть он рассказывает сказки. А?
Пастор огляделся по сторонам, покивал головой, грустно улыбнулся.
— Через десять лет нынешние дети подрастут, — сказал он, — и расхотят слушать наши сказки. А других не будет.
— Других сказок?
— Других детей…
Дорогая моя, давайте пока оставим их: моего наивного Кукольного Мастера и моего смертельно уставшего душой Пастора, тем более что они встречаются часто, а разговоры их настолько же бесконечны, насколько бесплодны. Кстати, не знаю, как Вас, а меня наивность Мастера, взрослого и умного мужчины, поначалу раздражала, пока я не понял, что принимаю за наивность нечто совсем иное…
Вот Полковник — тот наивностью не страдал. Его апартаменты были роскошны и одновременно уютны. И сам он удивительно вписывался в них — и в парадной форме с орденами, галунами и аксельбантами, и тем более сейчас: чуть-чуть разморенный после сауны, в мягком восточном халате и с рюмкой коллекционного коньяка из неприкосновенного запаса. Оттуда же были и деликатесы, приятно разнообразившие его стол. Но не следует думать, что Полковник как-то неверно понимал слово «неприкосновенный». Наоборот, он понимал все как надо и готов был отстаивать эту неприкосновенность с оружием в руках.
Итак, в эту минуту Полковник беседовал с Клерком. Полковник был очень демократичен и терпел, что Клерк сидит, в то время как он сам расхаживает по комнате. Расхаживал же он потому, что его донимал застарелый геморрой. Клерк же, в свою очередь, поддерживал беседу, в нужных местах поддакивал, но внимание сконцентрировал на водке и консервированной копченой лососине.
— Пришла пора принимать решительные меры, — мягким баритоном, который всегда появлялся у него на фоне коньяка, вещал Полковник. — Мы запустили ситуацию почти до полной потери контроля. Еще немного, и все пойдет к чертям в пекло. Я даже не говорю о дисциплине, о субординации — но хоть страх-то должен быть! Нет, уже и страха нет! И ладно бы молодежь — подумать, почтенные отцы семейств, опора, можно сказать, порядка, смотрят на тебя, как на моль! С этим надо кончать. С сегодняшнего дня ввожу утреннюю и вечернюю поверку, строевую подготовку и пайки. Не хотят добром — насильно! Как вы считаете?
— Вполне с вами согласен.
— И с развратом пора кончать! Что это — уже и ни семей, ни домашнего очага, а так, кто с кем хочет. Как кошки, ей-богу. Завтра же разведу всех по семьям и разврат запрещу. И этих… абортников… изолировать надо. Выселить в отдельную пещеру и караул приставить. Заболел кто — пусть лечат. Контролировать. А аборты чтоб не смели. Забеременела — рожай! Забеременела — рожай! Презервативы изъять и сжечь! На костре! Нечего, понимаешь…
— Дети — наше будущее, — поддакнул Клерк.
— Верно мыслишь. Наливай себе еще. А чтоб дисциплину поддерживать, введем пайки. Эта анархия нынешняя от чего? Жратва легко достается. А вот если за эту жратву служить придется, сразу власть полюбишь. Как говорят в народе: лижи ту руку, которая тебя кормит. Ха-ха! Главное сейчас добиться единства нации, а каким путем — это уже наше дело. И мы его добьемся! И тогда мы сможем смело смотреть в будущее!
— Конечно, добьемся, — сказал Клерк. — И сможем смело смотреть.
— Прямо с утра и начнем, — сказал Полковник. — Прозит!
А Принцесса в это время спала и видела во сне зеленоватую прозрачную толщу воды, и внизу вода темнела, становилась холодной и неподвижной, а вверху дробилась солнечными бликами, и тоненькие лучи проникали сюда, к ней, лучи можно было потрогать, и они звенели, как ножки хрустальных бокалов, и смешные разноцветные рыбы бродили между лучами, натыкаясь на них или задевая их хвостами, а потом и само солнце село в воду и стало тонуть, остывая, вот оно стало гладким и тускло-красным, как медное зеркало, и в этом зеркале Принцесса, подплыв, увидела себя, только это была не совсем она, потому что волосы, лицо, руки и грудь были ее, а ниже пояса шла зеленоватая, цвета воды, чешуя, и вместо ног был рыбий хвост; Принцессу это удивило, но не испугало, потому что и солнце, и хвост сделал Мастер, а Мастер не умел делать ничего такого, что может напугать; потом ей пришло в голову, что он тоже должен быть где-то здесь, чтобы как обычно полюбоваться на свою работу, и что сейчас он видит ее нагую, и это вдруг оказалось совсем не стыдно и не страшно…
Художник, пьяный, как всегда, мелом рисовал на стене шарж на Полковника. Когда шарж был готов, Художник отошел на несколько метров, прицелился и запустил в Полковника мелком. Мелок раздробился, и под глазом у Полковника образовалась бородавка. От полноты чувств Художник плюнул на пол, попытался растереть, но зашатался и едва не упал. Случившаяся поблизости Физик подхватила его, вернула в вертикальное положение, взяла под руку и увела к себе.
Так закончился Последний День, В Который Ничего Не Произошло.
Там наступила ночь, погасли дневные лампы, и Ковчег уснул. А здесь уже восходит солнце, и я не заметил, что просидел всю ночь. Не такое простое это занятие — рассказывать сказки.
До свидания, Оля. Я обязательно продолжу эту историю.
17.04.84.
Здравствуйте, Оля.
Не знаю, как для Вас, а для меня этот месяц тянулся почти бесконечно. То ли погода виновата, эта слякоть и холод, то ли просто сил еще не хватает, не знаю. Даже тому, что зима кончилась, не радуюсь.
Последние дни хожу под впечатлением от одной здешней песни. Говорят, она достаточно популярна, исполняют ее часто, так что Вы, думаю, ее знаете. Там рефреном идут строки: «Я тебя никогда не забуду, я тебя никогда не увижу…» Наверное, если часто слушать, впечатление стирается, да и вообще, может быть, все это чистой воды сентиментальщина и просто попала на мою подготовленную почву… Надо почитать еще этого поэта, у нас его нет. Но вот это:
Даже если, согласно Хафизу,
Мы повторно на землю вернемся,
Мы, конечно, с тобой разминемся —
Я тебя никогда не увижу…
Боже мой, какая невыносимая безнадежность!
Ладно, хватит обо мне. Продолжим наш спектакль.
Утро следующего дня началось с Полковника: он, угрожая пистолетом, выстроил население Ковчега и произнес речь. Естественно, среди выстроившихся не было тех, к кому благоволил он сам или к кому благоволила Принцесса. В речи он повторил примерно то, что вчера за коньяком говорил Клерку. На этот раз, правда, получилось гораздо длиннее. Потом началась раздача пищи. Сегодня она носила символический характер, так как пайка еще никто лишен не был. Клерк по списку называл имя, человек выходил из строя, получал с транспортной ленты поднос с едой и шел на свое место за столом. Процедура была простой и необременительной; кое-кто ворчал, но явного неповиновения не было.
Неприятности начались после завтрака, когда настало время строевой подготовки. Шагать в ногу не хотелось, кое-кто стал шуметь, и Полковнику пришлось применить оружие. Все поняли, что власть наконец в крепких руках. Сразу же объявившиеся добровольные помощники унесли тело, а четыре часа строевой хоть частично, но вернули нации утраченную форму и боевой дух. Во время второй раздачи пищи несколько человек — те, кто не проявил должного рвения — еды не получили; жребий свой они приняли с молчаливой покорностью…
Как-то так получилось, что наши знакомые встали позже обычного. Мастеру приснилось, что он сделал солнце и русалочку; с русалочкой проблем не было, а солнце оказалось крепким орешком, он думал над ним полночи, но ничего не придумал — получалось или грубо, или банально, а так он не любил. Пастора мучила бессонница; он заснул только под утро, приняв люминал. Художнику, вдруг среди ночи обнаружившему себя в постели с молодой прелестной женщиной, подавно не хотелось вставать — как, впрочем, и его расслабленной партнерше. Поэтому все они собрались в столовой между завтраком и обедом, как раз в разгар строевых занятий, проводившихся в большом зале Ковчега.
— Добрый день, — сказали по привычке все, и только Художник подумал, что приветствие звучит несколько фальшиво, подумал не потому, что знал что-то, просто у него было обостренное чутье художника. А может быть, он недомогал после вчерашнего, и все на свете казалось ему фальшивым.
— Странно, что никого нет, — сказала Физик.
— Действительно, — подтвердил Пастор, озираясь. — Обычно в столовой всегда кто-нибудь есть… Дочь моя, — обратился он к Физику, — у вас не найдется таблеток от головной боли?
— Не найдется, — ответил вместо нее Художник. — Я съел все. А что, вы тоже?.. Вид у вас больной, — пояснил он после паузы.
— У меня бессонница, — кротко сказал Пастор. — Я принимал люминал.
— Ужасная гадость, — сказал Художник. — В смысле, и то, и другое ужасная гадость. Болезнь, в которую никто не верит, кроме больных ею, и лекарство, которое крадет сон вместо того, чтобы возвращать его. Знаете, я даже когда напьюсь до беспамятства, среди ночи все равно просыпаюсь совсем трезвым и часов пять не могу уснуть, мучаюсь, а потом засыпаю, а потом просыпаюсь — с вот такой головой…
— Зачем же вы так много пьете? — покачал головой Пастор.
— То есть как — зачем? Странный вопрос «зачем»?.. Я вот, может быть, понять не могу, как это у вас получается — не пить? Вы почему не пьете, Пастор?
— Вы не знаете слова: «Положение обязывает»?
— Знаю, — сказал Художник, — но это не про меня. А вы, Мастер?
— Не знаю, — сказал Мастер. — Не хочется.
— Вот ведь как, — вздохнул Художник, — вам не хочется. Вам, наверное, есть чем заняться, а, Мастер? Вам, наверное, хочется украсить этот мир, повесить в небе солнце и звезды и за игрушечными облаками скрыть эти проклятые каменные своды?
— А разве вам — нет?
— Для кого? Мы скоро благополучно вымрем или перебьем друг друга, и наши труды никто не увидит и не оценит, понимаете — никто! И все видят это, и потому женщины не рожают детей, чтобы не обрекать их на муки или одичание! Неужели вы не понимаете, что тонкий лак цивилизации уже почти слез с нас, и мы уже вполне готовы вцепиться друг другу в глотки!
— Не кричите так, дорогой, — сказала Физик. — С вас-то налет цивилизации еще не слез. Во всяком случае, вы отворачивались, застегивая брюки. Впрочем, говорят, у дикарей условностей гораздо больше, чем в цивилизованном обществе? — обернулась она к Пастору.
— Да, — согласился Пастор, — у них вся жизнь соткана из условностей и ритуалов; у нас в этом отношении проще… Погодите, — удивился он, — а откуда вы знаете, что я был миссионером?
Физик помедлила, пожала плечами.
— Догадалась, — сказала она. — А как — не знаю. Вообще в последние месяцы я стала о многом догадываться…
— Не станьте ясновидящей — это опасно, — очень серьезно сказал Пастор.
— К вопросу о полноте жизни… — медленно сказал Художник, ни к кому конкретно не обращаясь. — Знаете, чем я, наверное, буду заниматься? Я буду писать картину о нашем славном прошлом. Огромную картину. Панно. Или панораму. Личный заказ господина Полковника. Дорогая, напрягите ваше ясновидение: станет он генералом?
— Он что, сам предложил? — спросил Мастер.
— Да. Он сказал: «Великий народ должен иметь ясное представление о своей великой истории».
— А больше ничего не говорил? — спросил Пастор.
— Ничего. Сказал только, что следует отразить все основные моменты.
— Какие именно — не уточнял? — поинтересовался Пастор.
— А что, есть разночтения? — усмехнулся Художник.
— Приступите вплотную — узнаете, — сказал Пастор. — Приступите?
— Наверное, — сказал Художник. — Хоть какое-нибудь дело.
— Послушайте, — удивился Кукольный Мастер, — вы ведь противоречите себе самому. Что вы говорили пять минут назад, помните?
— Ничего я не противоречу, — махнул рукой Художник, — как вы не понимаете?..
— Не понимаю, — искренне сказал Мастер.
— Он хочет совершить маленькую акцию гражданского неповиновения, — сказала Физик. — Так или нет?
— Зачем вы меня выдаете? — спросил Художник.
— Ну, им-то можно, — сказала Физик.
— Им можно — мне нельзя. Зачем мне знать о себе то, чего я знать не хочу?
— Вы это знали заранее или догадались? — спросил Пастор.
— Догадалась, — сказала Физик.
— Мне даже неуютно стало, — сказал Пастор. — Вообще-то это моя привилегия — видеть людей насквозь, а с вами я сам становлюсь полупрозрачным. Чем вы занимались до всего этого? Не телепатией?
— Нет, — засмеялась Физик. — Я занималась любовью.
— Если вы хотите меня шокировать, — сказал Пастор, — то вам это не удастся.
— Я говорю совершенно серьезно — я занималась любовью с точки зрения физики.
— Секс под научным соусом, — сказал Художник. — Очень забавно.
— Эх вы, — вздохнула Физик. — Ни черта вы не понимаете. Для вас любовь — это приятный физиологический акт, а ведь в данном случае слово «любовь» используется как термин, потому что из-за скудости нашего языка прочие термины — это или ругательства, или от них прет карболкой. Но ведь физиология — это только строчка из песни, а всю песню могут спеть так немногие! Не знаю, откуда она берется, эта чудесная сила, но она есть, и именно она позволяет человеку жить без отдыха и сна, творить без усталости, в короткий миг озарения создавать новые слова и языки, без тени страха бросаться в огонь или в небо… Чудовищна энергия любви! Вы знаете, что влюбленный может ускорять или замедлять бег времени? А ведь сами звезды горят потому, что время замедляется около них! Он может управлять случайностями, из миллиона билетов вытаскивая единственный счастливый… или он становится счастливым только в его руках? Вы не представляете, сколько счастливых совпадений возникает вокруг влюбленных! А тепло и свет, которые лучатся от них…
— Понял! — воскликнул Мастер. — Я понял! Ох, простите меня, но я так обрадовался…
— Чему? — спросил Художник.
— Я понял, как сделать солнце.
— Еще одну игрушку? — усмехнулся Художник.
— Простите, Художник, что я вмешиваюсь, — сказал Пастор, — но вы не правы. Или в вас говорит зависть? Вы же прекрасно понимаете, что вся наша прежняя жизнь представляла собой огромный павильон игрушек. Я не говорю, конечно, о тех людях, которым приходилось каждодневно бороться за жизнь; я говорю о других, для кого эта борьба кончилась или даже не начиналась, — о людях обеспеченных. Наверное, среди них девяносто пять из ста всю жизнь занимались только игрушками, правда, придумывая этому занятию более солидные названия…
— Вы хотите сказать… что и искусство?! — возмутился Художник.
— Безусловно, — сказал Пастор. — Причем, заметьте, я вполне одобряю это занятие. Я и сам всю жизнь занимался чем-то подобным. Искусство, религия, спорт, бизнес, вязание на спицах… Просто мне захотелось заступиться за нашего Мастера, и я напоминаю вам, что и вы не без греха…
— Теперь это надолго, — негромко сказал Мастер, наклоняясь к Физику.
— Если их не остановить, они будут спорить до вечера, причем каждый будет абсолютно прав. Я перебил вас тогда, а дело вот в чем: я вдруг понял, как надо сделать солнце. Пусть оно светит и греет, черпая энергию в любви. Я знаю, как это сделать. Но я слаб в теории, и хотел бы, чтобы вы мне помогли…
Несколько позже и в другом месте беседовали Полковник и Клерк.
— Авторитета, авторитета недостает, — с досадой говорил Полковник. — Подумаешь, пистолет. С пистолетом и дурак сможет. А надо, чтобы только показался — и все встают, и не потому, что боятся, а потому, что не мыслят иначе. Чтобы восторг! Чтобы в глазах счастье и великая готовность подчиняться! Как этого добиться? Эх, орденов маловато, скуповат был покойник король на ордена… Да, орденов надо бы побольше, — он придвинул к себе изящную бронированную шкатулку старинной ручной работы и стал рыться в ней, выбирая ордена покрупнее; выбрав, схватил перламутровый маникюрный ножичек и, вывернув шило, стал неумело ковырять им драгоценное генеральское сукно парадного мундира.
— Позвольте, Полковник, — Клерк мягко отобрал у него инструмент. — Зачем вам утруждать себя? А хотите, устроим торжественное награждение?
— Не стоит, не стоит, — проворковал Полковник. — Вот если бы так же просто было переменить погоны…
— Генеральские погоны были бы вам очень к лицу, — сказал Клерк. — И даже маршальские. А выше звание есть?
— Генералиссимус… — мечтательно сказал Полковник. — Но только на время военных действий, — вздохнул он.
— Ради этого не грех начать небольшую войну, — сказал Клерк.
— Все равно звание может присвоить только Принцесса, — еще раз вздохнул Полковник.
— А вы женитесь на ней, — брякнул Клерк, возясь с орденами.
Полковник даже вздрогнул.
— Но… как так?.. Ведь я же не королевской крови. И потом… я все-таки уже в возрасте и… это… я не могу, вы понимаете…
Клерк с интересом смотрел на него.
— Ерунда, — сказал наконец он. — Если хорошо порыться в архивах, непременно выяснится, что вы побочный внук одного из принцев-консортов — они их столько наштамповали… А что касается вашего «не могу», то поверьте — молоденькая женщина при желании всегда сможет расшевелить любого мужчину, независимо от возраста.
— Но ведь Принцесса может и не захотеть! — заволновался Полковник. — Может и не согласиться!
— Доверьте это дело мне, — сказал Клерк. — Кстати, вы в курсе, что' Кукольный Мастер — скрытый коммунист?
— Не может быть, — сказал Полковник. — Я его двадцать лет знаю.
— И все-таки, — сказал Клерк.
С Принцессой занимались Физик и Пастор. Физик обучала ее точным наукам, а Пастор — всему остальному. Сегодня они задерживались, и Принцесса в ожидании урока валялась на диване и читала роман. В романе героиня убегала от мужа-банкира с гусарским поручиком. Это происходило на фоне живописного народного восстания — почему-то в защиту короля и королевы от козней парламента, — и читалось взахлеб. И нет ничего удивительного в том, что она так долго не замечала отсутствия своих учителей. Но Физик увлеклась идеей Маетера и села за расчеты, а Пастор от своей паствы узнал о подробностях введения на Ковчеге нового порядка…
— Скажите, Полковник, — спросил он Полковника, придя к нему в апартаменты, — зачем вы это затеяли?
— Что значит — «затеяли»?! — сразу повысил голос Полковник. — Разве вы не видите, что без решительных действий мы погибнем? Процветают разврат, анархия, преступность. Дисциплина отсутствует. Что вы как служитель церкви, как носитель духовной власти сделали для их искоренения?
— Я, к сожалению, не носитель духовной власти, — сказал Пастор. — Здесь, в Ковчеге, я — частное лицо.
— А раз так, господин Частное Лицо, — с сарказмом сказал Полковник, — не путайтесь под ногами тех, кто пытается что-то сделать.
— Но ведь вы убили человека, — сказал Пастор.
— Бунтовщика, — сказал Полковник. — Следует различать. Все, я вас больше не задерживаю, — и он встал.
— Будем надеяться, — сказал Пастор, — что это последняя жертва.
Он вышел от Полковника, постоял в раздумье и направился к Принцессе. Но дверь в покои Принцессы оказалась запертой. Если бы Пастор прислушался, он услышал бы за дверью приглушенные голоса. Но он был занят своими мыслями и не прислушался.
— Мы с вами взрослые люди, — говорил Клерк, развалившись в кресле, — и можем довольно щекотливые вопросы обсуждать без обиняков. Не так ли?
— Попробуем, — сказала Принцесса. Она сидела на диване, отложив книгу, и с интересом смотрела на Клерка.
— Дело в том, что ваша власть иллюзорна, — сказал Клерк. — И вы это прекрасно понимаете. В предыдущие три года нашего нового существования казалось — и вам, наверное, тоже, — что можно обойтись совсем без власти. Это было пагубное заблуждение. Настал момент, когда для сохранения человечества нужна твердая рука, способная осуществлять наиболее рациональное управление. К счастью, такая рука есть. Это наш Полковник, который уже принял меры по обеспечению дисциплины и укреплению морали. Но он нуждается в укреплении, в решительном поднятии его авторитета. В глазах народа вы наследница богом данной королевской власти. Поэтому ваш брак с Полковником придаст наиболее благоприятный оттенок всем его начинаниям.
— И что же он собирается делать? — совершенно спокойно спросила Принцесса.
— Устранить анархию, — начал перечислять Клерк, — восстановить семьи, настаивать на безусловном продолжении рода…
— Благодарю вас, — перебила Принцесса. — Я поняла. Ну что же, я подумаю и сообщу Полковнику свое решение.
Клерк встал и подошел к ней вплотную.
— Девочка, — сказал он, глядя на нее сверху вниз, — ты что, всерьез думаешь, что твое мнение кого-то интересует?
— Как вы смеете? — побледнела Принцесса.
— Слушай меня внимательно. Если ты сегодня — сегодня же! — не дашь согласия, то твой Мастер умрет. Поняла? И не просто, а очень медленно и болезненно — я уж позабочусь. А ты будешь сидеть рядом на пенечке и все видеть и слышать. Тоже поняла? Умница. Так вот с сегодняшнего дня будешь все делать так, как я велю. Его жизнь в твоих руках. Станешь артачиться или пикнешь кому-нибудь — все. Ну?
Принцесса молчала, сжав побелевшие губы. Клерк взял ее за подбородок и вздернул голову вверх.
— Ну? — повторил он.
— Согласна, — прошептала Принцесса.
— Вот и умница. Да, кстати — никаких этих дамских фокусов с таблетками или лезвиями. Ему от этого легче не будет.
— Совершенно не представляю, что теперь будет, — говорил Пастор Художнику. — Полковник сорвался со всяческих тормозов. Он убил уже четверых. И собирается продолжать. Что делать?
— Вы просите у меня совета? — удивился Художник.
— Я жалуюсь на судьбу, — сказал Пастор. — Кстати, на нее же я уповаю. Помните выражение: «Сила есть — ума не надо»? Остается надеяться, что Полковник в опьянении силой совершит наконец такую глупость, которая его погубит.
Художник пожал плечами и ничего не сказал.
В тот день совершилось много событий, но не событиями он, как мне кажется, интересен. Меня поразило поведение людей. Жизнь Ковчега замерла, и более чем полторы сотни людей оцепенели. Многих сковал ужас; многие выжидали; многие растерялись; были и такие, которые поспешили воспользоваться ситуацией и занять наиболее выгодные места. Полковник понемногу обрастал свитой. И за весь день, когда он во всех направлениях, как мечущаяся в рикошетах пуля, пронизывал Ковчег, не нашлось ни одного, кто осмелился бы подставить ему ногу. Власть он получил сразу, как по волшебству — все признали его право распоряжаться ими полностью, вплоть до распоряжения жизнью и смертью. Вначале он расстреливал только тех, кто пытался сопротивляться или хотя бы не подчиняться…
До сих пор не понимаю, откуда у нас столько холопства? Неужели действительно от обезьян?
Вы, наверное, хотите спросить, что делал я сам? Ничего. Я только что перенес довольно тяжелую пневмонию и лежал в лазарете. Доктор считал меня чересчур слабым и долгое время ничего не говорил. Но я, ей-богу, не знаю, что делал бы в тот день, окажись я на пути Полковника…
В жизни Ковчега произошло много перемен. Кроме обязательной строевой, Полковник вменил в обязанность всем жителям пять часов в день посвящать благоустройству территории. Были четко определены семейные пары, и какие-либо изменения в списке разрешались только с ведома самого Полковника. Клерк произвел конфискацию всех противозачаточных средств и запер их в сейф (от сжигания на костре отказались ввиду возможного демографического взрыва). Был оглашен Рескрипт о Наказаниях; в качестве мер пресечения были объявлены: принудительные работы на различные сроки и различной тяжести, порка, лишение и снижение пайка, а также смертная казнь через расстрел или повешенье. Были сформированы три министерства: Министерство Порядка, Министерство Информации и Министерство Продолжения Рода. В давно пустовавшей механической мастерской началось производство колючей проволоки…
Вечером Министерство Информации объявило о предстоящем в ближайшее время бракосочетании Принцессы и господина Полковника.
На этом я, наверное, прерву свой рассказ. Слишком много событий впереди, и мне надо подумать, о чем и как рассказывать дальше. Все подряд — невозможно. И в то же время так трудно выбрать что-то более, чем остальное, заслуживающее внимание. Так что я прощаюсь с Вами, возможно, месяца на два.
До свидания. Не скучайте, Оля.
23.05.84.
Здравствуйте, Оля.
Вот видите, как трудно писать романы с продолжением: обещал через два месяца, а получилось почти через четыре. Но это главным образом по личным причинам: болела мама. Теперь она поправилась — относительно, конечно, — и я снова принимаюсь за письмо. Вообще-то был у меня довольно сильный позыв бросить это занятие — после того, как я увидел Вас в компании Ваших близняшек. Честное слово, такого счастливого лица, как у Вас, я не видел никогда в жизни. Но по складу своего характера мне как-то неловко бросать на половине начатое дело, поэтому сказку я постараюсь дорассказать, пусть даже с другими целями. Итак, продолжаю.
— От этого оно не загорится, — сказал Мастер. — Нечего даже было и рассчитывать.
— Ну почему же? — возразила Физик. — Не так уж много мы о себе знаем. А вдруг?
— Нет. Мне следовало бы помнить, в каком месте мы находимся. Это все равно что строить водяную мельницу в Сахаре.
— Но вам же было хорошо?
— Конечно, было. Но, кажется, с не меньшим удовольствием я съел бы что-нибудь вкусное.
— Можно попросить Принцессу.
— Не стоит, наверное.
— Вот вы говорите — в Сахаре… Смотрите: хоть чуть-чуть, а светится. Не так уж и в Сахаре.
— Вряд ли это из-за нас.
— Да. Во всяком случае, не из-за меня. Странно, уж я, кажется, и верю в любовь, и знаю о ней все, что возможно, и далеко не фригидна — а вот не дано… Все время у меня так: то из любопытства, то от скуки, с вами вот в порядке эксперимента… Интересно, от кого же оно все-таки светится?
Солнце, висевшее под потолком мастерской, голубовато светилось, как пустой экран невыключенного телевизора, иногда по нему пробегали мерцающие блики, иногда они задерживались и играли, напоминая полярное сияние, а иногда исчезали совсем. И легкое тепло исходило от него — легкое, почти незаметное…
— Все равно его надо вынести в большой зал, — сказал Мастер.
— Конечно, — сказала Физик. — Зря, что ли, старались?..
Полковник и Клерк вновь беседовали за коньяком — это у них входило в традицию.
— Это было совсем не трудно, — сказал Клерк. — Она согласилась сразу. Наверное, давно мечтала.
— Даже не верится, — сказал Полковник. — Такой старик в роли жениха…
— Какой же вы старик, бросьте. Главное — ничего не бояться. А давайте, я вам сейчас такую женщину приведу, тигрица, а не женщина, она вас так полечит…
— Ну что вы, накануне свадьбы…
— Тем более! Вам просто надо обрести веру в себя. Это как с властью, понимаете?
— Не надо, я думаю, все будет хорошо. Я так, знаете, предчувствую…
— Как хотите. Прозит!
— Я думаю, нам нельзя останавливаться на достигнутом. Это как езда по скользкой дороге: нельзя резко тормозить. Надо, пока есть патроны, завершать преобразования. Главное — это не забывать о цели. Мы сейчас должны рассчитывать на сто поколений вперед. Чтобы постоянно прослеживать род, причем примерно одинаковая численность людей все время была постоянной, вы понимаете меня? Надо это тщательно обдумать и воплотить. Очень мало нельзя, очень много тоже плохо, нужна стабильность. Я думаю, без регларен… регмалер… регламентации не обойтись. Давайте прямо сейчас решим, как это все будет в будущем. Забота о будущем — вот что должно двигать нами.
— Разумеется, — с воодушевлением подхватил Клерк. — Я предлагаю следующее: теперь, после введения нового порядка, начнут родиться… рождаться дети. Надо, чтобы Министерство Продления Рода создало выбраковочную комиссию. Все слабые, болезненные, хилые должны уничтожаться. Особенно мальчики. Следует добиться того, чтобы уже в следующем поколении число мужчин было раз в десять меньше числа женщин. И так постоянно. Что это даст? Главное — это улучшение человеческой породы. Второе, и тоже главное — позволит поддерживать численность населения на одном уровне без ограничения рождаемости. Наоборот, пусть рожают как раз больше, будет из чего выбирать. Наконец, создание совершенно нового общества, в котором мужчина будет самой природой поставлен над женщиной!
— Что-то вроде гаремов, — с пониманием кивнул головой Полковник.
— Вот-вот! Мусульмане понимали толк в жизни! Так что давайте, за оставшиеся девять месяцев как следует подготовимся и во всеоружии… Н-да, не подумал… А ведь не все нас поймут, народ не приучен мыслить государственными категориями, тут такое может начаться… Хорошо, что заговорили о подготовке. Может быть, имеет смысл заняться выбраковкой уже сейчас? Зачем позволять оставлять потомство таким законченным алкоголикам, как Художник? Или таким мозглякам, как ваш Мастер — не пойму, почему вы так хорошо к нему относитесь?
— И что вы предлагаете, убивать их, что ли?
— Да не обязательно. Можно стерилизовать, а можно просто изолировать. Пусть живут. Пока.
— Ладно, подумаем. Сейчас они никому не мешают.
— Сложный вопрос: мешают или нет. Посудите сами: пользы от них новому обществу никакой, а вред всегда может быть. Неприятные они люди. Скользкие. И Пастор этот… Не люблю его. Да, о подготовке… Может быть, имеет смысл, хотя бы на первое время, разделить вообще всех мужчин и женщин? Хотя нет, смысла не имеет. А вот детей — так точно надо сразу отнимать у родителей и растить по отдельности. Воспитывать в новом духе. Иначе ничего не выйдет. И Художника надо простимулировать, пусть там в своей картине как надо историю отражает, а то потомки посмотрят — а предки-то не так жили… Все должно иметь смысл. Все должно подчиняться одной идее. И если будем ее придерживаться неуклонно, все вещи обретут свой смысл, и к цели мы придем непременно… Коньяк весь уже?
— Нет, еще есть.
— Надо срочно заняться выбраковкой. И начинать с этих… с интеллигентов. На кой черт они нужны? Очкарики и мозгляки. Человек будущего должен быть здоровым, сильным, красивым! А они-то сопротивляться начнут. Они чу-уют! Каких только слов не напридумывают! И культура, мол, и знания, и те-те-те!.. Вроде как без них и не проживешь! Проживем, прекрасно проживем, вы еще завидовать будете. Мнят о себе много, а толку от них… Так что мы и начнем: потихоньку, по одному, чтобы без паники… А то и поработать заставим, пусть пещеру порасширяют да поблагоустраивают. Привыкли бездельничать. Где у нас там список? А, вот. Смотрите: архитектор, сорок шесть лет. На кой черт на него жратву переводить? Или вот этот: писа-атель! Надо еще узнать, что он там пишет. Может, он такое пишет… Анте… антрепренер… это что за чушь? Полковник, вы не знаете, что такое антерпринер? Я что-то слышал этакое, но не помню. Ладно, разберемся. А впрочем, чего там разбираться, всех их под корень…
— Ну, вы что-то размахнулись.
— Только так и надо. Я, если хотите знать, нутром чую — надо их убирать. Потому что тут или-или: или мы их, или они нас. Убирать беспощадно. Это и в наших интересах, и в интересах будущих поколений. Всегда от них был один вред и смута; пока нужны они, их еще можно терпеть, а теперь не стоит. Опасно.
— Да какая от них опасность, что вы…
— Вы уж мне поверьте, я знаю, что говорю.
— Можно, конечно… В конце концов, мы ничего не теряем.
— Вот именно.
— Прозит!
— Прозит!
— Потомки нам не простят, если мы сейчас не воспользуемся ситуацией и не заложим основы идеального общества.
— И будут правы, если не простят. Во имя будущего!
— Во имя!
Первое и единственное покушение на Полковника было совершено утром следующего дня: подросток, сын одного из расстрелянных, метнул в Полковника нож. Полковник получил неопасную, но болезненную рану правой грудной мышцы. Мальчика схватили, и Клерк куда-то увел его. Никто не знает, что с ним стало.
— С Принцессой творится что-то страшное, — говорил Пастор, расхаживая по мастерской. — От этой истории с ее согласием воняет самым неприкрытым шантажом, но я ума не приложу, на чем ее держат. Главное, сама она молчит. Хоть бы намек какой… Или задумала она что-то? Она ведь отчаянная девица, от нее всего можно ожидать. Понимаете, страха я в ней не чувствую. Наоборот, решимость какая-то. Но ведь наломает дров девчонка, а то и хуже… Давайте вместе подумаем, что делать будем?
— У нас нет. материала для думанья, — сказал Художник. — Надо попытаться разузнать подоплеку этого дела.
— Пожалуй, да, — сказала Физик. — Попробую-ка я с ней поговорить как женщина с женщиной. А вы что думаете по этому поводу, Мастер?
— Не знаю, — сказал Мастер. — Меня это как-то выбило из колеи… Видимо, это действительно шантаж, но действовать вслепую нельзя.
— От вас я ждал более свежей мысли, — сказал Пастор.
— Не могу отвечать за ваши несбывшиеся ожидания, — неожиданно резко сказал Мастер.
— Не можете — не надо, — сказал Пастор. — Тем более что этого я от вас и не требую. Просто теперь нам действительно придется думать и действовать быстро и безошибочно. Время собирать камни прошло, наступает время бросать камни…
(Дорогая, он действительно так сказал — слово в слово. Я абсолютно уверен, что он вполне мог бы подыскать готовую цитату, подходящую в данной ситуации — у того же Екклезиаста, — но он взял эту, всем известную, и на глазах публики вывернул ее наизнанку…)
Все — Мастер, Физик, Художник — посмотрели на него, и ни один не сказал вслух, но подумал про себя каждый, что прошло время жить и наступило время умирать.
Знаете, дорогая, я уже не первый раз встречаюсь с подобным психологическим феноменом: вокруг человека происходят самые бурные, необыкновенные и даже грозные события, и человек реагирует на них, но как-то отвлеченно — до тех пор, пока кто-то, очень знакомый, не совершит в русле этих событий какого-нибудь поступка или хотя бы не заговорит непривычным тоном; только после этого чувствуешь себя по-настоящему вовлеченным в действие. Разница примерно такая же, как если наблюдать за уличным шествием из двери дома — или примкнуть к нему. Но для этого часто надо, чтобы кто-то рядом шагнул первым.
Первым, как ни странно, шагнул Пастор.
Художник всегда работал необыкновенно быстро, а на этот раз его многое подгоняло. Еще позавчера он загрунтовал и разметил гладко обтесанную каменную стену в большой пещере. Картина получалась внушительной: четыре на два, — но он рассчитывал управиться за неделю, тем более что поначалу это замышлялось не как произведение искусства, а, как догадалась Физик, «акция гражданского неповиновения». Потому что главной темой были зверства первопоселенцев — данные общим планом — и страдания узников концлагерей и рудников времен так называемого «военного правления»; это и было главной темой картины и отражалось на первом плане. Художник знал, что Полковник будет крайне раздражен выбором темы; потом ему пришло в голову, что соскребать краску никто не станет и картину скорее всего просто закрасят — и она получит шанс сохраниться для потомков; и, хотя в существование потомков Художник верил слабо, в нем проснулось вдохновение. Он никогда не произносил это вслух — кроме как с иронией или сарказмом, — но всегда тайно верил в него и прятал эту тайну от других. Примерно так взрослые люди тайно верят в свою способность летать, смутно помня детские сны…
Мастер, завернув в брезент, вынес солнце в большую пещеру и здесь выпустил его. Оно медленно-медленно стало подниматься, дрожа и переливаясь, как огромный мыльный пузырь; по-прежнему оно слабо светилось и мерцало, и только приблизив к нему лицо, можно было почувствовать тепло. Солнце поднялось под свод пещеры и замерло там, а Мастер долго стоял под ним с пустым брезентом в руках, потом перебросил брезент, через плечо и пошел в мастерскую, где его ждала Физик.
— Выпустили? — спросила она.
— Да, — сказал Мастер. — Дурацкая затея.
— Надо делать бомбы, — сказала Физик.
— Да, — сказал Мастер. — Сейчас начнем.
— Вы очень расстроились?
— А вы?
— Не знаю. Кажется, не очень. Я ожидала этого.
— А я вот нет. То есть знал, но не верил. Не верилось.
— Надо знать людей.
— А вы знаете?
— Боюсь, что да.
— Почему боитесь?
— Ну что вы спрашиваете? Ведь это же так понятно…
— Да, конечно.
— А впрочем, ни черта я не знаю. И вы не знаете. И никто не знает, один Пастор думает, что знает, но это у него возрастное… Извините.
— За что?
— Просто так… Будем сегодня работать или не будем?
— Обязательно будем.
— Не расстраивайтесь так, ладно?
— Постараюсь.
— Потому что я тоже расстраиваюсь.
— Хорошо, я не буду.
— Сегодня надо хотя бы начать…
— Вы разговаривали с Принцессой?
— Нет, она не захотела.
— Как странно.
— Действительно, странно. Такое впечатление, что она что-то задумала и боится, как бы ей не помешали.
— Она же совсем еще ребенок.
— Ну что вы! Ей шестнадцать лет. Думаю, она хочет отравить Полковника.
— Недоставало только ее еще впутывать в эту историю!
— Эта история — История.
— А хоть бы и так. Неужели…
— Послушайте, Мастер. Девочка — умница, всем бы нам такими быть. Она реально может сделать то, на что мы едва ли решимся, а если решимся, то вряд ли сумеем. Ни в коем случае нельзя мешать ей.
— Но это просто низко — взрослым людям прятаться за спиной девочки!
— О том, чтобы прятаться, речи еще нет. Кстати говоря — будем мы, наконец, делать сегодня бомбы или не будем?
Этой ночью стали пропадать люди. Клерк и с ним двое-трое парней из добровольных помощников (которые отныне именовались ДИС — сокращенно от «Добро И Справедливость») врывались в комнаты и уводили с собой мужчин никто не знал куда. В первую ночь увели троих, произвольно отмеченных в алфавитном списке. Наутро было объявлено, что в Ковчеге вызревал страшный заговор, который удалось раскрыть буквально в последнюю минуту.
На утренней поверке Полковник построил всех в одну шеренгу и несколько раз медленно прошелся вдоль строя, пристально вглядываясь в лица стоящих навытяжку мужчин и женщин. На четверых он показал зажатым в руке стеком, их тут же уводили. Люди оцепенели от ужаса. Потом им приказали стоять «вольно», но не расходиться. Стояли до обеда. Обед прошел в жутком молчании. Стояли после обеда. Увели еще семерых. Потом остальным приказали расходиться.
— Мне кажется, получилось неплохо, — сказал Клерк. — В заговор, я думаю, все поверили. Только я так и не понял, как вы выбирали тех, первых. Из тех, кого назначили, остался только один, остальные — другие.
— Что я их, всех в лицо должен помнить? — возмутился Полковник. — И какая разница — кого? Количество ведь соблюдено, а это главное.
— Разумеется, — сказал Клерк.
— Кто-то идет, — сказала Физик, и Мастер тут же накинул брезент на рабочий стол.
Вошел Пастор. Молча сел. Покачал головой.
— Что-то еще?.. — спросила Физик.
— Это немыслимо, — сказал Пастор. — Они продолжают убивать.
— Всех подряд? — спросила Физик.
— Пожалуй, да. Но главным образом интеллигентов.
— Как всегда, в первую очередь.
— Естественно. Самая непокорная фракция.
— Скоро примутся и за нас.
— Лично за вас — вряд ли. Вы необходимы как де таль жизнеобеспечения. Это делает вас неуязвимой и уязвимой одновременно.
— Пастор, что вы предлагаете делать дальше?
— Не знаю. Рано или поздно Полковник совершит серьезную ошибку. Этого нельзя упустить. Хотя… Одну он уже точно совершил: он пытается создать общество.
— То есть?
— То есть он считает, что в наших условиях может существовать общество. Не может оно существовать. Ведь мы задуманы не как общество. Мы — живые консервы. Консервы. Банку должны вскрыть через две тысячи лет. Чтобы сохраниться, мы обязаны не меняться. А перестать меняться мы сможем тогда, когда изменимся радикально. Полковник положил начало изменениям и уже вызвал к жизни факторы, которые уничтожат его самого…
— Вы верите в инстинкт самосохранения у человека? — вступил в разговор Мастер.
— Вы хотите сказать, что история этого не подтвердит? — усмехнулся Пастор. — Но ведь то, что случилось, — это вовсе не коллективное самоубийство. Это катастрофа. Резонансное накопление неблагоприятностей. Вы знакомы с теорией катастроф?
— Почти нет.
— Это интереснейшая дисциплина. Когда-нибудь мы побеседуем с вами на эту тему. В человеческом обществе, в сущности, идут те же процессы, что и в иных сложных системах. Помните анекдот о соломинке, переломившей спину верблюду? Типичный образчик катастрофы. Об этом же говорит и диалектика…
— Вы ждете, что кто-нибудь положит эту соломинку?
— Кто знает, что может оказаться этой соломинкой?
— И что же может оказаться?..
— Во всяком случае, не физическое уничтожение Полковника.
— Я уже ничего не понимаю, — сказал Мастер. — Пастор, у вас что, склероз? Вы не помните, случайно, что именно вы говорили вчера в это же время?
— У меня нет склероза, — сказал Пастор, — меня проверяли. Что касается вчерашнего, то об устранении Полковника я не говорил ничего. Сейчас, поймите вы, устранить его, с одной стороны, уже поздно, с другой — еще рано. Клерк много бы дал, чтобы какой-нибудь… э-э… ну, ладно… убил Полковника. Поясню. Поздно потому, что Полковник успел захватить и начал осуществлять власть, пользуясь поддержкой части населения. У них есть организация, есть программа, кстати, весьма забавная; такое впечатление, что составлял ее типичный половой неврастеник, налицо все признаки перманентной сексуальной неудовлетворенности. Это было бы смешно, если бы не требовало уничтожения почти половины населения… Так что если Полковника убрать, власть все равно останется в руках этой шайки. Это почему поздно. А рано потому, что вся оппозиция пока состоит из нас четверых, хотя потенциально она велика. Но пока это «потенциально» не перейдет в «кинетически», трогать Полковника глупо.
— Значит, в перспективе — гражданская война? — спросил Мастер.
— Очень вероятно, — сказал Пастор.
— Огромные жертвы — ведь эмиграция невозможна, — разруха, голод, может быть, всеобщее уничтожение, ну да ладно, авось обойдется, наша победа… А потом? Опять тепло и сытость? Что же вы молчите? Что говорит ваша диалектика? А ваше предвидение, Физик? Ну что вы молчите?
— Вся беда в том, Мастер, — сказал медленно Пастор, — что вы абсолютно правы. Цугцванг — вы знаете это слово? Нельзя пропускать ход, а любой ход ведет к проигрышу. Что делать в такой ситуации?
— Изменить правила игры.
— Ради бога. Если сумеете…
— Знаете что? — сказала Физик. — Пойдемте к Художнику. А то он там все один да один…
— Надо спрятать бомбы, — сказал Мастер.
— Я знаю куда, — сказала Физик. — В реакторный отсек. Они боятся его как огня.
— Я не пойду с вами, — сказал Пастор. — Я хочу еще поговорить с Принцессой… А ведь программа Полковника, как бы уродлива она ни была, сулит выживание человека как вида — хотя и сильно измененного как члена социума. Может быть, стоит подумать — да и поддержать ее?
— Это вы так шутите? — спросил Мастер.
— Это я так размышляю, — сказал Пастор и вышел.
— Ну и что вы на это скажете? — обратился Мастер к Физику.
Физик молча развела руками.
Последние двое суток Принцесса прожила как в кошмаре — неимоверно подробном и затянувшемся кошмаре. Она металась по своим комнатам, но выйти из них ей мешал откуда-то взявшийся ужас перед этими пустыми полутемными коридорами; она часами сидела в одной позе, напряженно размышляя, но не могла удержать в голове ни одной мысли. Клерка следовало убить, это она знала точно. Но как? Яда одна только порция. Если отравить Клерка, как тогда быть с Полковником? И во что насыпать яд? Вино из ее рук он не возьмет, не дурак ведь. А во что больше? Один раз ей пришла дикая мысль отравить Мастера, избавить его от мук и обрести самой свободу действий — и она долго не могла очиститься от омерзения к себе. Самое простое — отравиться, ее много раз подмывало это сделать, она буквально ощущала горький вкус яда на языке; но нет, нельзя, надо жить, чтобы жил он, жил и ни о чем не догадывался, а она побудет немного куклой на ниточках, немного, до момента… Будет же какой-нибудь момент. Потом она вспомнила и поразилась, как могла забыть о таком необходимом предмете. Она перерыла все саквояжи и в одном нашла то, что искала, — маленький браунинг с перламутровой рукояткой. Она вытащила обойму и заплакала: в обойме был всего один-единственный патрон. Коробочку с патронами она так и не нашла — вероятно, коробка была среди тех вещей, что остались наверху. Но и один патрон нес в себе пулю. Она положила пистолет под подушку, сразу успокоилась и стала ждать. Ждать ей пришлось всего несколько часов.
Принцесса любила Мастера всю жизнь, и если в прежние времена такая любовь могла быть только безнадежной или преступной, то теперь Принцесса готова была благодарить небо за это пожизненное заточение. Пусть он все еще видит в ней только августейшего ребенка — она объяснит ему, что он ошибается, она такая же женщина, как и другие, — но никто из этих других не любит его так, как она. Почему она не сказала ему этого несколько дней назад? Почему не решилась? Господи, как обидно…
Клерк вошел к ней без стука, уверенными шагами прошел через прихожую, вошел в гостиную; Принцесса сразу узнала его шаги, его наглую развинченную походку — и внутренне подобралась, приготовилась. На секунду она испугалась, что руки будут дрожать от волнения, быстро взглянула на них — руки не дрожали. Она откинула со лба волосы, улыбнулась и села прямо, опираясь руками о диван — так, что кончики пальцев правой руки касались гладкой рукоятки пистолета. Клерк вошел в кабинет.
— Привет, — сказал он. — Ну как, куколка, готовишься понемногу?
— Уже приготовилась, — почти весело сказала Принцесса.
— Прелестно! — сказал Клерк и плюхнулся в мягкое кресло рядом с журнальным столиком. Когда он снова поднял на Принцессу глаза, то увидел только маленький и очень черный четкий кружок пистолетного дула; все остальное будто терялось в тумане.
Принцесса впервые в жизни видела, как человек мгновенно становится синим. Лицо Клерка изменилось страшно, глаза остекленели, рот оскалился, он вдавился в спинку кресла и сползал все ниже и ниже, прикрываясь вытянутыми вперед растопыренными руками; он был настолько жалок, что Принцесса помедлила — и в следующее мгновение Клерк ногой подбросил вверх столик, журналы и книги разлетелись веером, а сам он в каком-то немыслимом прыжке перелетел, изогнувшись, через подлокотник кресла и на четвереньках бросился к двери, Принцесса вскочила на ноги и опять промедлила с выстрелом, боясь промахнуться, — и вдруг в дверях оказался Пастор. Никто не слышал, как он вошел. Клерк налетел на него, поднырнул ему под руку и вдруг оказался позади, за спиной Пастора, одной рукой держа его за шею, а другой что-то нашаривая у себя в кармане; Принцесса сделала еще два шага вперед, Пастор прохрипел: «Стреляй!», а Клерк вытащил из кармана пружинный нож, раскрыл его и приставил лезвие к груди Пастора.
— Брось пистолет! — крикнул он сорвавшимся голосом.
Принцесса еще шагнула вперед, продолжая ловить на мушку его лицо.
— Брось пистолет, сука! — зажмурившись, завизжал Клерк, и в этот миг Пастор рванулся. Несмотря на свои без малого семьдесят лет, он оставался сильным и крепким человеком, годы, проведенные в сельве и джунглях, закалили его; локтем левой руки он ударил Клерка под ложечку, а правой попытался перехватить руку с ножом, но промахнулся и схватил за запястье, за рукав пиджака, материя с треском разорвалась, и Принцесса увидела, как лезвие все, по рукоять, погружается в грудь Пастора; он коротко и страшно вскрикнул, выгнулся дугой и, обмякнув, повис на руках Клерка; Клерк разжал руки, и тело Пастора, неестественно ломаясь в суставах, с громким стуком упало на пол. Клерк стоял, прижавшись к стене и ловя ртом воздух. Принцесса еще шагнула вперед — теперь их разделяло шага три, не больше, направила пистолет на его грудь — Клерк конвульсивно дернулся, без прикрытия он был как голый — и нажала спуск. Курок сухо щелкнул. Патрон дал осечку.
Несколько секунд они неподвижно стояли как стояли: Клерк — прижавшись к стене, а Принцесса — держа уже ненужный пистолет в вытянутых руках. Позы их не менялись, но менялись лица. С лица Клерка пропала бледность, закрылся рот, глаза сузились, потом лоб и щеки стали все больше и больше краснеть, приобретая свекольный оттенок; Принцесса, наоборот, побледнела, и лицо ее делалось спокойным, слишком спокойным, противоестественно спокойным, отрешенным… Вдруг щеку ее свело судорогой, она в досаде закусила губу и бросила пистолет в Клерка. Пистолет ударил его в грудь, в то место, куда должна была попасть пуля, и Клерк будто очнулся. Он перевел дыхание, наклонился, не спуская глаз с Принцессы, левой рукой нащупал нож и вынул его из раны. Потом перешагнул через труп Пастора и двинулся на Принцессу. Она отступала, пока не наткнулась на диван. Клерк сильно ударил ее по лицу тыльной стороной кисти. Она упала, но продолжала смотреть на него. Он отвернулся, подошел к портьере, вытер об нее нож и сунул его в карман; потом посмотрел на разорванный рукав пиджака, покачал головой и пошел из кабинета. В дверях он остановился и оглянулся.
— Ну что же, — сказал он. — Тебя никто не неволил. Сама выбрала, — и он криво усмехнулся.
И только в эту секунду Принцессе стало страшно. Не просто страх — ужас обрушился на нее, заглушив мгновенно все остальные чувства, все на свете, все, кроме одного: того, что должно было последовать за этим неудачным восстанием, нельзя было допустить, нельзя — любой ценой, любыми средствами, любыми, совершенно любыми… Она бросилась к Клерку, она стояла перед ним на коленях, она хватала его за руку, молила его, валялась у него в ногах — а он стоял и смотрел… И улыбался.
— Ладно, — сказал он наконец. — Пусть он поживет. Но платить тебе все равно придется. Раздевайся.
И Принцесса дрожащими пальцами, торопясь, начала расстегивать платье…
Оля! Простите, что я заставил Вас прочитать все это. Понимаете, все так и было, и что-то пропускать и недоговаривать, мне кажется, — значит проявить неуважение к тем, кто это перенес и пережил. Художник как-то сказал мне: «Какой смысл говорить правду, если говорить не всю правду?» Я долго пытался придумать возражение, но так и не смог. Как и на жуткий афоризм одного японца: «Терпение — это романтическая трусость».
Сегодня я не могу больше писать, я страшно устал. До свидания.
10.09.84.
Здравствуйте, Оля!
Начинаю это письмо с твердым намерением дорассказать все до конца. Получится или нет, не знаю, но постараюсь.
Будет, думаю, лучше, если я сразу перескочу через три дня, коротко перечислив основные события. Продолжалась выбраковка, хотя и не так интенсивно, как в первый день: исчезало по два-три человека за сутки. По-прежнему ссылались на заговор. Согласно официальной версии, заговорщики злодейски убили Пастора, мстя ему за участие в разоблачении сообщников; похороны Пастора завершились всеобщим траурным парадом, который принимали, стоя рядом на дощатом помосте, напоминающем эшафот, Полковник и Клерк: оба при орденах и с черными бантами на груди. На строевую подготовку теперь отводилось меньше времени, зато каждый должен был пять часов в день отработать на благоустройстве — под наблюдением инспекторов ДИСа. Физик вела рискованные разговоры, и к концу третьего дня у нее уже была группа человек в семь. Клерк развернул тайную торговлю презервативами, получая за них разные милые безделушки или услуги; кстати, члены ДИС снабжались ими бесплатно. Полковник не без труда одолевал Наполеоновский Кодекс — он желал знать, как в тех или иных случаях поступал его предшественник. Доктора в преддверии свадьбы подкармливали его стимуляторами, а Клерк раздобыл где-то порнографический журнал, и Полковник, разглядывая картинки, ощутил кое-что полузабытое и очень обрадовался. Клерк часто заглядывал на полчасика к Принцессе. Мастер продолжал делать бомбы. Художник закончил картину.
— А вам не кажется, что вы акцентировали внимание не на том, на чем следовало? Представьте себе, какого мнения о нас будут потомки, если оставить все как есть? — вопрошал Полковник, переводя взгляд с Художника на картину и обратно.
— Но вы же не собираетесь оставлять все как есть, — пытался возразить Художник. — Я слышал, грядут перемены. Поэтому изображение тягот и мук предков только оттенит счастливую жизнь потомков. Кстати, давайте я напишу ваш портрет. В полный рост, а? Вот здесь, рядом? Мне кажется, вы пренебрегаете портретами. Все великие диктаторы обожали свои портреты.
— Это позже. Это мы с вами обязательно обсудим, но сейчас давайте не отвлекаться. Ведь согласитесь: военное правление было жестокой, но вынужденной мерой…
— Скорее вынужденной, но жестокой.
— Не вижу разницы. Не перебивайте. Так вот: уроки его учтены, виновники злоупотреблений наказаны, так стоит ли ворошить былое? Тревожить, так сказать, тени? У нас ведь с вами иные цели: не предупреждать о чем-то потомков, а нести им свет и радость мирного труда землепашца и садовника, ученого и конструктора, военного и… э-э… этого… антерпринера. Почему у вас все так мрачно? Разлейте синеву на холст, пусть наполняются ветром паруса, колосятся хлеба, вздымаются мосты и плотины, пусть люди поют и танцуют, мечтают и смеются, читают мемуары античных авторов и стихи великих поэтов, любуются красотами гор и долин, городов и парков, а вот здесь, в углу, пусть обнаженные девушки купаются в волнах прибоя. Отринем излишнее пуританство! Пусть знают потомки, что мы умели повеселиться, умели выпить и закусить, любили женщин и музыку — кстати, на вашей картине совсем нет музыки! — и так далее. А этого, вашего, не надо. Переделайте. Да, и вот еще что: вы слышали, я так понял, что принята программа улучшения рода человеческого. Это значит, что в грядущих поколениях число мужчин будет в десять раз меньше числа женщин. В своих работах вы должны руководствоваться этими соотношениями.
— Но ведь это же прямой подлог!
— Вы это называете подлогом, а мы — профилактикой неоднозначного восприятия.
— Послушайте, Полковник: у нас было прошлое, сложное, жестокое, запутанное, странное, но наше, понимаете — наше реальное прошлое! Оно у нас с вами в нашей памяти — и больше нигде! И если мы сейчас начнем его изменять сообразно нашим сегодняшним капризам и интересам, то мы неизбежно его лишимся! А дальше — больше, и кто-то решит стереть нас с вами и нарисовать что-то посимпатичнее — цветочек или бабочку. А потом будут переписывать не только историю, но и современность, и вот тогда уж точно все пойдет прахом!
— Да в гробу я видел эту твою историю! Что ты там нашел-то такого, что стоит ценить и помнить? Нам сейчас представилась единственная возможность наконец-то привести ее в порядок! Мы вычеркнем и забудем все грабежи и глупости, все эти заговоры и революции — на кой они нужны?! Мы заново напишем все — и вот тогда это будет поистине великая история великого народа!
— Кто это — мы? Вы и ваш Клерк?
— Я и мой министр.
— Ну представляю, что вы там напишете! Так вот, запомните: с сегодняшнего дня я тоже начинаю создавать историю! У меня хорошая память, и работаю я быстро. И я знаю, где прятать мою работу, чтобы вы-то уж ее никогда не нашли. Но я — учтите — буду свято придерживаться фактов, и когда потомки сравнят вашу стряпню и то, что было в действительности, неужели, вы думаете, они не поймут, где правда? Вот уж точно получится бомба времени!
— Вы даже не успеете пожалеть, — сказал Полковник и удалился.
* * *
— Посадить его в какую-нибудь пещерку, закрыть — и пусть малюет ваши портреты, — предложил Клерк.
— Нет, — сказал Полковник. — Он такое намалюет… Надо его убрать. Только сделайте это тихо — и так, чтобы я ни о чем не догадывался. А портреты — это любой сумеет.
Поздним вечером этого дня, дня накануне бракосочетания Полковника и Принцессы, в Ковчеге началась и закончилась партизанская война. Отряд Физика был заперт в отдельной пещере патрулями ДИСа и почти весь перебит. У партизан было три бомбы, но одна не взорвалась. У патрулей были арбалеты. Однако Физик и один из партизан, оба раненные, прорвались и скрылись. Ночью партизан умер. Физик сумела пробраться в мастерскую Мастера.
— Господи, что с вами? — ужаснулся Мастер.
— Не спрашивайте, — прошептала Физик, — я не могу…
— Ложитесь скорее.
— Меня ищут.
— Здесь не найдут, я вас спрячу.
— А солнце светит сильнее, я видела…
— Давайте я вас перевяжу.
— Не надо, я сама. Дайте только бинт. Я не брежу, правда, сильнее. Я шла и видела.
— Хорошо, хорошо, молчите. Потерпите чуть-чуть…
— Больно…
— Все уже.
— Они всех перестреляли. Как в тире.
— Молчите ради бога, вам ведь больно говорить.
— Ерунда. Как в тире, понимаете? Пока мы подошли на бросок…
— Держитесь мне за шею, я вас перенесу в другое место.
— Так обидно — как в тире.
— Все, здесь вас не найдут.
— Какой-то тайник?
— Не знаю, для чего это предназначалось. Я случайно наткнулся. Снаружи дверь совсем незаметна.
— Здорово. Дайте воды, а?
— Нельзя, наверное?
— Меня же не в живот.
— Если не в живот, то можно?
— Можно.
— Сейчас принесу.
Когда Мастер вернулся с водой, Физик уже спала, разметавшись на диване. Он постоял немого над ней, прислушиваясь к дыханию, поставил стакан на столик в изголовье и вышел, прикрыв за собой секретную дверь. В мастерской он сел в кресло и задумался. Ему было о чем подумать.
Под утро он задремал и увидел странный сон. На песке умирала русалочка. Он схватил ее на руки и бегом понес куда-то, где была вода, но воды там не оказалось, на всей земле не было воды, и только в одном месте посреди пустыни зияла темная воронка, и из нее тянуло сыростью, края воронки были зыбки, но он колебался только миг — и ступил на край, и сразу же песок потек под ногами, и он как мог быстро побежал вниз, чтобы упредить эту песчаную лавину, которая ринулась, нарастая, следом за ним, и уже воздуха не хватало для этого безумного бега, и он проснулся, но за какую-то долю секунды до пробуждения успел заметить — или показалось? — как там, внизу, в черном зеркале воды отразилось солнце… Проснувшись, он все забыл.
Когда он вошел в тайник, Физик уже не спала.
— Как вы себя чувствуете?
— Лучше. Только слабость.
— Скоро все заживет.
— Конечно. Раны пустяковые! Не понимаю, что это меня так вчера развезло.
— Если это «развезло», то что значит «хорошо держаться»?
— Бросьте. Что я, ребенок, чтобы меня так утешать?
— Я не утешаю. — Мастер помолчал, вздохнул. — Знаете, сегодня, видимо, будет очень бурный день, поэтому я должен сказать вам одну важную вещь. Я вас люблю.
— Нет, — сказала Физик. — Не говорите так. Это неправда.
— Я вас люблю. Это правда. Я ничего от вас не требую. Я просто хочу, чтобы вы знали.
— Зачем вы так? Я старая распутная женщина, я никогда не смогу полюбить, не смогу вам ответить… Если хотите, я буду спать только с вами, но разве в этом дело?
— Нет, конечно. Не в этом. Да и этого нам, видимо, не суждено больше. Сегодня будет бурный день.
— Вы что-то затеваете?
— Да. Вы помните, как Пастор предложил создать новый мир? Я не понял его тогда. Понял только сейчас, этой ночью. И его слова о том, что надо измениться, радикально измениться — чтобы остаться неизменными.
— Что вы задумали?
— Не спрашивайте, я все равно не скажу. Я даже себе боюсь признаться, так это чудовищно. Так что даже сгоряча — не осуждайте меня, ладно? Помните, что я вас люблю.
— Я, кажется, догадываюсь… Нет, не скажу. Вдруг вы задумали что-то иное, а я натолкну вас на эту мысль… Боже мой, какой это риск! Но если удастся… Я вам скажу еще кое-что, чего вы не знаете и не принимаете в расчет. Принцесса любит вас. Ее шантажируют, угрожая вас убить. Клерк растлил ее. Сегодня будет фарс бракосочетания. Она отравит Полковника сегодня или завтра. Клерк займет его место. Его надо убить. Она безумно любит вас. Она готова на все, лишь бы вы жили. Она вас любит. Это от нее светит солнце.
Церемония торжественного бракосочетания Полковника и Принцессы была продумана до мелочей. Посередине большой пещеры из фальшивого мрамора соорудили что-то вроде древнегреческого храма в миниатюре — здесь и должен был свершиться обряд. Клерк составил перечень свадебных ритуалов, из которого Полковник, смущаясь, выбросил половину («Ей-богу, чересчур смело. В следующий раз все так и сделаем, а сейчас попроще, поскромнее, ладно?»), в спальне Полковника воздвигли громоздкую и широкую — «трехспальную», решил для себя Клерк — кровать, и специальным приказом все население Ковчега было приглашено на церемонию; исключение делалось для больных и несущих караульную службу; этим же приказом Клерк назначался преемником Пастора в сфере отправления обрядов и Главным разработчиком Новой Религии.
— Не слишком ли много у меня должностей? — спросил Клерк.
Полковник покровительственно похлопал его по плечу.
— Вы человек молодой, — сказал он. — Справитесь.
— Да просто дел накапливается невпроворот, — пожаловался Клерк. — Не знаю, за что браться. Сегодня вот… Ладно, успею. В двенадцать начало?
— Да, и пожалуйста, не опаздывайте. Принцесса будет недовольна.
Церемония была назначена на двенадцать, поэтому в одиннадцать народ был уже построен. На постаментах переминались с ноги на ногу закутанные в покрывала девушки, назначенные на роли античных статуй. Уцелевшие после вчерашнего ДИСовцы старались держаться в тени. Поначалу тишину нарушали негромкие разговоры, реплики, вздохи, но потом установилось тяжелое, угнетающее молчание.
Принцессу любили все. Вряд ли можно понять истоки этой любви — то ли к ребенку, выросшему у всех на глазах, то ли к символу невозвратимого прошлого, то ли к жертве (это интуитивно понимали, несмотря на пропагандистскую трескотню, все до единого) тех самых сил, которые гнетут их самих, то ли к человеку, который, имея в силу традиций массу привилегий, никогда не пользуется ими, — но, так или иначе, у каждого в душе горел крохотный светлячок горькой, ностальгической любви, и если бы не яркий парадный свет ламп и прожекторов, можно было бы увидеть, как эти светлячки, сливаясь, заставляют гореть солнце…
Полковник и Принцесса подошли к храму с разных сторон. Свиту Полковника составляли два рыцаря в латах, наспех склепанных из дюралюминия, свиту Принцессы — две девушки, наряженные пастушками (а не наядами, как хотел Клерк). Полковник был в парадном мундире с новыми орденами, включая раздобытый где-то орден Подвязки, Принцесса — в простом белом платье с ниткой жемчуга на шее. Полковник попытался было выразить пожелания насчет свадебного наряда Принцессы, но наткнулся на взгляд, полный такого холодного презрения, что повторять опыт не решился.
Они встретились между колоннами храма и остановились, не зная, что делать дальше. По сценарию, к ним должен был подойти Клерк и после торжественной речи провозгласить их мужем и женой. Но Клерка почему-то не было на месте. Его не было минуту, две, пять; все ждали. Потом земля дрогнула, погасли лампы, и по ушам ударил приглушенный камнем, но все еще упругий звук недалекого взрыва.
Как это ни поразительно, молчание продолжалось. Конечно, кто-то вскрикнул от неожиданности, завизжала одна из девушек-статуй, ее сняли с постамента и успокоили, прозвучали возгласы недоумения и растерянности, но вскоре все стихло, и было слышно, как с потолка пещеры текут струйки соли. Может быть, паника возникла бы, наступи полная темнота, но темноты не было, стояли сумерки наподобие вечерних, и все, подняв головы, увидели солнце. Но никто еще не знал, что это такое.
Прошло, наверное, минут десять-пятнадцать, но ничего не менялось. Все так же стояли люди, все так же царило молчание, нарушаемое только каким-то неживым шуршанием и поскрипыванием, да изредка кто-то принимался кашлять, и так же сумеречно светило солнце, и Принцесса обводила глазами лица стоящих вокруг людей и все искала, не находя, — и вдруг Полковнику стало жутко, немыслимо жутко, и он, еще ничего не зная, понял, что погиб, что он уже мертв, даже более чем мертв, и стал пятиться, пригибаясь и прячась за колоннами, и больше всего на свете ему хотелось сейчас повернуться и побежать, вот только повернуться он никак не мог… И в этот момент раздались шаги.
Кто-то шел неровной, прерывающейся походкой, тяжело дыша, и люди расступились перед ним и пропустили его, он вышел на середину и вдруг упал — упал бы, не подхвати его под руки, — да, его подхватили под руки и посадили спиной к постаменту, на котором стояла раньше девушка-статуя, и Принцесса вдруг оказалась на коленях перед ним, потому что это был Мастер, и Мастер открыл глаза и увидел ее, и улыбнулся ей, и что-то сказал, но что — она не поняла. Откуда-то в ее руках оказалась фляжка с водой, и она стала лить воду на плотно сжатые губы, он приоткрыл рот и несколько раз глотнул, и снова сказал, теперь уже понятно: «Тепло и свет… Все, что мы есть, — это тепло и свет. Иначе нельзя».
— Что вы сделали? — спросил кто-то рядом с Принцессой, она не оглянулась, а Мастер, не открывая глаз, проговорил:
— Я его взорвал. Все наши бомбы…
Тогда Принцесса повернула голову и встретилась глазами с Физиком.
— Он взорвал реактор, — прошептала Физик.
— Зачем? — одними губами спросила Принцесса.
— Чтобы вся надежда была только на солнце, — сказала Физик. — А солнце горит от любви… Боже мой, — спохватилась Физик, — он же жутко радиоактивный! Отойдите все! — крикнула она. — Отойдите еще, еще дальше! И ты отойди, — сказала она Принцессе. — Отойди, это же опасно.
— Нет, — сказала Принцесса. — Я с ним.
Физик вынула из нагрудного кармана Мастера похожий на авторучку предмет, сняла колпачок и поднесла к глазам открывшийся индикатор.
— Все, — сказала она. — Безнадежно.
— Когда? — спросила Принцесса.
— Не больше суток, — сказала Физик.
— Он будет сильно мучиться?
— Да, — сказала Физик. — Сильно.
Принцесса, стоя на коленях, кончиками пальцев провела по щеке Мастера, по губам его, по векам, смахнула капли пота, выступившие на лбу, потом сняла со своего пальца темный, старинной работы перстень, отвинтила камень и извлекла из тайника крупный желтоватый кристалл. Физик молча смотрела на нее. Принцесса бросила кристалл во фляжку, встряхнула ее несколько раз и поднесла к губам Мастера. Мастер жадно выпил воду. Принцесса отложила фляжку, наклонилась над Мастером и сказала:
— Я люблю тебя. Я всю жизнь люблю тебя. Ты мой. Слышишь: ты мой. Я тебя люблю. — И она поцеловала его в губы.
Она поцеловала его, а потом медленно отстранилась, вгляделась в его лицо и провела по нему ладонью — сверху вниз. И сразу же встала на ноги.
— Он умер, — громко сказала она. — Я дала ему яд. Я люблю его, я мечтала о счастье с ним, но мне пришлось дать ему яд, чтобы он умер без мук. Я люблю его, потому что нет больше людей с такой огромной душой, он вкладывал ее во все, что делал, вкладывал щедро, не жалея, и теперь, не пожалев, всю ее вложил в нас с вами — и вот в это солнце, которое будет отныне греть нас и светить нам… Он обманул нас всех, он обманул саму нашу сущность, и теперь, чтобы не замерзнуть, чтобы жить, мы вынуждены будем любить друг друга, изо всех сил любить, и через сто поколений мы, может быть, научимся любить друг друга так, как мы того заслуживаем…
И стало светлее…
— Он тоже любил вас, — сказала Физик. — Он просил меня сказать это вам… если он сам не сможет.
Стало еще светлее; свет из голубовато-сумеречного становился белым с розоватым оттенком, таким он бывает только в то короткое мгновение, когда из-за горизонта показывается самый краешек солнечного диска; ропот пробежал по толпе, все смотрели то на солнце, то на Принцессу и Физика, стоящих рядом, взявшись за руки. И вдруг кто-то громко захохотал.
Хохотал Клерк. Он стоял, придерживаясь рукой за колонну храма, и хохотал, не в силах остановиться. Хохот сгибал его пополам, он пытался что-то сказать, но не мог, а только повизгивал. На голове его была тирольская шляпа Художника — зеленая, с перышком. Он был пьян. Наконец речь вернулась к нему.
— Ну ты даешь! — простонал он. — Любовь! Ты бы рассказала лучше, чем мы с тобой занимались, как я задирал тебе юбку, как ты…
Резкий звук выстрела прервал его. Клерк выгнулся назад, заскреб руками по спине, будто пытаясь вытащить пулю, и рухнул между колоннами.
— Меня? — прохрипел он. — Зачем?
(Вот ведь вопрос! В самом деле: что двигало Полковником? Прозрение, ревность, расчет? Все вместе? Или нечто иное? Как говорится, «не знаем и не узнаем». Да и знал ли это сам Полковник?)
Полковник стоял над все еще шевелящимся Клерком, держа в правой руке пистолет, а левой делая какие-то приглашающие жесты.
— Любите! — наконец закричал он. — Меня любите! Вы должны любить меня, только меня, слышите, вы! Меня! Беззаветно, преданно! Как солнце, как мать, как жизнь, больше жизни! Я всегда хотел вам только добра! Любите меня!
— Тебя? — спросила негромко Принцесса, но все ее услышали. — Тебя, значит… — и она медленно двинулась на Полковника. И все так же медленно, сами, может быть, не осознавая того, двинулись на него. И с каждым их шагом солнце светило слабее и слабее, и подступила тьма, и Полковник задохнулся от хлынувшей вдруг на него ненависти.
— Не подходи! — завизжал он.
Но и в почти полной тьме он видел, как подступает к нему все ближе и ближе стена тел, смыкается вокруг, и тогда, выставив пистолет перед собой, он стал стрелять, но вспышки выстрелов выхватывали то же самое: приближающуюся стену тел… Потом выстрелы смолкли, и, покрывая все прочие звуки, завыла сирена…
Сирена выла долго, очень долго, но вот замолчала и она. В Ковчеге воцарились тишина и тьма. Камень стен понемногу отбирал тепло у воздуха. Потом… Потом робко, мерцая, засветилось солнце. Оно постепенно, медленно, по каплям набирало силу, светило ярче, ярче, еще ярче, нестерпимо ярко…
И больше не гасло.
Вот и все, дорогая. Прощайте. Хотя, может быть, я напишу вам еще раз. Будьте счастливы.
31.10.84.
Здравствуй, Оля!
Я прощаюсь — теперь уже окончательно. Мне нужно продолжать поиски: ведь если не здесь, то где-то ты должна меня ждать. Чтобы было понятно, попробуй вспомнить — хотя едва ли… (здесь густо замазано чернилами, слова разобрать невозможно). Ты училась в шестом, когда я окончил школу. Но призвали меня не в пехоту, как везде, а в пограничники, да еще попал на восточную границу, да еще в такое время… А в нашем мире мы встретились и полюбили друг друга. И, наверное, это правильно, потому что во всех остальных мирах, где я побывал, мы с тобой живем в мире и любви. Но в нашем мире произошло вдруг такое, что теперь мне приходится скитаться по всем прочим мирам — в поисках тебя. В первую секунду здесь, в вашем мире, мне показалось, что я достиг цели. Потом понял — нет. Ты счастлива с ним, и не знаю, кем надо быть, чтобы в вашу жизнь вмешаться. Поэтому я иду дальше. Маму, которая все эти пятнадцать лет продолжала меня ждать, я недавно похоронил. Здесь мне делать уже нечего, и рана моя зажила. Прощай.
И еще, последнее. Чтобы не было сомнений, оставляю тебе стихотворение Блока (у нас он умер не в 1916-м, а в 1921-м), которого ты не знаешь и знать не можешь:
Вы предназначены не мне.
Зачем я видел Вас во сне?
Бывает сон — всю ночь один:
Так видит Даму паладин,
Так раненому снится враг,
Изгнаннику — родной очаг,
И капитану — океан,
И деве — розовый туман…
И сам не знаю, для чего Сна не скрываю моего,
И слов, и строк, ненужных Вам,
Как мне, — забвенью не придам.
Вот и все. Теперь — совсем все. Никак не могу поставить точку. Прощайте. Хоть изредка вспоминайте все это. И пожелайте мне удачи.
Прощайте.
6.01.85.
1984–1985
В 1984 году я написал свою первую «космическую» повесть «Олимп, вас не слышим…» — которая, к сожалению, пропала. Вообще год был не слишком удачный, к любой фантастике относились предельно настороженно — Оруэлл, видите ли…
Начал писать цикл «Сказочки», как бы продолжая то, что начал «Серединой пути», но это достаточно скоро надоело. Сколько-нибудь удачной оказалась только одна: «Из жизни Серого Волка».
— Ну, перестань же, — сказал Волк. — А еще царевич. Сопли утер хоть бы…
Царевич рыдал. Сгущались сумерки.
— Там же написано было: «Коня потеряешь», — увещевал Волк. — Написано ведь? Написано. Так чего же ты?
Царевич прорыдал длинную, полную боли и укора фразу, из которой Волк разобрал только три слова: «темно», «дорога» и «задница». Волк почесал в затылке: служебный долг подсказывал ему одно, милосердие нашептывало другое. Каждый раз Волк зарекался слушать этот шепот и каждый раз не выдерживал.
— Садись, что ли… — смущенно сказал он; царевич с готовностью полез ему на спину. — Э-э! Только без шпор!
Быстрым скоком они махнули в тридевятое царство. Там была зима. Поперек дороги стоял огромный амбар, вернее, пробитая в снегу дорога вела прямо к амбару. Волк поскребся в дверь.
— И хто тама? — голосом Бабы-Яги спросили за дверью.
— Да я это, открывай, старая, — сказал Волк. — Холодно, ч-черт…
— Алеть? — удивилась Яга. — Ты ж третьеву дню прибегал.
— А что делать? — вздохнул Волк. — Едут ведь и едут как заведенные.
— И чиво ж тебе, жалобный, надоть? — прищурившись, пропела Яга.
— Как всем, так и ему, — сказал Волк. — Чего же еще?
— Малай жентельменский набор, сталоть? — сказала Яга.
— Большой, — сказал царевич.
— Ну, выбирай, — сказала Яга. — Прямо и направо.
Царевич пошел вдоль стеллажей, осматривая разложенное на них.
— Ну чё ты наповадился их возить? — вполголоса выговаривала Баба-Яга Волку. — Тебя для чё поставили? Трудности им создавать должен, чтобы остолопы эти в самостоятельную жисть войтить, как положено, могли. А ты заместо этого чё творишь? На блюдечке с каемочкой все преподносишь. И так без меры упростили процедуру, скоро начнем в постельку им добро подносить, чтоб прямо с утра, как глазоньки раззявят… Потребители.
— Не ворчи, старая, — слабо отбивался Волк. — Знаю, что неправильно, а что я могу сделать? Душа-то не кирпичная. Уйду я к чертовой матери, не буду, не могу, пусть им другой кто коней режет…
— Отпустили тебя, как же. Назвался шампиёном — полезай в рюдюкюль. Вон он идет… касатик. Чё выбрал, молодчик? О, самы клевые, самы клевые, век сносу не будет… И яблочки чё надо, свежие, только завезли. И шапочка по головушке, и невидима-то совсем…
— А Василиса где? — спросил царевич.
— А вот оне, на полочке, выбирай, кака по вкусу будет: черенькие, рыжанькие, белесенькие, а вот — так совсем не поймешь какая…
— Рыжанькие, — передразнил царевич — Фигуру-то как посмотреть? Нарядили, как не знаю кого.
— А так и смотри, как есть. Шшупай, шшупай руками, не боись, не схлопочешь. А рукам не веришь, так етикеточка вот, а на ней вайтлз написан, все как есть…
— Вот эту заверни, — сказал царевич.
— М-да, — сказал Волк.
Яга поставила фиолетовый штемпель в паспорт Василисы, подала царевичу.
— Месяц гарантии, — сказала она.
— Всего-то? — скривился царевич. — А дальше что?
— А там — как обращаться будешь, механизьма тонкая, уходу требует, это тебе не часы «Севани».
— Поехали, — сказал царевич Волку.
— Палочку волшебную забыл, — сказал Волк.
— Уж это-то я не забуду, — сказал царевич и похлопал себя по карману.
— А платить-то как будем? — спросила Яга.
— Папа заплатит, — через плечо бросил царевич.
— Алеть папа, — вздохнула Яга. — Ну, скатертью дорожка.
— Отдыхай, старая, — сказал Волк. Царевич промолчал.
Они вернулись к коню. Конь уже попахивал и в пищу Волку не годился.
— А дальше? — спросил царевич.
— Дальше ты сам, — сказал Волк.
— Я заплачу, — сказал царевич. Ударение в слове «заплачу» получилось какое-то двоякое, и Волк стал врать. Врал он бессовестно и вдохновенно.
— Заколдовано там. Камнем с тобой станем. Сюда ехал — видел камень? Это мой дедушка запрета не послушался. Теперь вот стоит, и дождь его сечет, и снег засыпает, а я даже подойти к нему не смею… — и Волк шмыгнул носом.
— Ладно, — поверил царевич. — Дальше и на такси доеду.
Он взмахнул волшебной палочкой, и появилась карета с шашечками на дверцах. Царевич забросил в багажник мешки, подсадил Василису, карета умчалась.
Волк забрался под куст и уснул. Разбудил его ворон.
— Ты чего спишь? — ткнул он Волка клювом. — Твоего-то уже… того…
— Ну и пусть, — сказал Волк.
— Как это «пусть»? Ты что, сказку забыл?
— Теперь все не по сказке. И я тоже. Я заболел. Я бастую. Он страйк, — Волк забрался глубже под куст. — И вообще, ты что, сам не можешь его оживить? Родники тебе показать?
— Не по правилам же, — сказал Ворон.
— Я бастую, — повторил Волк. — Лети, а то съем.
Он проспал до полудня. Разбудил его конский топот.
— Зачастили, — пробормотал Волк.
Он выглянул из-под куста. По пробитой тропе на гнедом меринке ехал прилизанный мальчик. Волк перевернулся на спину. Конь и всадник ехали теперь вверх ногами, и если они теперь оторвутся от тропы, то упадут прямо в небо. Это было исключительно забавно.
— Давай-давай, — сказал им вслед Волк. — А то понравилось, понимаешь…
Потом на брюхо ему села бабочка. Он поиграл с ней немного, потянулся и длинно зевнул. Грело солнце. «Вот я и дожил наконец до настоящей сказки», — подумалось Волку.
Все мои рассказы написаны в один присест, сколько бы времени это ни заняло — иногда больше суток. Но придумываться они могут годами. «Из темноты» же родился в одну секунду: только что не было ничего, а потом вспышка — и рассказ готов, осталось только записать. Так вот и работают описанные в «Солдатах Вавилона» кодоны…
— А не вздремнуть ли нам, сэры? — спросил Серега. — Еще же долго светло будет.
— Да, правда, — подхватила Наташа. — Кто хочет, я могу постелить. А, Юрий Максимович? Как вы?
— Спасибо, Наташенька, не надо, — сказал Юрий Максимович. — Я, если захочу, так прямо тут, в кресле, ты же знаешь…
— Я поставлю раскладушку, — сказал я. — Кто захочет, ляжет. А то, правда, еще долго ждать.
Элла встала. из-за столика, отложила журнал.
— Я лягу, — сказала она. — Голова просто раскалывается.
— Форточка открыта, — сказал Серега.
— У меня не поэтому, — сказала Элла.
Я поставил раскладушку за занавеской, разделявшей пополам единственную комнату Наташиной квартиры.
Ha кровати, укрывшись с головой, спал Руслан — последнюю неделю ему приходилось работать по полторы смены, и он не высыпался катастрофически.
Мы, остальные, обходились кто как. Элла брала работу на дом, Серега был дворником, Наташа числилась где-то переводчицей и действительно временами что-то переводила, но главным образом проживала потихоньку полученную при разводе долю за «Жигули» и мебель. Мне было проще всего: мастерская располагалась в подвале кинотеатра и имела отдельный вход. Никто не контролировал, когда я прихожу на работу и когда ухожу, — были бы афиши в срок. Иногда мы там и собирались, в мастерской — еще когда нас было четверо, а у Наташи возник короткий, но бурный роман с ее тогдашним сослуживцем и ей позарез нужна была квартира. Потом роман иссяк, а к нам прибилась Элла, не выдерживающая подвала — там душновато, — и Юрий Максимович со свежими еще воспоминаниями о перенесенном инфаркте, поэтому мы собирались теперь только у Наташи — шведской семьей, как острит Серега. Он острит часто и не всегда умело, но это его особенность, а не недостаток. Он холостяк, как и я, Элле двадцать два, и по некоторым причинам замуж ее совсем не тянет, Юрий Максимович пенсионер и одинок, и труднее всех, как это ни странно, приходится Руслану, у которого жена и две дочки, и всех их он любит, и все они любят его, но выдерживать эти наши штучки нормальному человеку ой как нелегко, тем более что жена Руслана все еще верит во всемогущество медицины и, так сказать, народной медицины; время от времени Руслан отправляет их к теще в Нальчик и перебирается к нам «со скотом, двором и имуществом». Как-то так получилось, что сегодня первое новолуние, которое мы встречаем вшестером, а новолуние, надо сказать, — это пик наших мучений. Если не считать, конечно, предгрозового затишья.
Темноты я боюсь с детства — все, говорят, боятся, только у других проходит, а у меня вот не прошло, — но только четыре года назад эти страхи стали какие-то особенные, а три года назад я увидел объявление в «Недельке»: «Женщина двадцати шести лет, боится темноты, познакомится с мужчиной, имеющим этот же недостаток», — и телефон. Я позвонил, потом пришел и таким вот образом познакомился с Наташей, Серегой и Толиком — был у нас еще и Толик, весь какой-то тоненький и белесый, тем же летом он утонул, купаясь; а может, и не выдержал — как раз на новолуние дело было… Мы порассказали друг другу о себе и еше тогда подивились, как это синхронно у нас началось, но значения этому не придали, больше интересуясь подробностями видений. У меня, собственно, подробностей было мало, — просто искажение форм и положений предметов — «дисморфия», — только это вызывало такой нечеловеческий ужас, который словами не передать. Толику мерещились членистоногие, в духе искушений святого Антония, Сереге — атрибутика детских страхов: Черная Рука, Красный Череп, Белые Перчатки, ведьмы, мертвецы и прочее, причем если он переживал это в одиночку, то к утру у него на горле оставались синяки — так сильно было самовнушение; Наташу оплетали невидимые, но очень хорошо осязаемые щупальца, чудовище пряталось в углах, в щелях, под мебелью, где угодно; вернее, это были не щупальца, а пищеварительные ворсинки, потому что тело ее начинало растворяться: становилась прозрачной и исчезала кожа, обнажались мышцы и сухожилия — и так далее. Наташа очень не любила говорить об этом в отличие от Сереги, который часто рассказывал о своих приключениях — как мне кажется, через силу; это была бравада, но не перед нами, а перед самим собой. Руслана же преследовали спруты, медузы и прочая придонная сволочь. Элла о своих видениях рассказала одной Наташе, но по ночам она кричала, и можно было понять, что ее мучает. Юрия Максимовича достала минувшая война — а может быть, и не только война; сам он молчал, но однажды Серега принес магнитофон и крутил Высоцкого, и когда дошло до «Баньки» — помните, это: «Истопи ты мне баньку по-белому, я от белого света отвык…» — Юрий Максимович заплакал и сказал: «Нет, ребята, вы мне объясните, откуда этот пацан все знает, откуда?..» Потом я долго ждал продолжения разговора, но продолжения не последовало. Вот такими мы были.
Бог знает, как Наташа догадалась, что в компании переносить страхи будет легче. Она и сама затруднялась сказать, что ее на эту мысль натолкнуло. Может быть, ничто и не наталкивало, просто захотелось нормального человеческого сочувствия, утешения, а кто его мог дать, кроме своего? Для прочих людей мы психи, больные, с ними о наших делах лучше не заговаривать. Есть, конечно, исключения, но так мало… Сколько я об это обжигался, и Наташа — взять ее отношения и с мужем, и с теми мужчинами, что были после. А уж о Руслане и говорить не приходится: жена его любит безумно, а понять не может. А кажется, что проще: вместе нам легче, и не просто легче, а почти совсем легко. И видения становятся не такими глубокими, и понимание остается, что это все-таки галлюцинация, а главное — страх почти пропадает. Потому-то мы так и вцепились друг в друга. Но, с другой стороны, почему, скажем, мне не пришло в голову искать компанию? Или если женщины более чутки, то — Элле? А ведь ту бесконечную фразу на неизвестном языке тоже первой стала слышать именно Наташа, мы еще ничего не слышали, а она уже различала отдельные слова и пыталась записывать…
Элла осторожно легла, потерла виски, чуть-чуть покачала головой, сморщилась:
— Ужасно…
— Дать тебе чего-нибудь? — спросил я.
— Стрихнину, — сказала Элла.
— Слишком мучительно, — сказал я. — Лучше вина.
— Потом только хуже будет, — сказала Элла. Это правда — опьянение вначале несколько сдерживало страх, но потом плотину прорывало…
— Немного, — сказал я. — К ночи все выветрится.
Я сходил на кухню, налил полстакана «Эрети» и дал Элле. Она выпила, как микстуру, и откинулась на подушку.
— Попробую уснуть, — сказала она.
— Валяй, — сказал я. — Мы не будем шуметь.
— Мне все равно, — сказала Элла. — Раз в нашей комнате устроили танцы, а я все проспала и ничего не слышала. Знаешь, Вадь, предчувствие у меня сегодня какое-то премерзкое…
Время, как всегда вечерами, текло медленно. Наташа с Серегой сели играть в шахматы, Серега проигрывал и злился; Юрий Максимович читал, временами он откладывал книгу и устремлялся взором куда-то далеко.
— Что читаете? — спросил я его. Он показал обложку: это был «Властелин спичек» Леона Эндрью.
— Страшненькая вещь, — сказал я.
— Страшненькая, — согласился он. — Но не до конца. Обратите внимание — Ланкастер манипулирует своими подданными умело и даже изящно, но однообразно: опираясь только на их низменные инстинкты…
— Но ведь иначе, наверное, и нельзя.
— Можно. Можно, можно… Дружба, любовь, патриотизм, верность, честь… материнство… Все может стать той веревочкой, за которую будут дергать.
— Да, — сказал я. — Это страшнее. Даже думать не хочется.
— Мне тоже не хочется, — сказал Юрий Максимович. — Но думается… Знаете, Вадим, — сказал он после паузы, — я ведь начал читать по-настоящему лет пять назад — после больницы. Раньше и времени не было, и отношение было соответствующее: мол, литература — она литература и есть, в жизни все по-другому, по книге жить не научишься, в книгах все как в книгах, а в жизни — как в жизни. И вообще работать надо, а читать — это уж как получится. А что, нас так и воспитывали. Даже в школе, хотя там, может быть, ставили совсем иные цели. Это только сейчас я понял, что между упрощением с дидактической целью и вульгаризацией никакого различия нет. Учебники всегда — дрянь, учиться надо по первоисточнику.
— Так точно, — согласился я.
Мы еще поговорили о литературе.
— Это же кошмар, как преподают, — горячился Юрий Максимович. — Я, например, считаю себя просто ограбленным. Кто-то решает не только, какие книги можно читать, а какие нельзя, но и как понимать прочитанное — а это, если хотите, преступление. Я уже говорил, что только последние пять лет читаю всерьез — и чувствую, что проживаю еще одну жизнь. Выходит, если бы не инфаркт — у меня было бы одной жизнью меньше. Вы-то хоть освободились от давления школьной программы?
— У меня была «тройка», — сказал я. — Я вечно спорил с учителями.
— Молодец, — сказал Юрий Максимович.
— Оппортунисты, — сказал Серега, поднимаясь. — И оппозиционеры. Все бы вам спорить. Берите пример с простого народа. С меня. Вот я проиграл сейчас полведра чищеной картошки и иду платить проигрыш. Кто-нибудь составит мне компанию?
— Я и составлю, — сказала Наташа, — кто еще?
— Ну уж нет, — сказал я. — Не будем превращать фей в кухарок. Идем, Серега. А вы бы задали ей перцу, Юрий Максимович? Восстановите попранную мужскую честь!
— С удовольствием, — сказал Юрий Максимович. — Защищайтесь, мадам!
На кухне мы сели друг напротив друга, поставили ведро посередине и стали чистить картошку.
— Что-то невмоготу мне сегодня, — тихо сказал Серега. — Давит, как перед грозой. Как там по прогнозу?
— По прогнозу — не будет. Может, окно открыть?
— Не надо, комары налетят. Вывелась, говорят, какая-то новая порода комаров, которые в полете не жужжат и не помирают от дихлофоса. Живут в подвалах.
— Это что, — сказал я. — Вывелась новая порода людей, которые просты в обращении, как дураки, и почти так же полезны, как умные. Живут где попало…
— Н-да… — сказал Серега и задумался. Даже картошку перестал чистить — так и застыл с недочищенной в руке.
Потом мы поставили кастрюлю с картошкой на плиту и пошли в комнату. Юрий Максимович спал в кресле, Наташа вязала.
— Ну, как? — ревниво спросил Серега.
— Три-ноль, — сказала Наташа. — Мужская честь спасена.
— Куда мы без стариков? — пробормотал Серега. Я посмотрел на Наташу. Чем-то ее вид мне не понравился. Днем она всегда чуть-чуть — ну, самую малость — переподтянута, всегда на самоконтроле, и только когда садится вязать, позволяет себе расслабиться. У нее удивительно уютный вид, когда она вяжет. А сейчас она сидела прямо, и руки были напряжены, и концы спиц — желтые шарики — подрагивали.
— Тебе что, нехорошо? — спросил я.
— Нет, ерунда, — сказала Наташа. — Так…
Я подсел к ней, обнял за плечи.
— Вечер такой тяжелый, — пожаловалась она. — Хоть бы ночь скорей, что ли…
— Новолуние, — сказал я.
— Не в первый же раз, — сказала она. — Но не припомню, чтобы так муторно было. Поплакать бы…
— Поплачь, — сказал я.
— Не получается. Я уже пробовала. Вадь, погладь меня по голове…
На кухне зашипело, Серега сорвался с места и побежал туда. Что-то он там делал, полилась вода, потом все стихло; Серега не показывался.
— Деликатный, — прошептала Наташа.
— Ага, — сказал я и поцеловал ее в глаза, сначала в один, потом в другой. — Какие они у тебя пушистые…
Она опустила голову, прижалась ко мне щекой и судорожно всхлипнула. Я обнял ее еще крепче.
— Заведи себе жилетку, — глухо сказала она. — Мне будет куда плакать.
Я гладил ее волосы, щеку, шею и чувствовал, как она понемногу оттаивает. Наташа плакала редко и совсем не по-дамски; так, как она, плачут парни-подростки, стыдясь и прячась. А сейчас она просто сидела, замерши, не дыша, только слезы лились и лились, и со слезами изливалось внутреннее ее напряжение, и руки уже успокоились, и, может быть, понемногу становилась на место душа…
— Ну, ничего, ничего, — шептал я ей. — Привыкнем же когда-нибудь, ко всему человек привыкает, и мы привыкнем, вот увидишь, будем жить, видишь, как хорошо приспособились — вместе…
Я говорил и знал, что вру, что приспособиться можно действительно ко всему, только не к чувству страха. К опасностям, к самому нечеловеческому существованию, и чему угодно — за счет того, что страх притупляется. А у нас он каждый раз новенький, с иголочки — пожалуйста… А вторым планом проводило удивление, досада, злость: да что на нас всех накатило-то сегодня? Переждем, как обычно, переждем, ведь все же вместе, а вместе никогда не бывает уж очень страшно, даже в новолуние, даже перед грозой, когда кажется — ну, все…
— Может, пойдем в мастерскую? — спросил я Наташу.
— А ты хочешь?
— Глупая девчонка, она еще спрашивает…
— А сколько времени? Девять скоро… Нет, давай сегодня здесь пересидим, вместе со всеми, а под утро пойдем, ладно?
— Утром они сами все разойдутся.
— Тем более. Понимаешь, мне чудится, что сегодня будет что-то такое… лучше нам быть всем вместе, понимаешь?
На кухне снова завозился Серега, потом позвал:
— Есть-то будем сегодня, кошмарники? Картошка готова.
Проснулся Юрий Максимович.
— Что, время уже? Ах, картошка… Сейчас, Сережа, я ведь чуть не забыл, мне ребята рыбы привезли, какая-то американская селедка, рыбина почти на три килограмма, и посол хороший, вот мы ее сейчас с картошечкой…
Я пошел будить Эллу и Руслана. Элла спала, подложив обе руки под щеку и чуть приоткрыв рот, и было ей сейчас по виду лет тринадцать. Я провел пальцем по ее щеке, она тотчас открыла глаза и улыбнулась.
— Какой мне чудный сон снился! — сказала она. — И зачем только ты меня разбудил?
— Вставай, — сказал я. — Юрий Максимович принес какую-то новую рыбку, сейчас дегустировать будем.
— Прекрасно! — сказала Элла, вскочила, смешно, по-клоунски подтянула брючки и побежала умываться. Руслан, как и полагается, спал богатырским сном. Расталкивать его было бессмысленно, он только переворачивался на другой бок и лягался. Я сразу прибег к последнему средству: принес полстакана холодной воды и тоненькой струйкой полил. Он заворочался, задвигался, закрутил головой, но все же открыл глаза.
— Фу… — забормотал он. — Сейчас… погоди…
— Я-то погодю, — сказал я. — И даже погожу. Картошка годить не станет, вот в чем беда.
— Змеи, — сказал Руслан.
— Прекрати ругаться, — сказал я. — Это неприлично.
— Я не ругаюсь, — сказал Руслан. — Навет и клевета. Я никогда не ругаюсь.
— Вставай, — сказал я.
— Угу. Уже встал, — он сел на кровати, покачиваясь и тараща глаза. — Уже совсем встал.
— Ну и тяжко с тобой, — сказал я и пошел на кухню. Ели мы всегда там. В комнате был только маленький столик, не то журнальный, не то кофейный, а в кухне — большой и удобный стол-«книжка». Мы поужинали — рыба действительно была превосходна, Юрий Максимович знал в этом толк и имел связи. Руслан остался мыть посуду, а мы перешли в комнату и расселись: Элла, Наташа и я на диване, Юрий Максимович в кресле-качалке, Серега в обычном кресле; между ним и Эллой сядет Руслан — как ему нравится, на полу, прислонясь к стене. Так мы образуем круг, чтобы в нужный момент взяться за руки. Так мы сидели и ждали. Сумерки постепенно сгущались, начаться могло в любой момент, но не начиналось, прошел и занял свое место Руслан, и медленно медленно тянулось время.
— Спой, Наташа, — попросил Серега.
— Правда, Наташенька, спой, — поддержал его Юрий Максимович. Руслан молча встал и принес гитару. Наташа взяла гитару, провела пальцем по струнам. Оглядела нас, подумала и начала: «На земле бушуют травы, облака плывут, как павы, а одно, вон то, что справа, — это я, это я… И нам не надо славы. Ничего уже не надо мне и тем, плывущим рядом, нам бы жить, и вся награда, нам бы жить, нам бы жить… А мы плывем по небу…»1 Она очень любила эту песню, Наташа, и часто пела ее именно в такие вот серьезные моменты, а эти начальные строки нравились ей больше всего, остальное, говорила она, обычное, но вот эти, первые, — это почти гениально. Бывают такие строчки, которыми и жив поэт — жив для себя, не для других — а порой и втайне от других… «Мимо слез, улыбок мимо облака плывут над миром, войско их не поредело — облака, облака… И нету им предела». Потом она спела еще «Двадцатый век засчитывайте за три» и «Проступают нерезко из глубин потаенных…», и «Кавалергарды, век недолог» для Юрия Максимовича, он ее очень любил, и «Казачью» Розенбаума для Сереги, а темнота все не наступала, она начала: «Говорят, что друзья не растут в огороде, не продашь и не купишь друзей…» — и когда дошла до припева, мы подхватили: «Под бодрое рычание, под грустное мычание, под дружеское ржание рождается на свет большой секрет для маленькой, для маленькой такой компании…»2, мы орали громко и немузыкально, назло темноте и страху, но когда взошли до слов: «Ах, было б только с кем поговорить!», — почувствовали, что дыхание кончилось, и Серега сказал, оборвав пение:
— Началось.
…Где-то далеко пробили часы. Стало трудно дышать, воздух будто бы обрел вязкость и не желал проходить в легкие, его приходилось проталкивать насильно. Юрий Максимович сунул под язык таблетку. «Включите свет», — попросил кто-то. Я знал, что это не поможет, но встал и пошел к выключателю. Пол оказался вдруг где-то далеко внизу, я смотрел на него, как с пятого этажа; голова закружилась. Выключатель оказался вывернут наизнанку — не выключатель, а форма для отливки выключателя. Я несколько раз провел по нему пальцами, прежде чем что-то щелкнуло и загорелись лампы. Свет медленно потек от них, желтый и сырой, как яичные макароны. Я, балансируя руками, чтобы не упасть, вернулся на свое место. Все сидели, замершие, плоские, как будто их вырезали из больших фотографий. Свет вдруг стал накаляться, стал белым, потом голубым, ослепительным; потом опять померк. Все переплавилось в этом сиянии — не только люди, но и все вокруг тоже стало плоским, черно-белым и очень зернистым, будто эту фотографию отпечатали с чересчур большим увеличением. Родился и нарос высокий звон, нити его спускались с потолка и набивались в уши, скоро уши оказались наглухо заложены, а звон не прекращался, стали зудеть кончики пальцев, нити натягивались, и руки мои потихоньку начали подниматься вверх, безвольные, как руки марионетки — да ими они, в сущности, и были, причем сработанные наспех, грубо, в потеках клея, а вместо большого пальца левой руки торчал коричневый сухой сучок. На границе слышимости зазвучала знакомая безначальная и бесконечная фраза на неизвестном языке, голос повелительно выговаривал четкие, как команда, слова, и, повинуясь модуляциям этого голоса, стали напрягаться и расслабляться нити, управляющие руками, и руки стали совершать какие-то движения, как бы пробуя себя на подвижность. Потом они замерли, перевернулись ладонями вверх, и их развело в стороны. В правую мою руку легла ледяная совершенно кисть Юрия Максимовича, в левую тыкались и никак не могли попасть тонкие Наташины пальцы; я скосил глаза — это оказалось страшно трудно сделать, — но увидел только пальцы по отдельности, лишь через несколько секунд они собрались в кисть, почему-то канареечно-желтую и прозрачную; как я ни силился, я не мог различить ничего, кроме кисти, она существовала совершенно отдельно от тела. Потом внезапно наваждение прошло — кто-то последний взялся за руки, круг замкнулся. По-прежнему трудно было повернуть голову, по-прежнему свет ламп существовал как бы сам по себе и не рассеивал мрак, но нити пропали, и все мы обрели нормальный облик, хотя бы внешне. Наташа откинулась на спинку дивана, распрямила в колене ногу и посмотрела на нее, убеждаясь, что все в порядке; Элла, оказывается, до сих пор сидела согнувшись, скорчившись — и теперь потихоньку распрямлялась, тяжело и часто дыша, на этот раз она выдержала и не кричала; Руслан был совершенно спокоен, будто ничего и не происходило, его выдержке я всегда завидовал; Серега смотрел в пол; Юрий Максимович, держась за наши руки, тихонько раскачивался в кресле, голова его была запрокинута, раза два он глубоко вздохнул. Но фраза на неизвестном языке продолжала звучать, и мы знали, что это только передышка. Она могла затянуться надолго, но тем хуже было бы потом. Минуты тянулись томительно, рождаясь и умирая на наших глазах, и мы ничего не могли сделать, чтобы помочь им. Громче и громче звучала фраза, потом комната, в которой мы сидели, отделилась от дома и, кружась и покачиваясь, стала подниматься косо вверх, все быстрее и быстрее, и внезапно я понял, что она прикреплена к ободу взбесившегося чертова колеса, высокого, до звезд и выше; на фразу наложилась музыка, не всегда совпадавшая со словами, и эти несовпадения ранили, как осколки стекла. Не сразу я понял, откуда взялись эти осколки, и только потом я увидел, что одна из стен разбита вдребезги и через нее видны горы, опрокинутые за горизонт, и ленточка заката, потом все это уплыло вниз, сразу потеплело, надвинулся и разошелся в стороны бархатный пыльный занавес, мелькнули чепцы, дилижансы и розы, свечи, горящие и погашенные, глубокий туннель, уходящий в крепостную стену, лиловые пальцы, листающие черный концертный рояль, как книгу, из которой сыплются разноцветные буквы, одна большая, вычурно выписанная не то «К», не то «Н» уцепилась за край страницы и висела, дрыгая ногами, с ноги сорвалась туфелька и упала мне на колени, навстречу нам ринулся бесконечный, с крутыми поворотами коридор, туфелька вдруг стала раскаляться и жечь мне ноги, я стряхнул ее на пол, но пропустил момент, когда взлет сменился падением. По рукам прошел электрический ток, прошел медленно и несильно, но пальцы рук свело, и мы не смогли бы их расцепить, даже если бы и захотели. Свистел и завывал ветер, в лицо летели желтые листья, искры и мертвые бабочки, потом падение замедлилось, и комната замерла в неустойчивом равновесии, то есть это была не совсем комната, потому что у нее не было стен, просто кто-то, смеясь, поддерживал мебель в прежнем положении, а вокруг был непроглядный мрак, темень, хмарь. Фраза на неизвестном языке звучала все громче, ослепительно громко, слова били по голове, как палочки по барабану, и вдруг перед нами на уровне лиц из ничего возник зеркальный ртутный шарик, который рос, колыхаясь наподобие медузы, и в его глубине мы увидели себя, только там мы почему-то стояли, а не сидели, подняв вверх сомкнутые руки; снова начался взлет, ватная тяжесть навалилась сверху, и что было на этом витке, я не запомнил, похоже, что ничего и не было, только дым, едкий, как от плохого угля. Потом комната ухнула вниз, да так, что дыхание остановилось, и опять замерла, но на этот раз еще страшнее, потому что стены были, но они были только коростой, тонкой коркой, по которой змеились трещины, а из трещин проглядывало что-то невыносимо горячее, неистовое, веселое, готовое ворваться и испепелить; шар возник сразу, толчком, и так же толчками стал увеличиваться, раздуваться, будто протискивался откуда-то, и все громче звучала та фраза на неизвестном языке, все громче и все повелительнее, и тут я впервые почувствовал, как вдоль позвоночника ударила горячая струя, прошла через затылок и уперлась в переносицу, чужие пальцы, ставшие вдруг нетерпеливыми, выдавливали ее из меня, как из тюбика, от напряжения я почти ослеп, но увидел, что в зеркале отражаемся вовсе не мы — там стояли кружком и взявшись за руки люди с крысиными головами, и именно они произносили эту бесконечную фразу на неизвестном языке! Что-то там еще было, позади них, но я не понял, что именно, потому что опять начался взлет. Накатила и схлынула зеленая волна, я перевел дыхание и посмотрел на шар, но не увидел его, и не потому, что его не было, а просто на него нельзя было смотреть. Разноцветными бусами протянулись и повисли слова, много слов, целые моря и кладбища слов, они свивались спиралью вокруг того коричневого сгустка, в который превратился шар, когда на него нельзя стало смотреть, и сгорали, сгорали, сгорали; на смену им прилетали другие, они летели на него, как бабочки на огонь, и бабочки тоже летели, еще живые, они умрут только в позапрошлый раз, умрут и смешаются с искрами, это длилось долго, слишком долго, невыносимо долго, достаточно долго, чтобы понять, что это никогда не кончится, и это не кончилось бы, но ворвался ветер, подхватил горящие страницы и унес, и мимо проплыли огромные рыбины, лениво шевеля плавниками, глаза у них были размером с апельсин и слегка косили, потом открылась равнина, и по ней в шахматном порядке маршировали колонны солдат, и низко-низко над землей, клубясь, летели облака, потом край равнины завернулся и начал скатываться, как ковер, под ковром был паркет с вылетевшими плашками, в плашках были проделаны ходы, там обитали люди размером с муравьев, они любили, ссорились, сходились и расходились, у них была интересная и насыщенная жизнь, и они не знали еще, что паркет собираются ремонтировать; однажды хозяйка помыла полы, и у них возникли легенды о потопе; потом потоп прекратился, воды схлынули, и на берегу осталась масса самых удивительных предметов, но я почти ничего не успел рассмотреть, потому что комната вновь понеслась вниз, вновь захватило дух от стремительного падения, а фраза на неизвестном языке звучала все громче, и вихрем снесло пепел с шара, чужие слова били по голове, оглушая и ослепляя, заставляя подчиняться, подчиняться с радостью и восторгом, с восторгом освобождения от всего человеческого, горячая струя, пронзая все тело, изливалась из переносицы и била в шар, в эту пленку, теперь я понимал, что это пленка, а за ней стояли, взявшись за руки, шестеро, а за ними по шесть в ряд стояли, стояли, стояли, подавшись вперед, крысы, крысы, крысы, крысы с человеческими туловищами, с человеческими руками и ногами — крысы, много, страшно много крыс, и все они рвались сюда, в наш мир, к нам, а мы отсюда помогали им прорваться, я понимал это каким-то неподчиненным еще им уголком сознания, но этот уголок не был властен надо мной, меня мяли и выжимали чужие руки, и из последних сил я старался прожечь эту преграду, что стояла между ними и мной, прожечь ее и пустить их сюда, в наш мир, это и было смыслом всей моей жизни, собрать все силы и еще, еще, еще сильней, чтобы лопнула преграда, еще сильней, ну сильней же!!!
И вдруг все прекратилось. Шар еще оставался, но он стремительно мутнел и съеживался, и вот он пропал совсем, ничего после себя не оставив, ничего больше не было, ничего не звучало, горел свет, встала и прошла мимо меня Наташа, встал Серега, они что-то делали, потом Наташа сказала мне: «Ну, что же ты», а Элла стояла и зажимала рот руками. Серега с Русланом перенесли Юрия Максимовича на диван, Наташа придерживала ему голову, Элла пыталась поить его водой, а потом побежала вызывать «скорую», но пульса у него уже не было и сердце не билось. Совершенно не помню, как приезжал врач, хотя потом мне сказали, что именно я с ним объяснялся. Хлопоты по похоронам взял на себя Руслан — он знал, как это делается. Я зашел к своему другу Сидоренке, кладбищенскому скульптору, и договорился с ним о памятнике — чтобы быстро и недорого. Ночи мы переживали по отдельности. На похоронах было довольно много людей, и только там мы узнали, что наш Юрий Максимович — полковник в отставке и Герой Советского Союза. На кладбище мы последний раз собрались впятером.
С кладбища мы поехали к Наташе — мы с ней вдвоем. Мы знали, что остальные не придут. Мы страшно устали друг без друга, поэтому обнялись сразу, только войдя в комнату. Мы торопились, потому что был вечер и надвигалась темнота, мы торопились и говорили разрозненные слова и потому не успевали сказать что-то главное — и так и не успели, мы торопились и ласкали друг друга почти лихорадочно, никогда такого не было с нами, и никогда еще не было такой горечи — наверное, тела уже прощались, пока души искали утоления. Потом мы лежали, взявшись за руки, и ждали, когда наступит темнота, и она наступила.
…Все началось сразу, по пробитой уже дорожке. Звенящие нити грубо стянули наши руки, а в ушах загрохотала та бесконечная фраза на неизвестном языке, и сразу же появилась ртутная точка, рывками, судорожно, конвульсивно протискивающаяся в наш мир; теперь они считали, что мы у них в руках и можно не церемониться, они не пытались маскировать свои намерения, и были правы, наверное, только вот злости они не учли. У меня был уже не только страх, была и злость, и не только у меня, а и у Наташи. Было нечеловечески трудно разорвать руки, но мы их разорвали, пусть для этого мне пришлось упереться ей в грудь ногой, — мы их разорвали все-таки, Наташа отлетела к стене и осталась сидеть, вероятно, ее тут же оплели щупальца, а я оказался на полу и завороженно смотрел, как сидящая на кровати божественно красивая женщина превращается в грубо размалеванный гипсовый барельеф; потом в ямочке между ключицами что-то шевельнулось, и приоткрылся глаз, черный, недобрый и внимательный, и взгляд этого глаза был тяжел и осязаем. С трудом я встал и засунул ноги в джинсы, в бездонные колодцы штанин. В уголках рта Наташи гипс треснул, и она сказала: «Уходи». И еще она сказала: «Завтра». Ощущая на себе взгляд ее третьего глаза, я вышел в коридор, на ощупь нашел дверь и вывалился наружу. Не знаю, как я оказался в подвале, в дровяном подвале, этот дом недавно еще отапливался печами, какой-то инстинкт меня туда привел — а может быть, понимание, что надо забиться сейчас подальше и от простых людей, и от нас: вдруг кто-нибудь не выдержит и побежит искать помощь… Никакими словами нельзя передать, что наваливалось на нас этой ночью, — ни до, ни после не было ничего, что могло бы с этим сравниться. Бог знает, выдержали ли бы мы повторные штурмы такой мощи; только и они, наверное, тоже не всесильны…
Рано утром я вернулся в квартиру; Наташа еще спала — лицом вниз, поверх одеяла. Я укрыл ее и прошел на кухню. Там я поискал и нашел сигареты, никто из нас не курил, но Наташа иногда покупала для гостей. В свое время я бросил всерьез и надолго, но сейчас было можно. Так я сидел и курил одну сигарету за другой, хотелось подумать, но думать-то как раз было не о чем, все было предельно ясно — и табак меня не брал, покружилась только голова, и все… Потом под окном фыркнул мотоцикл, я выглянул — приехал Серега. Было без десяти одиннадцать. Я просидел пять часов.
Серегу я встретил на лестнице. Утром он, очухавшись, обмотал шею шарфом и поехал проверять нас. Эллу он нашел совершенно уничтоженной, она плакала и говорила, что жить так больше не может. Он посидел чуть-чуть у нее, понял, что это ей в тягость, сходил в аптеку, взял валерьянки и брома, бром не хотели давать без рецепта, но он уговорил аптекаршу, он кого хочешь уговорит, напоил Эллу этой гадостью, сам принял — и правда, чуть полегчало — и поехал к Руслану. Дверь не открывали, он стал ломиться, вышла соседка и сказала, что Руслан Иванович среди ночи выпрыгнул из окна, причем совершенно тверезый, остался живой, но переломал все кости и теперь лежит в больнице. В больнице Серегу к Руслану не пропустили, но вышел врач и сказал, что состояние серьезное, но не угрожающее, сломаны бедро и таз, пролежит долго, и неплохо бы было, чтобы родственники и друзья подежурили ночью около него, и вот Серега приехал, чтобы посоветоваться: как быть?..
Мы с ним съездили в больницу, взяли телеграфный бланк с печатью и дали телеграмму в Нальчик: «Валя зпт Руслан попал больницу сломал ногу ничего страшного зпт приезжай когда сможешь Сергей Вадим». Мы дали такой текст, чтобы Валя не впала в панику — с ней это бывает. Потом мы еще раз заехали к Сидоренкам. Сидоренко хорошо устроился, его хозяйство ведут сразу две женщины, жена и сестра жены, за это мы зовем Сидоренку Султаном; сестры были лучшими подругами Руслановой Вали и потому находились в курсе наших бед. Они, конечно, решили, что именно они и будут сидеть с Русланом до тех пор, пока не приедет Валя, да и потом ей нужна будет помощь, и сразу стали обсуждать, чем кормить Руслана, и Серега предложил себя и мотоцикл в полное распоряжение Сидоренок, чтобы съездить на рынок или даже в какую-нибудь деревню за свеженьким, а я пошел к Наташе. Мне совсем не хотелось идти, я боялся идти, но предлога не идти не было, и смысла оттягивать не было, да и времени не было тоже…
Когда я вошел, Наташа жарила котлеты.
— Где ты был? — спросила она, не оборачиваясь.
— Руслан выбросился из окна, — сказал я.
— Живой? — спросила она.
— В больнице, — сказал я. — Бедро и таз.
— Это надолго, — сказала Наташа. — А как Элла?
— Элла планет, — сказал я. — Серега напоил ее бромом.
— Бедная девочка, — сказала Наташа. — Тоже долго не продержится… Ты будешь есть?
Я вдруг почувствовал тошноту — то ли от голода, то ли от бессонницы, то ли все-таки накурился.
— Буду, — сказал я. — Только я попью сначала чего-нибудь.
Наташа налила в стакан оставшееся вино. Стакан запотел. Вино было терпкое и, кажется, чуть солоноватое.
— Я никакого гарнира не делала, — сказала она. — Хочешь, вермишель отварю?
— Не надо, — сказал я.
Поели мы молча. Наташа собрала тарелки и положила их в мойку.
— Спасибо, — сказал я. Наташа не ответила.
Я обратил внимание на пепельницу. Окурков в ней прибавилось. Наташа тоже не выдержала. Я постоял у окна, потом прошел в комнату. Наташа сидела на диване, обхватив колени руками. Я погладил ее по голове. Она поморщилась:
— Не надо, Вадим.
— Почему не надо?
— Не надо. Не хочу.
Я сел с ней рядом — рядом, но не вплотную.
— Ты видел Руслана? — спросила Наташа.
— Серега разговаривал с врачом, — сказал я.
— Ясно, — сказала Наташа и замолчала. Я поймал себя на том, что сижу в самой детсадовской позе: спина прямая и руки на коленях, — но никак по-другому сесть не мог, это было бы неестественно. Пусто было в голове, пусто и холодно в том месте, где должна быть душа. Завтра начнется новая жизнь, но это не трогало, потому что сегодня кончится старая и единственная.
— Неужели все? — тихонько спросила вдруг Наташа; она спросила это недоверчиво, а губы ее обиженно скривились, как будто она хотела заплакать, но я знал, что она не заплачет. — Неужели на самом деле все?..
Я промолчал. Наташа вскочила и стремительно прошлась по комнате.
— Господи, хоть бы… — она не договорила, остановившись у окна. Что-то там происходило, за окном. — Дождь, — сказала она, обернувшись. — Наконец-то…
Только теперь я услышал звон капель о стекло. Туч не было, и продолжало светить солнце, и с чистого неба падали крупные веселые капли. Мы стояли и смотрели на дождь. Слепой дождь — это к счастью. Потом я спохватился и открыл окно. Арбузный запах свежего дождя и мокрой пыли ворвался в окно и закружил по комнате.
— Как жалко… — вздохнула Наташа. — Как все могло быть по-другому. И ведь никому не скажешь, не предупредишь…
Это верно, подумал я. Именно не расскажешь и не предупредишь. Это они продумали как следует.
— Как хорошо нам было бы вместе…
Дождь перестал внезапно, как и начался, от асфальта поднимался пар, на нем появились сухие пятна, хотя с деревьев еще капало. Под окном вдруг раскричались воробьи, а над домом напротив встала радуга — немыслимо яркая и сочная, добрая, теплая, умытая…
— Ты умеешь стрелять? — спросила Наташа, спросила еще тогда, ничего, конечно, не зная о будущем, о наших судьбах и о судьбах многих других, оказавшихся причастными…
— Умею, — ответил я.
— И я умею, — сказала Наташа. — Наверное, скоро нам всем понадобится это умение.
— Ты думаешь… — начал было я, но Наташа перебила:
— Скоро нам всем придется много стрелять. Они ведь не отступятся так просто. Сейчас они наверняка дрессируют кого-то еще, как дрессировали нас. С нами им просто не повезло. А дрессировать они умеют отлично. Просто отлично.
— Знаешь, — сказал я, — мы могли бы видеться с тобой хотя бы днем.
— Нет, — сказала Наташа. — Нет, конечно. Так я очень быстро тебя возненавижу. А я не хочу. Ты же понимаешь.
— Понимаю, — сказал я. — Я тоже не хочу. Лучше я уеду куда-нибудь. Правда, так будет лучше.
— Какой-то кошмар, — беспомощно сказала Наташа. — И ведь ничего не сделаешь… Ну почему так, Вадик? Почему мы такие несчастливые! Сначала… да что говорить… измучили совсем… Потом… Вдруг показалось наконец, что все хорошо, что можно жить, все хорошо, совсем все, только-только… и это отобрали… Ну почему именно мы? Господи, ну за что именно мы?..
Надо уезжать, подумал я. Уезжать немедленно, на восток, на север, к черту на рога, куда угодно, лишь бы дальше, потому что невозможно так — быть рядом и не иметь возможности помочь, невозможно — в одном городе, с вечным риском случайной встречи… Кто мог знать, что события пойдут в разгон и уехать я так и не успею?.. И такими вдруг мелкими показались мне наши ночные страхи перед подступившим расставанием и одиночеством… Наташка…
— Наташка, — сказал я. — Это же не насовсем…
— Да, — сказала она. — Хоть бы уж скорее, что ли…
Этажом ниже готовились к вечеринке: из распахнутого окна доносились звон посуды, патефонная музыка, веселые старушечьи голоса; там и жили-то не то две, не то три старушки, вполне еще бодрые, у них была тьма подружек, собирались они часто и по разным поводам и по вечерам очень даже неплохо исполняли русские народные и популярные советские песни. Я пропускал эти звуки мимо ушей, пока одна из хозяек не принялась, стоя у окна, делиться с кем-то из тугоухих гостей: «Психические оне! Психические, говорю! Темноты боятся. И он, сердешный, боялся, да и добоялся— инфракт. Инфракт, говорю! Крепкай такой мужнина и из себя видный, а вот поди-ка ты. Утром его на носилках несли, я в дверь-то и подглядела, да ничего не увидала: простыней закрыли, сталоть…»
— Вот так, Наташка, все и объяснилось: психические мы, — сказал я. — Все просто.
— Все просто, — сказала Наташа глухо. — Сходить с ума от любви — это удел психических. И предчувствовать беду — тоже удел психических. И кричать, зная, что тебя не услышат. И бояться темноты. И поджигать костер, на котором стоишь. И отрубать себе руку, когда не можешь разжать пальцы…
— Ты только держись, — сказал я. — Мне легче будет, если я буду знать, что ты держишься.
— Я продержусь, — сказала она. — Теперь ведь точно знаем, почему и зачем…
Дом напротив нас был весь ярко высвечен закатным солнцем, и окна его пылали, будто плавясь от немыслимого жара, но, ей-богу, никаких предчувствий эта картина у меня тогда не вызвала, была только тоска, одна только тоска, глубокая, бездонная, черная…
— Наташа, — позвал я.
— Я здесь, — сказала она. — И я люблю тебя. Я тебя так давно люблю, что даже не помню, когда начала. Наверное, я всегда любила тебя. Даже когда еще не родилась. И, господи, как долго я тебя искала. И как долго тебя еще ждать…
Она смотрела на меня потемневшими глазами, и я поцеловал ее — в последний раз. Губы ее были сухие. Губы и глаза. Приближался час наступления темноты.
— Иди, — сказала она. — Теперь иди. Иди и не оглядывайся. И не говори ничего. Я не выдержу больше. Не оглядывайся на меня. Если надо будет — не оглядывайся. Иди.
Где-то били часы. Били медленно, размеренно, с оттяжкой.
С тех пор я не выношу боя часов.
…А судьбы свои мы выбираем все-таки сами, выбираем вслепую, наугад, и ничего в них уже не изменишь, и бога нет, чтобы свалить на него ответственность и вину за выбор, и даже пройдя сквозь огонь и выйдя из огня, помним о несказанных словах и о потраченных зря минутах, и о том, что не оглянулся вовремя или, наоборот, не выдержал и оглянулся — как Орфей на пороге ада. Мы осуждены на память, и в этом наше проклятие и наша гордость.
На земле бушуют травы…
Очень странная вещь: совершенно не помню ни того, как придумывал эту маленькую повесть, ни того, как писал ее. Возможно, я выкраивал промежутки между написанием курсовых работ: на первых курсах Литинститута их задавали много. В самом Литинституте (вернее, в его общежитии) было написано и там же пропало несколько нефантастических рассказов и повесть «Пролет» — о вступительных экзаменах в Высшее военное литературно-политическое училище им. Н. Островского: абитуриентов гоняют на специальном полигоне, где суют то в огонь, то в воду, а особо отличившихся вне очереди ослепляют, ломают им спины…
Это было самое начало гласности.
Неприятно в этом признаваться, но один раз я уже описывал события лета восемьдесят второго года. Я накатал по горячим следам лихую детективную повесть и отправил ее в один журнал, который, как мне казалось тогда, с вниманием относится к молодым авторам. Вскоре пришел ответ, что повесть прочли и готовы рассмотреть вопрос публикации ее, если автор переделает все так, чтобы действие происходило не у нас, а в Америке. Это было в середине октября (оцените мою оперативность и оперативность журнала!), а второго ноября Боб сделал то, что сделал — то, что вытравило из этой истории дух приключения и оставило только трагедию.
С тех пор на меня накатывают приступы понимания — будто бы это я вместо Боба точно знаю и понимаю все, и нет больше возможности прятаться за догадки и толкования, и сделать ничего нельзя, и нельзя оставлять все как есть… Потом это проходит. Но вот эту половину месяца, вторую половину октября, я не прощу себе никогда — потому что я совершенно серьезно подумывал над тем, как бы половчее выполнить задание редакции. Стыдно. До сих пор стыдно. Ведь из того, что произошло, я не знал только каких-то деталей, частностей, фрагментов. Но я нафантазировал, наврал с три короба, выстроил насквозь лживую версию событий, а те события, которые в эту версию не вписывались, я отбросил. И что самое смешное, я готов был вообще плюнуть на приличия и врать до конца.
Понимаете, если бы я не оказался тогда в эпицентре всех этих дел, и если бы Боб не был моим настоящим другом — единственным и последним настоящим другом, — и если бы не чувство стыда за принадлежность к тому же биологическому виду, что и Осипов, Старохацкий и Буйков, наконец, если бы не Таня Шмелева, с которой я редко, но встречаюсь… но главное, конечно, Боб… так вот, если бы не все это, то я мог бы состряпать детектив — и какой детектив!
Но детектив я писать не буду. Хотя события позволяют. И Боб, будь он жив, не обиделся бы на меня, а только посмеялся бы и выдал бы какой-нибудь афоризм. Я жалею, что не записывал за ним — запомнилось очень мало. Кто мог ожидать, что все так неожиданно оборвется… Просто для того, чтобы написать детектив, опять придется много выдумывать, сочинять всякие там диалоги: Боб в столовой, Боб допрашивает, Боб у прокурора — то есть то, чего я не видел и не слышал; заставлять этого придуманного Боба картинно размышлять над делом — так, чтобы читателю был понятен ход его мыслей (Боб говорил как-то, что сам почти не понимает хода своих мыслей, не улавливает его и поэтому временами глядит в зеркало, а там — дурак дураком…), — ну и прочее в том же духе. Он не обиделся бы, но мне было бы неловко давать ему это читать. А я так не хочу.
Я так не хочу. Все происходило рядом со мной и даже чуть-чуть с моим участием, и Боб был моим настоящим другом, и второй раз таких друзей не бывает, и стыд временами усиливается до того, что хоть в петлю — а лучше бежать куда-нибудь от людей, бежать, и там, в пустыне, молить о прощении — бежать, плакать, просить за себя и за остальных, не причастных к тем, другим — кто навсегда, на все времена, запятнал род людской… и вдруг понимаешь, что по меркам людского рода это и не преступление даже — то, что они совершали, — а так, проступок, за который и морду-то бить не принято… а ведь Боб знал все наверняка, знал все до последней точки и ничего не сказал ни мне, ни на суде — он считал, что так будет правильно; я до сих пор помню выражение его лица: совершенно запредельное недоумение…
Боб все знал наверняка — он видел это своими глазами. Я видел не все, мне приходится додумывать, и иногда я начинаю мучительно сомневаться в правильности того, что додумываю. Поэтому я просто расскажу все так, как оно происходило.
Поэтому — и еще потому, что слишком хорошо помню звук пули, пролетающей рядом. И характерный короткий, спрессованный хруст, с которым она врезается в стену. С таким же, наверное, хрустом она врезается, входит, погружается в тело. И чувство, с которым стреляешь в человека, торопясь успеть попасть в него раньше, чем он в тебя, — страх, подавляющий почти все остальное, как это сказать правильно: зверящий? озверяющий? Как легко и как хочется убить того, кто вызывает в тебе этот страх, — и как гнусно после…
Я не напишу ни единой буквы, из-за которой не смог бы посмотреть Бобу в глаза.
Я помню, как он встретил приговор: покивал головой, вздохнул и будто бы чуть обмяк; друзья и родственники Осипова, Старохацкого и Буйкова аплодировали суду, адвокатесса Софья Моисеевна страшно побледнела и, стоя, перебирала бумаги в своей папке — Боб не хотел, чтобы его защищали, она билась об него как рыба об лед… И мне показалось, что был момент, когда Боб сдержал улыбку — когда глядел на аплодирующих друзей и родственников; и я не удивился бы, если бы он улыбнулся и вместе с ними поаплодировал бы суду — в конце концов, суд только подтвердил тот приговор, который он сам себе вынес.
Таня выдержала все это. Она стояла рядом со мной, неотрывно смотрела на Боба, и лицо ее было скучным и плоским, как картонная маска. Мы встречаемся с ней изредка и даже иногда разговариваем. Я ничем не могу ей помочь — просто потому, что в том мире, откуда ей можно было бы протянуть руку, меня нет. Там одиночество, ветер, дождь — и разбитые зеркала…
Разбитые зеркала… У меня сохранились два осколка тех зеркал, оба с тетрадку размером. Если их закрепить одно напротив другого, четко выверив расстояние — должно быть точно два метра шестьдесят шесть сантиметров, — то через несколько минут грани осколков начинают светиться: одного — багровым, другого — густофиолетовым, почти черным; невозможно представить это черное свечение, пока сам его не увидишь. Поверхность зеркал тогда как-то размывается, затуманивается, и туда можно просунуть, скажем, руку…
Я никогда не делал этого. Я просто представил себе, как возле той дороги из ничего высовывается рука. Символ Земли — рука, запущенная в другой мир. В карман другого мира. За пазуху другого мира. Символ Земли в том мире — ныне и присно и во веки веков.
Позор, от которого нам никогда не отмыться.
Не знаю, прав ли я, рассказывая обо всем этом. Или прав был Боб, когда приказывал, просил, умолял молчать, молчать во что бы то ни стало, и я не могу не соглашаться с его доводами и признаю его — наверное — правоту; но, соглашаясь и призывая, я почему-то все равно поступаю по-своему. Зачем? Не имею ни малейшего представления. Практического смысла в этом нет никакого.
Материалы дела и кое-что сверх того
Из четырех восьмых классов у нас сделали три девятых, и таким образом мы с Бобом оказались за одной партой. В те времена Боб был вежливо-хамоват с учителями, и особенно от него доставалось историчке и литераторше — Боб слишком много знал.
С программой по литературе, помню, у меня тоже были сложные и запутанные отношения, вероятно, это вообще моя склонность — все запутывать и усложнять, — и на этом поприще мы с Бобом очень поладили. Был еще такой забавнейший предмет: обществоведение. Там мы тоже порезвились. На педсовете я молчал и изображал покорность, Боб ворчал и огрызался. А когда мы заканчивали девятый, родители Боба уехали в Нигерию на два года, и Боб остался один в шикарной трехкомнатной квартире; я до сих пор с удовольствием вспоминаю кое-что из той поры. Но несмотря на такой, я бы сказал, спорадически-аморальный образ жизни, доучились мы нормально и, получив аттестаты, расстались — на целых десять лет.
Смешно — но вот сейчас, вспоминая наш девятый — десятый, я никак не могу восстановить полностью атрибутику тех лет. То есть кое-что вспоминается — по отдельности: клеши, например, произведенные из обычных брюк путем ушивания в бедрах и вставки клиньев; стремление как можно дольше продержаться без стрижки — ну, тут Боб был вне конкуренции; танцы шейк и танго — замечательные танцы, которые не надо было уметь танцевать; музыка «Битлз» и «Лед Зеппелин» (или я путаю, и «Лед Зеппелин» появились позже?); в десятом классе Витька Бардин спаял светомузыку — именно не цвето-, а свето-, потому что лампочки на щите в такт музыке то накалялись, то меркли; про джинсы ходили какие-то странные слухи, многие их видели, но никто не имел, и, когда Бобов отец, Бронислав Вацлавич, привез — он приезжал изредка на неделю, на две по делам — две пары джинсов и Боб с ходу подарил одни мне, мы в классе произвели определенный фурор. Вообще вокруг нас тогда — вокруг Боба главным образом — создалась этакая порочно-притягательная, богемная атмосфера; девочки смотрели на нас совершенно особыми глазами. Так мы и жили, а потом неожиданно для себя оказались в разных университетах и, естественно, в разных городах — долго рассказывать, почему так получилось. Изредка переписывались, несколько раз встречались — первые годы. Потом и переписка иссякла, и встреч не было — до самого десятилетия выпуска.
Двое наших — Тамарка Кравченко и Саша Ляпунов, поженившись, купили дом в Слободке, и там собрались две трети класса. Пили за новую семью, за новоселье, за встречу — пили много, но было как-то странно невесело. То ли действовало известие, что Игорь Прилепский погиб в Афганистане, но говорить об этом почему-то нельзя, а Юрик Ройтман уехал в Америку, и непонятно, как к этому относиться, потому что Юрку все знали, и знали, какой он отличный парень… или казалось тогда, что невесело всем, а на самом деле невесело было мне одному — по чисто личным причинам? Или просто не прошла еще вполне понятная неловкость позднего узнавания друг друга и возвращения в старые роли: жмет, тянет, не по сезону пошито? В общем, не знаю. Было что-то такое… расплывчатое. И тут пришел Боб.
Пришел Боб — и все разрядилось: в Боба, как в громоотвод, ушло атмосферное электричество, все вдруг запорхали бабочками, хотя он никого не трогал и не тормошил, просто его тут не хватало до сих пор — бывает так; мы с ним потузили друг друга в животы — он меня бережно, я его с уважением — живот у Боба был тверд и неровен, как стиральная доска, будто ребра у него, как у крокодила, продолжались до этого самого… и с тех пор мы виделись если не каждый день, то все равно часто.
Теперь и не вспомнить, как именно родилась идея написать детектив: то ли Боб рассказал что-то интересное, то ли просто мне приспичило прославиться, и я решил растащить Боба на материал — да и какая теперь разница? Главное — то, что я достаточно полно познакомился (в изложении Боба, конечно) с делом, которое он сам на себя повесил.
Итак, Боб — Роберт Брониславович Браницкий, старший следователь городской прокуратуры, молодой и энергичный работник, разбираясь в порядке прокурорского надзора с делами в различных ведомствах, наткнулся на несколько чрезвычайно интересных моментов. Он доложил о заинтересовавших его делах прокурору, дела объединили в одно, сформировали так называемую следственную группу — чисто формально, однако дело вел Боб самолично, — и с этого момента, наверное, и можно нести хронологию событий.
Вот как все это изложено в том моем паскудном детективчике (правда, Боб у меня там именуется Вячеславом Борисовичем — оставляю как есть): «На столе перед Вячеславом Борисовичем лежали три папки — с разными номерами и разной степени захватанности. То, что было в папках, он помнил почти наизусть. Дело о наезде на гражданку Цветкову Феклу Степановну, тысяча девятьсот одиннадцатого года рождения. Наезд произошел тридцать первого января тысяча девятьсот восемьдесят второго года на улице без названия — на узкой отсыпной дороге, проходящей между старым городским кладбищем и оградой шинного завода и соединяющей улицу Новороссийскую и Московский тракт. Глухая, безлюдная окраина. Ширина дороги не превышает четырех метров, и, главное, есть два крутых поворота: где угол кладбища — направо, и через сто восемьдесят метров — налево. Самый опытный водитель на таком повороте — узкая дорога и полное отсутствие видимости — должен сбросить скорость до десяти — пятнадцати километров в час. Но старушка была сбита около часа ночи автомобилем, движущимся со стороны улицы Новороссийская, именно на этом стовосьмидесятиметровом участке дороги; судя по следам краски на теле погибшей, наезд произвел автобус „Икарус-250“ красного цвета, шедший со скоростью семьдесят километров в час. Все автобусы этого типа принадлежали ГАТП-2 и обслуживали междугородные линии. Возникали вопросы: почему автобус, имевший на повороте скорость не больше пятнадцати километров в час, разогнался на таком коротком отрезке пути до семидесяти? Водитель рисковал страшно: тормозной путь едва уложился в те метры, которые оставались до бетонного забора завода. Далее: что вообще понадобилось междугородному автобусу на этой богом забытой дороге, где он едва вписывался в поворот, — если всего в полутора километрах отсюда улица Новороссийская пересекалась с проспектом Октябрьским, непосредственно переходящим в Московский тракт? Наконец, где сам „Икарус-250“ красного цвета, совершивший наезд, если все они до единого были подвергнуты тщательному осмотру и ни на одном не найдено ни следов соударения с человеческим телом на скорости семьдесят километров в час, ни следов недавнего ремонта?
С другой стороны, бабушка Цветкова Фекла Степановна, до сих пор не привлекавшая внимания органов, оказалась та еще бабушка. Проживала она одиноко, и одинокое ее жилище было осмотрено в присутствии понятых дежурным следователем Ждановского райотдела. Среди вещей обычных обнаружены были две аккуратные пачки пятидесятирублевых банкнот на общую сумму десять тысяч рублей, четыреста шесть долларов США в купюрах и монетах различного достоинства, девятьсот девяносто два рубля чеками Внешпосылторга и незначительное количество валюты стран — членов СЭВ; золотое блюдо со сложным рисунком весом тысяча восемьсот девяносто один грамм, представляющее, помимо всего, большую художественную ценность; и лабораторная электропечь ПЭДЛ-212 м; на стенках плавильной камеры обнаружены следы золота и серебра.
По словам соседей, бабушка Цветкова знавалась с нечистой силой и потому-то и шлялась ночами на этом кладбище, где давно уже никого не хоронят. Как известно, именно старые, неиспользуемые по прямому назначению кладбища и становятся прибежищем нечистой силы. Выявить какие-либо контакты бабушки Цветковой не удалось — нечистая сила на кладбище вела себя тихо; наблюдение за домом тоже ничего не дало: по словам тех же соседей, к покойнице никто никогда не ходил. Никто и никогда. Включая соседей.
Вячеслав Борисович вынул душу из того дежурного следователя, который и осмотра-то не смог как следует провести: натоптал, разбросал, захватал. Тайник, где все интересное и хранилось, обнаружил понятой, совершенно случайно, когда осмотр окончился и все собрались уходить. При повторном осмотре нашли фрагменты следов мужских ботинок, фрагменты же неустановленных отпечатков пальцев, табачный пепел… Но попробуй судить по этим фрагментам — черта лысого!
Таким было первое дело. Второе вел Чкаловский райотдел — вернее, не вел, а дело мертво висело на нем. На задах городской свалки нашли засыпанные снегом тела двух женщин. Смерть наступила от удушья — об этом свидетельствовал выход эритроцитов в ткани. Эксперт не мог с уверенностью установить точную дату смерти — так примерно двадцатого января — пятого февраля. Странен был вид погибших: очень короткая стрижка, одежда из грубошерстного толстого сукна: длинная трехслойная юбка, трехслойная же куртка, надетые поверх льняной рубахи, и плащ-накидка с капюшоном. На ногах сапоги из толстой кожи, сшитые кустарно. У обеих во рту — острые обломки зубов. Возраст обеих, предположительно, тридцать — тридцать пять лет. Ни денег, ни документов, ни вещей — ничего абсолютно. Личности не установлены.
При обследовании обуви у одной из погибших на стельке обнаружен отпечаток дискообразного предмета с выступающим рантом, предположительно — монеты диаметром 49,2 мм.
Объединяло эти два совершенно непересекающихся дела третье. Третье дело вел КГБ. Гражданин Синещеков Александр Фомич, 1934 года рождения, был задержан в момент продажи им гражданину Рамишвили Григорию Ревазовичу десяти монет из желтого металла с надписью: „Decern dinarecem“ и изображением орла с распростертыми крыльями и мечом и молнией в когтях на аверсе, с надписью: „Ои healices se Imperater!“ и изображением венценосного профиля на реверсе и обеими этими надписями на ранте. Поскольку речь, очевидно, шла о каких-то валютных делах, дело было заведено соответствующим отделом КГБ. Но там сразу же выяснили несколько не вполне обычных обстоятельств.
Ну, во-первых, гражданин Синещеков категорически отрицал свою причастность к любого рода контрабанде. С его слов, монеты эти, количеством двадцать пять штук, он нашел на дороге, соединяющей улицу Новороссийскую с Московским трактом, утром второго февраля; по этой дороге он ходил на работу; деньги были сложены столбиком и зашиты в полотняный чехол, о который он споткнулся у ограды кладбища, куда отошел, пропуская встречную машину. Таким образом, монеты эти не являлись ни кладом, ни контрабандой, а только находкой, то есть предметом, с точки зрения закона, весьма неопределенным, и то, как поступать с этой находкой в отсутствие законных ее владельцев, гражданину Синещекову должна была подсказать его совесть. Не дождавшись с ее стороны подсказки, гражданин Синещеков обратился за советом к некоему Рамишвили, а Рамишвили исключительно по своей инициативе обратился в КГБ, и сомнительная сделка была пресечена.
Во-вторых, надписи на монете, такие простые и такие понятные, были сделаны на языке, не принадлежащем ни одному из населяющих планету народов, а также ни на одном из известных науке мертвых языков.
В-третьих, такого вида монеты не выпускались никогда ни одним государством.
В-четвертых, сплав, из которого были сделаны монеты, состоял из 81 % золота, 12 % серебра, 4,7 % меди, 1,0 % цинка, 0,7 % никеля, 0,1 % палладия, 0,1 % прочих металлов; зафиксированы следы радиоактивного кобальта и технеция, что вообще не лезло уже ни в какие ворота.
Вес монеты 37,63 г, диаметр 49,2 мм.
„Вячеслав Борисович вынул из стола новую папку-скоросшиватель, сложил в нее листы из всех трех папок, вывел порядковый номер дела — 169, и тут до него дошло, что 169 — это 13 на 13. Он бросил ручку на стол и уставился на номер…“
Это я сам придумал. У реального дела был совершенно заурядный номер, Боб в приметы не верил — точнее, верил, но по-своему. Все остальное — правда.
Надо знать Боба, чтобы не усомниться: он вцепился в это дело по-бульдожьи. Его не останавливало и прекрасное знание проверенного принципа: „Не высовывайся! Ты придумаешь, тебя же и делать заставят, тебя же и накажут, что плохо сделал“: Его не останавливала очевиднейшая бесперспективность дела. В каком-то смысле Боб был фанатиком, в каком-то — романтиком (хотя сейчас это понятие истаскали до полной потери позитивности), а главное, как он сам потом признавался, — это то, что мерещилось ему за непроходимой путаницей золотых монет несуществующих стран, наездом на старушку, знающуюся с нечистой силой, убийством женщин в странной одежде, автобусом-призраком и прочим, прочим, прочим, — померещилось ему что-то большое и страшное…
В общем, Боб без труда убедил прокурора объединить эти дела в одно и занялся раскруткой. Так, он установил, что печь электродуговая лабораторная с данным заводским номером была четыре года назад списана кафедрой сплавов института цветных металлов. По установленному порядку, списанные предметы приводились в полную негодность посредством кувалды и сдавались в металлолом. Как именно уцелела данная конкретная печь, установить не удалось: работавший тогда проректор по хозчасти в позапрошлом году скончался при весьма прозаических обстоятельствах: утонул в пьяном виде на мелком месте. Его достали из воды тут же, но откачать не смогли, поскольку откачивавшие были весьма подшофе. Прорва свидетелей. Дело закрыто за отсутствием состава преступления.
И эта ниточка, как и автобусная, дальше не тянулась.
Кстати сказать, поиски таинственного автобуса лишили Боба последних иллюзий относительно порядка в автохозяйствах, Госснабе и ГАИ. То есть я, конечно, понимал, что бардак есть бардак, говорил потом Боб, но чтобы такое!.. Уникально. Совершенно уникально…
А на первомайские праздники тот самый следователь, из которого Боб вынимал душу, нашел свидетеля наезда на гражданку Цветкову Феклу Степановну. Свидетелем оказался один из рабочих шинного завода, перелезавший через забор на ту самую безымянную улочку. Дело в том, что в технологическом процессе производства шин как-то замешан этиловый спирт, поэтому выходы с территории завода, минуя проходную, практикуются. Итак, свидетель показал следующее: перелезая через забор, он задержался, потому что напротив, у ограды кладбища, скандалили, и довольно громко, двое, причем один из скандаливших — мужчина, а другая — старуха, что было ясно из тембра голосов и употреблявшегося лексикона. Потом слева вдруг взревел мотор, и огромный автобус с темными окнами рванулся по улочке, и в тот миг, когда автобус приблизился, мужчина толкнул под него старуху. Раздался удар, визг тормозов, и автобус остановился у самой стены завода на повороте. Он остановился так близко у стены, что ему потом пришлось дать задний ход, чтобы вписаться в поворот. А пока он остановился, открылась дверь, и кто-то что-то крикнул — свидетель не разобрал, что именно, так он был испуган. Вообще все было непонятно и страшно, так страшно, как никогда еще не было.
А мужчина, толкнувший старуху, подошел к ней, пошевелил ногой ее голову, наклонился, а потом быстро пошел, почти побежал к автобусу, забрался в него, дверь закрылась, и автобус, отпятившись немного, повернул налево и скрылся за поворотом. А свидетель, раздумав перелезать через забор и вообще раздумав заниматься преступной деятельностью, пусть и меньших масштабов, но все равно преступной, вернулся на свое рабочее место и до самого тридцатого апреля хранил молчание; а тридцатого апреля, будучи задержанным с бутылкой из-под венгерского вермута, замененного на технический, но условно пригодный для внутреннего употребления этиловый спирт, расплакался в кабинете следователя и все ему рассказал. Следователь же, поняв что к чему, мстительно поднял Боба с постели в половине третьего ночи.
По этой причине и по некоторым другим, не менее важным, первый выход на рыбалку мы с Бобом перенесли со второго мая на девятое.
Именно в эту неделю, со второго по девятое, бурно разыгралась весна, все, что еще не дотаяло, — дотаяло и высохло, полопались почки, из лесу несли подснежники-прострелы; а еще первого шел дождь со снегом, и демонстрантам было мокро и холодно. Мои девочки пытались шевелиться, потом выдохлись и сбились в кучку под тремя зонтиками, и так, кучкой, мы продемонстрировали мимо трибуны, прокричали "ура" в ответ на мегафонные призывы, потом побросали портреты в кузов поджидавшего нас институтского грузовичка и разошлись, пожелав друг другу хорошего праздничного настроения. И уже вечером задул ветер с юга, и назавтра было тепло и ясно. Всю неделю у девочек шумело в голове от гормональных бурь, и они не учились абсолютно — сидели, смотрели перед собой и грезили. Весна есть весна, даже если и наступает только в мае.
Все это время Боб приходил домой к полуночи, ужинал и тут же ложился спать; я, кажется, забыл сказать, что дома наши стояли напротив и окна смотрели друг на друга — правда, между домами было метров двести пятьдесят пустыря, полоса отчуждения высоковольтной линии; там стояли сарайчики, гаражи, отрыты были погреба, и в хорошую погоду сбегать к Бобу было просто, а вот после дождя приходилось давать крюк километра в два — такие парадоксы в нашем микрорайоне. Когда-то мы хотели протянуть из окна в окно телефонный провод, но так и не собрались. Зато идти в гости можно было в полной уверенности, что Боб дома: у него была привычка зажигать сразу все лампочки в квартире, чуть только начинало темнеть. И всю первую неделю мая я уже из постели смотрел, как в правом верхнем углу двенадцатиэтажки, которая черным знаменем — такая у нее была характерная уступчивая форма — вырисовывалась на фоне всенощного зарева над хитрым номерным заводом, — так вот, в правом верхнем углу, у древка, ярко вспыхивали три окна: возвращался домой Боб и устраивал свою иллюминацию. Минут через двадцать окна гасли: Боб проглатывал банку скумбрии в масле, запивал ее бутылкой пива и ложился спать.
Но вечером восьмого он пришел ко мне сам, чем-то довольный, и стал выкладывать из карманов поролоновые подушечки, утыканные обманками. Мы тут же разложили все на полу, проверили удочки — как они перенесли зиму на балконе, посетовали хором, что из магазинов все нужное куда-то пропало и приходится ломать голову над каждым пустяком…
Идти домой ему не захотелось, он выволок раскладушку на середину комнаты и лег, не раздеваясь, почему-то ему нравилось иногда спать в одежде — особенно если утром надо было рано вставать. Это для меня ранние подъемы не проблема, Боб поспать любил — и не любил себя за это. Он вообще мало любил себя, потому что считал, что человек должен быть свободен от слабостей и привычек — сам же имел привычек и слабостей достаточное количество. Так, например, потрепаться перед сном.
Сначала это был просто треп, а потом он рассказал, как за неделю до отъезда к нему пришел Юрка Ройтман, принес две бутылки коньяка, да у Боба тоже кое-что стояло в баре, и они проговорили почти сутки — не поверишь, старик, сказал Боб, пьем — и все как на землю льем, ни в одном глазу ни у него, ни у меня; билет у Юрки был куплен, родители сидели в Москве на чемоданах, сестра ушла из дома и только вчера, узнав, наверное, что Юрка ищет ее повсюду, позвонила, сказала, что у нее все в порядке, и бросила трубку, с работы его выгнали, оказывается, еще четыре месяца назад… Почему, почему, почему? — бился Юрка в Боба, а что мог сказать Боб? Оставайся? Он так и сказал. Мать жалко, сказал Юрка и стал смотреть в угол. Сил нет, как жалко… а они говорят, что едут ради меня… Вот ведь, он схватил себя руками за горло, вот, вот, понимаешь — вот! Ты что думаешь, я за колбасой туда еду? Я работать хочу! Работать, вкалывать — не руками, не горбом — вот этим местом! — он бил себя кулаком в лоб. Я же умею, я же могу в сто раз больше, чем от меня здесь требуется! А там? — спросил Боб. Черт его знает, сказал Юрка, а вдруг? Неизвестно. А здесь все уже навсегда известно — от сих до сих, шаг вправо, шаг влево — побег, стреляю без предупреждения! Э-эх! — он выматерился и отхлебнул коньяку прямо из бутылки — за разговором все никак не мог налить в стакан, тогда Боб откупорил еще одну бутылку и тоже стал пить из горлышка — за компанию. И еще, говорил потом Юрка, ты же помнишь наш класс, у нас же все равно было, кто ты: еврей, поляк, немец, татарин — кому какая разница, правда? А вот после того, как я всю эту процедуру оформления прошел… я теперь будто желтую звезду вот тут ношу. Хоть ты-то веришь, что я не предатель? Верю, сказал Боб. А меня так долго убеждали, что я предатель, сказал Юрка, что я уже ничего не понимаю… я иногда боюсь, что все мои мысли просто от озлобленности… но у нашей страны характер постаревшей красавицы, знающей, кстати, что она постарела: ей можно говорить только комплименты, а правды, разумеется… и в ее присутствии нельзя хвалить других женщин, ну а тем, кто надумает от нее уйти, она будет мстить беспощадно… по-женски. Страшно глупо, боже, до чего все глупо! Зачем это надо: рвать с корнем, по живому, со страстями, с истерикой? Зачем и кому? Главное — кому? Ничего не понимаю… ничего… И как получилось, что страна, созданная великими вольнодумцами, была превращена вот в это? — Юрка обвел руками вокруг себя, рисуя то ли ящик, то ли клетку. Ты — ты понимаешь или нет? Или не думаешь об этом? Превратности метода, сказал Боб. А может быть, превращения метода. Юрка потряс свою бутылку — бутылка была пуста. Боб достал из бара еще одну. Может быть, сказал Юрка. Но не только. Должно быть еще что-то… можешь считать меня озлобленным дураком, но это какой-то национальный рок, это упирается в традиции, в характер, в черта, в дьявола, в бога, в душу… какое-то общенациональное биополе, и всплески его напряженности — и вот теперь тоже такой же всплеск, и евреев выдавливает, как инородное тело… Дурак ты, сказал Боб. Ну пусть дурак, сказал Юрка, ну и что? Я ведь чувствую, как давит, душит, шевелиться не дает — а что давит? Что? Вот — ничего нет! — он протянул Бобу пустую ладонь. Поезжай, сказал Боб. Правда, хоть мир посмотришь. А ты? — спросил Юрка. У меня работа, сказал Боб. Надеешься разгрести эту помойку? — с тоской спросил Юрка. Да нет, конечно, сказал Боб, это же разве в человеческих силах? Это же только Геракл смог: запрудил реку, и вымыла вода из конюшен все дерьмо, а заодно лошадей, конюхов и телеги… эти… квадриги. Ясно, сказал Юрка. Ты хоть пиши, сказал Боб. Ну что ты, сказал Юрка, зачем тебе лишние неприятности?..
Так и не написал? — спросил я. Боб покачал головой. А ты? — снова спросил я. Куда писать-то? — усмехнулся Боб. Земля, до востребования? Где он хоть, ты знаешь? — продолжал наседать я. В Новом Орлеане, сказал Боб. Занимается ландшафтной архитектурой, ландшафтным дизайном. Пол мира уже объездил…
Ничего не понимаю, сказал я, зачем учить человека тому, что потом не нужно? Зачем я своим красоткам начитываю античную литературу, если они и русскую классику-то не читают, а читают "Вечный зёв"? Для них это — идеал литературы. Или, скажем…
Знаешь, перебил Боб, меня тот разговор с Юркой натолкнул на одну мысль… не только, конечно, тот разговор, но и вообще жизнь, и вот то, что ты сейчас говоришь… впрочем, нет, потом. Потом я тебе эту мысль изложу — сперва сам додумаю до кон да…
Он действительно рассказал мне это потом, через несколько месяцев — в конце июля, на берегу Бабьего озера, ночью, у костра, раздуваемого ветром, под плеск волн и раскаты сухого грома — была странная, насыщенная электричеством ночь, ночь накануне событий, но об этом позже… А сейчас мы уснули, и я проснулся в пять утра, распинал Боба, мы умылись, проглотили бутерброды с чаем, солнце еще не взошло, на улице было холодно, Боб зябко зевал, меня передергивало от стылости. Мы выкатили "Ковровец" из гаража, Боб сложил в коляску рюкзак, удочки, канистру с бензином — можно было ехать. Город был совершенно пуст, раза два нам попались служебные автобусы, да на выезде из города стояли у тротуара пээмгэшка и две "скорых" — что-то случилось. На тракте стали попадаться грузовики, навстречу и по ходу — догоняли, сердито взревывали и обгоняли, обдав бензиновым перегаром.
Ha "Ковровце" особенно не разгонишься, я держал километров семьдесят, и больше он просто не мог дать, не впадая в истерику; зато на всяких там грунтовых и прочих дорогах, а также в отсутствие оных равных ему не было. На нем можно было даже пахать. На шестьдесят втором километре тракта за остановкой междугородного автобуса направо отходила дорога, до Погорелки — асфальтовая, а дальше — страшно измочаленная лесовозами, почти непроезжая — до заброшенной деревни. Этой дороги было километров двадцать, и бултыхался я в ней полтора часа — это при том, что были и вполне приличные участки. Деревня оставалась — как и раньше — никому не нужная, вся в стеблях прошлогодней крапивы. Жутковатое местечко эта деревня. Пруд еще не растаял полностью, посередине была полынья, а по берегам — лед. В этом пруду водились великолепные караси, но их черед еще не пришел. Мы проехали по плотине, дальше дороги вообще не было, но ехать было легко: до самого Севгуна лежал сосновый бор, и я не торопясь ехал между соснами, давя с хрустом шишки и сухие ветки. Это был самый красивый бор, который я когда-либо видел, и самый чистый.
В девять с минутами мы были на месте. Мотоцикл мы оставили на пологом лысом гребне, отсюда можно было спускаться и направо, и налево: Севгун делает широкую петлю, часа на два ходьбы, и возвращается почти в то же самое место — перешеек, тот самый гребень, на котором мы остановились, шириной метров сто, не больше. От реки тянуло холодом, в тени берегов у воды лежал снег. Паводок пока не начался, вода почти не поднялась, только помутнела. Мы собрали удочки и спустились к реке. Боб пошел вверх по течению, а я вниз. Минут через пятнадцать мне попался небольшой перекатик, за которым вода лениво закручивалась воронкой. Туда, за перекат, я и забросил. Клюнуло почти сразу. Хариус берет уверенно, поклевка похожа на удар. Я вытащил его, снял и бросил в мешок. Повесил мешок на пояс и забросил еще раз туда же. Всего из этой ямы я вытащил двенадцать штук, все как один светлые, не очень большие — верховички. Потом пошел дальше. Таких ям больше не попадалось, но по одному, по два, по три я вытаскивал постоянно. Попалось несколько низовых — раза в два больших, темно-серого цвета. Несколько обманок я потерял. Рыбу постоянно приходилось перекладывать из поясного мешочка в рюкзак. Наконец захотелось есть. Шел уже третий час дня. Потихоньку, продолжая забрасывать, я вернулся. Боб уже разводил костер.
Ну, как, спросил я его. Боб кивнул в сторону мотоцикла. Там, приваленная к колесу коляски, стояла его брезентовая сумка, наподобие санитарной. Сумка была набита доверху, клапан топорщился. Я поставил рядом свой рюкзак. Рюкзак тоже неплохо выглядел. Хо, сказал я, теперь жить можно!
Мы поели. Боб посолил несколько хариусов экспресс-методом: бросил их, только что пойманных, в крепкий рассол. Вообще-то это не наш метод. Мыс Бобом люди терпеливые, мы можем и подождать, пока рыба в бочоночке, переложенная лавровым листом, гвоздикой, смородиновыми почками, горошковым перцем — и тонко посоленная серой солью, обязательно серой! — полежит три-четыре дня, и вот тогда ее можно брать, разделывать руками и есть — есть это нежнейшее розовое мясо, растирать его языком по нёбу и помирать от удовольствия. Тут же, конечно, и пиво, и вареная картошечка, присыпанная зеленым, а если нет зеленого — так и репчатым лучком… черный хлеб…
Короче говоря, мы поели и засобирались домой, и не сделали того, что должны были сделать обязательно: не осмотрелись. В смысле — не осмотрели друг друга на предмет клещей. Мы вернулись, посидели у меня, поговорили еще о чем-то, потом Бобу захотелось под душ, и только под душем он обнаружил, что за ухом у него что-то такое… Клещ еще не насосался, но впился уже глубоко. Я накинул на него нитку, завязал узелок и осторожно выкрутил, не оборвав хоботка. Второй клещ сидел у Боба под мышкой. Я вытащил и его. Боб осмотрел меня, на мне клещей не было. На следующий день Боб сходил в поликлинику, и ему вогнали под лопатку очень болезненный укол. Через три дня Боб заболел. Ромка Филозов, наш одноклассник, а ныне — очень хороший невропатолог, говорил потом, что у Боба скорее всего был не клещевой энцефалит, не настоящий, а сывороточный — то есть вызванный тем самым уколом. Кстати, в том же году сыворотку эту вводить перестали. Так что, вероятно, если бы Боб не пошел колоться, а, как большинство граждан, плюнул бы и растер, то ничего бы и не было. Но Боб страдал мнительностью.
Заболел он сразу — на работе, на совещании у прокурора: схватился за голову, глаза стали безумными… Это мне потом рассказывали: безумный взгляд, весь белый, в мелких каплях пота, руки трясутся, но еще пытается держаться, что-то говорить: сейчас прой… пройдет… спал плохо… плохо… ох, как болит, вот тут, вот тут… Потом его стало рвать, тогда наконец догадались вызвать "скорую". "Скорая" приехала через час, Боб уже временами терял сознание, а временами начинал нести чушь. Рвало его беспрерывно, уже нечем было, а его все выворачивало. Я узнал, что он в больнице, только на следующий день.
Три дня Боб был очень тяжелым, ему постоянно что-то лили в вену, делали пункции — после них он ненадолго приходил в себя, потом опять начинал бредить. У нас вовсю шли занятия, сессия была на носу, я рвался на части между институтом и больницей, но не все успевал и имел неприятный разговор на кафедральном. Почему-то довод: "Мой лучший друг в больнице, он без сознания, за ним некому ухаживать", — почему-то такой довод, даже после многократного повторения, впечатления не производил. Как это — некому? Так не бывает, чтобы некому. А жена? Холост. А родители? Во Вьетнаме. Что, совсем во Вьетнаме? Совсем. И так далее. Короче, шеф никак не мог поверить, что человек — в нашей стране! — может быть одиноким. И был не прав. Боб на самом деле был совершенно, пронзительно одинок.
Боб говорил как-то, что одиночество — это самое возвышенное состояние души. Вряд ли он особо рисовался, когда так говорил. Притом ведь самое возвышенное не есть самое желаемое. Иногда прорывалось, и он начинал жаловаться, что неприкаянность ему осточертела и на следующей он обязательно женится, но, — только жаловался. Общий ход его рассуждений — а в рассуждениях этих он становился чрезвычайно многословен — сводился к тому, что если уж жениться, то раз и навсегда, следовательно — на любимой. Но какая дура сможет выносить его годами, изо дня в день? — никакая; значит, связывать с собой любимую женщину безнравственно, поскольку тем самым обрекаешь ее на несчастность… Думаю, в чем-то Боб был прав. Природа создавала его для автономного плавания.
Через три дня Бобу стало чуть легче. Он пришел в себя, но был слаб, жаловался на головную боль и изматывающую тошноту. Он почти не мог есть, я чуть не силой вливал в него бульон и тюрю из сырых яиц. Он страшно злился на меня — и на себя тоже — за свою беспомощность, бессилие, за бессильную свою злобность. Временами он меня ненавидел. Наверное, он бы убил меня, если бы мог.
Таня работала в этом же отделении дежурной сестрой. Днем там, сменяя друг дружку, работали две матроны предпенсионного возраста, а на ночные смены заступала молодежь. Я не помню начала нашего знакомства. Все эти девочки отличались одна от другой весьма незначительно, за исключением хакасочки Кати, выпадавшей из общего единообразия по этническим признакам. Потом, неделю спустя, я начал их различать, этих Наташ, Марин, Ир — и Таню. Таня среди них была одна. Она говорила потом, что сразу, с самого начала обратила на нас внимание, потому что это редкость, когда мужчина ухаживает за мужчиной. Это вообще уникальный случай. Сначала она думала, что мы братья, а потом узнала, что нет. Просто одноклассники. Друзья. А жена? А родители? Жены нет, а родители далеко. И никого больше? Никого больше. С ума можно сойти! А у тебя? Да так… ерунда…
Родом из Усть-Каменки, там окончила десятилетку, приехала поступать в медицинский, не поступила, взяли санитаркой сюда, проработала год, попала в медучилище, училась и работала, доучилась и осталась работать тут же — привыкла, все свое, знакомое, и врачи хорошие… комната в общежитии, одноместка, редко у кого из сестер одноместки… нет, все хорошо, все хорошо… Больничные ночи особые, после двенадцати, когда гасят свет, становится жутко: полутемный коридор, темные провалы дверей, двери не закрывают, чтобы можно было позвать, если надо. И звуки. Звуки разносятся беспрепятственно, и поэтому в воздухе все время что-то есть: покашливание, скрип кроватных пружин, шорох, позвякивание стекла, вздохи, шаги, храп, вода льется, вдруг начинают гудеть трубы, хлопает форточка… пахнет хлоркой, остро пахнет озоном — от кварца. Свет кварцевой лампы, пробиваясь из-под двери процедурной, придает лицам мертвецкий оттенок. Бобу вводят на ночь тизерцин, но он все равно по несколько раз просыпается в страхе и начинает беспорядочно собираться куда-то. Потом он ничего не помнит, говорит, что спал как убитый.
Дежурят трое: две сестры и санитарка. Положено две санитарки, но где их взять — где взять достаточно дур, согласных торчать тут за семьдесят рублей? Все-таки дуры находятся — как правило, в том же училище. После двенадцати ночи две девчонки ложатся спать, одна сидит на посту. Через два часа ее меняют. В шесть все опять на ногах, начинаются утренние процедуры. В восемь приходят старухи — и начинается! Я не помню ни единого случая, чтобы они приняли смену без скандала. Это были исключительно вредные старухи — властные, как профессорши, и крикливые, как торговки. Но — опытные, умелые, неутомимые. В восемь я ухожу.
Странно, я начисто забыл, сколько ночей отдежурил. Вскоре ведь Бобу полегчало, и из палаты интенсивной терапии — не путать с реанимацией, это этажом ниже! — его перевели в обычную, где помощникам, то есть друзьям и родственникам, остающимся на ночь при больном, быть не полагалось. То есть я продежурил ночей десять. Может быть, двенадцать. Но мне почему-то кажется, что за это время мы успели познакомиться с Таней так, как если бы прожили бок о бок год-другой. Это при том, что дежурила она не каждую ночь, а через одну-две-три. Кстати, она говорила потом то же самое.
Итак, Боба вывели из пике. Он лежал теперь в палате с тремя стариками, которых "посетил Кондратий" — то есть инсульт. Компания эта была исключительно теплая и жизрерадостная — как будто им повыбивало критические центры; не исключено, кстати, что так оно и было. И все бы прекрасно, но один из них, Павел Лукич, отставной майор-пожарник, страдал метеоризмом и регулярно пукал так звучно и едко, что хоть святых выноси. Сам он страшно смущался такого неожиданного свойства своего организма, но ничего не мог поделать, а компания дружно создавала проекты контрмер, из которых самым популярным был проект противогаза, надеваемого не на лицо. Дело упиралось только в отсутствие тонкой листовой резины…
Благодаря такой обстановочке Боб встал на ноги на девятнадцатый день.
Потом, уже осенью, когда Боб стал исчезать на несколько дней, на неделю, не сказав и не предупредив, Таня приходила ко мне, и мы коротали эти проклятые тоскливые вечера за разговорами, пили пиво и доедали злосчастных хариусов. Тогда она и сказала, что обратила внимание на Боба сразу, с первой минуты, как увидела его, и сразу поняла, что это судьба. Ты мне веришь? Верю. С первой минуты… сразу… никогда бы не подумала, что так бывает… Может быть, так оно и есть. А может быть, она придумала это после. А может быть, воспринимает постфактум. Не знаю. Всякое бывает.
День рождения Боба был десятого июня, но праздновали мы его одиннадцатого, в два часа ночи. В отделении, помимо палат и прочих больничных помещений, была еще и аудитория кафедры мединститута — то есть та же палата, только приспособленная для занятий со студентами: столы, стулья, плакаты, таблицы…
По правилам противопожарной безопасности ключ от этого помещения должен был находиться на посту, в то же время вход персоналу в эту комнату был категорически запрещен. Поэтому курить, скажем, там было нельзя, а уборку после времяпрепровождений производить следовало очень тщательно. Помещение в обиходе называлось "вертепчиком"; иногда же использовали очень милое и точное, но совершенно непристойное название.
Наше ликование по поводу дня рождения Боба с самого начала включало в себя элементы детектива: так, например, торт и шампанское Боб поднимал на свой третий этаж на веревочке через окно, а меня самого Таня провела через морг — не через сам холодильник, разумеется, но мимо него: хорошо помню массивную зеленую дверь, запертую на огромный висячий замок — дабы не сбежали покойники. Мы прошли по подвальному коридору и поднялись на этаж на кухонном лифте. Потом я час сидел в "вертепчике", запертый снаружи, наедине со множеством плакатов, изображающих человека в разной степени ошкуренности. Я до сих пор считаю себя кое-что смыслящим в анатомии.
Потом, когда мы пили шампанское и ели торт (две другие девочки тоже поздравили Боба и съели по кусочку торта — кстати, торт был выше всяких похвал), я вдруг уловил, как они с Таней друг на друга смотрят — то ли шампанское мне придало проницательности, то ли им — откровенности, — так или иначе, я понял, что нужно сматываться, и смотался. Таня говорила мне потом, что в ту ночь у них еще ничего не было, только целовались, но уже в следующее дежурство было все.
Двадцать шестого июня Боба выписали на долечивание, до десятого июля он был на больничном, а с одиннадцатого ушел в отпуск. Отпуск ему полагался сразу за два года.
Виделись мы урывками. Как-то раз Боб с Таней завалились ко мне в первом часу ночи, шумные, пьяные друг от друга, а потом, посидев, притихли, замолчали и сидели долго, молча слушая Окуджаву — "Римская империя времени упадка сохраняла видимость стройного порядка. Цезарь был на месте, соратники рядом, жизнь была прекрасна — судя по докладам…" — и Боб кусал пальцы, уставясь взглядом куда-то в темный угол, а Таня крутила перед глазами последний из оставшихся у меня самодельных бокалов темного стекла с посеребренной окантовкой, серебро стерлось местами, выпирала латунь, когда-то я наделал их много, но все раздарил, — "…Давайте жить, во всем друг другу потакая…" — по-моему, им обоим просто не верилось, что все так хорошо, и они страшно боялись, что это вот-вот кончится, кто-то там, наверху, спохватится, и тогда все — поэтому они и были так напряжены и взвинчены, каждый из них буквально искал тот костер, на который мог бы взойти за другого, — "Простите пехоте, что так неразумна бывает она. Всегда мы уходим, когда над землею бушует весна. И шагом неверным по лестничке шаткой — спасения нет…".
Таня и сейчас остается одной из самых красивых женщин, которых я когда-либо видел, хотя и красится, и курит чрезвычайно много, и выглядит, пожалуй, старше своих двадцати восьми. Она дважды сходила замуж, второй раз особенно неудачно, и теперь избегает постоянных привязанностей. А тогда она — ее красота — еще как-то недораскрылась, что ли, не бросалась в глаза, ничем не подчеркивалась, и нужно было посмотреть раз, и два, и только потом доходило. Не высокая и не низенькая, не худая, но и без склонности к полноте, короткие темные волосы, тонкие брови, глаза серые, большие, спокойно-насмешливые, чуть курносый нос с тремя веснушками, губы с иронической складочкой в уголке рта… и какая-то неописуемая грациозность всех движений, грация молодого зверя, у рук и ног слишком много свободы, слишком много возможностей — и желания эту свободу и возможности использовать… как она танцевала тогда под фонарем в парке! И ноги — братцы, это же с ума можно сойти, какие ноги! Она очень легко относилась к своей красоте — вероятно, долгое время она вообще не имела о ней представления, а потом то ли не могла, то ли не хотела поверить; она носила ее спокойно, как безделушку, до тех пор, пока не узнала ее истинную цену — сравнительно недавно.
Я тормошил Боба, как продвигается расследование того дела, и Боб неохотно рассказал, что Макаров намерен все свернуть, Бобу пришлось уговаривать его, чтобы он просил прокурора о продлении сроков — хотя бы до выхода самого Боба из отпуска.
Чувствовал Боб себя неважно, я это видел. Так, например, он очень утомлялся, читая, у него часто болела голова, и часто же он становился несдержан, раздражителен в разговорах, не мог стоять в очередях, не мог ждать чего-нибудь или кого-нибудь. Иногда на него наваливался страх: он говорил, что, когда он идет по улице и солнце светит сзади, то есть когда он видит свою тень, ему кажется, что вот сейчас, сию секунду, за спиной вспыхнет — и последнее, что он увидит, это свою вторую немыслимо черную тень… пугаюсь собственной тени, пытался смеяться, но невооруженным глазом видно было, что ему не так уж и смешно. Боялся всерьез. На кой хрен мы бьемся тут, как рыбы об лед, говорил он, если завтра-послезавтра упадет с неба дура — и все. На случай, если не упадет, говорил я. А по-моему, просто по привычке, говорил он. Чтобы не думать об этом. Работа и водка — два наилучших средства от думанья. А женщины? — спрашивал я. Не помогает, говорил он и смеялся.
Отпуск у меня два месяца, и это одно из немногих достоинств нашей профессии. Уже второй год я никуда не ездил — и, надо признаться, не так уж и тянуло. Не ездил, правда, по вполне прозаической причине: не было денег. Все сбережения, и имевшиеся, и планировавшиеся лет этак на пять вперед, я вбухал в квартиру. Вы так никуда и не ездили? — с ужасом будут спрашивать меня осенью. Я же, не особенно кривя душой, буду объяснять, что в наших широтах отдых не хуже, чем в Ялте, и только по лености душевной мы устремляемся туда, где отдыхать принято, а не туда, где приятно. Аэропорты, давка на пляжах, конвейерная жратва… Да-да, будут говорить мне, вы совершенно правы, ну совершенно, на будущий год и мы не поедем, — поедут как миленькие.
Итак, Бобу было не до меня. Честно говоря, я загрустил. И от грусти я стал придумывать будущий свой детектив, и ни черта у меня не получалось в рамках тех фактов, которые Боб мне изложил. Не состыковывались нигде золотые монеты неизвестных стран, ночное убийство на пустой дороге, неопознанные и невостребованные трупы… и я стал придумывать. Я придумал преступную группу, которая занималась тем, что из золотого лома штамповала антикварные монеты и сбывала за сумасшедшие деньги иностранным туристам, которые, как известно, люди доверчивые. Я даже название придумал: "Наследники атлантов". Все было до того натянуто, что даже мне стало противно, и я бросил на половине. Дописывал я осенью, когда Боб немного вправил мне мозги. Но, видимо, с пеленок вколоченный в нас принцип экономии мыслей (и повторного использования оных) заставил писать хоть и про другое, но точно так же — с натужным сюжетом, безупречным героем-следователем и всякими словесными красивостями — это уж закон такой, что раз начал писать лажу, так лажу и напишешь, ничем не вытянешь (хотя, надо сказать, получилось в результате ничуть не хуже, чем в среднем по стране, и если бы переделал на Америку, так и напечатали бы).
Тому, выдуманному мною Бобу — точнее, Вячеславу Борисовичу, — я составил словарик: характерные выражения, фразочки, поговорочки… Дурацкий словарик, как раз для картонного следователя. За Бобом я не записывал, хотя собирался это делать. Кое-что осталось в памяти, но не все.
"Кроме государственного Гимна, Герба и Флага, надо ввести еще государственный девиз. Предлагаю на выбор: "Вся жизнь — подвиг!" или "Могло быть хуже!"
"Наши редакторы очень хорошо знают, чего не должно быть в советской литературе. Именно поэтому в ней почти ничего и нет".
"Все население этой страны заслуживает того, чтобы его пропускали без очереди и уступали места в общественном транспорте".
"Министерство Обратной Связи" — прекрасная идея, не правда ли?"
"Мальчик в интересном положении".
Это все, что мне удалось вспомнить.
Где-то в первых числах августа Боб с Таней пришли и заявили, что они все продумали и теперь точно знают, как именно нам надо отдыхать. Надо ехать на Бабье озеро. Там мы будем жить в палатках и готовить пищу на костре. И ехать надо именно сейчас, потому что, да будет мне известно, середина августа в наших широтах — это уже начало осени. Ага, сказал я и задумался. До сего момента я и не подозревал, что соберусь куда-нибудь ехать. Бабье озеро — это километров триста отсюда. Но с другой стороны — а почему бы и нет? Ладно, сказал я, только вам-то хорошо будет в палатке, тепло… Ерунда, сказала Таня, что у меня — подруг нет? Так его, сказал Боб, хватит ему свободного гражданина изображать, только ты, Таня, постарайся, ты ему кого получше выбери. Будь спок, сказала Таня, ты же знаешь, у меня есть вкус. Есть, сказал Боб, вот меня ты выбрала со вкусом. Тебя я не выбирала, ты на меня с неба свалился. Все равно со вкусом, упорствовал Боб.
Уже вечером они приволокли откуда-то две палатки, надувные матрацы, одеяла. Все это было свалено посреди комнаты. Запахло дорожной пылью. Нормально, сказал я, а как повезем? Оказалось, они знают и это. Я должен буду нагрузить все это на бедного "Ковровца" и отвезти к месту нашего будущего проживания, а они налегке поедут на автобусе. И тут вдруг я понял, что давно и сильно хочу именно этого: махнуть куда-нибудь далеко и надолго.
И мы решили ехать послезавтра утром. Но назавтра похолодало, пошел дождь, и мы задержались еще на два дня.
Я долго думал потом: а какова вероятность того, что все, что произошло, — произошло? Если бы мы уехали не в тот день, если бы мы расположились в другом месте, а не в этом первом же попавшемся прибрежном лесочке, если бы Таня из своих многочисленных подруг выбрала бы не Инночку, а другую… Будто был кто-то, специально подталкивающий события так, чтобы они выстройлись коридорчиком, желобом, по которому мы с Бобом пронеслись — Боб до конца, а меня он вытолкнул в последний момент. А может быть, Боб был так заряжен на это дело, что притягивал к себе нужные события, и не случись этой комбинации, была бы иная — с тем же исходом… или с другим? Не знаю.
Если Танина красота не бросалась в глаза и проявлялась постепенно, просачиваясь из-под неяркости — при Таниной красоте надо присутствовать, говорил Боб, — то Инночка была ярка, симпатична, разговорчива… и только. Впрочем, может быть, я несправедлив к ней. Может быть, я просто не успел ни рассмотреть ее, ни узнать как следует — после того, что там с нами случилось (а Инночка явно ничего не поняла, но перепугалась страшно, к тому же у нее возникли насчет нас с Бобом сомнения самого криминального толка), Инночка избегала даже Тани. Хотя в момент нашего знакомства, а Таня привела ее накануне отъезда, Инночка вела себя очень живо и от предложения познакомиться поближе отказываться не стала.
В восьмом часу жестокий Боб совершил побудку, взял под мышки дам, на плечо взвалил рюкзак с пивом и отправился на автостанцию. Я навьючил мотоцикл, навьючился сам и, не слишком торопясь, покатил по шоссе. "Икарус", идущий на Юрлов, обогнал меня примерно через час, и потом я долго видел впереди его красную корму.
Не доезжая до Юрлова километров двадцать, пришлось перейти с рыси на шаг: по обе стороны шоссе раскинулась комсомольская ударная стройка, поэтому дорожное покрытие временно прекратило свое существование. На объездной же дороге сидел по самые уши гордый "Икарус", и его собирались тащить трактором. Я развернулся и потихоньку степью объехал все это безобразие. На автостанции в Юрлове я подождал немного, а потом мы устроили челночный рейс: я забросил Боба и прочее имущество на берег озера (вот тут сойдет, сказал Боб и ткнул пальцем туда, где лес подступал к самой воде, там мы и остановились) и вернулся за дамами. Они сидели на скамеечке и, как от мух, отмахивались от двух пьяненьких бичей. Дорога вдоль берега была, мягко говоря, неровной, катил я с ветерком, Инночка изо всех сил прижималась ко мне и взвизгивала, а Таня сидела в коляске и стоически сохраняла спокойствие.
Боб уже поставил палатки и даже притащил немного дров. Был уже четвертый час дня, солнце пекло, решено было бросить все и немедленно лезть в воду, смывать усталость, городскую и дорожную пыль, старые и новые грехи и заботы. Дамы забрались в палатку переоблачаться и, переоблачаясь, свернули палатку набок. Было много шума. Мы с Бобом принялись надувать матрацы, и Боб вдруг бросил свой и полез в рюкзак. Голова? — спросил я. Тсс, сказал Боб, молчок! Он вытащил какие-то таблетки, положил несколько штук в рот и запил пивом. Потом забрал надутый мною матрац, отнес его к воде и плюхнулся ничком. Пришлось мне надувать и второй, и к концу этой работы у меня самого голова пошла кругом и в ушах зазвенело. Дамы наконец выбрались из палатки — в одинаковых и одинаково минимальных купальниках, внезапно белотелые и как-то сморщенные. Вероятно, так и бывает всегда с человеком, если его вдруг вынимают из одежды и помещают под яркое солнце. Впрочем, уже через пару часов дамы наши расправились и заиграли.
Вода была парная, плавали все неплохо, выбираться на берег никому не хотелось, и выгнал нас из воды лишь голод. Боб бесился в воде, как юный тюлень, и, наверное, лишь страшным усилием воли смог воздержаться от своего коронного номера: всплывания со дна голой задницей кверху. Прочее он вытворял все.
Но выбравшись на берег, он внезапно помрачнел и погнал меня за дровами, а сам остался разводить костер. С сухостоем в этом лесу все было в порядке, я срубил штук пять сухих сосенок и шел уже обратно, когда услышал шум мотора и увидел, что с дороги к-берегу, метрах в трехстах отсюда, сворачивает большой красный автобус. Не скажу, чтобы это привело меня в бурный восторг — мы уже предвкушали, какие ночные заплывы будем устраивать. Впрочем, от палаток наших остановившегося автобуса видно не было, он скрывался за изгибом берега. Но вскоре оттуда раздалось дружное ржание и громкая магнитофонная музыка. Абзац интиму, пробормотал Боб и стал, выпятив губу, оглядываться по сторонам. Давай переедем, предложил я. Боб засопел и стал снова оглядывать наши палатки, полувыпотрошенные рюкзаки, разложенные на просушку одеяла и матрацы, костер, над которым уже закипала вода в котелках, порубленные и сложенные кучкой дрова, и подвел итог: а ну их всех к лешему. И мы остались.
Тушенку Боб брал в коопторге по пять пятьдесят за банку, поэтому ужин наш: рожки по-флотски и чай с печеньем — был по цене почти как ресторанный. К этому добавлялись и усиливали впечатление громкая музыка за леском и пьяные крики. Надо полагать, они там начали бурно принимать внутрь еще в дороге, потому что набраться до такой кондиции за такой срок просто физически невозможно.
А мы тянули себе пиво и вели треп настолько легкомысленный и, так сказать, игривый, что начинали потихоньку шалеть, и Инночка уже не полезла в палатку переодеваться, а прямо тут, у костра, сняла лифчик и повесила сушить, а потом нарочито медленно натянула нейлоновую маечку с цветным изображением японской девушки, поймавшей на удочку приличных размеров рыбку. Боб залихватски подмигнул мне, а я вдруг отчаянно смутился и припал к пиву. Хотя мы уже провели с Инночкой ночь и остались вполне довольны, я почему-то не рвался повторять этот номер. И тут я наткнулся на Танин взгляд. Она сидела, накинув на плечи штормовку, обхватив колени руками, и спокойно смотрела на меня своими серыми насмешливыми глазами, и будто говорила, пожимая плечами: а что делать? Ты же видишь — не судьба.
В сумерках те, из автобуса, принялись ломать в лесу деревья и жечь огромный костер — видно было зарево над лесом и летящие искры. Кто-то хрустел кустами неподалеку от нас, но из-за того, что мы смотрели в костер, увидеть хрустевшего не удалось. Да мы особенно и не вглядывались. Было тепло и душновато, и с наступлением темноты свежее не стало — наоборот. Над озером взошла огромная кирпичного цвета луна с чуть отгрызенным левым боком. Вода была гладкая как стекло. Купаемся — и по норам, сказала Таня. По нарам, поправил Боб. Таня подошла к воде, не оглядываясь на нас, сняла и бросила на песок купальник и стала беззвучно погружаться в дробящуюся лунную дорожку. Она была немыслимо красивой сейчас и отчаянно далекой, она была отдельно от всего — от людей, от вожделений, от отношений и связей, — встала и легко сбросила с себя — погрузилась и поплыла тихо, без всплеска, и мы тихо, молча смотрели на нее, как она входит в воду и как плывет, смотрели все трое, даже Инночка что-то поняла и не побежала следом, и молчала. И тут снова кто-то стал ломиться через кусты, теперь уж точно — к нам. Они выломились и стали перед нами, два парня лет двадцати пяти, запомнилось: у одного — острые усики, у второго — вывороченные слюнявые губы. Инночка судорожно вздохнула и подалась назад, буквально вдавившись в меня.
— Картина Репина "Не ждали", — пьяно пришепетывая, сказал тот, что с усиками. Он стоял немного впереди. — Чё, Инуля? Чё молчишь-то? Молчать-то все умеют, поди, скажи-ка, Миха.
— Г-гы! — сказал Миха.
— Ты скажи чё-нибудь, Инуля, не томи мое сердце, — продолжал усатый. — Инуля ты, красотуля, знамя ты красное, переходящее, ты мне че обещала-то, а? Ты скажи, скажи!
— Ребята, — сказал я, — а не пойти ли вам?.. — И я объяснил, куда именно им надо пойти.
Этого они и добивались. Усатый тут же радостно ощерился и выволок из-под полы обрез. Тираду его трудно передать на бумаге, но суть состояла в том, что таких лишних людей, как я, он уже истребил немало и намерен продолжать делать это и далее. Мне страшно мешала Инночка — она вцепилась в меня, причем именно в правую руку. Против обреза трудно подыскать подходящее возражение, и вообще мне по всем законам следовало испугаться — да я и испугался, конечно, только своеобразно: я заклинился на том, что где-то совсем рядом со мной среди поленьев лежит топор, и мне казалось самым важным этот топор нащупать и схватить…
Я так и не понял, как именно Боб сделал усатого. Он полулежал на спине, опираясь на локти, метрах в полутора — и вдруг голые ноги Боба мелькнули в воздухе, сомкнувшись, как ножницы, на руке усатого, обрез полетел в темноту, и Боб с усатым, зацепившись, покатились от костра; второй парень, Миха, с ножом в руке, навис над ними, выбирая, куда именно колоть; я перелетел через костер и поленом — успел схватить полено; хорошо, что не топор, — поленом ударил его по руке, выбил нож, он сунул руку под мышку и попятился, и я, не удержавшись, отоварил его поленом по морде. Он упал, тут же вскочил на четвереньки и на четвереньках, вопя, удрал в кусты. Боб сидел на усатом и выкручивал ему руку, я подскочил и помог, в руке усатого было длинное шило. Боб перевернул усатого лицом вниз и ударил его кулаком по затылку — усатый затих. Боб встал на ноги, отошел в сторону, пошарил в траве, нашел обрез, отнес его к костру. Меня вдруг бросило в дрожь, ноги подогнулись, и я сел на землю. Боб отошел к воде, стал умываться. Я не мог и этого — сидел и дрожал. Усатый зашевелился, застонал, приподнялся, сел. Пошел, сказал я ему. Он встал и пошел, натыкаясь на деревья. У меня как будто отложило уши, и я услышал множество самых разных звуков, и среди них — как рвется из воды Таня. Что там, что там? — кричала она. Все в порядке, сказал Боб, задыхаясь. Уже все в порядке. Инночка скорчилась за палаткой, натянула на голову одеяло и рыдала. Я подошел к ней, присел — она зарыдала еще громче. Наконец она более-менее успокоилась и сказала, что второго она не знает, а который с усами — это ее бывший парень, живет здесь, в Юрлове, а работает шофером на стройке, то есть не на самой стройке, а на автобусе, это, наверное, он привез сюда всех… Оставаться, конечно, было опасно, мы быстренько посадили обеих дам в коляску, я завел мотор и прогрел его, Боб проверил обрез — в магазине было три патрона. Потом мы в полной готовности сидели и ждали — с полчаса или больше, но карательной экспедиции так и не последовало: то ли битые и не пытались организовывать ее, то ли все там были в стельку пьяны, то ли слышали наш мотор и решили, что мы смылись.
Слушай, спросил- меня Боб, а какой там у них автобус? Я задумался. Я видел его издалека, сквозь лес. Красный, это точно. И угловатый, не Львовский. Кажется, "Икарус". Та-ак, сказал Боб и надолго замолчал. Может, сходить посмотреть? — предложил я. Нет/ сказал Боб. Нельзя разделяться. Девочки, отбой тревоги. Спать. Спать, спать.
Девочки, которые молча просидели вдвоем в тесной коляске — Таня мокрая, только из воды, в одной штормовке на голое тело, а Инночка испуганная до икоты, — вдруг развыступались, что никаких "спать", они будут нести вахту наравне с мужчинами… к вообще… Боб подошел к Тане, обнял ее, поцеловал, сказал: ну, будь же умницей, — и Таня послушно-послушно двинулась к палатке. Точно так же и теми же словами я уговорил Инночку. Ты придешь? — просила Инночка. Нет, сказал я, мы будем караулить, ложитесь в одной. Они забрались в одну палатку, долго там шушукались, потом уснули.
Смешные, сказал Боб. И хорошие, добавил он, подумав. Костер почти погас, но от луны было много света. Боб, приподняв полог, заглянул в палатку, поманил меня. Девчонки спали, сбросив одеяла, уткнувшись друг в дружку лбами и коленками. В палатке было страшно жарко. Боб оставил полог приподнятым — комары здесь не водились. Часа в два ночи подул ветер, и луну закрыло сначала рваными, а потом плотными облаками. Я думал, что похолодает, но ветер по-прежнему был теплый, как из печки. Вдали тихо, шепотом прошелестел гром. Потом гроза стала приближаться. Мы снова разожгли костер — вскипятить чай. Ветер пригибал пламя к земле, заставлял стелиться, поэтому пришлось поставить котелок прямо на угли — потому и чай получился с угольками. Потом началась гроза.
Молнии сверкали поминутно, грохотало звонко и коротко, тучи озарялись вспышками изнутри и на миг становились прозрачны и ярки, как чистое пламя, волны лихо вылетали на берег, и ветер доносил до нас теплые брызги. Дождя не было. Гроза пролетала над головой и удалялась, и на смену ей приходила следующая.
Так продолжалось несколько часов. Шумели деревья, и Боб говорил, говорил, говорил…
Его прорвало, ему надо было выговориться, и не собеседник, а покорный слушатель был ему нужен. Если он и спрашивал меня о чем-то, то в моих словах искал лишь подтверждение своим мыслям — и находил. Я не могу воспроизвести тот многочасовой монолог Боба, это невозможно, но кое-что я все-таки запомнил. У нас у всех под шкурой по бронежилету, но в эту ночь Боб пробил меня. Это была жуткая ночь. Все тут наслоилось: и поездка, и драка, и стиснутый между землей и тучами, перенасыщенный электричеством воздух — все. И Боб со своими разговорами. Не помню, как именно он вырулил на то, надо или не надо знать всю правду — то есть вообще всю. Он говорил, что вера — в Бога, справедливость, разум, во что угодно — это просто интуитивная защита от правды, от ужаса познания, что каждый раз, узнавая краешек истины — какой-то новой истины, — человек испытывает одновременно и восторг, и ужас, — а потом он перешел к конкретным примерам: скажем, ведь существует информация, которую просто лучше не знать, потому что психика не выдерживает, потому что жить после этого не хочется… скажем, тюрьмы в блокадном Ленинграде — где основной контингент был кто? — липовые шпионы и прогульщики, которые на работу не выходили, а не выходили почему?.. Не может быть, сказал я. Вот видишь, сказал Боб, тебе не верится, сознание отталкивает это, и ты, наверное, никогда по-настоящему в это не поверишь… чем можно убедить? Документами? Документы сегодня лгут чаще, чем люди. И что ты будешь делать, когда воспримешь эту правду? Что? Как это повлияет на твое поведение? Не знаю, сказал я. Никто не знает, сказал Боб. Но такая правда еще в порядке вещей… нет-нет, в контексте того времени — в порядке вещей. А вот как бы ты воспринял информацию о том, что одна из первых наших атомных бомб была испытана на заключенных? Что? — спросил я. Ты правду говоришь? Это правда? Нет, ты скажи — это правда? Я до сих пор помню тот ужас, который испытал тогда. Ты мне ответь: что бы ты стал делать, если бы узнал, что это правда? — настаивал Боб. Он повторил это несколько раз. Не знаю, бормотал я, это немыслимо, это совершенно немыслимо… Так надо знать такое или нет? — спрашивал он. Надо, вдруг сказал я. Зачем? — не отпускал он меня. Затем, чтобы знать цену всему, сказал я, не назначенную продавцом, а истинную цену. Какая тебе разница? — спросил Боб, не понимаю. Так это правда, насчет бомбы? — спросил я. Не знаю, сказал Боб, никто не знает… Никто ничего не знает… слушай, сказал Боб, а вот такой вариант: ты живешь в то время, и тебе попадает в руки вот этот самый материал, и у тебя есть возможность передать его за границу — ты передашь? Я подумал. Я думал довольно долго, а он молчал и ждал. Передам, сказал я наконец. Тебя расстреляют, напомнил Боб. Все равно передам, сказал я. Зачем? — настаивал он. Ведь все равно же ничего нельзя сделать. Ничего. Понимаешь — ничего! Передам, сказал я. Ты за справедливость, сказал Боб, понимаю. Ты хочешь, чтобы всем сестрам было по серьгам… любой ценой… А ты? — спросил я. А я вот мучаюсь сомнениями, сказал Боб. Так у тебя есть эти материалы? — с ужасом спросил я. Нет, сказал Боб, таких материалов у меня нет…
Но почему, почему? — спрашивал я тогда Боба, почему вдруг получилось так, что есть столько вещей, о которых хочется ничего не знать, — почему государство, созданное величайшими вольнодумцами, превратилось вот в это?.. Ты хочешь знать? — спросил меня Боб каким-то странным голосом. Да, сказал я. Ну что же, сказал Боб, раз хочешь — знай. И он стал излагать свою чудовищную теорию, которой вот уже шесть лет я ищу опровержения, а нахожу только подтверждения. Иногда мне кажется, что это моя идефикс, что правота этой теории существует лишь в моем воображении — наподобие того, как во сне возникают чудесные строки, стихи, которые после пробуждения оказываются бессмысленным набором слов — но во сне перед ними испытываешь восторг, неподдельный восторг… Не знаю. Все, с кем я пытался объясняться на эту тему, вначале говорят: "О!" — и поднимают палец кверху, потом говорят: "Да нет, ерунда!" — но говорят это чересчур уверенно и бодро — и больше к этой теме никогда не возвращаются.
Говорил Боб примерно следующее: с того момента, как появились общественные отношения, появилась необходимость в их регулировании, то есть в управлении, то есть в подаче команд и контроле их исполнения, то есть во вполне конкретных операциях с информацией. На первом этапе передача информации осуществлялась непосредственно от генератора идей к среде реализации, то есть от вождя, от старейшины — к племени. Но племена росли, жизнь становилась сложнее, и на каком-то этапе интенсивность информационного потока, выдаваемого и получаемого генератором, превысила тот предел, который способен осилить человеческий мозг. С этого момента появляются помощники вождя, с этого момента зарождается бюрократия. То есть бюрократия — это не зло, это просто механизм обработки информации в условиях централизованного управления. И все было бы ничего, если бы в одной отдельно взятой стране не принялись строить новое общество, при этом перепрыгивая через несколько этапов развития; история всегда мстит за такие скачки, говорил Боб, но как она отомстила нам!., в результате получилось, что идеи, спускаемые сверху, были слишком сложны для общества, поэтому их приходилось упрощать, адаптировать, — информация же, поступающая наверх, часто не совпадала с тем, что ожидалось; в этих условиях аппарат очень быстро устанавливает свою монополию на информацию, тем более что есть множество благовидных предлогов, чтобы это сделать: внутренняя и внешняя контрреволюция, всяческие заговоры и восстания — еще настоящие, не мнимые… И постепенно аппарат обретает несколько интереснейших свойств: во-первых, контроль над всей решительно информацией; во-вторых, возможность преобразовывать ее, исходя из своих интересов; в-третьих, обретение этих самых интересов; наконец, в-четвертых, безграничные практически возможности насильственно внедрять в среду реализации те или иные идеи. Аппарат этот создан так, говорил Боб, что пропускная способность его сравнительно низка, а объем перерабатываемой информации растет из года в год — это объективный процесс, отменить его нельзя (хотя и хотелось бы!), но вот притормозить можно, — поэтому аппарат вынужден и сам расти, расти и расти. Вот это-то — безудержный рост — и становится постепенно основной функцией аппарата. Ну и кроме того, естественно, питание, самосохранение. Как видишь, все функции почти сразу подразделились на номинальные и витальные. Номинальные — это те, ради которых аппарат создаватся, витальные — это те, которые обеспечивают его существование. Ясно, что последним аппарат автоматически отдает предпочтение. И вот посмотри, как интересно все получается: информационная система, способная распоряжаться информацией, обрабатывать ее, преследуя свои интересы… Боб пристально смотрел на меня, думая, что я догадаюсь. Ну? — так и не догадавшись, спросил я. Это же интеллект, сказал Боб. То есть? — не понял я. То и есть, сказал Боб.
Короче, по Бобу, получалось, что каждый служащий, все равно кто: член Политбюро, почтальон, милиционер, директор банка, секретарь парткома, нормировщик на заводе, бухгалтер, преподаватель института, старший следователь прокуратуры — все, кто каким-нибудь боком прислоняется к процессу циркулирования информации, — все они, выходя на работу, включаются в мыслительный процесс некоего гигантского нечеловеческого интеллекта. Каждая операция по обработке и дальнейшей передаче информации, проводящаяся ими, помимо своего основного предназначения (скажем, назначить бабушке пенсию — "да", "нет"), имеет и некую теневую функцию и в виде отчетов, цифр, сводок и так далее — начинает циркулировать по информационной сети, так или иначе влияя на прочую информацию, приводя, возможно, к каким-то решениям — скажем, ввести войска в Афганистан. Это я упрощаю, конечно, сказал Боб, не так все примитивно, но из миллиардов таких вот элементарных информационных операций и складывается этот самый мыслительный процесс.
Становление и развитие этого интеллекта было для общества чрезвычайно болезненно, поскольку задачи перед аппаратом становились большие, масштабные, а существенных ограничений не вводилось. Так, по Бобу, получалось, что задачу "Индустриализация СССР" аппарат выполнил, соблюдая те условия, которые были введены: форсированные сроки, минимальные затраты, отказ от привлечения иностранных капиталов, — и все это, разумеется, за счет того, что нарушались общечеловеческие нормы, заповеди и все такое прочее… поэтому уничтожалось крестьянство: нужны были дешевые рабочие руки, а самые дешевые они у преступников, работающих под конвоем, поэтому надо создать такие законы и такую обстановку, чтобы преступников было побольше… чтобы хватило для самых грандиозных проектов… Понимаешь, поначалу это была просто машина, примитивная кибернетическая машина, с которой к тому же не умели обращаться, но очень скоро она начала преследовать собственные интересы — она распоряжалась всей без исключения информацией в стране, поэтому могла вести — и вела — информационную игру с генератором идей, поставляя ему такую информацию, которая заставляла его генерировать именно те идеи, которые шли на пользу аппарату. Это уже проявление интеллекта, и достаточно мощного. Он очень умело поиграл на маленьких слабостях дядюшки Джо… Не все получалось гладко в этой игре, потому что иногда в информационных узлах оказывались люди, способные принимать самостоятельные решения, а интеллект аппарата воспринимал это как сбои в своей работе — и тогда начался тридцать седьмой год, после которого главным и ценнейшим качеством любого чиновника стала исполнительность… Хрущев, почувствовав, интуитивно поняв роль аппарата в тех событиях, ощутив его сопротивление, попытался было бороться с ним, но проиграл темп, а потом и всю партию — собственно, проиграл ту самую информационную игру. Аппарат методом селекции информации блокировал одни его идеи и неумеренно подавал, доводя до абсурда, другие, вынуждал делать неверные ходы там, где уже созданы были предпосылки к успеху, — скажем, в истории с Пауэрсом, ясно же, что это была провокация тех, кто хотел сорвать переговоры, и ясно, что действовать надо было иначе… как и понятно, что бороться с аппаратом при помощи того же самого аппарата — это тащить себя за косичку из болота…
Сейчас… Сейчас достигнут полный гомеостаз. Интеллект добился своего и теперь будет прилагать все усилия, чтобы гомеостаз сохранить. Какого рода усилия? Транквилизация генератора идей — информационная игра ведется так, чтобы никаких действительно новых идей он не выдавал; транквилизация общества — о, здесь обширнейшее поле деятельности! Наконец, блокировка информации, все же поступающей в систему — главным образом из-за границы. Кое-какие долгосрочные меры в рамках той же блокировки: снижение культурного уровня, усреднение образования — и так далее. Уже заметно. Воспитание — разными методами — отвращения ко всему новому, необычному. Культивирование неизменности образа жизни, оседлости, постоянного занятия одной деятельностью. Ты не думай только, что он там размышляет специально, как это устроить и не упустил ли он что-нибудь. Это происходит автоматически. Допустим, ты бросаешь камень, и мозг твой мгновенно производит довольно сложные баллистические расчеты — хотя заставь тебя эти расчеты сделать на бумаге, ты провозишься неделю. Так и у него: то, что служит для жизнеобеспечения, осуществляется легко и непринужденно; а навязанные задачи решаются долго, громоздко, со множеством ошибок… да это и не вполне ошибки, а просто результаты решений других, собственных задач.
Перспективы? Боб почесал подбородок. Знаешь, я так долго думал над этим, что теперь уж точно ничего не знаю. Если по большому счету, то единственный выход — это отказаться от управления обществом вообще. Но это, сам понимаешь, утопия. Так что могу говорить только о нас, о маленьких человечках. Стараться вести себя на своих местах — на своих местах в информационных узлах этой системы, внося сбои в мыслительный процесс этого монстра. Может быть, он сдохнет. Поступать не по инструкциям, а по совести. Только это чистейшей воды идеализм…
А закон — это тоже инструкция? — спросил я. То есть? — не понял Боб. Ты сказал — не по инструкциям, а по совести. Так закон — это тоже инструкция? Черт его знает, неуверенно сказал Боб. Как когда… смотря для чего закон служит… Ты помнишь Юрку? — спросил он. С ним ведь поступали строго по закону. Только закон этот был специально создан для того, чтобы существовала и процветала эта структура ОВИР. Понимаешь, если бы не было этой процедуры отбора, разделения на чистых и нечистых, проверок благонадежности и уважительности причин, оценки их — чисто субъективной, кстати! — если бы можно было, как в цивилизованных странах, уехать, приехать, пожить здесь, пожить там, — так ведь и не понадобилось бы этой десятитысячной оравы чиновников, следящих, чтобы все шло по закону. Кому это выгодно? Откуда пошло? Вот тогда я и стал задумываться… Сначала додумался до наличия паразитического класса. Потом вижу — не сходится. Ведь даже высшему руководству отсталость страны невыгодна… То есть класс-то есть, и именно паразитический, но есть что-то и над ним — за ним… И вот читаю какую-то книжку, чуть ли не Винера, — и как молнией по затылку, думаю: ну, все… ты меня знаешь, я человек увлекающийся, но не пугливый, а тут аж руки-ноги отнялись — страшно стало. Думаю — вот почему кибернетику мордовали…
Боб говорил еще много, и многое я просто не запомнил, а многое, может быть, перепутал, — но он заразил меня этой своей идеей, и теперь мысли мои работают постоянно именно в этой плоскости. Однако одну его фразу я запомнил точно, дословно: главное, сказал Боб, это просто холодно и четко понимать, что обществу у нас противостоит не какая-то группка дураков или злоумышленников, не каста и не враждебный класс, а интеллект — развитый, всезнающий, почти всемогущий, абсолютно внеморальный — нечеловеческий интеллект информационной системы; контакт с ним невозможен, переиграть его немыслимо, использовать в своих целях — глупо и преступно; глупо потому, что он, вероятно, и не подозревает о существовании человека… Единственное, что можно сделать, — это изучить его и, изучив, уничтожить — не может же быть, чтобы у него не было слабых мест; это просто я их не знаю…
И что же делать? — глупо спросил я.
Что делать? — сказал Боб. И как быть? И кто виноват? Вопросы, которые всегда так волновали русскую интеллигенцию…
Проклятые вопросы, сказал я. Лишь проклятые вопросы, лишь готовые ответы… Лишь готовые ответы на проклятые вопросы… лишь проклятые ответы на готовые вопросы…
Что это? — спросил Боб.
Это я когда-то пытался писать стихи, сказал я.
Оптимист, сказал Боб. А надо — лишь готовые вопросы, лишь готовые ответы.
Вечно вы, Ржевский, все упрощаете, сказал я.
Отнюдь, отнюдь, сказал Боб. Давеча, вы поверите, устроили большое гусарское развлечение: взяли соленый огурец, модистку, ломберный столик, медный пятак…
Бороду подбери, сказал я.
Да? — удивился Боб. А мне только вчера рассказали…
К утру наконец посвежело. Сдуло всю вчерашнюю липкую духоту, и ветер стих, и облака остановились в небе и не летели больше, как безумные птицы, а на востоке протянулась над озером синяя полоса, а потом она налилась прозрачным розовым, и появилось солнце, осветив снизу облака, — братцы, до чего же это было красиво…
Когда я думаю о Бобе, я почему-то в первую очередь вспоминаю эту ночь, а уж потом — все остальное…
Мы попили чаю, девочки разлеглись на матрасиках ловить самый лучший утренний загар, а Боб отвел меня чуть в сторону и сказал, что возвращение вчерашних мальчиков маловероятно, но теоретически возможно, поэтому он оставляет мне обрез с тремя патронами (живыми не сдаваться? — спросил я), а сам берет мотоцикл и едет в Юрлов выяснять некоторые обстоятельства. Как этого парня зовут? — спросил он у Инночки. Инночка сказала. А адрес помнишь? Инночка помнила. Ну, загорайте, сказал он и стал заводить мотоцикл. Меня несколько покоробила такая его категорическая распорядительность, но морда у Боба была соответствующая — это был Боб, Взявший След, так что спорить не имело смысла. Он завел, сел и поехал.
Отсутствовал Боб до половины пятого. Я начисто не знаю, где он был и что делал. Судя по всему, он, не вмешивая в дело местную милицию, расколол этого шофера на многое, если не на все.
А может быть, и не только шофера. Как я догадываюсь, платой за информацию было обещание держать ее в тайне — как, кстати, и источник оной. Боб сдержал слово. Даже мне он ничего не сказал. Короче говоря, он за те восемь часов, которые провел отдельно от меня, узнал очень многое. Вернулся он весь осунувшийся, усталый, злой. Мы сидели у воды и играли в дурачка. Никто нас, конечно, не терроризировал: на берегу, справа и слева, стояли мангалы, палатки, навесы, горели костры — короче, была суббота, "уик-энд на берегу океана", трудящиеся смывали трудовой пот с лица своего. Боб подрулил поближе и велел мне одеваться и ехать с ним. Девочки завозмущались было, но он совершенно не обратил на них внимания. Возьми обрез, сказал он. Я сунул завернутый в штормовку обрез в коляску. Там на дне уже лежал какой-то незнакомый длинный брезентовый сверток. Мы недолго, соизволил сказать он наконец девочкам. Не скучайте. Я сел сзади, и он погнал быстро, как только мог, вдоль озера, от города, а потом по дороге, уходящей в лес, куда-то в гору, и ехали мы так с полчаса, не меньше, несколько раз Боб останавливался и сверялся с набросанным-на листке бумаги планом, потом дорога свернула в лог, и я увидел дом, стоящий прямо в лесу.
Это был большой, добротный дом из бруса, с верандой, с крутой высокой крышей, с двумя печными трубами, с фасадом в шесть окон и с высоким крыльцом. Забора вокруг дома не было, но в стороне лежал подготовленный штакетник, и вообще были признаки то ли закончившегося, то ли еще продолжающегося ремонта: доски, бочки, строительный мусор, самодельная циркулярная пила… Дом упирался спиной в склон горы, так что из чердачного помещения можно было, видимо, выходить прямо на терраску, где стояли сарайчик и баня — тоже с признаками ремонта. Боб подогнал мотоцикл к самому дому, к крыльцу, поставил на ручной тормоз — тут был отчетливый уклон. Ну вот, удовлетворенно сказал он, мы и на месте… наверное. Он достал из коляски обрез, сунул себе за пояс. Потом достал другой сверток. Там было новенькое ружье-пятизарядка "МЦ 12–21", двенадцатый калибр, автомат. Была там и коробка с патронами. Умеешь? — спросил он. Нет, сказал я. Он показал. Оказалось, очень просто. А зачем? — спросил я. На всякий пожарный, сказал Боб. Авось не понадобится. В патронах картечь. Ого, сказал я, на кого же это мне придется охотиться, на какую дичь? Да не на дичь, сказал Боб, — охотники… Я вспомнил вчерашнюю драчку и заткнулся.
Дверь была заперта на висячий замок, Боб достал из кармана ключ и отпер ее. Мы вошли. Свет падал только из двери, поэтому я не сразу разглядел помещение. Да там и нечего было разглядывать. Недавно, видимо, перестилали полы, вдоль стен еще лежали доски; в одном углу желтела огромная куча стружки. Посередине стояла чугунная печка — не "буржуйка" из бочки, а литого чугуна ящик длиной около метра и по полметра в высоту и ширину. Труба от нее уходила во вьюшку настоящей печи. А у дальней стены, напротив двери, стояла единственная в доме мебель: два высоких зеркала в деревянных рамах, укрепленные на ящиках без ножек, — не трюмо, но что-то наподобие того.
Ага, сказал Боб и подошел к зеркалам. Потрогал одно, другое. По-моему, он волновался — он, когда волнуется, становится чрезвычайно экономен в движениях. И когда выпьет — тоже. Потом он взялся за край ящика одного из зеркал и с натугой — зеркало было тяжелым, гораздо тяжелее, чем казалось и чем должно было быть, судя по размерам (кстати, и осколки зеркал, те, что сохранились, гораздо тяжелее, чем стекло — они тяжелые, будто из свинца), — с натугой развернул его боком к стене. Помоги, сказал он мне, и мы вместе развернули второе зеркало — так, чтобы они смотрели теперь друг на друга. Боб вытащил из кармана рулетку и стал мерить расстояние между зеркалами. Несколько раз мы двигали зеркала, пока между ними, между поверхностями их стекол, не стало ровно двести шестьдесят шесть сантиметров. Потом мы поправили их так, чтобы они стояли параллельно, — это было легко сделать, потому что малейший перекос искривлял бесконечную череду отраженных зеркал вправо или влево. Наконец мы поставили их так, как надо.
Отойдем, сказал Боб. Мы отошли и стали ждать.
Ждать пришлось минуты три. Потом вдруг возник какой-то звон, тонкий и долгий, возник, нарос и пропал, а грани стекол, выступающие несколько из рамы, засветились: у левого зеркала — красным светом, а у правого — темно-фиолетовым, почти черным, жестким, интенсивным, бьющим по нервам.
Боб подошел к правому зеркалу, долго смотрел на него. Я стоял в двух шагах за его спиной, держа в руке ружье, и злился на него, на себя, на свою недотепистость и непонятливость, — злился страшно и готов был плюнуть на все, разругаться с Бобом и уйти куда подальше. Я помню прекрасно, как болезненно я воспринимал в эти секунды всю нелепость происходящего, всю истошную, не лезущую ни в какие ворота неестественность событий. И тут Боб протянул руку и коснулся поверхности зеркала, и зеркало отозвалось тем же звоном, и по нему пробежала рябь, как по воде, Боб сделал движение рукой — и рука исчезла, погрузившись в зеркало, и тут же вернулась — невредимой. Боб отшатнулся и налетел на меня.
Видел? — спросил он. С меня уже слетела вся дурацкая злость, но испугаться я еще не успел. Видел, выдохнул я. Что это? Золотое дно, мрачно сказал Боб. Не понял, сказал я. Потом, потом, сказал Боб. Слушай меня внимательно, старик, заговорил он твердым голосом. Слушай, запоминай и делай только так, как я скажу. Сейчас я войду… туда. Ты будешь ждать меня здесь. Я пробуду там час, два — не больше. Понимаешь, надо сделать так, чтобы никто не вошел туда следом за мной и чтобы никто не сдвинул зеркала. На всякий случай — вот тебе рулетка, запомни: двести шестьдесят шесть. Но лучше, чтобы ты не допустил… ну, смещения… В общем, так: если кто-то захочет проникнуть туда или вообще будет в курсе дела и постарается зеркала сдвинуть — это враг. Понимаешь — настоящий враг. Это война, старик, и они не задумаются, чтобы убить нас. А нам нельзя допустить, чтобы нас убили. Понимаешь?
Ни черта не понимаю, сказал я, ни черта абсолютно. Мне было страшно и удивительно неуютно, я вдруг попал в какую-то другую жизнь и никак не мог избавиться от желания то ли проснуться, то ли сбежать и забыть.
Ах, черт, сказал Боб, ну некогда же сейчас объяснять…
Это по тому делу? — на всякий случай спросил я.
По тому, сказал Боб. Здесь вот оно все и сходится — все линии, все нити… Я вернусь и расскажу. Только ты прикрывай меня, ладно?
Ладно, сказал я. Что я еще мог сказать?
Он подошел к зеркалу, еще раз пошарил в нем рукой, просунул голову, постоял так несколько секунд — видимо, осматривался, — потом перешагнул через ящик-подставку, как через порог, и исчез.
Он исчез, а я остался стоять, как истукан, и стоял довольно долго, а потом вдруг принялся обходить зеркало по кругу — хорошо хоть еще ружье на плечо не положил и шаг не чеканил, — и сделал круга три, прежде чем до меня полностью дошел весь идиотизм собственных телодвижений. Тогда я засмущался и стал искать, куда бы присесть, и сел на чугунную печку, но с нее нельзя было видеть одновременно и зеркала, и дверь, все время что-то было за спиной, это нервировало, тогда я соорудил себе скамеечку из досок между зеркалами у стены — теперь я видел и зеркала, и дверь. Ружье я поставил между колен и стал чего-то напряженно ждать, все время посматривая на часы, и уже через десять минут измаялся этим ожиданием. Тогда я взял себя в руки — постарался взять. Я положил ружье на пол рядом с собой, сел поудобнее, откинувшись назад, к стене, и стал думать обо всем на свете, и вскоре поймал себя на том, что думаю о Тане. Мне тут же пришла злодейская мысль: убрать зеркала, оставив Боба там, где он есть, избавившись тем самым… ну и так далее. Так и возникают сюжеты. Одно предательство — обязательно должно быть другое, параллельное, — я задумался над параллельным, а потом понял, что получается лажа. Лажа получается, старина, сказал я себе. Параллельный… параллельный… мир. Я оглянулся на зеркала. Стоят… надо же. Кто бы мог подумать…
Меня вдруг охватило беспокойство — как там девочки одни, мало ли что могло случиться, все-таки свинство было — оставлять их… потом вдруг вспомнил, как Таня входила в лунную воду и как переодевалась у костра Инночка, давая себя рассмотреть, — и понял, что соскучился, что надо бы устроить сегодня какой-нибудь маленький праздник — это Бобова теория, теория маленьких праздников, гласящая, что если в календаре ничего нет, а на душе неважно, то надо придумать маленький праздник и отметить его, а иначе жить совсем невмоготу, — с фейерверком: в бутылку наливается чуть-чуть бензина, бутылка затыкается пробкой, ставится в костер, пробку вышибает — ура, ура, ура! Да здравствует наша самая лучшая в мире жизнь! И так далее — до самого утра. С перекурами на пересып. Такова программа-минимум. Бензин есть, бутылки тоже есть, большей частью полные, но это явление временное…
Потом я вспомнил почему-то, как наглый Боб прошлым летом знакомился с девушками на пляже. Он выбирал самую красивую, подходил и просил — с самой милой улыбочкой — полотенце. Девушка не могла, разумеется, отказать. Боб тут же, рядом с ней, обматывал чресла полотенцем, снимал плавки, выжимал их, надевал снова и, рассыпаясь в благодарностях, возвращал полотенце. Действовало это безотказно.
Наконец я смог спокойно думать про эти чертовы зеркала. Получается что? Получается что?.. Получается, что это действительно двери в какие-то иные миры. Тогда сходится все: и золотые монеты, которых не чеканило ни одно государство, и женщины в странной одежде… вообще все. Я медленно встал и приблизился к тому зеркалу, в которое вошел Боб. В зеркале стояла бесконечная череда зеркал, бесконечный черный коридор — и бесконечность эта дышала… не могу сказать как, но я чувствовал, что она становится то больше, то меньше, пульсирует, дышит — бесконечность…
Мне стало жутко, но я сдержал себя. В помещении было довольно темно, и видно было только зеркала три, ну, пять — дальше шла сплошная непроницаемая плотная темень — поле для игры воображения… Я зачем-то глубоко вдохнул, задержал дыхание и просунул голову сквозь зеркало. Знакомый звон резанул по ушам, и вообще было какое-то странное ощущение непонятно чего — будто я безболезненно, но с усилием продавился через много маленьких дырочек… а потом я увидел Зазеркалье. Зазеркалье было неинтересным: простой коридор, узкий и сравнительно высокий, с панелями, неровно покрашенными темно-зеленой матовой краской. На потолке горели вполнакала голые лампочки. Метрах в сорока отсюда коридор начинал плавно изгибаться вправо, и дальше уже ничего не было видно. Стояла полная тишина. Я подождал немного и вернулся — вытащил голову. Наверное, там я совсем не дышал — потому что в груди сперло, пришлось несколько раз глубоко вдохнуть, только после этого дыхание восстановилось. Так, подумал я, а напротив?.. Я подошел к другому зеркалу — тому, что светилось красным.
Сначала я попробовал просунуть руку, и руку обожгло холодом. Там, за зеркалом, было градусов сорок. Я опять набрал полную грудь воздуха, зажмурил глаза и осторожно — гораздо осторожнее — просунул голову. Там был еще и ветер — мороз, ветер и яркое солнце, — я открыл глаза и чуть не заорал: я висел на высоте пятого этажа и смотрел вниз, и глаза еще не привыкли, никак не могли привыкнуть к ослепительному свету, потому что солнце било прямо в лицо, и до горизонта лежал сверкающий снег, и только подо мной — наискосок — шла темная убитая лента дороги, и по дороге брели, держась, хватаясь друг за дружку, чтобы не упасть, — молча, только шорох множества бессильных шагов, — люди в странном сером тряпье, и двое рядом с дорогой — в белых тулупах и с огромными собаками на поводках; а направо — я высунулся по плечи и смог посмотреть, откуда они шли — стояли — лежали — черные, припорошенные снегом руины, и местами поднимался дым, и пахло горелым — горелым и еще чем-то неясным, но тяжелым… Ресницы смерзлись, и я не мог ничего больше видеть, но слышать еще мог: шарканье ног, собачий лай, доносящийся волнами далекий неровный гул, гудение, и время от времени — содрогание воздуха, которое и звуком-то не назовешь, — а потом прозвучало несколько выстрелов, но я не видел, кто стреляет и в кого стреляет…
Я буквально вывалился обратно, сел и стал оттирать руками — страшно горячими руками — оледеневшее лицо. Заломило зубы и уши. Потом вдруг почему-то вернулся, как эхо, запах, вернулся стократно усиленным — гари и гниения, — меня чуть не вывернуло. Так я сидел и постепенно приходил в себя, и вдруг какой-то сторож во мне ударил в рельсу — я вскочил на ноги и схватил ружье — что-то было не так. Что? — я огляделся. Потом дошло: замолчали птицы. До этого сороки трещали без передышки, а тут настала тишина.
Я подошел к двери, выглянул наружу. Дорога отсюда просматривалась метров на двести — никого. Но что-то тревожило и давило, именно давило что-то такое… не знаю: так бывает при звуке сирены, и на этот раз ощущения были те же, только звука не было. Совершенно точно — металась, вибрировала какая-то мерзость в воздухе, и вскоре я кожей лица почувствовал это: невыносимо пронзительную вибрацию, как от бормашины, только растянуто и размыто, не в одном каком-то зубе, а во всем теле, — началась от лица и дошла до ног, икры заломило так, что я присел, держась за косяк двери, чтобы не упасть. Наверное, я даже отключился на сколько-то секунд, потому что тех двоих я увидел, когда они были уже в сотне метров от меня — это надвигалось, как повторный кошмар, именно повторный, потому что мне казалось, что это продолжается непрерывно: началось вчера вечером и продолжается до сих пор, не прекращаясь; двое угрожающе подходят, один чуть впереди, другой сзади и сбоку — не знаю я, почему мне так казалось, наваждение какое-то… Я повалился назад и крепко стукнулся затылком, и от боли пришел в себя — то есть завывание, неслышное, сверлящее, продолжалось, но уже не проникало глубоко в меня, задерживаясь где-то сразу под кожей; главное, что вернулась способность соображать, и сразу мелькнуло: то! То самое, о чем предупреждал Боб! Враги! Мне по-прежнему мерещилось, что это вчерашние парни, но что-то в них было не так — я, отодвинувшись от двери, всматривался в них, — что-то было не так, не так, как… непонятно. Один был в защитного цвета штормовке, черных штанах и сапогах, второй — в коричневой болоньевой куртке, голубых спортивных брюках и вибрамах, на голове вязаная шапочка; я успел рассмотреть их до того момента, когда они увидели мотоцикл.
Это были профессионалы. Не успел я моргнуть, как у них в руках оказалось по пистолету, и зигзагами, пригибаясь, они метнулись к дому — один вправо, другой влево, я никак не мог уследить сразу за обоими — я уже сидел на корточках или стоял на коленях, прячась за косяком двери, и выцеливал кого-то из них, я все еще не мог поверить себе, что это всерьез, что я буду сейчас стрелять в людей — это была какая-то затянувшаяся шутка; но один из них поднял руку и выстрелил, чуть не попав в меня, — пуля врезалась в косяк. Этот звук я не забуду до конца жизни.
Я выстрелил в ответ, сорвав спуск, и видел, как картечь хлестнула по траве. Они залегли. Один в канаве, другой за бочками.
Потом они стали по очереди выскакивать, как чертики из коробочек, обстреливая дверь. Их выстрелы звучали очень тихо — или мне казалось так после грохота моей пушки? Они били очень кучно и все время в косяк — ни одна пуля не влетела в проем двери, и я догадался, что они боятся попасть в зеркала. И, вспомнив про зеркала, я вспомнил про Боба, ушедшего в зеркало, и что я прикрываю его с тыла, и что, если я пропущу этих к зеркалам, они убьют его. И с этой секунды я действовал очень четко: во мне будто включилось что-то, какая-то боевая система — не та, что при драке, не было ни ярости, ни азарта, эмоции вообще отключились начисто — только голый расчет и абсолютная холодность.
Я выстрелил навскидку по одному из парней, выстрелил наудачу, чтобы только истратить патрон, и спрятался за косяк, держа ружье вертикально: расчет был на то, что они решат, что у меня двустволка и что я ее сейчас перезаряжаю. Еще две пули врезались в стену, потом наступила короткая пауза, и тогда я развернулся всем корпусом и выстрелил в бегущего ко мне парня в коричневой куртке, — выстрелил в упор, метров с десяти, и понял, что попал, — и тут же бросился на пол и скрылся за противоположным косяком двери — и услышал, как пуля рванула воздух: тот, второй, в штормовке, все-таки пальнул в проем двери, нервы не выдержали — пуля ударила в чугунную печь, и звон был такой, как если бы там висел колокол. Теперь мне стрелять было не с руки, а повторять этот трюк было бы безумием, он срезал бы меня влет — я отступил по стенке, а потом бросился к этой самой печке и залег за нее. Такая позиция была лучше старой: там бы он меня застрелил, рано или поздно. Здесь же ему придется сначала меня увидеть — войдя со света в темноту. Я же его буду видеть прекрасно.
Пользуясь паузой, я дозарядил ружье. Странно: руки не дрожали, но внутри, от горла и ниже, было совершенно пусто и тупо, и что-то там трепыхалось, как тряпка на ветру; я чувствовал, что рот у меня не закрывается, потому что я им дышу, а когда я поднял руку, чтобы протереть глаза, то никак не мог дотянуться до лица. Я страшно боялся, но страх этот был, как боль под новокаином — был, а не чувствовался. Но был. Не просто страх — ужас. И внутренний, настоящий, и накачанный этой проклятой вибрацией, этим воем — черный ужас, и умом я его чувствовал, но что-то сработало у меня внутри и отключило его от восприятия… Второй парень долго не стрелял и не показывался — может быть, искал обход; мне чудилось, что я слышу какие-то стуки в стену и шаги наверху. Оказалось — нет. Он подобрался к двери. Чуть-чуть показывался краешек головы и скрывался. Я взял на прицел это место, готовясь стрелять, но он обхитрил меня: махнул чем-то на уровне лица, и я не сдержался, выстрелил — щепки так и брызнули, а сам он появился над порогом, рука с пистолетом и голова, и успел выстрелить трижды; печка моя загудела от ударов. Я выстрелил в него, но не попал — он уже исчез. И тут меня страх все-таки достал — какой-то прогностический страх: я понял, что проиграю ему. Позиция моя была лучше и оружие мощнее, но своим он владел — превосходно. Еще одна, две, три такие дуэли — и он зацепит меня. По сути, до сих пор мне просто везло. А теперь результат зависел только от умения…
Но все решилось иначе. За спиной у меня раздался шум падения: Боб лежал на спине, ногами к зеркалу, и лихорадочно дергал затвор своего обреза, одновременно пытаясь отползти назад, но сзади стояло другое зеркало, и Боб упирался в него плечами, в смысле — в ящик-подставку. А из того зеркала, из которого он выпал, перло что-то непонятное, и я до сих пор не уверен, что мне это не померещилось: будто бы извивающиеся змеи, только вместо голов у них были кисти рук с тонкими и тоже извивающимися пальцами; и когда Боб спиной уперся и сдвинул то, второе зеркало — это раскололось со звоном и посыпались осколки, и руки будто бы упали на пол и продолжали извиваться… впрочем, не уверен. Я вообще неясно и сумбурно помню последующие события, кроме одного: стало темно, я обернулся к двери и увидел парня в штормовке, стоящего на пороге — замершего на пороге — с пистолетом в руке… я видел только его силуэт, но через этот силуэт, показалось мне, проступило другое: черный гибкий дьявол, — он стоял, замерев, и смотрел, как все еще рушатся осколки зеркала… и я выстрелил. Я выстрелил от страха. Может быть, можно было не стрелять. Не знаю. Но я выстрелил — от страха, что он опередит меня, — и во вспышке моего выстрела увидел, как в его груди образовалась черная дыра с неровными краями — он сделал шаг назад и выстрелил тоже — он, уже убитый, — и за моей спиной опять обрушился звон разбитого стекла… Потом он шагнул вперед, снова шагнул — и я, заорав, выстрелил в него еще дважды — второй раз уже в упавшего.
Все нормально, говорил Боб, тряся меня за плечо, все нормально. Я слышал, как у него стучали зубы. А потом вдруг стало страшно жарко, и жар этот исходил от лежащего головой к нам парня в штормовке, мы попятились — и тут он вспыхнул. Вспыхнула голова — ярко, как целлулоид, и сквозь прозрачное пламя видно было, как сгорает череп и то, что внутри черепа: будто бы соты, но с толстыми стенками ячеек. Пламя разгоралось и становилось невыносимо жарким, и мы пятились, запертые этим пламенем, и уже загорелась стружка в углу, занимались стены, и нечем было дышать. Потом мы как-то оказались на чердаке, но я совершенно не помню, как именно — не помню я, чтобы видел лестницу, ведущую на чердак, или хотя бы люк в потолке; но, значит, что-то было, раз мы туда попали. Зато отчетливо помню, что руки были заняты чем-то тяжелым и что ружье мешало страшно. Дым был уже и на чердаке, и Боб, мучительно кашляя, шарил по карманам и не мог найти ключ от двери — потом оказалось, что он держит его в руке. Мы вывалились на воздух и оказались около баньки, и Боб лег на землю, а я увидел, что мотоцикл стоит совсем рядом с пламенем, и бросился вниз. Помню, что руль был страшно горячий, раскаленный, помню, что не сразу нашел, нащупал, отворачивая лицо от жара, ручку тормоза, но нашел все же — и мотоцикл покатился задом, описывая дугу, и врезался кормой в штабель досок, а я бежал за ним следом и что-то кричал… Потом рядом оказался Боб, и мы покатили мотоцикл подальше от огня.
Дом уже горел по-настоящему, там было чему гореть, и перед домом тоже бушевало пламя — горел тот парень, в коричневой куртке. Боб завел мотоцикл и кричал мне что-то неслышимое за ревом огня, но я никак не мог оторваться — стоял и смотрел… Боб гнал мотоцикл куда-то в гору, почти без дороги, а потом под гору, бешено, со страшной скоростью, проскакивая между деревьями — не понимаю, как мы не разбились тогда. Он выехал к какой-то речушке и заехал прямо в воду. Заглушил мотор, слез с мотоцикла, стал умываться, потом вдруг сел и захохотал. Сидел в воде и хохотал, как сумасшедший. И я вдруг тоже захохотал и свалился с седла — нарочно, чтобы наделать побольше брызг. До меня дошло наконец: это были не люди! Понимаете: не люди! Не в людей я стрелял! Облегчение было немыслимое. Я брызгал на Боба водой, я вопил и поднимал фонтаны — и вдруг уловил, как он на меня смотрит: с усмешкой, такой усталой и понимающей усмешкой… понимающей и брезгливой. Передохни, сказал он. А что, что-то не так? — спросил я, переводя дыхание. Боб не ответил, помолчал немного, потом сказал: ладно, отбились, ще Польска не сгинела? — спросил я и опять захохотал. Не мог я так сразу остановиться. Хватит, сказал Боб, вставай и умывайся, у тебя вся морда в саже…
Мы медленно ехали и сохли на ходу, и выбрались на шоссе где-то далеко за Юрловом, и Боб повернул от города и проехал несколько километров, и только потом, когда шоссе было пустынно, развернулся и поехал назад. Теперь было хорошо видно: слева и впереди над лесом поднимается рваный и ломаный столб дыма. На въезде в Юрлов нас остановил гаишник. Права и у меня, и у Боба были в непромокаемых бумажниках на липучках, и эти бумажники очень заинтересовали сержанта. Держа их в руке, он обошел мотоцикл кругом, проверил номера, попинал колеса — ему явно хотелось к чему-нибудь придраться. Что, мотоцикл угнали? — спросил Боб. Почему, удивился сержант, нет… Позвольте-ка, — сказал Боб и мягко отобрал у него свой бумажник. Под правами у Боба лежало служебное удостоверение. Ага, сказал сержант и вернул мне мой бумажник.
Что это у вас там горит? — спросил Боб. Где? — спросил сержант. А, это… Это, наверное, лыжная база — лыжную базу там строители ладили. Вот и подпалили, видать, по пьянке. Много разного по пьянке делается… — Это точно, — сказал Боб. До свидания, сержант. Счастливого пути! — напутствовал нас сержант. Мы уехали. Правда, недалеко. Боб вдруг резко тормознул, спрыгнул с седла, зацепившись коленом, и побежал в кусты. Вернулся он весь белый, молча сел в коляску, сказал: веди. Я пересел за руль и медленно поехал в наш лагерь.
Возле палаток Боб буквально сполз на землю, и мы с девочками принялись приводить его в чувство. Таня очень испугалась: она думала, это рецидив. Но через час Боб уже был на ногах. Только без вопросов, предупредил их Боб. Служебная тайна. Таня уже пыталась меня допросить — шепотом, но энергично, я ничего не смог ей сказать. Врать не хотелось — я так и сказал: врать не хочу, а правду пока сам не понимаю, — точнее, не могу объяснить. А чуть позже Боб просто приказал мне молчать.
Начисто не помню тот вечер и ночь. Таня говорила, что мы с Бобом бузили невероятно развязно, но мрачно. Судя по тому, что я проснулся в полдень, Инночка еще спала, а в палатке все было скручено в жгуты, ночь прошла в приключениях. Кажется, бегали купаться — не помню. Когда я выбрался из палатки, Боб уже кашеварил, а Таня умывалась, стоя по щиколотку в воде. Кашеварил Боб как-то странно: на корточках, прямой как палка. Ты чего? — спросил я. Поясница отвалилась, сказал Боб. Стареешь, каналья, сказал я. Старею, согласился Боб, старею: сопли вожжой тянутся и с пива пердю. Но, обратно же, есть и преимущества у старости… Какие преимущества, он не договорил: из палатки, шатаясь, вышла на четвереньках Инночка, постояла и повалилась на бок. С днем рожденья, Винни Пух, сказала она, я принес тебе самое-самое… кто видел мой лифчик? Вон там, на дереве, сказал Боб. Почему на дереве? — удивилась Инночка, разве ему там место? Тут произошел сексуальный взрыв, сказал я, вот его туда и забросило. Понятно, сказала Инночка, надо доставать… Она потрясла дерево, и оттуда упали лифчик, майка с девушкой-рыбачкой и одна босоножка. Вторая зацепилась крепко, мне пришлось лезть наверх и сбивать ее палкой. С дерева я и увидел милицейский "бобик".
Атас, ребята, сказал я, нас едут беречь. Интересно, глубокомысленно выдал Боб. Машина подъехала, из нее вышли капитан и старшина, а следом за ними давешний Миха, но я его не сразу узнал: вся правая половина морды Михи являла собой сплошной синяк. Рука была в гипсе. Однако, подумал я. Старшина остановился шагах в пяти, капитан подошел и представился. Боб тоже представился вполне официально. Что у вас тут произошло? — дружелюбно спросил капитан. Необходимая оборона, сказал Боб. У ребят были нож, заточка и обрез. Хотите заводить дело? А куда деваться? — спросил капитан. Мы решили не писать заявления, сказал Боб. Я вчера поговорил со вторым — он извинится перед девушкой, и все будет в ажуре. Не будете, значит, писать, сказал капитан. Ну, ладно… А как вы объясните вот это: и он рассказал, что вчера, часа в два дня, к дому Виктора Кудинова подъехал автобус, на котором он работает, из автобуса вышли два человека, через несколько минут они вернулись, ведя за собой упомянутого Кудинова, — именно ведя, потому что тот шел неохотно и чуть ли не упирался. Видевшая это соседка вдруг чего-то так испугалась, что не могла прийти в себя до сегодняшнего утра, а утром прибежала в милицию, крича, что Витеньку похитили бандиты. Над ней посмеялись, но через час пришел дед, ходивший по грибы, и сказал, что прямо в лесу стоит автобус Кудинова, а в автобусе никого нет. Забавно, сказал Боб. Мужик ночь дома не ночевал, а его уже милиция разыскивает. Значит, так, с Кудиновым я разговаривал в десять часов утра, объяснил ему популярно положение вещей, с двенадцати часов и примерно до пятнадцати тридцати были в районной больнице, могут подтвердить дежурный врач и больные. Он, — Боб показал на меня, — был здесь с утра до вечера, могут подтвердить девушки и окружающие отдыхающие. Так, алиби у нас есть, мотивов у нас нет, поскольку, во-первых, мы им позавчера и так накидали, а во-вторых, проще всего было бы сдать ребят вам, а вещдоки — вот: и Боб выложил завернутые в полиэтилен нож Михи и заточку усатого; обрез, прошу прощения, залапали, сгоряча схватились пару раз, а на ножичках отпечатки все на месте… но вот решили волну не поднимать, миром разойтись… Дурак ты, сказал капитан Михе, если бы это были они — стали бы они тебе тут на месте сидеть? Вот именно, сказал Боб. Кстати, что за ребята его увели, в чем одеты были? Мы вчера видели двоих в лесу, странные какие-то… Чем странные? — спросил капитан. Стоят, руками машут, а мы подошли — повернулись и побежали. Странно, — согласился капитан. Один в зеленой штормовке был и в сапогах, второй в коричневой куртке. Точно, сказал Боб, они. Их мы и видели. В котором часу? — спросил капитан. В семь или в начале восьмого, сказал Боб. А где, можете показать? Примерно, сказал Боб. Там, вдоль озера если ехать, километрах в восьми отсюда дорога в лес уходит. Там и видели. Спасибо, сказал капитан, протокол как — сейчас напишем или завтра в отделение заедете? Да давайте сейчас, — сказал Боб. И запишите мой телефон, надо будет, звоните.
Потом, когда "бобик" уехал, я отвел Боба в сторонку и спросил: а как ты узнал, в чем они были одеты? Ты же их не видел. Кто? — не понял Боб. Ну эти… похитители. Никак я не узнавал, он сам все сказал. А я подтвердил, что их и видел. От фонаря ляпнул. От фонаря — и в десятку, сказал я. Это они были там, у дома… О-ла-ла, сказал Боб. Доигрался Витечка. Вот к чему приводит неумеренная тяга к желтому металлу. Рассказывай, велел я. Попозже, — сказал Боб. Вот вернемся в город, сядем спокойно…
Инночка налетела, как маленький смерч, пнула Боба в бок, заколотила по нему кулачками, я попытался схватить ее сзади, она отмахнулась локтем, и очень удачно — прямо мне в глаз. Я с размаху сел на помытые миски. Боб наконец ухватил Инночку поперек туловища и поднял ее в воздух. Оказавшись без опоры под ногами, Инночка не сдалась и продолжала лупить Боба по гулкой спине. Подбежала Таня, остановилась, не зная, что делать. Это вы, вы убили его! — кричала Инночка. Нет, сказал Боб, не выпуская ее из рук, не мы. Правда, не мы. Врешь, врешь, всхлипывала Инночка, ты и милиционеру врал. Ничего я не врал, сказал Боб, а если и не сказал чего-то, то так надо, потому что сам веду это дело и не хочу, чтобы они мне помешали.
А Витю-то уби-или! — проскулила тихонько Инночка. Неизвестно еще, — сказал Боб, — ты так и знай: пока тело не найдено, об убийстве речи не ведется. Знаешь, как это бывает: пропадает, а потом выныривает — через год, через пять… Витечка твой запутался в деле одном нехорошем, а вчера понял, что я это дело раскручиваю, — ну и дал деру. Скорее всего. А ты — убили, убили… убьешь такого, как же. Наверное, Инночка поверила, потому что с кулаками больше не бросалась и даже помогла мне промыть заплывший глаз. Но все равно что-то сломалось, и после обеда мы стали собираться обратно в город. Как-то не получалось с отдыхом после всего этого.
Обратно добирались прежним порядком. Вести мотоцикл, имея только один глаз, оказалось труднее, чем я думал, но тем не менее в кювет я не завалился и на встречную полосу не выскочил. Дома меня не ждал никто, в окнах Боба тоже не было света. Я помылся с дороги, а потом лег спать. Проснулся, как от удара — что-то приснилось такое, от чего перехватило дыхание, но что именно, я не запомнил. С тех пор я часто так просыпаюсь — не каждую ночь, конечно, это было бы совсем уж невыносимо, но часто…
А в ту ночь мне припомнилась одна из хохмочек Боба: "Экспертиза установила, что череп погибшего пробит изнутри", — у меня было именно такое чувство, что из меня что-то стремится вырваться, пробить череп и вырваться. Это было мучительно.
Утром пришла Таня и сказала, что Бобу опять плохо и что он просит меня зайти. Боб лежал в кровати, зеленоватый с лица, лоб был обмотан полотенцем. Мой глаз так и не открывался, и смотрелись мы вместе, вероятно, интересно. Таня сказала, что сейчас она пойдет в свою больницу и приведет сюда доктора, который лечил Боба. Боб слабо сопротивлялся. Таня легко преодолела это сопротивление и ушла с напутствием: делай что хочешь. А потом Боб сел и с лихорадочным блеском в глазах стал требовать с меня страшную клятву, что я никому никогда ни при каких обстоятельствах — ни при каких абсолютно! — не расскажу про зеркала. Тогда я сказал, что собираюсь, в общем-то, писать про все это. Боб сказал, что писать — это пожалуйста, все равно не поверит никто, — но никому не рассказывать, а главное — не давать показаний. Показаний? — не понял я. Да, показаний, подтвердил Боб, если меня будут допрашивать, то я не должен и словом обмолвиться про все это. Я подумал и согласился, но за это потребовал, чтобы Боб рассказал мне то, что я сам еще не знаю.
"Вячеслав Борисович помолчал немного, потом, нахмурясь, медленно стал говорить. Видно было, что он затрудняется в подборе слов — так бывает, когда начинаешь говорить что-то непривычное.
— Очевидно, миры в нашей вселенной лежат послойно, и каждый мир соприкасается с двумя параллельными ему мирами, в которых течет своя самостоятельная жизнь. В обычных условиях переходов между мирами нет, но переход можно создать с помощью неких устройств, в нашем случае замаскированных под зеркала. Когда устройство работает, можно попасть из нашего мира в оба соседних. Но топография миров не совпадает, поэтому для того, чтобы проникнуть в другой мир, надо выбрать в нашем мире такое место, откуда выход в тот мир вел бы на поверхность земли, а не под воду и не в верхние слои атмосферы. И точно так же — во второй из соседних миров… Трудно сказать, как именно зеркала попали к нам — это явно не земная техника. Видимо, жители одного из соседних миров — а скорее всего даже не соседнего, а какого-то более отдаленного, — научились переходить из мира в мир и везде устанавливали такие вот зеркала, оставив при них обслуживающий персонал — или замаскированный под аборигенов, или составленный из подготовленных аборигенов. Далее: в соседнем с нами мире, назовем его "красным", по цвету зеркала, идет война — видимо, давно. Есть беженцы, эмигранты. И вот беженцам некто предлагает переправить их через границу в нейтральное государство. Переправа осуществляется через наш мир — у нас тихо, спокойно, границ в этом месте нет. Здесь эти агенты выходят на наших деловых людей: транспорт там, то-сё… Наши, понятно, требуют плату. Те стали рассчитываться золотыми монетами. Наших запах золота взъярил, и они взяли это дело в свои руки. Поначалу, вероятно, переправляли, как раньше: беженцы платили деньги, их в определенном месте ждали, проводили в наш мир, усаживали в автобус, везли вместе с зеркалами за четыреста километров и там вновь переправляли в их мир — уже на невоюющую территорию. А потом кому-то пришла в голову мысль: зеркала-то два… И беженцев стали проводить не через "красное" зеркало, а через "черное". Наши деловые ребята получали теперь не только плату, но и все имущество беженцев. А жители "черного" мира понемногу играли все более и более важную роль — уже не просто покупателей живого товара, а организаторов. Вполне вероятно, что они намерены были полностью захватить переправу в свои руки. Но — не удалось…"
На самом деле ничего этого Боб не говорил. Он побелел и заорал, чтобы никогда, никогда больше не смел спрашивать его об этом, потому что для меня это любопытство, а он должен вспоминать то, что видел там… Потом он откинулся на подушку и закрыл глаза. Так что все, что я написал про этот разговор, я выдумал сам. В какой-то мере в этом мое спасение, потому что всегда остается кусочек сомнения — ну а вдруг я ошибаюсь? У Боба не было такой отдушины — он знал все. И еще — он ведь просто не мог оставить все так, как есть, и в то же время он ничего не мог сделать…
А тогда мы долго сидели, обдумывая каждый свое. Боб, сказал я наконец, и что же ты намерен делать? Не знаю, сказал Боб, надо что-то придумывать. Не знаю. Ведь за дело, за то, что они творили, я их привлечь не могу — нет такой статьи. Закона они не нарушали, понял? Нет закона — нет и преступления. А на нет и суда нет. Хорошие ребята, золото-парни… Ну а все же, упорствовал я. Не знаю я, сказал Боб устало, ну чего ты ко мне привязался?
Осколки зеркал я нашел через неделю в коляске мотоцикла — так и лежали, засунутые под сиденье. Кто и как их туда засунул, не знаю. Видимо, все-таки я. Конечно же, я попробовал устанавливать их одно напротив другого, и, конечно же, они засветились. И я страшно испугался. Это был необъяснимый испуг — так в детстве боятся всяких страхоморов. Мне показалось вдруг, что сейчас из черного зеркала высунутся те самые извивающиеся руки и втащат меня туда, в черный мир — куда уводили беженцев.
Я тут же опрокинул зеркала и больше не прикасался к ним — очень долго. Бобу я почему-то не сказал ничего. Не знаю, почему. Может быть, зря. Наверное, зря.
Боб поправился недели через две. Целых два месяца он — уже выйдя на работу и занимаясь чем-то еще — вел частный сыск, пропадая иногда на несколько дней. Тогда Таня стала приходить ко мне вечерами, мы пили пиво и разговаривали, и она плакала и говорила, что не может без него жить… Боб стал раздражителен и вспыльчив, говорить о чем-нибудь с ним было мучением.
Я писал детектив, где немыслимо умный и ироничный Вячеслав Борисович распутывает зубодробительное дело, отправил то, что получилось, в журнал, и пришел ответ, что все хорошо, надо только сделать так, чтобы события происходили в Америке — так сказать, изобразить их нравы. А второго ноября Боб вызвал повестками к себе неких Осипова, Старохацкого и Буйкова, заперся с ними в своем кабинете и шесть часов допрашивал — по крайней мере те, кто пытался войти, получали ответ: идет допрос. Потом Боб расстрелял их.
Он поставил их к стенке и расстрелял из охотничьего ружья — никто не знает, где он взял ружье. Это было не то, которое он приволок неведомо откуда и с которым я прикрывал его у зеркал, — то осталось в огне. Это было старое курковое ружье тридцать второго калибра. Боб стрелял жаканами. Всех троих он убил наповал. Потом, пока ломали дверь, он сжег дело. Он облил ацетоном и сжег две папки с документами и две магнитофонные кассеты с записями. Дело погибло безвозвратно. Боб молчал на следствии, молчал на суде. Суд был в апреле. Судья понимал, что здесь что-то нечисто, но думал, что Боб кого-то выгораживает. До этого он и хотел докопаться. Но Боб молчал. Тогда его приговорили к высшей мере. Он выслушал приговор с пониманием, покивал. В сентябре его расстреляли.
211
Я понимаю его. Наверное, было бы правильнее, чтобы я его не понимал — но я понимаю. Он сделал то, что считал необходимым сделать, и принял как должное то, что полагалось. Сделал то, что мог. Осколков не собрать, это верно, но почему так страшно мучает меня то, что я узнал, услышал от него ночью на берегу озера, когда вверху сухо и звонко проносились грозовые тучи, а волны лихо влетали на пологий берег, обдавая нас брызгами, и шумели деревья, — почему я не могу часами уснуть после того, как изнутри что-то рванется наружу и отступит, погрузится обратно, наткнувшись на черепную кость, — почему я не могу протянуть руку Тане, а прячу перед нею глаза, как предатель? Где и когда я предал Боба? Не знаю…
Странно это: я почти ничего не знаю, а живу. Не знаю ничего. И — ничего…
Как-то раз газета "Советская культура" предложила мне поиграть с их читателями: напечатать начало рассказа, дабы читатели его закончили. Писать что-то новое мне было лень, и я дал кусочек вот этого. К тому времени у меня накопилось десятка два открытых и внутренних рецензий, отзывов и прочего — следы безуспешных попыток опубликовать первый сборник: то, что вы уже прочитали, плюс "Олимп" плюс "Мост Ватерлоо" плюс "Путь побежденных"… Вот и вырос у меня длинный кривой зуб на редакторов и прочих издательских работников.
Что касается продолжений, то лучше всех с этим справилась писательница из Горловки Алина Болото, потом мы с ней переписывались.
Абсолютно ничто не предвещало в то утро никаких событий. Владимир Иванович Беззубкин, а для друзей и для себя самого просто Вовочка, сорокапятилетний поэт областного масштаба, проснулся в безукоризненном расположении духа. Киску, свернувшуюся под одеялом, он будить не стал, а сразу прошел на кухню и стал варить кофе. Потом, когда кофейный дух растекся по квартире, Вовочка побрился, не без удовольствия рассматривая себя в зеркале. Зеркало украшал трафарет: "Разговор не более 3-х минут!" Раньше оно висело в каком-то учреждении у внутреннего телефона. Такого рода таблички и плакатики были Вовочкиной невинной страстью. Так, гостиную его украшали строгие плакаты "Бдительность — прежде всего!" и "Не оставляйте секретных документов в местах, не обеспечивающих их сохранность и доступ к ним посторонних лиц!", таблички "Мест нет", "Столик не обслуживается" и "Штраф 50 рублей". Кухня пестрела предупреждениями "Осторожно, работают люди!", "Опасная зона!", "Не стой под грузом!", "Стой!" и "Не прислоняться!". Что касается ванной, то на двери ее висела огромная жестянка: "За буйки не заплывать!!!"
Выпив кофе, Вовочка слегка взлохматил шевелюру и пошел к выходу — у него были свои поэтовы дела в издательстве. На двери красовался светящийся транспарант: "Выхода нет!" С лестничной площадки доносился крутой аромат Борща — именно Борща с большой буквы, густого, ароматного, с косточкой. Вовочка открыл дверь и вышел…
Черта с два. Никуда он не вышел. Он толкнул дверь и ВОШЕЛ вновь в свою собственную квартиру. Это из нее тянуло борщом, на кухне раздавались обычные кухонные звуки и доносились оттуда голоса, и один из голосов принадлежал законной его, Вовочкиной, жене Эльвире, которая в настоящий момент быть на кухне никак не могла, потому что находилась в городе Гагра, на побережье далекого отсюда Черного моря…
— Пришел? — крикнула Эльвира. — Наконец-то! А то мы тут ждем не дождемся… — и те, на кухне, рассмеялись непонятно, но громко.
Вовочка оглянулся назад: там, за незакрытой дверью, тоже была его квартира, и в рифленом стекле двери спальни преломлялось что-то легкое и розовое — то есть не что-то, а Киска в пеньюаре. Киска встала и сейчас выглянет сюда, и увидит…
Вовочка захлопнул дверь, замок щелкнул.
— Чего ты возишься? — воззвала Эльвира. — Помочь тебе, что ли?
И в этот момент грянул телефон. Он стоял здесь же, в коридоре, на полочке, только руку протяни, но Вовочка руку не протягивал. Он смотрел на телефон, как на бомбу, как на змею, поднявшуюся на хвосте, и ему становилось все страшнее, страшнее — пока не сделалось почти все равно…
— Да возьми же ты трубку! — крикнула раздраженно Эльвира. — У меня руки мокрые! — и те, на кухне, опять непонятно почему захохотали.
Невесомой рукой Вовочка взял невесомую трубку. В ней раздались шаги, тяжелые и медленные, шуршание, и ровный, без выражения, голос сказал:
— Дом окружен. Сопротивление бесполезно. Сдавайтесь. Вам гарантируется безболезненная эвтаназия и сохранение личного имущества.
Голос смолк, и в тишине остались только тоскливые далекие звуки: будто скрипела где-то калитка да завывал в проводах ветер.
Колени Вовочки подогнулись, и он по стенке сполз на пол…
— Да что же это такое?! — с тревогой в голосе кричала Эльвира. — Что там у тебя? Случилось что-нибудь? Почему ты молчишь? Я сейчас…
— Ничего, — хотел сказать Вовочка, но "ничего" у него не получилось, а получилось что-то вроде "чав!".
— Посмотри-ка сходи, — велела Эльвира кому-то из своих кухонных компаньонов.
Раздались шаги, шаги вышли в коридор — вышли сами по себе, никого при них не состояло, ни тела, ни ног, — постояли, подошли совсем близко, так, что Вовочка ощутил живое тепло и запах чеснока, колбасы и водочного свежачка, невидимые руки взяли с пола пикающую трубку и вернули ее на рычаги…
— Никого тут нет, — сказал над Вовочкой глуховатый голос. — А трубка на полу лежит. Странно.
— Странно, — близким голосом откликнулась Эльвира.
Шаги прошли сквозь Вовочку, дверь открылась в гулкую пустоту лестницы.
— Никого, — подтвердила Эльвира.
— Странно, — откликнулся глуховатый голос.
— Ну просто очень странно, — подтвердил еще кто-то. — Я читал, что так бывает. Только я забыл, как называется. Иностранное ученое слово.
Шаги вернулись на кухню.
— Ну так я вам говорю, — громче, чем прежде, заговорила Эльвира. — Я, говорю, эти ваши намеки гнусные очень даже хорошо понимаю. Но, говорю, сейчас прямо ничего отвечать не буду. Я, говорю, подожду — вот обстоятельства созреют, как надо, вот тогда я и отвечу по форме номер восемь…
И тут за дверью раздался крик. Кричала женщина. Кричала Киска. Кричала так, что Вовочка съежился и стал ждать всего, что только может быть. "А-а-а! — кричала Киска, — уберите это от меня!!!"
Вот сейчас, представлялось Вовочке, в щепки разлетится дверь и просунется зеленая чешуйчатая лапа… Киска кричала долго, может быть, полчаса, потом стала замолкать, страшно, нечеловечески замолкать — будто душа уже отлетела, а тело еще кричит, исходит криком… Вовочка, не смея зажать уши, потихоньку отползал от двери, пока не оказался под самой дверью кухни. Крик стих, и снова стали слышны голоса. Теперь Эльвира делилась с невидимками подробностями интимных привычек Вовочки. Еще весь колыхаясь внутри, как степлившийся студень, от пережитого ужаса, Вовочка встал на неверные ноги и прошел на кухню. Кастрюля с борщом стояла на плите. Вовочка взял со стола сахарницу и высыпал сахар в кастрюлю. Голоса разом смолкли. Вовочка поднял над головой и швырнул об пол стопку тарелок, выбил табурет из-под чьей-то задницы, взял спички и хотел было поджечь занавески, но передумал и бросил спички в борщ. Туда же он опорожнил пепельницу. Кто-то осторожно, роняя все на своем пути, пятился к выходу из кухни; потом побежал и упал, вскочил и побежал дальше. Вовочка торжествующе захохотал. Ему стало легче. Немного не довершив разгрома, Вовочка выглянул в прихожую. Никого не было. Дверь осталась приоткрытой, и за дверью была просто лестничная площадка. Кошмар кончился, понял Вовочка, и заторопился — вниз, вниз по лестнице, на второй этаж, на первый, на улицу…
Ох, не стоило ему торопиться! У дверей подъезда стояли часовые, прямо напротив двери, в песочнице, было оборудовано пулеметное гнездо, а на въезде во двор громоздился, растопырив во все стороны стволы пулеметов и пушек, пятнистый многобашенный танк. Пока ошалевший Вовочка понимал, что к чему, к нему подошел офицер в форме внутренних войск; на одном плече его был погон с четырьмя маленькими капитанскими звездочками, а на другом — с одной средних размеров майорской.
— Гражданин Беззубкин? — скучным голосом спросил капитан-майор. — Пожалуйста, встаньте вот сюда, к стенке. Так, ноги на ширину плеч, руки можно за голову… Азизов, Алиев, Аванесян — ко мне! Становись! Товьсь! Гражданин Беззубкин, ваше последнее слово.
— Последнее? — переспросил Вовочка. — Как это — последнее? За что?!!
— Зафиксируйте: последними словами гражданина Беззубкина были слова: "Как последнее" и "За что", — сказал капитан-майор вынырнувшему из-под его локтя плюгавенькому солдату с блокнотом. — Упускаете шанс, Беззубкин, — усмехаясь непонятно чему, сказал он Вовочке. — Как знать, Владимир Иванович, может быть, от вас сейчас судьбы мира зависели? А, ладно, — сказал он как бы сам себе, — подождем немного, авось что и придумается… Даю вам минуту на размышления. Время пошло.
Это была, наверное, самая длинная минута Вовочкиной жизни. Густой непробиваемый туман, обволакивающий все извилины, не давал пробиться ни единой мысли — Вовочка только и мог, что переводить глаза с одного автоматного зрачка на другой, потом на третий и обратно. "Азизов, Алиев, Аванесян, — думал он. — Почему они все на "А"? Это неспроста…"
— Минута прошла, — сказал капитан-майор, пряча в карман часы. — Итак, ваше последнее слово?
В глазах у Вовочки померкло, и он только и смог, упав на колени, простонать:
— Братцы! Отпустите, Христа ради!..
— Это все? — разочарованно спросил капитан-майор. — Это-то нам как раз очень просто сделать. Идите, Владимир Иванович. Но только в дом. Выходить вам пока нельзя. Когда придет час, вам все объяснят. Идите.
Вовочка не двинулся с места, а капитан-майор повернулся и пошел прочь какой-то совсем не офицерской походкой, устало волоча ноги, и Вовочка слышал, как он бормочет: "Говно народ. Раз в тысячу лет, может, выпадает такое… Раньше вон душу за это продавали, а теперь — отпустите да отпустите…"
Не помня себя, Вовочка вплыл в подъезд. Сил не было никаких и ни на что, даже на то, чтобы добраться до квартиры, и он сел на ступеньку и сидел долго, обняв толстенный железный прут перил и уставившись взглядом на щербину в кафельном полу — выпавшая плитка была как пустое место между зубами. Беззубкин, подумал он. Судьбы мира, говорит, были в твоих руках. Шанс, мол, упустил… До него стало доходить — медленно, но стало. Ах, черт! Вовочка вскинулся, чтобы бежать обратно и искать этого странного капитана-майора, но вспомнил пустые зрачки автоматов и остался сидеть. Второй раз он мог не отделаться так легко.
Внизу бухнула дверь подвала, и поднялись наверх две девушки странного вида — затянутые в черное трико и в белых шляпах на головах.
— О! Джентльмен! — сказала одна. — Джентльмен, пойдемте с нами!
— Куда? — осторожно спросил Вовочка. Шпионки, мелькнуло в голове. Их-то и караулят под дверью…
— Вам будет интересно, — сказала вторая. — Играет музыка, и все танцуют. Вы танцуете?
— Не знаю, — сказал Вовочка. — Смотря что.
— Блэкаут, например, — сказала одна.
— Можно и рэдаут, — сказала вторая.
— Но там нет люстры, — возразила первая.
— Идемте? — спросила вторая.
— Иду, — сказал Вовочка.
Кряхтя, он поднялся на ноги и двинулся следом за девушками. И тут же чуть опять не упал: их черные с высоким воротником трико имели солидных размеров вырезы в форме сердца, и не где-нибудь, а на ягодицах. На правой ягодице у одной был нарисован приоткрытый рот, а у другой — подмигивающий глаз.
Весь в поту, не зная, куда смотреть и что думать, судорожно хватаясь за надежные перила, Вовочка добрался до четвертого этажа. Не стучась, девушки вошли в квартиру. Вовочка помялся на пороге и вошел следом. На него тут же обрушилась мягкая какофония звуков: сумрачная музыка, голоса, механическое гудение. Его провожатые задержались перед зеркалом, поправляя что-то в своей внешности, подрисовывая какие-то подробности, — и тут Вовочка неожиданно для себя громко сглотнул. Девушки обернулись к нему.
— Вы девственник? — удивленно спросила одна.
— Нет, — хрипло сказал Вовочка, пытаясь взять себя в руки.
— Из какого вы года? — чуть нахмурясь, спросила вторая.
— Что? — не понял Вовочка.
— Вы впервые на Треке? — догадалась первая. — И, наверное, из двадцатого века, да?
— На каком Треке? — спросил Вовочка. — Объясните мне, что происходит?
— Ой, — сказала вторая, — вам так все объяснят, так объяснят!
Обе засмеялись и, подталкивая друг дружку плечиками, вошли в комнату. И тут же из комнаты в прихожую просунулся кто-то очень бородатый.
— А-а! — радостно сказал бородатый. — Ну, заходите. Новенький?
— Новенький, новенький, — наперебой из-за его спины заговорили девушки, — еще ничего не знает, двадцатый век, серость…
— Так тем же интереснее, — сказал бородатый. — Ну, входите же!
Комната была большая, в два окна, и находилось в ней человек тридцать: стоя; сидя на различных предметах мебели, на подоконниках, на полу; лежа на полу; находясь в замысловатых позах, когда невозможно сказать, стоит человек, сидит или лежит. Посредине комнаты выламывалось замысловатой формы что-то черное, и хотя это ни на что не было похоже, Вовочке показалось вдруг, что это голая негритянка, танцующая между кострами ритуальный возбуждающий танец. Черное это издавало звуки, и все движения в комнате совершались только в такт этим звукам. Девушки, приведшие Вовочку, прошли, пританцовывая, между сидящими и лежащими, встали по обе стороны этого черного и затанцевали так, как Вовочка никогда не видел и даже представить не мог, что такое возможно. Потом ритм сменился, девушки громко сказали: "Хо!" — и тут стало происходить странное: в такт музыке их трико стало менять цвет, а местами становиться прозрачным, как бы исчезать — окошечко открывалось то тут, то там, и никак нельзя было догадаться, где оно откроется в следующий момент…
— Пойдемте, — бородач подергал Вовочку за руку. — Это сразу нельзя, опасно.
— Что? — не понял Вовочка. — Что опасно?
— Эйфорофоника, — непонятно объяснил бородатый. — Сразу все нельзя. Надо постепенно начинать, а то перегорите. Или будете, как вон те, — он показал на троих молодых людей, сидящих неподвижно вокруг белого, на вид очень тяжелого шара. Руки их, положенные на шар, светились розовым, будто бы на просвет.
— Наши оргаголики, прямо из лечебницы — и на Трек. Не помогает лечение… — бородатый засмеялся. Они вошли в смежную комнату. Там было внезапно тихо, будто все звуки остались за дверью — незакрытой дверью.
— А лечение… от чего? — осторожно спросил Вовочка.
— От оргаголизма, — сказал бородатый. — Им там пытаются вмонтировать отвращение к наслаждению. Страшное дело. Уже не человек после этого. Но и так — тоже не человек.
— А… вы?.. — осторожно продолжал расспросы Вовочка.
— Мы меру знаем, — сказал бородатый. — Садитесь вот.
Он пододвинул Вовочке мягкий стул. Вовочка сел. Бородатый сел напротив него на край стола, обхватил колено руками.
— Устали? — спросил он.
— Да, — сказал Вовочка. — А откуда вы знаете?
— Все через это проходили, — сказал бородатый. — Вынимают и сразу такую взбучку задают… Кто не первый раз, те все-таки что-то помнят, соображают, а кто впервые… — он засмеялся. — Ну, ничего. Побудете пока с нами, потом пойдете. Они обычно первыми вызывают тех, кто недавно на Треке, так что долго ждать не придется.
— Чего — ждать? — спросил Вовочка, чувствуя вдруг, что желудок его начинает медленно падать вниз. — Чего — еще — ждать?
— Да не волнуйтесь вы, — сказал бородатый. — Ну, поговорят с вами. Люди, такие же точно. Тесты же вы все уже прошли, я думаю. Вы из какого года?
— Э-э… — попытался вспомнить Вовочка; не сразу, но получилось: — Из тысяча девятьсот восемьдесят девятого.
— Далеко забрались, — почесал бороду бородатый. — Я из две тысячи двадцатого, и то один из самых ранних. Остальные тут кто из сороковых, кто из шестидесятых… Все глубже и глубже роют. Ох, до чего же они дороются?
— Кто роет? — спросил Вовочка.
— Мы их зовем черпальщиками, — сказал бородатый. — Они из двадцать третьего века. Считают, что мы неправильно живем… да они сами все вам объяснят. Правильно, неправильно — кто разберет, правда? Живем, как можем, а можем так, как получается…
В дверь просунулась одна из девушек — запыхавшаяся, раскрасневшаяся, вся в улыбке:
— Это вы — Беззубкин? Вас зовут.
— Меня? — Вовочка обмер.
— Ну да, конечно. Они первачков стараются пораньше пропустить.
— Может, не ходить? — повернулся к бородатому Вовочка.
— А что будете делать? — спросил бородатый. — Трек закроют, выключат все… Да не бойтесь, идите. Только слушайте их там повнимательнее да вопросов лишних не задавайте. Вообще вопросов не задавайте. Ну, как говорится, ни пуха!
— К черту, — пробормотал Вовочка и пошел за девушкой. На лестничной площадке стоял тот самый плюгавенький солдатик с блокнотом.
— Пойдемте, — сказал солдатик. Они спустились на второй этаж и вошли в квартиру — как раз под Вовочкиной. Там было что-то вроде канцелярии: стоял стол, несколько шкафов, и сидели двое, пожилые, усталые, чем-то неуловимо похожие люди. Только один был мужчиной, а другая — женщиной. Но это улавливалось не сразу.
— Здравствуйте, Владимир Иванович, — сказала женщина. — Вот и настала пора поговорить лично.
— Здравствуйте, — сказал Вовочка, еще не понимая, как вести себя: нагло или подобострастно. — Но я вас не знаю.
— Разумеется, — сказала женщина. — Можете называть меня Розой, а его — Исидором. Мы черпальщики и работаем в том числе с вами. Сегодня состоялась первая ваша выемка, по поводу чего примите наши поздравления.
— Простите, — сказал Вовочка, — вы не могли бы объяснить это все поподробнее?
— Позвольте мне, — сказал Исидор. — Мы работаем, как вам, очевидно, уже сказали, в двадцать третьем веке. Там и живем. Живем довольно сложно. Я не буду вдаваться в детали, вам это трудно понять, да и не ваши это проблемы. А наши. Мы проследили корни этих наших проблем и убедились, что они начинаются от существования в обществе людей балластного типа, то есть людей с нейропсихической структурой эндофугальной организации…
— Исидор, братан, извини, — сказала женщина, — но так ты ничего не объяснишь. Извините и вы его, — сказала она Вовочке и улыбнулась, — у него с русским языком вашей эпохи напряженка — негде изучать. Он хочет сказать вот что: мы выявляем в обществе людей, которые не несут в нем никаких функций. То есть они занимают место, но не работают. Или только изображают работу. И еще: когда я говорю "место" или "работа", то это очень широкое понятие, по всей ширине семантического поля, просто мне приходится в разговоре с вами использовать знакомые вам слова. В обществе есть много работ, скажем, работа преступника — это тоже для нас работа. То есть мы делаем вывод о полезности того или иного члена общества на основании его противодействия социальной энтропии…
— Как любили в простонароде говаривать в ваше время: по конечному результату, — вставил Исидор.
— Ваш великий современник Лев Николаевич Гумилев — вы не были знакомы с ним? — предсказал, а правильнее сказать, на кончике пера открыл существование социальной энергии; понадобилось очень мало времени, чтобы понять, что существует и такая социальная энтропия, которая угрожает в наше время всему человечеству. И вот для преодоления социальной энтропии предложено было несколько проектов, в том числе наш, а именно: дренирование прошлого и изъятие тех субъектов, которые наиболее способствуют увеличению энтропии. Вот вы, Владимир Иванович, потребляете социальную энергию в очень больших количествах, но с чрезвычайно низким КПД. Выход энтропии у вас порядка девяноста двух — девяноста шести процентов. Это вовсе не значит, что вы обречены на такое положение природой. Да, ваша нейропсихическая схема такова, что в рамках существующего, а точнее сказать, самопроизвольно складывающегося положения вещей вам трудно добиться более высокого КПД. Для этого мы и изъяли вас на время из вашей реальности — если быть точным, на одну секунду, — и поместили сюда, на Трек, в перпендикулярно текущий поток времени. Здесь с вас сняли матрицу, и онейроническая система заставила эту матрицу прожить пятьдесят ваших жизней по двадцать лет каждая — то есть с двадцати пяти до сорока пяти биологических лет, — добиваясь наименьшего выхода энтропии. В последней модели, которую вы помните, выход энтропии был сокращен до восьмидесяти четырех процентов. Это по-прежнему очень много, и выпустить вас с таким результатом мы не имеем права. Поэтому вам предстоит очередной цикл с комплексом тестов по окончании.
— Вы сказали: "Которую вы помните", — Вовочка сам не узнал своего голоса: голос был тихий и абсолютно мертвый. — Вы так сказали… Это значит?..
— Конечно. Это значит, что этой вашей жизни — в роли третьестепенного поэта, с женой Эльвирой — предшествовали сорок девять других моделей. Но там выход энтропии был гораздо большим.
— Значит, я — матрица? Так вы сказали?
— Да. Когда, изменяя эту матрицу, мы достигнем приемлемых результатов, то мы омолодим тело на двадцать лет, вмонтируем в него эту матрицу и поместим в поток времени в нужном месте.
Это Вовочка слышал, но уже не воспринимал. Ужас от потери себя охватил его целиком.
— Это насилие, — прохрипел он. — Я буду жаловаться! Я буду жаловаться!!! Где ваше начальство?!!
— Добраться до нашего начальства нам с вами будет довольно трудно, — улыбнулась женщина Роза. — Дело в том, что мы с вами существуем только в памяти онейронической системы в виде информационных пакетов, не более того. Настоящий Владимир Иванович Беззубкин находится в анабиозной ванне и ждет, когда вы воссоединитесь с ним.
— Докажите! — запальчиво закричал Вовочка.
— Пожалуйста, — сказал Исидор. — Идите за мной.
Они вышли из квартиры и стали спускаться вниз. Вовочке почему-то почудилось, что он уже вот так же точно спускался по лестнице — в подвал — в темноту подвала — и после не было ничего, все обрывалось… непонятно… Он шел, будто бы наступая в собственные следы. Исидор отвалил тяжелую дверь, и они вошли куда-то: огромный, не видно конца, подземный зал, решетчатые мостики под потолком, а внизу — маслянисто поблескивающая черная поверхность воды, поделенная тонкими перегородками на продолговатые прямоугольники.
— Спустимся? — предложил Исидор.
Вовочка молча кивнул.
Они стали спускаться вниз по крутой подрагивающей металлической лестнице. Потом Исидор вел его куда-то, потом сказал: "Здесь".
Под Вовочкой была ячейка этого громадного бассейна, и на поверхности воды плавала оранжевая дощечка с надписью черными буквами: "АМ870033 БЕЗЗУБКИН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ" и еще какими-то непонятными знаками. А под табличкой, под водой, странно нечеткое, растекшееся, — белело голое тело с характерным родимым пятном у пупа.
— А-а-а!!! — закричал Вовочка — и дальше он уже ничего не помнил.
…Владимир Иванович Беззубкин, главный редактор литературно-художественного и общественно-политического журнала "Юная листва" побрился, поковырял пальцем не вовремя вскочивший прыщик на подбородке, вырвал торчащий из носа волосок и пошел завтракать. Ника, уютно кутаясь в халатик, разливала чай. Владимир Иванович потрепал ее по попке, сказал что-то шутливое, съел гренку с сыром и потопал на работу. По утрам он всегда ходил пешком. Он чмокнул в щечку секретаршу Дашеньку и прошел в свой кабинет. Сегодня было очень много дел…
Заглянула Дашенька.
— Владимир Иванович, — мелодично сказала она, — там этот пришел, вчерашний… Лазарчук его фамилия.
— Фантастику принес? Гоните в шею!
Последний в мой практике случай, когда начатый роман обрывается там, где задуман только "промежуточный финиш". Причин тому несколько. Во-первых, я чересчур подробно продумал дальнейшие события; когда вы начинаете писать роман, вы не должны знать, чем он кончится; я знал. Во-вторых, чересчур плотно вбил картину мира в пролог. В-третьих и в-главных — поторопился, недостаточно подготовился к работе до ее начала, а когда стал восполнять пробелы в образовании — увлекся изучением материала и забросил собственно письмо. Если бы не эта возникшая пауза в несколько месяцев — я проскочил бы критическую точку, и отец Александр, главный герой задуманного романа, продолжил бы свои странствия…
Увы. Этого уже не случится.
Победивший наследует все…
Убран стол был богато, но безвкусно: телефонный аппарат литого червонного золота с отделкой из темного саозского камня — личный подарок Императора О, — золотой письменный прибор с фигурой Георгия Победоносца, пронзающего копьем нечто среднее между бизоном и крокодилом, пресс-папье из разрезанного вдоль большой оптической оси кристалла голубого нордита с вплавленным в него макетом московского Кремля, платиновые часы в виде Спасской башни, платиновая же зажигалка — миниатюрная копия памятника Минину и Пожарскому, и, наконец, огромного размера механический календарь с барельефными портретами Императора Всероссийского Александра Петровича и царицы Елизаветы Филипповны. Календарь был двойной: земной и местный. На Земле сегодня было шестнадцатое мая 2147 года. Здесь: одиннадцатый день месяца Ринь, года династии О четыреста шестьдесят шестого. И там, и здесь заканчивалась весна.
Телефон мягко мурлыкнул. Юл подвинул поближе микрофон и взял наушник.
— Слушаю вас внимательно, — сказал он на Понго.
— Пшхардоссу, — сказали на том конце провода на Понго, но с совершенно рязанским акцентом. — Хиль-дастро во Руссо-кха птрох?
— Вполне, — сказал Юл по-русски.
— Здравствуйте, — с облегчением вздохнули там. — Это единственная фраза, которую мне удалось запомнить. Я — Петров, я только что прилетел, и мне сказали в порту, чтобы я позвонил в российское представительство третьему секретарю, и дали этот номер…
— Их нет никого сейчас, — сказал Юл. — Я вот сижу, жду.
— А вы, простите?..
— Я переводчик. Седых. Юлий Седых.
— Ага… То есть, в чем дело, вы не знаете?
— Вроде бы нет… А вообще — кто вы?
— Ну, как сказать — я биохимик, а командирован Этнографическим обществом Мельбурна…
— Так вы не россиянин?
— Нет. Поэтому я и удивился…
— Я понял. Вспомнил. Вам нужен Филдинг?
— Да, и я…
— Слушайте, я вам все объясню. Филдинг и вся его группа сейчас в поле, километрах в ста отсюда. С тем пунктом очень плохое сообщение, но сегодня туда идет грузовик — отсюда, из представительства. Через два часа. В порту вас ждет машина из посольства, но вы скажите водителю, чтобы он вез вас не в посольство, а сюда — иначе не успеете. У вас большой багаж?
— Ну… лаборатория. Из одежды кое-что…
— В легковую машину поместится?
— Да конечно же. Это сумка и портфель.
— Понятно. Я вас тут встречу. Может сложиться так, что к Филдингу мы поедем вместе. До скорого.
— Спасибо.
— Ну, что вы.
Петров дал отбой, и Юл попытался по телефону дозвониться до посольства — бесполезно, телефонная связь в столице была из рук вон. Тогда он вызвал научного атташе по "жучку" — микроимпульсной рации. Специальным договором с Императором О работникам посольства, торговых представительств, представительств Российской Империи и прочим землянам запрещалось использование технических средств, превосходящих здешний уровень. Контрразведка бдительно следила за этим. Но засекать миллисекундные радиоимпульсы было пока не в ее силах.
— Привет, Бад, — сказал Юл, переходя на английский. — Как дела? Мне только что позвонил Петров, биохимик, которого вызвал Филдинг. Я сказал ему, чтобы он сразу, не заезжая в посольство, ехал сюда. Я правильно сделал?
— Правильно, — сказал атташе. — Передай ему, что я очень рассчитываю на встречу в скором будущем.
— Что нового о здоровье Кэт?
— Подтвердилось, — вздохнул атташе. — Итак, Юл, мне очень жаль, но тебе придется поехать туда.
— Так я и думал.
— Ты ни в чем не нуждаешься?
— У меня все с собой, как у доброго паломника.
— Хорошо. Как это по-русски: желаю удачи?
— Именно так, черный. Спасибо. Надеюсь, скоро увидимся.
— Надеюсь, червяк. Счастливой дороги.
Юл поиграл своим "жучком", разглядывая его, будто видел впервые в жизни. "Жучок" был выполнен в виде брелока для ключей: маленький зеленый крокодильчик. Почему-то рассыпались мысли, и собрать их пока не удавалось. То, что надо ехать, неожиданностью не оказалось. Отдохнуть от грязного, шумного, душного даже весной города — тоже неплохо. Предстоящая встреча с отцом Александром? Неприятно, конечно, видеть человека, которого ты взял и незаслуженно обидел — обидел сильно и зло… впрочем, не так уж и незаслуженно… Нет, Юл, сказал он сам себе, это не важно, отождествляет ли человек себя со своим государством или нет, — важно, чтобы ты его не отождествлял. И если отец Александр полагает себя ответственным за бытие Православной Российской Империи, то это вовсе не значит, что он действительно в ответе за все, что там происходит… Нет, не только это. Что-то еще не позволяло с легкой душой забраться в огромную кабину грузовика и отправиться на встречу с природой, в окрестности Долины Священных Рощ Игрикхо. Юл сунул крокодильчика в карман. Разберемся по ходу дела…
С мягким жужжанием откатилась дверь, и появился священник отец Дионисий, хозяин кабинета, тот самый третий секретарь представительства, которому должен был позвонить австралиец Петров. В задумчивости остановился он на пороге, не решив еще, видимо: входить в кабинет или отправляться дальше по каким-то своим секретарским делам. Отец Дионисий был красив, как онейроп. Возможно, он был вообще самым красивым мужчиной, которого Юл видел в реальной действительности. Был он также умен, и ходили слухи о его трениях с архиепископом. Сейчас он смотрел на Юла в упор — и не видел его.
— Здравствуйте, Павел Андреевич, — напомнил о себе Юл.
— Ох, извините, Юлий Владимирович, — вернулся к действительности отец Дионисий. — Здравствуйте! Смотрю на вас и не вижу…
— Есть проблемы?
— Проблемы… проблемы — это слишком мягко сказано… Игрикхо продолжают свое. Трех младенцев украли даже в столице…
— За сто километров? — не поверил Юл.
— Для них это ночь пути. Двух девочек и мальчика. Мальчика не успели даже окрестить… И — ничего не сделать…
— Вспомните — четыре года назад…
— Не совсем… не совсем так… четыре года назад… — он замолчал, нахмурившись, прислушиваясь к чему-то в себе, но Юл знал, чего он не договорил.
Четыре года назад не было "Купели".
— Да, Павел Андреевич, — сказал Юл, — что там с моим делом?
— Вы уж извините — не получилось у меня ничего. Не позволили. Даже слушать не стали. Вы же их знаете — иной раз упрутся…
— Когда-нибудь я просто вырою подкоп под библиотеку, — сказал Юл. — И тем самым открою себе неограниченный абонемент. Вы не знаете — там полы деревянные или каменные?
— Надеюсь, что вы шутите, — сказал отец Дионисий.
— В каждой шутке есть доля шутки… — проворчал Юл. — А если попробовать прямо сказать, что это необходимо для того, чтобы разобраться с проблемой студентов?
— Именно так я и поступил, — сказал отец Дионисий.
— А нельзя ли… м-м… попросить архиепископа?..
— Попросить? Попросить можно… — отец Дионисий не то усмехнулся, не то поморщился. — Вы не обидитесь, если я прямо скажу, что Его Преосвященство никогда не станет хлопотать за нехристя, да еще по фамилии Седых?
— А вас это не смущает — и фамилия, и что нехристь?
— Это моя работа — общаться с иностранцами. Кроме того… кроме того, я понимаю, что за месяц работы в книгохранилище мы узнаем больше, чем за все годы нашего пребывания тут.
— Так значит, я могу рассчитывать на вас?
— Я сделаю все возможное. Но вы же знаете — с повторной просьбой можно обращаться только после следующего пустого дня.
— Когда им нужны антибиотики, они забывают о регламентации, — проворчал Юл. — Это дней через пятьдесят?
— Через сорок восемь, если быть точным. Кстати — вы не помните, когда сегодня будет прохождение "Европы"?
— Было утром и будет около полуночи. Да, вам ведь звонил некто Петров…
— Он прилетел?
— Прилетел, и я сказал ему, чтобы он приезжал сразу сюда.
— Спасибо, — сказал отец Дионисий. — С этими Игрикхо я совсем забыл про него. И вот еще что: переводчица группы Филдинга заболела…
— Да, мне сказал атташе. Я готов. Но — вы-то как будете обходиться без переводчика?
Отец Дионисий сделал неопределенный жест.
— Обратимся к Мрецкху. Да и, Бог даст, отец Афанасий вот-вот на ноги поднимется.
— Настоящая эпидемия, — сказал Юл. — Отец Афанасий, Боноски, Селеш, Хомерики, теперь вот — Кэтрин… Остались Ким и я.
— Что и доказывает, Юлий Владимирович, что вы такой же переводчик, как я — онейроп, — отец Дионисий широко улыбнулся и пояснил: — Шучу.
— Вы не знаете в таком случае, чей именно я агент? — прищурился Юл. — Омска, Ростова или, может быть, Петербурга?
— Я приношу вам самые искренние извинения, — сказал отец Дионисий. — Я глупо пошутил. Простите меня.
— Дело в том, — сказал Юл, — что я слышу эту шутку уже не в первый раз.
— Вы имеете в виду тот инцидент с отцом Александром?
— И его тоже.
— Что поделаешь… Вы должны простить нас: россиянам трудно расстаться с представлением, что каждый подданный Конфедерации просто обязан быть шпионом.
— Да уж… — неопределенно хмыкнул Юл. Это он знал не понаслышке: во все свои приезды в Москву он ощущал плотный и наглый, на грани фола, прессинг во всем диапазоне: от примитивного уличного топтания и обысков в номере в его отсутствие до попыток тотального эхосканирования — так что приходилось постоянно, не снимая, носить на голове обруч охранителя. Все впечатления о Москве были приправлены головной болью и зудом от плотно сидящего обруча. Гаррота, вспомнил Юл нужное слово.
— Так я пойду, встречу Петрова, — сказал он, вставая.
— Да, пожалуйста, — сказал отец Дионисий. — И если у него окажутся лишние вещи — оставьте их в своей комнате, хорошо?
Юл вышел из здания в тот самый момент, когда в ворота въезжал кремового цвета лимузин — изготовленная на Земле имитация здешней марки "Золотое дерево". Не успела машина остановиться, как из нее выкатился кругленький, упругий, дочерна загорелый человечек в белой безрукавке и шортах.
— 01 — сказал он. — Ну и жарища тут у вас! Это с вами я говорил по телефону?
— Со мной, — сказал Юл. — Где ваш багаж?
Ночь здесь всегда, в любое время года, наступала мгновенно. По серпантину взбирались в полной темноте. Шофер Духа, из "детей дождя" — так назывались подкидыши к воротам Дворца, очень интересная социальная группа, имевшая даже свой язык, впрочем, похожий на Понго; их воспитывали так, что ни солгать, ни подвести хоть в малом они просто не могли; они работали или служили там, где эти качества были необходимы, а на карьеру рассчитывать не приходилось, — Духа вел машину медленно, всматриваясь в сверкающее, как река на восходе, полотно дороги; с некоторых пор все дороги, ведущие к Священным Рощам, два-три раза в год посыпали битым стеклом, дабы босые паломники…
— Камень, — сказал Цуха.
Камень — толстенная плита размером с письменный стол отца Дионисия — лежал посредине дороги. Весу в нем было никак не меньше тонны. Пока Юл скреб подбородок, размышляя, что делать, Цуха снял с крыши кабины щит из досок, и втроем они положили щит так, чтобы получился пандус. По этому пандусу Цуха провел грузовик. Доски похрустывали и поскрипывали, но выдержали пятнадцатитонную машину.
— Крепкое дерево, — с уважением сказал Петров.
— Что он говорит? — спросил Цуха.
— Он говорит, что крепкое дерево, — перевел Юл.
— Да, — сказал Цуха. — Очень крепкое. Серое дерево очень крепкое. Очень крепкое и очень дорогое. Скажи ему.
— Дюймовая доска из этого дерева не пропускает пистолетную пулю, — сказал Юл. — Раньше из него делали латы, щиты…
— Опять камень, — сказал Цуха.
На этот раз не пришлось выходить из машины: камень лежал на краю дороги, и можно было протиснуться. Цуха прижал грузовик к скале, стал медленно, по сантиметру, проводить его мимо камня — и вдруг газанул, с ревом и скрежетом продрался на свободу, погасил огни и вслепую, наугад проехал метров сто.
— Что с тобой? — спросил Юл.
— Сейчас, — сказал Цуха. — Шевельнулась земля…
Позади раздался короткий обвальный гул, удар. Грузовик подпрыгнул.
— Боже мой, — прошептал Петров. — Что это?
— Змея Гакхайе, — сказал Юл. — Под этой дорогой погребена великая змея Гакхайе. Когда начинается ночь, змея вспоминает, что пора идти на охоту…
Цуха, открыв дверцу и встав на сиденье, всматривался поверх кузова в то, что происходит сзади. Потом сел, завел мотор, включил фары и повел машину быстро, как только мог. Лицо его блестело от пота.
— Вам вольно шутить, — начал было Петров и оборвал себя: сзади опять донесся — теперь далекий — обвальный грохот.
— Успели, хвала Создателю, — прошептал Цуха на языке "детей дождя": с артиклями и редуцированными гласными; та же самая фраза на Понго могла привести прямиком в петлю, так как означала бы: "Мы вздрючили Создателя".
— Они сами падают? — спросил Петров.
— Иногда сами, — ответил Юл.
— А у меня окошко разбилось, — пожаловался Петров. — Я его локтем задел, а оно выпало.
Только сейчас Юл почувствовал, что кабина полна свежего холодного воздуха.
— Ничего, — сказал он. — Скоро приедем. Не замерзнете?
— Какое там, — сказал Петров. — А скажите, пожалуйста, вот когда мы выезжали из города, справа был такой длинный парапет…
— Это нижняя стена Дворца.
— Да какая стена — мы вдоль этой штуки почти час ехали.
— Размеры дворца — сорок пять на пятнадцать километров, — сказал Юл. — Вот, смотрите, — он пальцем на ветровом стекле нарисовал вытянутый овал. — Это дворец, а это — столица, — он обвел кружком нижнюю треть овала. — Такие вот тут масштабы власти.
— Да-а, — сказал Петров. — Это должно впечатлять.
— Это и впечатляет, — сказал Юл. — А вы разве, когда ехали из порта, не обратили внимания на дворец? Из центра города — очень красивый вид. Холм, стена, шпили — глазурь, золото…
— Не обратил, — сказал Петров. — Я все как-то на близлежащее…
— Ну, и?..
Петров пожал плечами.
— Так ведь — из окна машины.
— А все-таки?
— Тревожно, — подумав, сказал Петров.
Юл молча кивнул.
На перевале остановились отдохнуть. Цуха открыл капот, обошел машину, попинал скаты. Потом сел на землю, скрестив ноги и упершись локтями в колени, и замер. "Дети дождя" владели многими секретами, в том числе и методикой быстрого отдыха; пятнадцать минут в такой позе заменяли им часов шесть крепкого сна.
— Ну и небо, — сказал Петров сипло. — Ну и небо же…
— Вон — Солнце, — показал ему Юл. — Видите: квадрат из ярких звезд, и прямо над ними…
— Маленькое, — сказал Петров. — Невзрачненькое… Вы давно здесь?
— С перерывами — шесть лет. Земных. Местных — пять.
— И — только переводчик?
— Поначалу — только. Потом увлекся… Вообще-то здесь трудно не увлечься чем-нибудь — интересно же неимоверно. И людей не хватает: квота. Сто сорок четыре землянина максимум, а кого, мол, и сколько — сами решайте. И тут уж начинаются протекции и прочие выкручивания рук. И в результате в российском представительстве сорок девять человек, церковников — пятьдесят семь, а в посольстве Земли — двадцать. В торгпредствах — по одному, редко по два человека. Чтобы вас принять, Фиддинг кого-то из своих отправил на "Европу"… и ничего же не сделаешь. Дворец недосягаем…
— Да, Филдинг писал, что обстановка здесь сложная.
— Сложная — не то слово. Непонятная — и нет информации. Смотрите: на планете три материка и чертова прорва островов, все это площадью с Евразию. Природные условия восхитительные. Но зона цивилизации ограничена каким-то магическим кругом: девятьсот-тысяча километров от столицы, не более. Вне этого круга — покинутые города. Пятьсот лет назад покинутые, тысячу лет… Смотрите — "Европа".
Прямо над ними медленно плыла неровная цепочка ярких звезд. Перевалила зенит, засветилась красным и померкла.
— Вошла в тень, — сказал Юл. — Вам хоть показали планету сверху?
— Нет, — сказал Петров. — Сразу сунули в какую-то летучую жестянку…
— Жаль. Сверху все это очень красиво. Атмосфера здесь не слишком плотная, но богатая кислородом, магнитное поле сильное — полярные области светятся, как неоновые лампы. Мы, к сожалению, почти на экваторе, а уже с сорок пятого градуса широты такие полярные сияния — о-о!.. Да, я отвлекся. Население все этнически однородно, а языков насчитывается восемь. Ну, Понго — всеобщий. Потом — мужской и женский, причем считается, что перевод с одного на другой невозможен. Язык "детей дождя". Два языка монахов Терксхьюм — детский и взрослый. Детский у них общий с языком Служителей Священных Рощ, а потом — перестают понимать друг друга. Если надо объясниться, объясняются на Понго. Ну, и дворцовый язык — единственный, которого я не знаю. Читать могу, а как он звучит… — Юл пожал плечами.
— То есть вам тут интересно, — сказал Петров.
— Дико интересно, — сказал Юл. — История здесь запрещена, но, судя по такой структуре языков, этой цивилизации не меньше двадцати тысяч лет. Раскопки дают примерно такую же цифру. На Земле фараоны начинали думать о пирамидах, а здесь уже был бензиновый двигатель и электричество. Ничего, напоминающего компьютер, у них нет до сих пор. В библиотеке Дворца, по нашим прикидкам, двести миллионов томов. Доступ в библиотеку закрыт. Выдают только книги времен текущей династии. Понимаете, рядом с какими кладами мы ходим?
Духа медленно встал, вытянулся струной, совершил ритуал пробуждения — несколько неуловимо быстрых сложных движений. Молча полез в кабину.
— Поехали, — сказал Юл Петрову.
Петров еще раз посмотрел на небо, покачал головой и сел рядом с ним.
Юл проснулся и вскочил — куда-то надо было бежать. На стене плясали отсветы огня. Ничего не понимая, он скользнул к окну, налетел в темноте на что-то твердое и угловатое — и тут только сообразил, что он не дома и даже не в представительстве. Он в странноприимном доме православной миссии. В гостинице. На второй кровати спал и посапывал Петров. За окном, шагах в пяти, стояли в позе ожидания монахи Терксхьюм с факелами в руках. Странно: полный хоулх монахов — ночью? В самый разгар Бесед? Потом он увидел архимандрита отца Александра, идущего им навстречу. Монахи приняли позу приветствия. Переводчик им был не нужен: все иерархи Терксхьюм и многие простые монахи говорили по-русски. Окна с толстыми мутноватыми стеклами звуков не пропускали, и узнать, о чем будет идти речь, Юл не рассчитывал. Иерарх шагнул, вперед, и хоулх мгновенно перестроился: теперь вместо клина стояло маленькое, три на три, каре. Это означало, что дело, которое привело сюда монахов, чрезвычайно важное. Иерарх, встав перед отцом Александром, принял позу почтительности, но тут же переменил ее на позу беседы равных. Юл не видел его лица и не видел, разумеется, знака на налобной повязке, но по быстроте перемены поз понял, что это не простой иерарх из близлежащего монастыря, а иерарх иерархов… либо окхрор из Дворца… Отец Александр слушал его, все более каменея лицом, потом на секунду упустил контроль над мимикой: закусил губу и нахмурился. Иерарх сказал ему еще что-то, сделав жест сохранения тайны, отец Александр согласно кивнул, и оба они пошли по дощатой дорожке к зданию епархиального управления. Хоулх остался на месте; монахи стояли в позе готовности, держа древки факелов двумя руками. Факел был штатным оружием монахов Терксхьюм. "Терксх" и означало "факел"; "юм" — что-то близкое к "благодати"…
На подоконнике стоял кувшин с сорокатравником. Юл налил полный стакан, выпил. Сорокатравник был великолепным адаптогеном. Надо будет предложить Петрову, а то такая перемена мест: Австралия — "Фридом" — "Европа" — столица — миссия… спит, как сурок, даже не шевельнулся ни разу. Бывают такие… крепыши… никакой сорокатравник им не нужен. Юл, морщась от полынной горечи, выпил еще один стакан. Монахи стояли не шевелясь. В позе готовности они могли стоять сутки, не уставая и не теряя боеспособности. Судя по всему, у Терксхьюм была бурная история.
До восхода солнца оставался час, ложиться не имело смысла. Юл, не одеваясь, подтащил кресло и сел так, чтобы видеть хоулх. Петров сказал, что первым впечатлением его было: тревожно. Да и как иначе, если на ярких, пестрых улицах города нет ни женщин, ни детей, а есть только мужчины, которые либо стоят — в одиночку, группами, — либо прохаживаются… и, конечно, тысячи взглядов вслед лимузину… Несколько последних дней и столица, и провинциальные города, и села — все жили под страшным гнетом слухов о предстоящем массовом похищении детей.
Четыре года назад было примерно то же, и, пока не кончился месяц Ринь, все сходили с ума и метались, но тогда это было сумбурно, беспорядочно… И когда истек последний, восемнадцатый день этого короткого страшного месяца и подвели итоги, оказалось: девятнадцать младенцев действительно было похищено, а пять десятков их истребили преступные матери, знавшие, что человек, рожденный в этом месяце, принесет страшные беды и себе, и родным, и земле, по которой он ходит. Все они были преданы анафеме как язычницы и ведьмы, и не было, наверное, ни одной проповеди, в которой не проклинались бы языческие кровавые обряды, и вот прошло четыре года, и вновь настал месяц Ринь, и все вернулось к исходной точке…
Сидеть было жарко, кресло грело, как шуба. Юл встал, подошел к кондиционеру. Кондиционер работал, но надо было долго держать руку у раструба, чтобы почувствовать прохладу. Упало напряжение в цепи. Видимо, опять перебои с соляркой… Хоулх стоял, как скульптурная группа, и коптил небо факелами.
За без малого полтысячи лет своего правления династия О провела две реформы: перевод языка Понго с иероглифического на звуковое письмо (постепенно на это же письмо перешли и все другие языки, кроме дворцового) — около двухсот лет назад; и принятие христианства в его ортодоксальной версии — тридцать лет назад. Тем самым был нанесен тяжелый удар господствовавшему ранее язычеству — поклонению Игрикхо; Терксхьюм же, к которой христианские догматы подходили, как ключ к замку, расцвела пышным цветом. Юл не знал, какие именно подводные течения привели к заключению Братского Союза; только теперь Терксхьюм признавалась идентичной православию, а все исповедавшие ее — православными христианами; обряд Юмахта — пролитие на новорожденного соленой воды и нанесение крестообразной ранки на грудь в память о сыне Создателя Ахтаве, принявшем мученическую смерть от мечей язычников, — этот обряд засчитывался за крещение. Понятно, что такое внезапное возвышение — из безвредных еретиков в духовные лидеры — не оставило иерархов Терксхьюм равнодушными; у Юла были подозрения, что роль равноправной части в двуединстве им скоро наскучит. Очень похоже, что в прошлом уже существовало подобное двуединство — двуединство поклонения Игрикхо и Терксхьюм. Это Юл понял, разбираясь с манускриптами на дворцовом языке и обнаружив, что буквы алфавита Понго созданы на основе редко употребляемых иероглифов константного ряда. Теперь совершенно по-новому читались некоторые стихи, обрели иной смысл географические названия, имена. Но особенно преобразился календарь. И если буквы, составляющие слово "Ринь" — имя одного из древних пророков Терксхьюм, — прочесть как иероглифы, то получится "жертвоприношение младенца"…
До принятия христианства — то есть еще тридцать лет назад — в этом месяце, бывающем раз в четыре года, в Священных Рощах Игрикхо приносились в жертву все новорожденные. На пне свежеспиленного дерева Игри крошечное тельце разрубали на шесть частей ударами кривых ритуальных мечей из синего железа. Акт жертвоприношения длился шесть с половиной минут: от момента, когда солнце коснется горизонта, и до его исчезновения с небосвода. Каждый дротх — группа из трех служителей низшего ранга и одного Посвященного — успевал за это время умертвить до пятнадцати младенцев. К утру на пнях не оставалось даже пятен крови: Игрикхо уносили, выскребали, вылизывали все. И так — до дня восемнадцатого, когда пни-алтари обкладывали смолистыми поленьями и сжигали… дымом горящего, вернее, тлеющего дерева Игри пропитывались одежды всех, толпами стоящих вокруг костров, и дым этот был таков, что прикосновение его сохранялось до зимних месяцев, и носящий эту одежду обладал многими привилегиями, о которых и помыслить не мог рядовой подданный Императора О. Это странно, поскольку местные жители не распознавали запахов; ни в одном из языков не было даже самого понятия "запах"…
Шестнадцать лет назад Великим Указом Императора О человеческие жертвоприношения были приравнены к убийствам. Но никто не рискнул бы сказать, что они прекратились.
В остальное время Священные Рощи тоже не пустовали: многочисленные паломники бродили по тропам, размышляя, и многие предавались медитации у деревьев Игри, на которых, как огромные серые морщинистые груши, висели Игрикхо. Юл бывал в Рощах — и с Филдингом, и до него, — и каждый раз приходилось тащить себя туда за шиворот, а потом еще подгонять пинками; даже залив ноздри тетракаином, чтобы анестезировать обонятельные рецепторы, и вставив фильтры, нельзя было полностью защититься от прожигающего насквозь, как нашатырь, запаха Игрикхо; запах этот, кажется, впитывался порами кожи, вцеплялся в глаза, оставался на языке… Потом не спасали ни горячая вода, ни самые сильные дезодоранты — неделю, а то и две недели смрад преследовал, настигая в самые неподходящие моменты: например, когда отбираешь в оранжерее мастера Аллюса цветы для Кэтрин и хочешь понюхать незнакомую орхидею… Юл встал и начал одеваться. Жаль, не успел познакомить Петрова с Аллюсом — обоим было бы интересно. Мастер Аллюс, известнейший ювелир — поставщик Дворца, меценат, книжник, с немалым риском достававший для Юла древние тексты, стихийный естествоиспытатель, подвергший сомнению догматы обеих религий в монографии "Презумпция непрерывности", — очень настойчиво просил своего друга Юлия Седых при первой же возможности познакомить его не только с работами земных ученых-естественников, но и с самими учеными, как только они ступят на землю Империи О. Сделать это было очень непросто — по разным причинам. На памяти Юла Петров был первый естественник, который появился здесь не под маской гуманитария; что-то сработало — или не сработало? — в недрах канцелярии Малой Прихожей Дворца. Юл натянул брюки, сунул ноги в сандалии и уже почти вышел из комнаты, когда боковым зрением уловил движение за окном. Возвращались… так… действительно, окхрор, лицо знакомое, видел где-то на церемониях… и с ним — вот это да! — иеромонах отец Никодим, офицер безопасности российского представительства… Интересно, подумал Юл, отступая в темноту комнаты, он-то что тут делает? Не к добру… Хоулх перестроился и принял окхрора в себя. Развернулся и заскользил к выходу. Отец Никодим, подумал Юл. Он же Григорий Федорович Костерин, сорок четыре года, бывший полковник Охраны, переведен сюда с глаз долой после громкого скандала: убийства при попытке похищения сотрудницы Сибирско-Балтийской торговой компании Тамары Сунь. Замять скандал не удалось, Конфедерация требовала выдачи преступников, и в результате тот, кто стрелял, получил двадцать пять лет строгой изоляции и покаяния, а тот, кто организовал акцию, отправился на новое место службы — по иронии судьбы, на корабле той самой "Сибатко". Сейчас он стоял, весь в черном, и по мере удаления хоулха все более сливался с темнотой…
Кэтрин спала. То, что болезнь поражала переводчиков чаще, чем кого бы то ни было, объяснялось просто: они — пять-семь человек — контактировали с местным населением больше, чем все остальные земляне, вместе взятые. Местные же буквально фонтанировали летучей органикой. Болезнь была, в сущности, атипичной аллергической реакцией на какой-то конкретный, хотя и неустановленный антиген. При необходимости человека можно было за два-три дня поставить на ноги, используя общие иммунодепрессанты. Но этого предпочитали не делать: снижать напряженность иммунитета в здешних непростых условиях было рискованно. Больной же от болезни не страдал, скорее, наоборот: возвращаясь из многодневного сумеречного полусна, он рассказывал о чрезвычайно ярких и насыщенных событиями снах — еще более ярких, чем онейропии… или не рассказывал. Кэтрин шевельнула рукой, что-то пробормотала; под веками двигались глаза. Ей предстояло пробыть в таком состоянии самое малое две недели. Колокольный звон поднимет ее, она приведет себя в порядок, поест — все это автоматически, никого не замечая; когда запас простейших действий исчерпается, она снова ляжет в постель. Юл провел рукой по ее волосам и вышел, плотно прикрыв дверь. Остановился на галерее, ловя лицом потекший из щелей в куполе предутренний ветерок. Потом заскрипела лестница, Юл хотел обернуться, но догадался, кто это, и оборачиваться не стал.
— Здравствуйте, Юлий Владимирович, — сказал отец Александр, встав так же, как стоял Юл: опираясь локтями о перила, — и на таком расстоянии, будто между ними стоял невидимый третий. — Как ночевали на новом месте?
— Здравствуйте, Александр Михайлович, — сказал Юл. — Ночевал? Спасибо, нормально. Жарко только — отвык.
— Ваш сосед спит совершенно безмятежно, — сказал отец Александр. — Завидное здоровье.
— Завидное, — согласился Юл. — Мы куда-то идем?
— Идем, — сказал отец Александр. — Сейчас будет готов завтрак… — он вздохнул. — Этой ночью Игрикхо похитили, самое малое, четырнадцать детей… наверняка больше, потому что из многих мест сообщения еще не пришли. Попыток похищения было около сотни. И в двух случаях похитителей удалось захватить.
— Игрикхо? — удивился Юл.
— Представьте, нет. В одном случае — бродяга, в другом — служители Рощ. Сейчас мы с вами направимся на Круг Посвященных. Туда их и привезут.
— Кто привезет — Терксхьюм?
— Нет, крестьяне, прихожане отца Филарета — помните его?
— Помню, — сказал Юл, — отчего же…
— А почему вы решили, что Терксхьюм?
— Просто для них это такой подарок, — Юл замялся было, продолжать или не продолжать, и решил продолжать, — что они вполне могли бы преподнести его себе сами.
— Такое предположение, — начавшим звенеть голосом произнес отец Александр, — просто оскорбительно!
— Возможно, — согласился Юл. — Но оно логично. И вообще: у вас не возникает впечатления, что готовится нечто большее, чем просто принятие мер безопасности для детей? Не может быть, чтобы у вас такого впечатления не возникало…
— Юлий Владимирович, — сдерживаясь, сказал отец Александр, — а не кажется ли вам, что вы… м-м…
— Переступаю черту? — подсказал Юл.
— Что вы разговариваете со мной, как богатый дядюшка с нищим племянником? Да, мы бедны, а вы богаты, да, мы целиком зависим от вашего благорасположения — да, да, да! Но не забывайте, что мы ступили на этот путь сознательно, имея целью сохранить Господа нашего Иисуса Христа в душах… извините.
— Это вы меня извините, — сказал Юл. — Поймите, я встревожен не меньше вас, и когда чувствую, что от меня что-то скрывают…
— Да не скрывают, — поморщился отец Александр. — Просто пока ничего достоверно не известно. Слухи, обрывки слухов… может, сейчас, на Кругу…
* * *
Но и на Кругу ничего стоящего узнать не удалось. Из трех захваченных Служителей один умер по дороге, а двое были без сознания. Посвященные утверждали, что преступные Служители таковыми не являются, поскольку давно изгнаны из рядов. Терксхьюм утверждали обратное. В подчеркнуто корректных репликах, которыми обменивались стороны, содержалось множество мутных намеков и ссылок на скользкие обстоятельства. Юл переводил, пытаясь ухватить все смысловые пласты, часто не успевал за разговором, отец Александр переспрашивал, и это еще больше сбивало темп. Своего "жучка" Юл настроил на передачу, информация шла в посольство; и после полудня, уже на обратном пути, Юла вызвал Лейкунас, офицер безопасности. Он сказал, что посольство окружено многотысячной толпой и в толпе замечены лица, имевшие отношение к "Купели". Одновременно поступают сведения, что большинство активистов "Купели" покинули столицу. С "Европы" сообщают, что замечено движение нескольких пеших колонн в направлении Долины Священных Рощ. Лейкунас просил Юла принять меры к тому, чтобы до наступления темноты разместить группу Филдинга на территории миссии; посол уже обратился к архиепископу с соответствующей просьбой. Компьютерное моделирование ситуации, произведенное на "Европе", дает восьмидесятипроцентную вероятность религиозного мятежа, "варфоломеевской ночи" в местном антураже: физическое уничтожение Служителей Священных Рощ совместными усилиями Терксхьюм и "Купели" при сочувственном нейтралитете Дворца. Из-за условий рельефа эвакуация группы Филдинга и прочих незаинтересованных землян непосредственно на "Европу" практически невозможна. Планы эвакуации прорабатываются.
Та-ак… Юл почувствовал, как заломило между лопаток. Ах, черт… думать, приказал он себе. Думать. Он вызвал Филдинга и передал ему распоряжение Лейкунаса. Филдинг сказал, что он уже в курсе и пусть Юл не занимает частоту. Юл сунул крокодильчика в карман и ускорил шаг, нагоняя отца Александра. Солнце стояло в зените, небо было белое, дорога тоже была белая, и мягкая белая, как мука, пыль лениво поднималась над дорогой на высоту колен и так и висела, не оседая. Под ногами нервно дергалась черная клякса тени. И черная, гордая, как знамя, фигура отца Александра шагах в ста впереди, отделенная от Юла дрожащим маревом, была совсем из другого мира.
На хозяйственном дворе миссии оживленно обсуждались утренние события. Оказывается, Петров сумел, объясняясь когда на пальцах, когда в пределах той сотни русских слов, которыми владели подчиненные завхоза, монаха отца Сергия, — сумел очаровать их и, каким-то образом пролавировав между ритуальными запретами, взять у всех пробы крови, соскобы кожи и слизистой и даже — совершенно невероятно — слюну и волосы. Оставив прислугу в состоянии приятного, приподнятого обалдения, он с садовником, прихваченным в качестве толмача и проводника, отправился в монастырь Бойбо… Юл выслушал все это, покрутил за цепочку "жучка", забытого Петровым в комнате, и пошел к отцу Сергию выпрашивать мотоцикл. Разумеется, потребовалось разрешение архимандрита, и в путь Юл отправился, имея за спиной пассажира: инока Георгия, в миру Олега Улько, двадцатипятилетнего крепкого парня со скупыми движениями мастера рэддо. С ним Юл был в предельно близких отношениях — то есть на "ты". Олег не скрывал, что Юл ему интересен не только сам по себе, но и как праправнук того самого майора Седых, который остановил гражданскую войну. Юл не исключал, что интерес инока подогрет отцом Никодимом, но семейную легенду рассказал.
В сентябре девяносто седьмого года, когда фронты замерли в неустойчивом равновесии и дело должно было вот-вот дойти до обмена ядерными ударами — пальцы уже лежали на кнопках, — к Казанскому вокзалу подошел воинский эшелон, и две роты морских пехотинцев, прибывших на нем, почти без боя захватили здание вокзала, станционные службы и прочее — и тут же вынесли на руках из вагонов и установили на перронах и помещениях вокзала какие-то контейнеры. Майор Седых, командовавший всем этим безобразием, позвонил по телефону в Генштаб и заявил, что в его, майора Седых, распоряжении имеются двадцать два ядерных заряда мощностью от сорока до шестисот килотонн и что он намерен детонировать их, если Временный комитет граждан и Генштаб в течение трех суток не начнут переговоры с сепаратистами. Переговоры не начались, и тогда со станции вышел тепловоз, толкая перед собой один вагон. Доставив вагон на тридцать восьмой километр, тепловоз вернулся; предупрежденное окрестное население в панике бежало. Ровно в двадцать один час облака над Москвой озарились голубым нестерпимым сиянием, и землю тряхнуло; ударная волна, от которой повылетало немало стекол, и мощный гул добавили генералам ощущения реальности происходящего; наконец, над горизонтом медленно встал, освещенный закатным солнцем, кошмарный гриб… ветер дул от города, и смертельный след не лег на кварталы, но на триста километров к юго-востоку люди не селились потом лет двадцать… Утром группа генералов и высших священнослужителей вылетела в Астрахань; через три недели был подписан договор о мире и границах. После этого ядерные заряды были демонтированы и увезены, а сам вокзал окружен полком "Пересвет"; бой длился двое суток. Морские пехотинцы и их командир погибли. На следующий день все они поименно были преданы анафеме; тела их погребли бесчестно. На некоторых фресках Страшного Суда майор морской пехоты Седых изображен в огненном озере по соседству со Львом Толстым… Все это, конечно, весьма отличалось от текста "Предания о новом Искариоте", одной из первых глав "Повести о воспрении земли Русской" — официального курса истории Православной Российской Империи… как там: "И воссташа Россы на зверя средиземного, поганого, ведомые Словом Божьим…" Юл испытывал почти физиологическое отвращение к "Повести…" — к ее бессовестной лжи в большом и малом, к бездарной стилизации под старину, — и в то же время никак не мог не возвращаться к ней — высмеивая, издеваясь, но возвращаться… это было что-то болезненное. Шестьдесят миллионов убитых и умерших в годы гражданской войны… и как оправдание крови — двенадцатиметровой высоты стальная сетка вдоль границ… Новый Иерусалим со стенами из ясписа…
Последний участок дороги к монастырю Бойбо был слишком крут, мотор не тянул, и иноку пришлось идти пешком. Это было километра два. Юл, безбожно газуя и рискуя сжечь сцепление, вылетел под стену монастыря и тормознул юзом: навстречу ему двигалось странное шествие, и он не сразу понял, кто это и что это. В аккуратных светло-серых костюмах: рубаха до колен и широкие штаны, — босые, брели, попарно взявшись за руки, какие-то толстяки… одутловатые, плохо выбритые бледные лица… студенты, сообразил, наконец, Юл. Вот, значит, где они теперь. Заглушив мотор, он стоял и смотрел, как они проходят мимо него, не видя, не глядя, и только один, восхищенный блеском хрома, с шумом втянул слюни… Факт существования этих людей был не то чтобы запрещен к упоминанию — просто об этом неприлично было говорить. Пять лет назад эти люди — тогда семнадцатилетние выпускники монастырских школ — отправились на Землю, учиться в Московской и Владимирской духовных академиях. Год спустя за ними стали замечать некоторые странности, а потом началась стремительная деградация, и когда они вернулись, то были уже полными идиотами. Где-то в недрах Дворца содержалась еще одна подобная же группа — те начинали учиться в университетах. Судьба их ничем не отличалась. По слухам, в той группе были мальчики императорской крови — впрочем, как посмеивался мастер Аллюс, "они там, во Дворце, все немножечко родственники". И, вспомнив Аллюса, Юл вспомнил и то, как Аллюс, поблескивая хитрыми глазками, рассказывал о перипетиях своего последнего паломничества в Священные Рощи. Но, мастер, сказал тогда Юл, как же это совмещается: ваше свободомыслие и паломничество, да еще с приключениями? Именно, сказал Аллюс, стало еще интереснее, молодежь просто в восторге. Раньше это было для меня только отдыхом, а теперь и отдых, и воспитание духа… это как ваш альпинизм. И что, многие занимаются таким альпинизмом, спросил Юл. Вы не поверите, магистр, сказал Аллюс, но — поразительно… молодые-то уж точно — все; это мы, старые задницы, кто ленится, кто боится, кто слушается попов…
Не в силах оторвать взгляд, Юл смотрел вслед уходящим — по узкой каменистой тропе под стеной монастыря, в обход — он знал — горы и затем вниз, в сырое тенистое ущелье, открывающееся в Долину Священных Рощ… это нельзя было назвать догадкой, скорее, предположение, одно из многих, но… слова "слабоумный" в Понго не было, было "Ведомый Создателем", и проверить догадку было почти невозможно, земных ученых к "Ведомым" и близко не подпускали, — но связать деградацию студентов с невозможностью посещать Священные Рощи можно было и без исследований… и, вспомнив хозяйственный двор миссии, Юл подумал вдруг, что Петров мог преуспеть и здесь.
Так и оказалось. Петров быстро нашел общий язык с иерархом, осмотрел нескольких студентов, у двоих взял анализы и со своим проводником-садовником отправился в обратный путь. Так, по крайней мере, он сказал иерарху. Ну, что же… Поблагодарив иерарха, Юл дождался инока, тот, весь мокрый, но ничуть не запыхавшийся, взбежал на гору, — преподнес ему известие, Олег развел руками: бывает, мол… Ехать круто вниз было труднее, чем круто вверх, вся нагрузка приходилась на слабую переднюю вилку, и Юл сосредоточенно всматривался в дорогу, чтобы не напороться на какой-нибудь ухабчик, — поэтому протянутую поперек дороги веревку заметил поздно — слишком поздно для того, чтобы остановиться, и можно было только положить мотоцикл набок, что Юл и сделал… их крутнуло раза два, а потом из придорожных кустов посыпались непонятно кто, человек семь, а Юл никак не мог встать, потому что зацепился штаниной за мотоцикл, и все его последующие действия были действиями заинтересованного наблюдателя. Он впервые видел рэддо как оно есть. Мастеру рэддо, в общем-то, безразлично, сколько у него противников. Олег сначала оборонялся, а когда нападавших осталось трое, перешел в наступление сам. Те тоже владели какими-то приемами — слегка, а потом один из них выволок из-под полы меч. Кривой ритуальный меч. Олег, сморщившись, сделал движение руками — будто хлопнул в ладоши, и в руках у него оказалась тонкая цепочка. Один из нападавших вдруг повернулся и прыгнул в кусты. Тот, что с мечом, сделал выпад — цепь обвилась вокруг клинка, движение — и меч взвился вверх, еще движение — и половина лица нападавшего превратилась в сплошную рану. Взмахнув руками, он стал падать. Последний из нападавших попятился и запутался в мотоцикле. Нет, захрипел он, глядя на приближающегося Олега, нет, нет!..
— Бандиты, я думаю, — сказал Юл. — Хотели захватить мотоцикл.
— Христиане? — спросил отец Александр.
— Нет, язычники. Но не Служители, без этих… — Юл показал на левое плечо, — без насечек.
— Зря вы того не привезли, — сказал отец Александр. — Хотя, конечно, все правильно — не оставлять же там инока… Надо было вам взять "трайтер" с коляской.
— Ну, тогда бы мы с вами не беседовали сейчас, — сказал Юл. — "Трайтер" не положишь набок, и были бы мы с иноком сейчас… — он чиркнул себя ладонью по горлу. — Попробуйте еще раз, — он кивнул на телефон.
Отец Александр взял наушник, послушал. Передал наушник Юлу. В наушнике была гробовая тишина. Отец Александр включил настольную лампу. Волосок лампы медленно нагрелся до вишневого цвета.
— Надо начинать искать, — сказал Юл. — У нас еще три часа светлого времени. Грузовик, три мотоцикла…
— Я не могу рисковать людьми, поймите, — сказал отец Александр. — Вы же видите: банды какие-то, вообще — непонятно что…
— Рисковать, — подчеркнул Юл. — Подготовленными и разбирающимися в обстановке людьми. Или жертвовать, — он опять выделил голосом, — ничего не понимающим, угодившим в самую кашу человеком. Есть разница?
— Разница есть… — отец Александр поднялся, медленно подошел к телеграфному аппарату. Мерцала красная лампочка, зеленое окошко оставалось темным. — Разница есть, а напряжения нет… а нет напряжения, нет и информации… Постойте. Вы умеете работать на ключе?
— Азбуку-то помню… — уже поняв идею, Юл вскочил со стула и оказался рядом с аппаратом. Если не хватает напряжения для телетайпа, то ключом и на слух… Он перекинул все тумблеры в положение "передача", и на девять аппаратов, расположенных в окрестных монастырях, ушло сообщение: "Миссия просит сообщить что известно русском Петров пропал сегодня дороге Бойбо прием". Отозвались семь аппаратов. Телеграфисты, поняв, что имеют дело с новичком, старались передавать медленно. Юл механически записывал, отложив расшифровку на потом. Приняв все, он поблагодарил и попытался вызвать два оставшихся монастыря — бесполезно. Во всех пришедших телеграммах было одно: о Петрове никто ничего не знал. Неотозвавшиеся монастыри: Тме-чеш и Сый, — находились, насколько Юл помнил…
— Дайте карту, — сказал он.
Так. Долина Священных Рощ — будто тень от восьмипалой иссохшей руки со скрюченными пальцами. Вот монастырь Бойбо, крупнейший из всех… вот миссия, дорога — полукругом, в обход двух "пальцев". Напрямик — много короче… и с Петровым садовник, который это знает. И есть тропа, и есть подвесные мосты через ущелья, и проходит тропа как раз между монастырями Тмечеш и Сый… именно по этой тропе уводили сегодня студентов, вспомнил Юл. Он поднял глаза и встретился взглядом с отцом Александром.
— Надо ехать, — сказал Юл. — На грузовике — вот досюда, и тут уже пешком минут сорок. Успеем до темноты.
— Ну, что же, — сказал отец Александр. — Только одно условие: я поеду с вами.
— Разве же это условие? — сказал Юл. — Это же именины сердца.
Цуху нашли в странноприимном доме: он помогал устраиваться людям из группы Филдинга. Женщинам и девяностолетнему Филдингу нашли место в комнатах, восемь же мужчин и с ними четверо иноков, уступивших свои койки, должны были расположиться во внутреннем дворике. Здесь же было свалено снаряжение. Вообще-то в таком доме: два этажа, двенадцать комнат, множество каморок и кладовок, галерея, внутренний дворик четыре на шесть метров — могло разместиться, да и размещалось когда-то, человек сто; но сейчас, после простора и комфорта, начавшееся уплотнение тревожило как-то по-особенному — первые признаки надвигающейся непогоды… Перед панно, изображающим крещение Императора О святителем Севастьяном, Духа возился с примусами; части разобранных трех или четырех примусов лежали перед ним на листе фанеры, и он протирал их тряпочкой, прочищал трубки, продувал форсунки. Увидев вошедших Юла и отца Александра, он молча положил все и встал. Он сразу понял, в чем дело, — без слов. Такие уж они были, "дети дождя"…
С лязгом откатилась дверь, и в свете факелов возникли трое: иерарх Терксхьюм и два мирянина, все в черных нагрудниках с белым крестом — знаком "Купели". Отец Александр опустил руки, но не сдвинулся с места.
— Я требую, чтобы о нас доложили окхрору Чевк-ху! — громко и четко произнес он. — Я епископ этой епархии и не могу допустить такого обращения со мной и моими спутниками!
— Окхрор Чевкх нет между нас, — медленно сказал иерарх. — Мы буду держать вас здесь ночь и день. Ничто не угрожает. Но мы не могу обеспечить ваша жизнь не в эти стены. Пребывать вам порознь. Таково требование правил. Ваше помещение будут готов скоро.
Дверь закрылась.
— Я и не знал, что вы епископ, — сказал Юл.
Отец Александр растирал кисти рук, морщился. Юл потер костяшками пальцев ссадину на щеке; ссадина не столько болела, сколько чесалась.
— Это как к вам теперь обращаться: Владыко? — настаивал Юл.
— Я еще не епископ, — сказал отец Александр. — Я временно исполняю обязанности… — он усмехнулся чему-то. — Посвящение должно было состояться на будущей неделе.
— Должно было? А что случилось?
— Раз уж они убили Чевкха…
Юл хотел было возразить — слова застряли в горле. Он прокашлялся — не помогло. Стены были каменные, и на каменном карнизе горела толстая, в руку, витая свеча. Под потолком шла узкая, как бойница, отдушина. Снаружи было темно.
— Юл, — позвал из угла Цуха; он сидел в позе отдыха, но не дремал. — Что такое по-русски: "ваят каат казла"?
— Что? — не понял Юл. Потом до него дошло. — Это ты от кого такое слышал?
— Слышал, — сказал Цуха. — И, знаешь… мне показалось тогда, что вы не любите нас. Терпите, но не любите. Это так?
— Нет, — твердо сказал Юл.
— Я не говорю про тебя. Я говорю про всех. Что вы все, больше или меньше, терпите. И это обидно. Многие обижаются.
— Вот как… — покачал головой Юл. — Тебе это надо было давно сказать. Слушай, я буду объяснять. Вы видите — глазами. Слышите — ушами. Чувствуете вкус — языком. Так? А мы еще и носом, когда дышим, чувствуем… вкус воздуха. И в разных местах и вокруг разных людей и предметов он разный. Ты понимаешь меня?
— Наверное, — сказал Цуха. — А вокруг нас — он неприятный. Так? Поэтому вы морщитесь?
— Он слишком сильный. Ты же морщишься от яркого света?
Цуха ничего не сказал, задумался. Потом развел руками.
— Удивительно. А в остальном мы так похожи…
Загремела и открылась дверь.
— Выходи, — сказал иерарх, указывая рукой на Цуху.
Цуха встал, шагнул к двери. Повернулся, подошел к Юлу, особым жестом сжал его руки.
— Брат, — сказал он, глядя Юлу в глаза; с этой секунды Юл был принят в "дети дождя". Быстро вышел, как бы нечаянно толкнув плечом иерарха. Дверь встала на место, и за дверью глухо завозились.
— Я понимаю, к чему вы клоните, — сказал отец Александр. — Что постановка вопроса, кто лучше: А или Б — порочна сама по себе. Христианин лучше мусульманина, ариец лучше еврея, рабочий лучше заводчика — все это было и ни к чему доброму не привело. Так? Но в нашем случае это сопоставление не годится, потому что у нас не А и Б. У нас А и ноль. Зеро. Пустота. И какое бы сопоставление ни взять: "больше", "лучше", еще как-нибудь — всегда А будет преобладать над пустотой.
— Лихо, — сказал Юл. — То есть я — это пустота.
— В этом смысле — да.
— Независимо от того, в какого именно бога верит мой визави?
— Бог един, — терпеливо сказал отец Александр. — Различны лишь имена.
— Это сейчас, — сказал Юл. — А ро подписания Великой Конкордации?
— Сомнение и гордыня, — горько произнес отец Александр. — Сомнение и гордыня — вот что нас разделяет.
— Именно так, — сказал Юл. — Вы это отметаете, мы на это опираемся. Может быть, мы устроены по-разному, и то, что для нас основа жизни, для вас — яд?..
— Сатанинское искушение, — сказал отец Александр. — И овладело столь многими… Печально.
— В таком случае Сатана крайне непредусмотрителен. Ведь именно благодаря тому, что сомнение и гордость присущи большей части человечества, вашей церкви удалось удвоить число прихожан — за счет здешних неофитов, кажется, чересчур страстных в вере… как, впрочем, и положено неофитам… Тихо…
По коридору кого-то проволокли.
— Не к нам, — сказал отец Александр.
— Не к нам… — эхом отозвался Юл. — Вы в первый раз в тюрьме? — спросил он отца Александра.
Отец Александр вздрогнул.
— Я? Да. Да, первый, конечно… А вы?
— А я сидел однажды. Три дня. У вас.
— За что же?
— Непочтительное высказывание в публичном месте… неопытный еще был, неосторожный…
— Но тогда, наверное, не в тюрьме, а в монастыре?
— Какая разница…
— Но, Юлий Владимирович! — воскликнул отец Александр. — Как можно сопоставлять — убежище и узилище?
— Мне показалось, что разница только в названии, — сказал Юл. — Конечно, вы видите оттенки… А мы, поверьте, просто не обращаем на эти оттенки внимания. Лишение свободы — что еще надо?.. Вообще России не везет со свободой: то крепость, то тюрьма, теперь вот — монастырь… но в монастырь идут добровольно — а когда человек рождается в монастыре, всю жизнь в нем проживает и умирает, так и не увидев ничего кроме… это уже должно называться как-то иначе. И потом: если вера внедряется такими мирскими способами… может у вас человек, заявивший, что он атеист, поступить хотя бы в технический вуз?
— Тихо, — сказал отец Александр. — Вы слышите?
— Стреляют, — сказал Юл. — Далеко.
Несколько минут они прислушивались к стрельбе. Потом все стихло.
— Будете продолжать? — спросил отец Александр.
— Нет, — сказал Юл. Ему вдруг стало все равно.
— Так вот: может быть, вы и правы. Может быть, это только так выглядит со стороны, а может быть, верно и по существу. Не знаю. Но дело в том, что иного пути нам просто не дано. И это — последний шанс, причем не для нас, а для вас, для всех гордецов и сомневающихся. Или жизнь будет переустроена в духе Евангелия, или просто прекратит течение свое. Не мне вам рассказывать, что творится в безбожной части мира — насилие над самим естеством, взять хотя бы сны по заказу, как их?..
— Онейропии, — подсказал Юл.
— …эти проживания во сне других жизней, бесконечно греховных… и становится ясно, что альтернативой духовному возрождению мира будет не нынешнее ваше богатство и мощь, а всеобщее озверение и вырождение. Через двадцать лет, через пятьдесят — но неизбежно.
— И миссия России — это возрождение совершить?
— Ваша ирония ни к чему. Более того — даже у вас в высших кругах понимают это — потому что помогают нам. Должен сохраниться резерв духа, который даст человечеству возможность выстоять и остаться тем, чем было замыслено: общностью подобий Божьих…
— Новый ковчег, значит, — сказал Юл. — В океане греховности. И то, что мы даем вам деньги, энергию, продовольствие, возим вас на своих кораблях по планетам, — это все во имя сохранения вашей духовности? Интересная мысль. Хотите, я открою вам вашу же величайшую государственную тайну? Вы слышали что-нибудь об Обители святого Александра Суворова?
— Не помню, — сказал отец Александр.
— Есть такая обитель — внеепархиальная. К северо-западу от Царицына. Берут туда только мальчиков-сирот пяти, самое большее семи лет. Там они и живут до самой смерти — всю жизнь в стенах. А под землей там заложены термоядерные заряды, и монахи дежурят при подрывной кнопке. Мощность зарядов достаточна, чтобы всю Евразию засыпать радиоактивным пеплом — да и на Америку кое-что попадет… Теперь вам понятно, почему Конфедерация так лояльно к вам относится?
— Этого не может быть, — тихо сказал отец Александр. — Этого просто не может быть — того, что вы рассказали…
— Наведите справки. Только осторожно.
— Это чья-то ложь, которая…
— Туда время от времени приглашают инспекторов Конфедерации — наверное, чтобы мы не теряли остроту восприятия… Мой отец был там дважды. Монахи довольно ехидно говорили, что пример его прадеда оказался чрезвычайно полезен.
— Теперь — к нам, — сказал отец Александр.
Дверь отъехала. Юл встал.
— Ваше преосвященство, — сказал иерарх. — Прошу ваше.
Отец Александр встал, повернулся к Юлу и иноку, поднял руку, благословляя.
— Господи, помилуй нас… — прошептал он.
Юл задремал и проснулся, казалось, прошла минута, но руку он успел отлежать намертво — рука мотнулась и стукнула его по груди, тяжелая и бесчувственная, как деревяшка. Было тихо — так тихо, что слышалось попыхивание свечи: на фитиле образовался длинный нагар, пламя дергалось и коптило. В руку горячо и больно пошла кровь. Юл сидел неподвижно, стиснув зубы. Наконец, рука обрела подвижность, хотя и оставалась еще тяжелой и горячей. Шевельнулся Олег, застонал. С него наручники не сняли — боялись. И тут опять загремела дверь.
Она отъехала немного, и в щель кого-то втолкнули. Человек упал ничком, закрывая лицо и голову руками, — и тут же камеру наполнил резкий, разрывающий ноздри смрад Игрикхо. Юл вскочил, зажимая рот и нос. Олег закрылся руками и смотрел, ничего не понимая спросонок. Человек медленно перевернулся на бок, подтянул колени к животу и с минуту лежал так, не двигаясь и, кажется, не дыша. Он был оборван и страшно, фантастически грязен. Потом он со всхлипом втянул в себя воздух и выстонал:
— О-о-о, дьяавол…
По голосу Юл его и узнал. Это был Петров.
— Владислав Аркадьевич? — наклонился над ним Юл. — Что с вами сделали?
— Кто это? — спросил Петров со страхом. Ладоней от лица он не отнял. — Юлий Владимирович? Что вы тут делаете?
— Представьте себе — ищу вас. Но — что с вами? Вас били?
— Похоже на то… Посмотрите, что у меня с глазами, — он с трудом убрал руки.
Вокруг глаз были черные круги, веки вздулись и запеклись кровью. Юл осторожно — Петров напрягся и застонал — кончиками пальцев раздвинул веки. Ничего нельзя было разобрать: какой-то рубиново блеснувший студень…
— Ни черта не видно, — сказал Юл. — Тут только свеча.
— Чем-то хлестнули по глазам, — сказал Петров. — Я не понял, чем.
— Цепью, чем же еще, — мрачно сказал Юл. — Ладно, главное, что не вытекли, все остальное поправимо. Больно?
— Больно, конечно. Еще ребро… вот здесь…
Юл потрогал. Под пальцами хрустело.
— Кто же это вас?
— Не знаю. Окружили, кричали… потом отвели куда-то Вецу…
— Это садовник?
— Да… и чем-то меня по глазам… Мне кажется, его убили.
— И где же все это происходило?
— Там — в Рощах.
— Вы пошли в Рощи? Без фильтров? Как же вы выдержали?
— Да… ничего. Выдержал. Запах и запах. Ничего.
— Что же вы рацию-то забыли, — сказал Юл. — Разве же можно так?
— Забыл, — сказал Петров. — Быстро собрались — только в монастыре и вспомнил. Слушайте, — он попытался сесть, — надо же как-то сообщить…
— Знают, что мы здесь, — сказал Юл. — Утром выцарапают. Или днем.
— Да нет, я не про это, не про нас. Послушайте: мне Филдинг описывал здешнюю ситуацию и просил проверить кой-какие предположения… гипотезы… Я и проверил. И все сходится, понимаете?
— Нет, — сказал Юл. — Я ничего не знаю о предположениях Филдинга. Он со мной не делился.
— Ну, значит… мне-то он все описал детально… Ладно, слушайте. Эти животные, Игрикхо, выделяют огромное количество летучей органики, и в этот букет входят амины, необходимые для работы "трезубца" — есть у здешних людей такая железа… а "трезубец" вырабатывает гормоны, которые регулируют энергетику нейронов мозга… понятно, да? Им всем время от времени нужно дышать этим запахом — который от Игрикхо. Но это не все. У Игрикхо детеныши появляются раз в четыре года, и к двум годам они проходят критическую фазу развития… для того, чтобы начать созревать, им надо получить извне гормоны роста, которые их организмы не продуцируют…
— Понял, — сказал Юл. Сдавило горло. — Эти жертвоприношения — это… это…
— Да, — сказал Петров. — Звено симбиотической цепочки.
— Извините, — прошептал Олег, — это значит?.. Да как же это может быть — такое?..
Ему не ответили. Отвечать было нечего.
— Что же делать-то, Господи? — спросил он. — Что же нам теперь делать?!
— Днем бы раньше, — с тоской сказал Юл. — Днем бы раньше… мы бы раскрутили Дворец, и еще можно было бы спасти… Не все, — поправил он себя, — но кое-что — можно было бы… Ввести в Долину солдат…
Все это бесполезно — он знал — но все равно: протянуть еще немного, продержаться… и, может быть, удастся что-то придумать, что-то придумать, не бывает же так, чтобы не было выхода…
— Это мы во всем виноваты, — сказал вдруг Олег и заговорил, захлебываясь и ударяя в пол скованными руками: — Мы виноваты, мы дали им наше понятие греха, не зная, кому даем… не понимая, что происходит здесь, мы думали, что этот мир во всем подобен нашему… Боже, если Ты наказываешь нас, то почему Ты не пожалеешь их?.. Что делать, что делать, что делать?..
— Поздно, — сказал вдруг Петров, и Юл подумал: да, поздно. Не успеть. Он вспомнил то, что мельком успел заметить в монастырском дворе, когда их вели сюда. Это конец. Уничтожением Служителей они не ограничатся — и это будет конец. Игрикхо живут только в этой долине. Больше нигде. Покинутые города… а теперь уходить будет некуда. Все, все. Конец. Торжество гуманизма над древними суевериями. Конец.
От погони он оторвался, потеряла его погоня, и те, которые шли по мосту, не знали о побеге — а то, конечно, обратили бы внимание на шум падения… второй раз, и опять метров с семи, хорошо, на осыпь… если бы и теперь на твердое, не поднялся бы… Не останавливаться, не останавливаться… колени болят, но не останавливаться, иначе не дойти… не дойти… Было почти светло, светлее, чем в лунную ночь на Земле: ребята на "Европе" развернули солнечный парус, и свет от него как бы случайно накрыл Долину Священных Рощ. Спасибо, ребята, догадались, без света было бы совсем худо… вы только не переусердствуйте там, не затейте каких-нибудь десантов… Юл хорошо представлял себе, что происходит сейчас там: на "Европе", в посольстве, в российском представительстве, в Малой прихожей Дворца. Рацию бы мне, рацию, рацию, крокодильчика моего зелененького… монах, обыскивавший его, отстегнул от пояса Юла цепочку с брелоком, а когда Юл запротестовал — усмехнулся, с силой оторвал крокодильчика от колечка с ключами и, глядя Юлу в глаза, протянул ключи… Здесь, на дне ущелья, тоже была тропа — хорошо утоптанная, но узкая, и Юл понял: Петров где-то ошибается. На секунду ему стало легко. Ведь семьдесят миллионов человек, это по двести тысяч ежедневно, чтобы побывать здесь хотя бы раз в году каждому… на четыреста квадратных километров Долины — по пятьсот человек на квадратный километр… Нет, здесь такой плотности не было никогда… Юл вошел в ритм и двигался "волчьим скоком" двести шагов бегом, двести шагом. И в этом ритме в памяти прокручивались Песни Паломника — именно прокручивались, написанные синей тушью на желтой шелковой ленте… и вдруг остановились и вспыхнули новым смыслом: "Отец, два возраста священных у твоего чада, два возраста, лежащих между магическими числами: с семи до одиннадцати, именуемый Нежным, и с семнадцати до девятнадцати — то возраст Испытания… Чадо твое в Нежном возрасте укрывай для сна своим плащом паломника, и пусть он видит в снах Рощу, где растут Священные Деревья… Когда же придет срок Испытания, направь его на дорогу, но больше не иди с ним сам…" Теперь все стало на свои места, и припомнился кстати старинный манускрипт: медицинский трактат о железе "трезубец", где говорилось, что в возрасте семнадцати-девятнадцати лет "железа налита кровью и соками так, что стесняет сердце, и лишь дальняя дорога может разогнать кровь…" Главное дойти, подумал Юл, главное — дойти… он уже примерно знал, как будет действовать: шеф контрразведки Дворца министр Дьюш — очень неглупый человек… очень неглупый…
Ущелье оборвалось сразу, Юл даже не заметил этого, а почувствовал другое: стало теплее. Странно: густой смрад не мешал ему дышать, не перекрывал горло, как это бывало, — просто существовал, и все. Может быть, потому, что нарастал постепенно, а может быть, потому, что другого пути все равно не было. Несколько раз впереди между деревьями возникал красно-желтый свет факелов, но Юл легко уходил от встречи: проснулись, наверное, какие-то древние инстинкты, и сквозь боль проступила телесная радость — от этого ночного, но светлого леса, от пружинящего мха под ногами, от реальной, но преодолимой опасности… он чувствовал себя странно — легким зверем — и очень свободно, так свободно, как, наверное, никогда в жизни… "Вера — как, впрочем, и сама жизнь, — живет и развивается сама по себе, не имея ни цели, ни смысла, и тот, кто желал бы приспособить ее для разрешения мирских проблем, извратил бы природу ее…" Туш-хет, мыслитель и реформатор первых лет династии О. Мог бы стать здешним Ганди, но — не успел… "Нельзя отнять у золота его блеск; но если сможешь ты отнять его и нанести на стены дома своего, чтобы сделать красиво, то будет у тебя только блеск на стенах, а вместо золота — ноздреватый камень; и усмехнется над тобой Создатель…" Читайте Тушхета, отец Александр, и вы почувствуете дивный вкус сомнений… впрочем, вы, возможно, уже усомнились… да и может ли честный человек жить, не сомневаясь?..
Он хотел проскочить между двумя группами с факелами, понял, что вылетит сейчас на открытое место, хотел вернуться — там тоже уже были факелы. Он попал в кольцо. Сохраняя в себе звериное, приник к земле, скользнул к купе деревьев Шу, протиснулся между мохнатыми стволами, приник к ним. Теперь его нельзя было увидеть с трех шагов.
Деревья Шу стояли на краю поляны, а в центре поляны росли деревья Игри: как обычно, два больших, а вокруг — с десяток поменьше. Деревья Игри напоминали длинные толстые морковки, растущие наоборот — корнем в небо. Из стволов под прямым углом торчали голые сучья, и только на концах их, как метлы, курчавились ветви с тонкими сухими листьями, шелестящими даже при полном безветрии. На сучьях висели Игрикхо — их было множество. По краю поляны стояли и ходили люди с факелами, звучала неразборчивая речь и изредка — брань. Потом все зашевелилось, факелы стали подниматься и опускаться, задавая какой-то ритм, а потом Юл увидел — в полусотне шагов от себя — группу иерархов Терксхьюм и с ними — отца Александра! Было там еще несколько православных священников, но Юл на них не смотрел. Он стал выбираться из своего убежища, и тут грохнул первый выстрел, пауза — и началась пальба.
Люди с факелами и ружьями окружили деревья и стреляли вверх, и Игрикхо, как перезрелые плоды, срывались с сучьев и падали вниз, на лету раскидывая руки и ноги — и становясь безобразно похожими на людей, потом кто-то, надрываясь, кричал: разойдитесь, разойдитесь! — и сквозь толпу потащили телегу с бочкой, взревел мотор помпы — из шланга хлынула огненная струя, и три дерева сразу заполыхали огромным костром. Игрикхо, горя, посыпались на землю и бросились бежать сквозь толпу, раздался нечеловеческий вой, снова затрещали выстрелы… один из Игрикхо бежал прямо на Юла, упал и стал корчиться — сквозь охватившее его пламя было видно, как лопается кожа и расползается плоть — но он был еще жив и пытался ползти…
Юл как сквозь воду видел, как наплывает на него — неровно, колыхаясь и покачиваясь — группа иерархов с отцом Александром среди них, как поворачиваются в его сторону головы и как движутся — медленно, преодолевая сопротивление — люди. Факелы пылали, и справа с ревом взлетело вверх пламя горящих деревьев. За иерархами стояли еще кто-то, и Юл не сразу понял, что это студенты — "ведомые Создателем"; факелы и ритуальные синего железа мечи были у них… и то ли показалось, то ли правда — среди многих лиц он узнал отца Никодима — но это было совсем не важно… Юл стоял перед отцом Александром и должен был немедленно, прямо сейчас ему все объяснить — но отец Александр смотрел сквозь него, и в глазах его плясало пламя… в безумных, широко открытых глазах… "Остановитесь! — закричал Юл. — Остановитесь!!!" Отец Александр смотрел на него и не узнавал. В последней надежде прорваться к нему Юл протянул руки — а мысль метнулась сразу в двух направлениях: позвать отца Никодима и объяснить ему все — и обратиться к иерархам и попытаться растолковать, как бы трудно ни было, что такое запах, гормоны и все остальное… Он повернулся к одному из иерархов — и тут боковым зрением увидел мгновенный синий высверк и почувствовал томящую боль в плечах… и земля подлетела и ударила в лицо, и повернулась, замерев косо над головой. Небо, полное звезд, было под ним, и в небо это падал огненный поток, скручиваясь спиралью, и по одному краю небо занималось от пылающих факелов, а на другом краю неба стоял великан, воздевший руки так, будто кричит кому-то далеко, — только лица у великана не было, и это было мучительно неправильно, а потом небо стало вздуваться громадным нарывом — великан сделал шаг — черный огонь разрывал небо изнутри и готов был прорваться, и прорвался — великан сделал еще шаг и стал падать вперед — и хлынул, затопляя все в мире, — и из шеи великана ударили черные струи, и Юл закричал в ужасе и бросился бежать, но двинуться не смог и крика своего не услышал…
— Скотоложец, — сказал иерарх, трогая носком сапога голову, лежащую в траве. — Можешь пойти и вздрючить сам себя. Ты хотел, чтобы мы продолжали скармливать своих детей этим скотам. Но Создатель распорядился иначе…
Отец Александр не слышал его. Он мучительно старался понять, чего от него хотят эти люди вокруг. Слишком много огня, слишком много огня, огонь мешает сосредоточиться…
Инок Георгий посреди темноты, воздев к небу скованные руки, молил:
— Вразуми, Господи! Вразуми, Господи! Вразуми, Господи, вразуми, вразуми!..
Ответом было молчание.
К концу шел двенадцатый день священного месяца Ринь. Новый день наступал только с восходом солнца…
1988–1989
Этот рассказ воспринимали как политический манифест или что-то вроде того — а на самом деле это просто рассказ. Короткая история.
Время было такое — перекаленное.
Я бы и сейчас написал то же самое…
О том, что одеваться надо нарядно, Руська вспомнил в последний момент.
— Мама! — позвал он. — Слушай, нам Галя Карповна вчера сказала, что вместо уроков мы пойдем в театр и надо надеть что-нибудь такое…
— Галина Карповна, — автоматически поправила мама, не отрываясь от плитки. На сковородке скворчали картофельные оладьи. — Подожди, а какой такой театр?
— Не знаю. В театр да и в театр. Какая разница?
— Всегда предупреждали… — нахмурилась мама. — Что же ты вчера-то молчал?
— Забыл, — вздохнул Руська.
— Забыл… ах, ты же…
— Да ну, чего особенного?
Подумаешь, в театр, подумал он. Бывали мы уже в театрах, и ничего…
— Может, и ничего, — мама как бы подслушала мысль; она смотрела куда-то в угол и хмурилась, — а может, и чего… и отец ушел…
— Да ладно тебе, — Руська не понимал, из-за чего, собственно, расстройство. — Ты мне лучше дай какую-нибудь деньгу, я там в буфете чего-нибудь посмотрю…
— Господи, — сказала мама. — Добытчик ты наш…
Оладьи, понятно, подгорели. Впрочем, Руська именно такие и любил, но мама почему-то всегда старалась делать бледные, мягкие. Оладьи он запил большой кружкой приторного морковного чая.
— Вот это наденешь, — сказала мама.
— Он колючий, — запротестовал Руська. — И жаркий.
— Потерпишь, — отрезала мама.
— Но ведь в театр же…
— О господи, — сказала мама предпоследним голосом. — Не будешь забывать вечерами… сказал бы вчера, попросила бы Раду Валерьевну, чтобы выписала тебе освобождение…
Это уже было настолько ни к селу ни к городу, что Руська перестал сопротивляться — даже мысленно — и натянул "секретный" свитер. Секретным свитер был потому, что в него мама ввязала сплетенный косицей волос, так что от некоторых чар и от дурного глаза свитер оберегал неплохо.
— А вот это — на шею, — сказала мама и завязала на семь узлов шелковую веревочку. — Будут отбирать — отдай. И говори, что нашел.
— Что я, совсем маленький, что ли? — обиделся Руська. — Учишь, как все равно…
— Большой ты, большой, — сказала мама. — Потому и говорю. С малого какой спрос…
Ха! Возле школы уже стоял автобус, и Галя Карповна махала рукой из двери. Класс плющил носы о стекла.
— Вечно ты, Повилихин, приходишь в последнюю минуту, — с пол-оборота завелась Галя Карповна. — Ты да Хромой, двое вас таких гавриков…
— Не опаздываю же, — резонно возразил Руська.
— Я сколько раз говорила: приходить за пятнадцать минут до начала уроков! Звонок не для вас, звонок для учителя! — и что-то еще в том же духе.
Руська молча обогнул ее с наветренной стороны и двинулся по проходу, ища место. Ничего нового он услышать не надеялся.
— Ксива есть? Ксивы нет. До свидания, — пробормотал он негромко, но так, чтобы его услышали. Машка Позднякова, соседка по двору и по алфавиту, фыркнула.
— С тобой не занято? — спросил Руська.
— Садись, — сказала Машка. — Она все равно не придет.
— Откуда ты знаешь?
— Я все знаю. Вот ты знаешь, например, куда мы едем?
— Ну?
— В Кремль!
— Как — в Кремль? Вчера же говорили, что в театр…
— Ты и поверил, глупышка?
— В лоб дам, — пообещал Руська.
— Ну и как хочешь, — обиделась Машка, хотя уж не ей обижаться. — Вон — мест много…
— Подожди. А зачем — в Кремль? Что там делать?
— А то ты не знаешь?
— Чего?
— Чего-чего. Не слышал ни разу, что ли?
— Слышал, — неохотно сказал Руська. — Только все это как-то… как-то не так… Мама рассказывала: их возили торжественно, отбирали самых-самых… они цветы дарили, рапорт читали…
— Говорят, что всех возят, только не велят об этом рассказывать, — прошептала Машка и резко отвернулась.
— О чем вы туг шепчетесь? — возникла рядом Галя Карповна. — Я миллион раз говорила, что шептаться нельзя, хочешь что-нибудь сказать — скажи громко, при всех.
— Вон Хромой идет, — громко и при всех сказал Руська.
Толик Хромой — это настоящая фамилия, прозвище у него было Костыль — запыхавшись, вскочил в автобус.
— Тебя одного и ждем, — сказала Галя Карповна. — Сорок человек тебя ждут!
— Я опять опоздал? — удивился Толик. — Ну никак не могу к этим трамваям приспособиться.
— Объяснять будешь директору, — сказала Галя Карповна. — Так, нет Полубояринова, он болеет, и нет Стеллы Мендельсон… — Галя Карповна поджала губки. — Водитель, поехали!
Толик плюхнулся на пустое сиденье — как раз через проход от Руськи. Расстегнул портфель, вынул кляссер и подмигнул Руське. Руська привстал — Галя Карповна как раз отвернулась и говорила что-то водителю — и шмыгнул через проход.
— Во, как и обещал… — начал Толик, но Руська его перебил:
— Знаешь, куда едем?
— Ку… куда? — вздрогнул Толик.
— В Кремль… — от Толикова испуга Руська немного растерялся.
— Как же так… мне же нельзя, я ведь уже был… — зашептал Толик, — почему вчера не сказали?., я ведь был весной, мне нельзя…
— Так скажи Гале, — предложил Руська.
— Не отпустит… а то еще мамке на работу сообщит — и все… ох, как же это я… осел, ведь так не хотел идти, думаю: ногу бы сломать…
— Так ты там был? — прошептал Руська.
— Ну да, я же говорю — весной, еще когда в той школе…
— Слушай, а что там?
Толик замолчал, уставился куда-то вбок.
— Так что? Почему все так боятся?
— Сам увидишь… да никто и не боится… а так… я не знаю. Я правда не знаю. Водят, все показывают… Главпушку, Глав-колокол… картины разные, сабли, пистолеты старинные… ну и это…
— К самому?
— Ну… Слушай, Руська, хочешь я тебе все свои марки отдам и расскажу, что мне один большой парень рассказывал, а за это буду там все время за тебя прятаться? Потому что ты не ходил еще, тебе можно, а я уже ходил…
— Хорошо. А что он тебе рассказывал?
— Значит, так. Когда-то давно сам умер — или как будто бы умер… и те, которые с ним были, соратники — они решили: сохранить его тело, сделать мумию и выставить в музее, чтобы все видели и знали, какой он был. Ну и вот… сделали мумию, а потом к ним приходит один маг и говорит: а хотите, я его… ну, мумию то есть… оживлю? А те без него не знают, что делать, переругались все, ну и говорят: хотим. Маг и оживил. Потом много всякого было…
— Опять шепчетесь? — налетела Галя Карповна. — Я сколько раз говорила: шептаться нельзя! Хочешь что-нибудь сказать — встань и скажи громко! Повилихин, а кто это тебе разрешил пересаживаться? Сядь немедленно обратно!
— Так мы договорились? — одними губами спросил Толик.
Руська кивнул.
* * *
Их долго не пропускали в Красный Круг — проверяли какие-то бумаги у водителя, что-то еще. Потом в автобус вошла толстая тетка в черной кожаной куртке с железной пентаграммой на рукаве и наганом на поясе.
— Какие красавцы! — сказала она, разглядывая класс. — Наше будущее! Поезжайте, водитель…
Когда автобус пересекал Красный Круг, Руська вдруг озяб. Он покосился на Машку: у Машки дрожали губы. Ни фига себе… Автобус свернул направо, и Руська увидел Кремль — во всей его красе: красные с золотом стены, бронзовые шестиконечные щиты на зубцах, башни с железными пентаграммами на шпилях — и сверкающая в лучах солнца тонкая, как кружево, золотая сеть-оберег, натянутая между башнями…
— Ух ты! — восхитился Руська.
— А вот эту сеть моя бабушка вязала, — сказала Машка. — Не одна, конечно…
Ворота перед автобусом открылись, пропустили его, закрылись.
— Выходите и стройтесь! — скомандовала тетка с наганом.
Снаружи остро пахло ладаном: трое в таких же, как у тетки, кожаных куртках обходили автобус кругом, махая кадилами и шепча заклинания. Класс топтался, озираясь.
— Построились, построились! — торопила тетка. — Чему вас только в школе учат?
Наконец, класс выстроился в одну линейку. Галя Карповна бегала за спинами, топая, как шумное привидение.
— У кого есть магические предметы, амулеты, обереги — сдайте! — потребовала тетка. — Потом то, что дозволено к ношению, будет вам возвращено.
— У меня — вот… — сказала Машка, протягивая кусочек янтаря.
— И у меня, — Гарик Абовян отдал камешек с дыркой.
— И у меня… и у меня… — класс сдавал оружие: маленькие пентаграммки, старинные монеты, кроличьи лапки, крошечных костяных кошек и слоников…
— Не стыдно быть такими суеверными? — укорила тетка. — А еще в школе учитесь… Теперь мы проверим вашу честность. Федор, где ты?
Откуда-то появился одетый в военную форму горбун с чучелом обезьянки на плече. У Руськи упало сердце: теперь все… Прикинься шлангом, велел он себе, бить ведь не будут…
Горбун медленно шел вдоль выстроившегося класса, что-то шепча и прихихикивая. Он дошел до Руськи и вдруг остановился, будто принюхиваясь. Со слабым хрустом, слышным так, как если бы ломался лед на реке, обезьянка приподняла веки и стала выпрямлять скрюченную, прижатую к груди ручку. Тонкий черный палец уставился Руське пониже подбородка.
Страх был такой, что Руська перестал чувствовать себя — тело стало чужое и как из ваты. Не описаться бы… Он, может быть, упал бы — но сзади подхватили, обшарили и нашли, конечно, веревочку.
— Эт-то что? — грозно нависла над ним тетка. — Это что, я тебя спрашиваю?
— В-веревочка…
— Веревочка? А какая веревочка?
— Кра… красивая…
— Я тебе покажу — красивая! Шелковая веревочка с семью сионскими узелками! Ты хоть знаешь, что это такое?
— Не… не знаю…
— Учительница! — воззвала тетка, потрясая рукой с веревочкой — она держала ее двумя пальцами, брезгливо, будто это был глист. — Учительница! Почему ваши дети не знают самого элементарного?
И тут Галя Карповна удивила Руську.
— Простите, — сказала она. — В школу поступает список предметов, запрещенных к ношению. Насколько я знаю, этого предмета там нет. Поэтому претензии могут быть предъявлены к наблюдающим инстанциям, но никак не к школе и не к ученикам.
Тетка еще поворчала для порядка и куда-то ушла, унося запрещенный предмет, и никто не догадался, что веревочка эта отвела взгляд обезьянки от Русышного свитера…
— Где ты взял эту гадость? — ненавидяще глядя куда-то мимо Руськи, прошипела Галя Карповна.
— Нашел… — Руська отходил понемногу от пережитого страха.
— Что ты врешь — нашел…
— Правду говорю… клянусь… Лениным клянусь… — прошептал Руська. Он при этом сложил крестом пальцы левой руки. Это подействовало, и гром не поразил Руську.
Их долго-долго водили по Кремлю, показывая все, что там было. Возле Глав-колокола Толик потерялся, но его нашли и вернули. Потом экскурсовод рассказывал много интересного про Глав-пушку. Глав-пушку отлил великий русский мастер Андрей Чохов за много лет до рождения Ильича, но специально для того, чтобы охранять вождя от злоумыслов. Обычными снарядами Главпушка не стреляет, да она и не предназначена для этого. Но вот если кто задумает что-то злое против Ильича, то Глав-пушка тут же испепелит негодяя магическим огнем… Руська подумал было, а как же тогда история со злодейкой Каплан?., но спросить не решился.
— А теперь пойдемте — Ильич ждет вас, — сказал экскурсовод с широкой неподвижной улыбкой.
Класс построили попарно и повели к дверям в большом доме. У дверей стояли часовые в высоких шлемах. Они взяли "на караул" и не шевельнулись ни одним мускулом, пока класс проходил мимо них. По ту сторону тяжелых дверей ждали люди в кожаных куртках.
— Пойдемте, дети, — сказала другая тетка, чем-то похожая на предыдущую, хотя и совершенно не такая: худая, с длинным носом. — Не шумите, не галдите, не задавайте вопросов сами. Ильич будет спрашивать — отвечайте по одному, я буду показывать, кому отвечать. Ильич будет угощать вас конфетами — больше двух брать нельзя. Не набивайте конфетами рот — это некрасиво. После встречи вас покормят в столовой. Если кто-то хочет в туалет, сходите сейчас, вон туда, — она показала рукой.
Полкласса воспользовалось предложением.
— А можно, я спрошу? — раздался чей-то голос. Руська скосил глаза: это был Венька Степанов, на вид — тихий очкарик…
— Спроси, мальчик, — благодушно сказала тетка. Не знала она, кто такой Венька.
— Степанов! — предостерегающе гаркнула Галя Карповна, но было поздно…
— А это правда, что Крупская отравилась?
Тетку будто стукнули палкой по затылку. Она замерла, мгновенно сгорбившись, потом медленно распрямилась, откинула голову назад, как кобра, и всем телом повернулась к Веньке.
— Ну что ты, мальчик, — сказала она медовым голосом. — Надежда Константиновна скончалась от пневмонии, и все очень горевали о ней, и Ильич — больше всех… А почему ты спросил? Тебе кто-то говорил об этом, да? Кто же?
— В трамвае слышал, — сказал Венька. — Два старика поругались, один другому это и сказал.
— Ах, чего только не говорят люди в ссоре! — вздохнула тетка. — Никогда не ругайтесь, дети. А вам, учительница, я советую уделить особое внимание этому мальчику. Может быть, имеет смысл показать его хорошему врачу…
Класс поднялся на второй этаж. У двустворчатой двери, обитой синей кожей с вытесненными на ней пяти-, шести- и семиконечными звездами, знаками единорога и чем-то еще, чего Руська никогда раньше не видел, стояли совсем уж странные часовые: рыцари в латах и с обнаженными мечами в руках.
— Строимся, строимся, — суетилась Галя Карповна, носатая тетка и еще какие-то люди. Класс строился, но как-то не так. Наконец, тетка, которая, похоже, всем тут заправляла, дала сигнал:
— Заходим!
Рыцари с лязгом наклонились вперед и взялись за ручки дверей. Невидимый оркестр заиграл марш. Двери распахнулись, и класс стал медленно вдавливаться в комнату.
Там было полутемно, стоял большой письменный стол, книжные шкафы, диван, несколько кресел. За столом сидел человек и что-то писал, макая перо в чернильницу. На входящих он не смотрел. Наконец, все вошли, замерли — и повисла такая тишина, что слышно стало слабое шарканье пера о бумагу.
— Владимир Ильич! — медово заговорила тетка. — Гости к вам, школьники, отличники!
Человек отложил перо и медленно выпрямился. Он очень походил на свои портреты и скульптуры, стоящие и висящие везде, и в то же время чем-то неуловимо отличался от них, и Руське подумалось, что прав был дядя Костя, когда говорил отцу — а Руська нечаянно подслушал, — что фотографируют, рисуют и лепят других людей, специальных артистов, чтобы избежать дурного глаза… Кожа человека за столом странно лоснилась, и смотрел он на класс тоже странно: будто никак не мог понять, что это за люди и что они здесь делают. Тетка с длинным носом встала рядом с ним, повернулась к классу, и Ильич тут же хитро улыбнулся, подмигнул или прищурился — Руська не понял — и быстро встал.
— Культурная задача не может быть решена так быстро, как задачи политические или военные, — сильно картавя, сказал он. На слушателей он смотрел так, будто сам стоял на трибуне, а они — у его ног. — Мы не можем уничтожить различия между классами до полного введения коммунизма. Нам не нужно зубрежки, но нам нужно развить и усовершенствовать память каждого обучающегося знанием основных фактов, ибо коммунизм превратится в пустоту, превратится в пустую вывеску, коммунист будет только простым хвастуном, если не будут переработаны в его сознании все полученные знания. Тут мы беспощадны, и тут мы не можем вступить ни на какой путь примирения или соглашательства. Это надо иметь в виду, когда мы, например, ведем разговоры о пролетарской культуре. Старая школа была школой учебы, она заставляла усваивать массу ненужных, лишних, мертвых знаний, которые забивали голову и превращали молодое поколение в подогнанных под общий ранжир чиновников. Теперь они видят: Европа так развалилась, империализм дошел до такого положения, что никакая буржуазная демократия не спасет, что только Советская власть может спасти. Трудящиеся тянутся к знанию, потому что оно необходимо им для победы. Главное именно в этом. Мы говорим: наше дело в области школьной есть та же борьба за свержение буржуазии; мы открыто заявляем, что школа вне жизни, вне политики — это ложь и лицемерие. То поколение, которому сейчас пятнадцать лет, оно увидит коммунистическое общество и само будет строить это общество!
Первой захлопала Галя Карповна, за ней — весь класс. Руська бил в ладоши "коробочкой" — то есть пальцами правой руки в расслабленную ладонь левой; звук от этого получался громкий и резкий, как выстрел. За его спиной Толик хлопал "веничком" — это еще громче, но глуше. На Руську навалилось какое-то не совсем понятное разочарование — все, что происходило сейчас с ним и с остальными, было таким простым, деловитым… и непонятно, почему об этом так не хотят говорить, почему разволновалась мама и чего боится Толик…
Ильич сел, каким-то птичьим движением достал из ящика стола огромную коробку конфет, опять хитро прищурился.
— Желание поговорить с народом у меня всегда есть, — сообщил он. — Да вы угощайтесь, не стесняйтесь. Интересно стало в школе учиться?
— Вот ты, девочка, — показала пальцем на Машку носатая тетка.
— Интересно, Владимир Ильич! — закричала Машка. — Мы учимся русскому языку и литературе, математике и географии, физике и химии, рисованию, пению и физкультуре! По всем предметам у нашего класса полная успеваемость!..
— И пению учитесь? — прищурился Ильич. — А какие песни поете?
— Революционные, Владимир Ильич! — у Машки от натуги сорвался голос. — И про нашу любимую партию!
— А неужели детских песен никаких не поете? Я вот помню, мы пели… нет, забыл… берите конфеты, берите! Забыл песню…
Все стали подходить и брать конфеты. Руська тоже подошел и взял.
Конфеты были необыкновенно вкусные, он проглотил обе в один миг и вдруг услышал, как за спиной вздохнул — нет, протяжно всхлипнул Толик.
— Сходи, возьми, — сказал Руська. — Вкусные — жуть.
— Не, — сказал Толик.
— Ну, хочешь, я схожу? — предложил Руська.
— Нет, — голос у Толика стал совсем слабый. — И ты… ты тоже не ходи…
Тетка с длинным носом взглянула на часы.
— Все, дети, — сказала она. — Время Владимира Ильича очень дорого для страны и для всех нас, попрощаемся с ним, до свидания Владимир Ильич!
— До свидания, до свидания! — заговорили все и повернулись к выходу.
— Держи меня… — прошептал Толик и повис на Руське. Руська вцепился Толику в ремень, оглянулся — кто поможет? Галя Карповна была далеко. Подоспел Ромка Жариков, вдвоем с Руськой они подхватили Толика под руки и повели к выходу. Ильич — Руська успел заметить — уже сидел, как вначале, и водил пером по бумаге. И вдруг Руське страшно захотелось, чтобы хоть что-то случилось… чтобы Ильич показал классу "козу"… он опять оглянулся и обомлел: Ильич, не отрываясь от письма, поднял левую руку, выставил указательный палец и мизинец — и боднул воздух…
В коридоре стало плохо еще и Машке. Дядька в военной форме под белым халатом поднял ее на руки и отнес на кушетку. Толика посадили рядом, он был весь синий и дышал ртом. Не надо так волноваться, кудахтала Галя Карповна. Посмотрела бы на себя, подумал Руська.
— Передохнули? — спросила тетка с длинным носом. — Прошу в столовую. Вам будет дан обед из трех блюд, кто захочет добавки, может попросить официантку.
— Дойдешь? — тихонько спросил Руська Толика. То-лик промычал что-то в том смысле, что да, дойду.
Ха, подумал Руська, когда их повели по коридору, тут самому бы не упасть! Ноги были тяжелые, как гири, и совсем не отрывались от пола. И все так: шаркали о паркет и плелись, пошатываясь. Машку сзади всех вел, придерживая, тот военный в белом халате. Навстречу классу попалась странная парочка: горбун, который проверял на честность, и с ним гибкий тонкий человек в мягком сером костюме, круглолицый и круглоглазый. Проходя мимо, этот человек сказал горбуну: "Покушал любимый. Ты погляди, Федор, от сарделек одни шкурки остались…" — на что горбун зашипел и заозирался.
— Ты видел? — прошептал Толик.
— Кого? — не понял Руська.
— Ты что, не знаешь, кто это?
— Который?
— Ну не горбатый же.
— Нет. А кто он?
— Это же кошачий бог!
Руська оглянулся, но никого в коридоре уже не было.
В столовой их рассадили за столы по восемь человек, и официантки в белых передниках и наколках стали разливать суп. Суп был страшно вкусный, только слишком горячий. На второе было что-то тоже вкусное, но как оно называется, Руська не знал. Потом принесли компот и мороженое. Мороженое Руська уже еле ковырял, засыпая. Кошачий бог, думал он, надо же…
В автобусе Руська уснул. Разбудила его Галя Карповна. Оказывается, всех развозили по домам, и больше того — завтра на уроки можно не ходить, и еще больше — мама или папа могут завтра не идти на работу, вот талон на отдых, передай им… Руська не помнил, как добрался до кровати. Он спал, ему снился почему-то кошачий бог, как он долго и тщательно вяжет оберег, надевает на шею, оглядывается через плечо, хитро подмигивает и делает Руське "козу". Как он сказал? Сад… сер… седельки? Что такое седельки? Надо будет спросить… Потом приснилась мама, она сидела у стола и, плача, втыкала булавку в какую-то бумажку. Мама очень боялась, но все равно втыкала и втыкала. Потом сожгла бумажку на огне. Мама, позвал Руська, но вместо мамы подошел кошачий бог и сказал: гордись, теперь ты настоящий пионер. Почему галстук красный, знаешь? Это цвет крови, пролитой… сказал Руська и испугался чего-то. Правильно, сказал кошачий бог, вот смотри: он сжал галстук в кулаке, и закапала кровь. Мама! — опять позвал Руська, открой, открой глаза, сказала мама, скорей открой! Руська открыл. Завешенная газетой, горела лампа, и за столом сидели отец и тетя Люба, Машкина мама.
— Ты пить хочешь? — спросила мама.
— Пить, — сказал Руська. — Да, хочу.
— Сейчас… — мама налила из чайника воды в стакан, поднесла Руське ко рту. Руська жадно выпил.
— Русланчик, — спросила тетя Люба, — как ты себя чувствуешь?
— Ничего… — сказал Руська. — Голова только болит… и тошнит везде.
— А Машеньку в больницу забрали, — сказала тетя Люба. — Так ей плохо было, так плохо…
— Он у нас герой, — сказал отец. — Он у нас выносливый…
— Все обойдется, Люба, — сказала мама. — Бывает…
— Да обойдется, конечно… я что ли сомневаюсь…
Вдруг что-то звонко хрустнуло, мама вскрикнула.
Отец, сердито ворча, встал, стряхивая с ладони осколки стекла — и вдруг быстро-быстро закапала кровь.
— Это не я! — испуганно сказала тетя Люба.
— Ясно, что не ты, — отец, держа ладонь перед собой, как полную до краев чашку, пошел к рукомойнику. — Какая из тебя колдунья…
Мама помогла ему промыть руку, перевязала чистой тряпочкой.
— Может, в больницу сходишь? — сказала она. — Укол сделают.
— Да ну, — отмахнулся отец. — Заживет, как на собаке.
— Пойду я, — сказала тетя Люба. — Хорошо с вами…
— Куда ты торопишься, — сказала мама. — Чего тебе там одной делать?
— Спать лягу. Завтра с утра — в больницу, кровь для Машеньки сдавать…
— Слушай, Люба, — сказал отец, — если надо будет — я ребят организую. Ты говори, не стесняйся.
— Спасибо, Петя. Сказали, пока хватит…
Она ушла. Отец налил себе чаю в новый стакан. Сквозь повязку проступило яркое пятно.
— Давай поворожу, — сказала мама. — Кровь остановлю, да и заживет скорее.
— Хочешь на работу меня завтра выгнать? Шучу, шучу. Руська, что ты?..
— "Ничего, — сказал Руська. — Просто смотрю.
Следующий день был длинным и скучным. Руська пытался читать, играть с отцом в шашки… Хотелось не то чтобы спать — а просто лечь и отвернуться от всего. К вечеру рука у отца разболелась, он дождался, когда вернется с работы мама, и пошел в больницу. Мама села чистить картошку. Руська лежал и смотрел на нее. Ему почему-то вспомнился кошачий бог, как он вяжет оберег, надевает его, оглядывается через плечо…
— Мама, — сказал Руська. — А знаешь, я там подумал, чтобы он показал "козу", — и он показал…
Мама поняла все сразу.
— Ты никому не говорил? — прошептала она. Губы у нее побелели.
— Н-нет… — испугался Руська.
— Никому никогда не говори! — мама оказалась вдруг возле Руськи, схватила его за плечи. — Никому и никогда! Даже папе! Забудь! Забудь навсегда, чтобы никто-ник-то… потому что иначе всем конец: тебе конец, нам с отцом, дяде Косте с тетей Валей, их Женечке и Оксане… ты меня понял? Ты понял, да?
— По-онял… — прошептал Руська и вдруг заплакал. — Мама, мама…
— Я твоя мама! Ах, боже ж ты мой, вот несчастье, вот несчастье…
Пришел отец, сказал, что рану почистили, положили мазь и дали освобождение до конца недели.
— Вы что, поссорились? — спросил он, приглядываясь к зареванным лицам Руськи и мамы.
— Нет, все в порядке, — сказал Руська. — В шашки еще сыграем?
Они сели играть, и отец проиграл четыре партии подряд.
— Рука сильно болит? — понимающе сказал Руська.
— Разве это боль, — сказал отец странным голосом. — Это не боль…
— Мужчины, ужинать! — позвала мама.
— Иди, — сказал отец, — это тебя…
Руська вернулся в школу через три дня. Машка пролежала неделю в больнице, потом еще неделю дома и наконец появилась — бледная и худая. А Толик все не приходил и не приходил, а потом Галя Карповна сказала, что он перевелся обратно в старую свою школу. Адреса его никто не знал, а съездить в ту школу — отвезти марки, ну, и все такое — Руська так и не собрался. Венька же стал часто болеть, и его забрали из школы.
Этим все и кончилось.
1991, апрель
В 1986 году (уже не помню, что меня подтолкнуло; вероятно, чьи-то посулы на Малеевском семинаре) я сделал подробные наброски киносценария, так называемый синопсис. Никакого кино, разумеется, не состоялось, и восемь лет спустя я "снял свое кино" — сделал вот этот бумажный фильм. Потом я повторил этот трюк: по киносценарию, написанному на какой-то конкурс, но не отправленному (не успел), — я "снял роман" "Все, способные держать оружие"..
Они продрались сквозь последние, особенно густые заросли — и оказались на краю пустоши. Как раз до этого места и дошел Артем весной, и Васька Плющ тоже был здесь, а дальше пройти оказалось невозможно: вот эта глина, которая сейчас такая светлая и твердая, тогда была липкой грязью, он сразу же провалился по колено, еле вылез сам и с большим трудом вытащил потом сапоги. Однако уже месяц стояла сушь, высохло даже Сашино болото, и глина, должно быть, тоже высохла. Васька говорил, что в тех местах, откуда он приехал, были точно такие же глинистые низины, совершенно непроходимые весной и осенью, но летом вполне сухие и даже гладкие, хоть на скейте гоняй. Ну, посмотрим…
— Пойду проверю, — сказал Артем тоном, не терпящим возражения; да никто, пожалуй, и не собирался возражать. Почему-то было страшно не то что ступать — даже смотреть на эту голую и гладкую, как обглоданная кость, землю. Сега подал ему оплавленный конец шнура: "Обвяжись". Артем обвязываться не стал, просто намотал шнур на руку.
Сначала глина под ногами была твердой, как стекло, потом — стала чуть пружинить, подаваться. Но и только. Он отошел шагов на двести — пока хватало шнура. Повернулся, помахал рукой. На пустошь спустились Сега, Ветка и Фрукт. Сега пропустил двоих вперед, махнул Артему рукой: иди, мол. Артем двинулся, стараясь держать шнур натянутым. Черное пятнышко туннеля было едва различимо. Срез горы был бледно-красным, трава наверху и у подножия — бледно-зеленой. И про глину под ногами можно было бы сказать: бледно-белая. То ли сероватая, то ли голубоватая, то ли желтоватая. Местами попадались прожилки и островки травы, желтой пижмы и синих колокольчиков. Колокольчики были огромные, с кулак. Артем вытащил из кармана "сосну", проверился. Радиация была нормальная, фоновая.
Чем ближе к горе, тем податливее делалась глина под ногами. Местами казалось, что идешь по болоту. Так, в сущности, и было. Лишь вместо травы и переплетенных корней — высохшая корка грязи.
Я самый тяжелый, подумал Артем. Я пройду — и те сухари пройдут. А я пройду.
У него было какое-то непонятное чутье на топкие места. Сашино болото он мог перейти с закрытыми глазами. Никто больше не мог, а он мог.
Но здесь, когда дошли, наконец, до края, до того места, где из топи вновь проступила железнодорожная насыпь с проржавевшими насквозь, в кружева, рельсами, — он почувствовал, что устал. И что еще чуть-чуть — и его просто
Там вдали, за рекой…
потянуло бы в самую трясину. Как если бы поменялись местами какие-то плюсы и минусы…
На насыпи они сели. Даже Фрукт был ненормально серьезен, не говоря уже о Ветке. Ветка хмура всегда.
— Сойдет, — сказал Артем. — Обратно будет легче. Обратно всегда легче.
— Как с горки, — подхватил Сега.
— Пошли, что ли, — Артем встал.
— Что-то я есть захотела, — сказала Ветка.
— Вечно ты… — сказал Артем.
— А правда, давайте пожрем, — обрадовался Сега. — И тащить меньше.
— Притомились, — буркнул Артем.
— Тебе хорошо говорить, — сказал Сега, — ты вон сколько жратвы под шкуркой таскаешь. А взять меня или, скажем, Урюка…
— За Урюка получишь, — сказал Фрукт.
— Все равно пошли, — сказал Артем. — У горы, может, дрова есть. Не сырое же мясо глотать…
У тяжелых ворот, запирающих жерло туннеля, остановились. По сторонам насыпи рос ивняк, Артем спустился, вырубил две сухие жердины, разделал на дрова, сложил между рельс шалашик и бросил внутрь термитную спичку. Вспыхнуло сразу. Сега нанизал на проволоку за уголки подушечки с мясом, сунул в пламя. Вскоре закипело, подушечки надулись и расправились. Отец рассказывал Артему, что раньше продукты хранили замороженными, во всех квартирах стояли шкафы с тепловыми насосами, "холодильники"; почти половину энергии, которую расходовала семья, пожирали эти приборы. Ни о какой экономии тогда не думали, качал головой отец, а лишь о том, чтобы побольше электричества произвести, побольше нефти выкачать…
Артем взял свою подушечку, покидал с ладони на ладонь, чтобы немного остыла. Потянул за язычок, вскрыл. Брызнул мясной сок.
— С лу-уком, — сморщил морду Фрукт. — Я с луком не люблю…
— Ешь хлеб, — отрезал Артем. — Котлету поделим.
— Да я не так… Я же не говорю — не ем. Просто не люблю…
— Потому ты и сухой, что нос от всего воротишь, — по-старушечьи прогнусил Сега. — Кушать не будешь — не поправишься…
— В лоб, — безнадежно сказал Фрукт.
С Сегой он справился бы, да только какой смысл? Сегу могила исправит. Артем на его подкусы вообще не отвечает…
Поели, запили холодным чаем из бутыли.
— Пошли, — велел Артем. — А то до отбоя не успеем. И всего-то два часа осталось нам на всю разведку…
— Вся наша искпедиция весь день бродила по лесу, — серьезно сказал Сега.
— Чего? — изумилась Ветка.
— Искала искпедиция везде дорогу к полюсу, — объяснил Сега.
— Винни Пух, — догадался Фрукт.
— Начитанные вы, блин-компот, — сказала Ветка. — Даже под один куст садиться с вами неловко.
— Если тебе внезапно станет неловко, — учительским тоном сказал Сега, — перестань испытывать неловкость, и все пройдет само собой. Древнекитайская мудрость.
— Если твои древние китайцы были такие мудрые, то чего ж они вымерли? — презрительно сказала Ветка.
— Их скосил гонконгский грипп, — и Сега снял кепочку.
У самих ворот остановились в сомнении. Были они страшно громадны и, наверное, страшно тяжелы. Там, где с железа отлетела черная краска, горела ржавчина. И головки болтов, огромные, с суповую кастрюлю размером, тоже проржавели — вниз от них тянулись цветные потеки. Ворота эти не поворачивались на петлях, а уходили в скалу. Наверное, когда все это было новеньким и блестящим, между скалой и плитой было и пальца не просунуть; но вот прошло черт знает сколько лет, скала раскрошилась, и из щели сантиметров в сорок шириной тянуло сырым теплом, слабым грибным запахом и еще запахом, который получается при ударах кремня о кремень.
— Не пролезем, наверное, — с сомнением сказал Артем, глядя на щель. — Зря шли.
— Это ты, толстый, не пролезешь, — сказал Сега. Он сбросил рюкзак, достал ружье, одним движением примкнул ствол к ложу. Он очень гордился своим ружьем, хотя это была всего-навсего древняя тулка, одноствольная, двадцать восьмого калибра. Правда, стрелял из нее Сега здорово: по дороге шагов с тридцати пальнул по подброшенной консервной банке и попал. Теперь у него осталось три патрона.
Артем молча примерился к щели и, распластавшись по железной плите, медленно двинулся в темноту. Хорошо, что плита не шершавая… Скоро она кончилась, и он оказался в пустоте. Снял с пояса фонарь, посветил. До противоположной стены оказалось метра два. Такой же толщины был торец плиты. Четыре рельса под ногами… Ни хрена себе! Рельсы уходили вправо еще метров на двадцать, дальше шло какое-то дикое нагромождение искореженного железа, еще дальше — поднималась стена. В самом верху этой стены было зарешеченное окошечко.
Рядом задвигалось, зашуршало, и влез Сега. Фонарь его был на лбу. Первым делом он ослепил Артема, потом стал озираться.
— Во понаворочали люди…
Он прошел в конец помещения, загремел металлом. Появилась Ветка, за нею — Фрукт. Лиловые пятна в глазах Артема понемногу таяли.
— Секите-ка, — показала Ветка.
Луч ее фонаря уперся в темный полукруглый лаз над самым полом, у внутреннего нижнего края плиты. Артем присел, поднес к дыре руку. Из дыры шел воздух.
— Что-то мне это не нравится, — сказал за спиной Фрукт.
Артем нагнулся ниже. Воздух шевелил волосы, холодил глаза. Пролезть в дыру можно было только ползком.
Почему-то именно ползти ему не хотелось.
— Откуда она взялась, эта дыра? — продолжал Фрукт. — Будто крысы прогрызли…
— Кабаны, — сказал Сега.
— Эрозия, — Артем потрогал края. — Зимой намерзает лед, потом вода уносит отколовшиеся камушки…
— Какой ты умный, — сказала Ветка.
Ей было не по себе, поэтому она заедалась.
Страшный скрежет подбросил их. Кто-то вскрикнул. В скрещенных лучах стоял Сега с длинной железякой в руке.
— Вот… — он осторожно положил железяку к ногам. — Все проржавело. Я потянул, а она…
— Мудило, — сказала Ветка.
— Сама-то ты… — начал Сега, но заткнулся: с Веткой связываться не стоило, в драке Ветка страшна, как разъяренная кошка. Разве что Артем мог справиться с нею, да и то не без урона.
— Еще услышу, — сказал Артем, — хлебальники по-расшибаю. Тебя, коза, это тоже касается.
— А пусть он…
— Не ясно?
— Ясно. Замяли.
— Не нравится мне эта дыра, — сказал Фрукт.
Мне тоже, подумал Артем. Он лег на живот и, вытянув руки вперед, пополз, толкая перед собой фонарик. Метра два дыра шла вдоль плиты, потом поворачивала в сторону туннеля — и в этом месте он застрял. Сначала это было даже смешно, потом пришел страх. Ведь — не вылезти. И не похудеть, что я вам, Винни Пух? Он дернулся, попытался повернуться на бок. Не вышло, застрял еще сильнее. Тогда — уперся руками, оттолкнулся от какого-то выступа… ни фига: куртка завернулась, и он застрял опять. Ни вперед, ни назад.
— Сега! Фрукт! Тащите меня за ноги!
Услышали, ухватились, дернули раз, дернули два… Он перевернулся на спину, сел, отдышался.
— Узко, ребята…
— Ща поглядим, — Фрукт ящеркой скользнул в дыру, только подметки мелькнули. Через минуту раздалось: — Все путем! Тут туннель, рельсы, тепловоз стоит! Сега, давай сюда!
— Постой, — сказал Артем. — Обвяжись. И без дураков: только на длину шнура, понял? Если я подергаю — бегом назад. Ветка, проследишь.
— Я прослежу… — сказала Ветка презрительно.
— И там: если пойдете в боковые ходы, то только на леске. Сега, слышишь? А ты сидишь в туннеле и леску держишь. Чуть что не так — дергаешь.
— Да ладно, — поморщился Сега. — Сколько раз говорили…
— Говорили. Только я думал, что сам там буду. Короче, Ветку слушаться, как меня. Фрукт, слышал? Ветка за старшего, ясно?
— Да ясно. Все с вами ясно, — сказал Фрукт издали.
— Поговори мне.
— Я что? Я ничего…
Ветка уползла, следом уполз Сега. Перед тем, как скрыться в дыре, он оглянулся, будто хотел что-то сказать, но не сказал.
Тишина была не ватная, как обычно в подземельях, а гулкая, прозрачная — и даже шелест стекающего с катушки шнура, казалось, создает эхо. Отчетливо капала в двух местах вода: близко и медленно: блоп. Блоп. Блоп. И — далеко и быстро: ляп-ляп-ляп-ляп-ляп… Воздух, текущий за решеткой, создавал не звук, а вибрацию, которую воспринимали не столько уши, сколько все лицо. И камень вокруг тоже беззвучно подрагивал, как будто где-то недалеко шли поезда.
До города отсюда было двадцать километров. До ближайшей железнодорожной станции, до Тарасовки, еще пятнадцать.
Сегодняшняя экспедиция могла состояться только потому, что летний лагерь развернули в Лукошкином логу, при поливных полях. Отпластавшись на прополке три дня подряд, звено Артема заработало дополнительный выходной. И теперь в лагере были уверены, что они укатили домой, дома об этом, понятно, ничего не знали, да и не заботились особо… Родители были убеждены, что Леонидополь — самое безопасное место в мире. Они так и говорили друг другу: на все плевать, главное, что дети здесь в безопасности.
И в самом деле: по городу можно гулять хоть всю ночь, не опасаясь ничего. И оставлять двери открытыми. И открывать на любой стук и звонок, не спрашивая, кто там. Полицейскую службу несли две сорокалетние тетки, тетя Маруся и тетя Клава. Тетя Маруся на маленьком японском мотороллере объезжала иногда город, интересуясь, у кого какие проблемы, а тетя Клава сидела у телефона и вязала.
Артем вспомнил, как все начиналось: как долго ехали автобусной колонной, машина с мигалкой впереди, все уступали дорогу, а потом головной автобус, в котором сидел и он с родителями, остановился на крутом берегу над обрывом и загудел, и остальные автобусы сбились в тесное стадо и тоже загудели. Под обрывом была река, а за рекой, на том берегу, стоял настоящий город. Красные и желтые небольшие дома в центре, несколько белых многоэтажек по окраинам, а в отдалении — квадраты пятиэтажных серых, розовых и голубых коробок. Огромное количество деревьев и кустов, и даже местами на крышах и в окнах росли деревья. Артем знал, что отец с друзьями больше года приводили в порядок те дома, в которых им предстояло жить.
Мостик над рекой был узкий, пешеходный. По законам города, пользоваться в нем моторным транспортом позволялось лишь полиции. Даже бургомистр ездил в двуколке.
Когда-то в этом городке жило сорок тысяч человек, и звался он Петровск-69. Настоящий Петровск стоял почти в тысяче километров отсюда. Весь город работал на чем-то, что называлось Комплекс. В девяносто седьмом году Комплекс закрыли, что можно было вывезти — вывезли. Потом — взорвали входы, а воронки залили бетоном. За три года город опустел — и стоял пустой больше десяти лет, пока на него не положили глаз Артемов отец с друзьями. У них уже тогда возник план: уехать из больших городов и где-нибудь в глуши основать сельскохоку и жарят мясо, пьют пиво и яблочное вино — и поют песни, и обязательно эту:
"Ты, конек вороной, передай, дорогой, что я честно погиб за рабочих…"
Артем не заметил сам, как начал напевать. Шнур уже почти весь смотался, он вытащил из-под последних витков хвостик и привязал к нему хорошим встречным узлом конец второго шнура. Двести и двести — четыреста метров. А может, там ничего и нет? Тот же Васька Плющ рассказывал, что где-то в окрестностях его родного города есть такое странное место: ниоткуда, посреди чистого поля, вдруг начинается отличное широкое шоссе, идет-идет-идет — и так же внезапно обрывается. И такая же из ниоткуда в никуда железная дорога со стрелками и платформой…
Сейчас в Леонидополе жили две с половиной тысячи человек. Половина из них — дети.
Фонарь Артема стоял на земле, посылая широкий луч в потолок. Так можно было видеть все вокруг. И шевельнувшуюся в дальнем конце пещеры тень Артем хоть и краем глаза, да заметил.
Сердце стукнуло громко, потом замерло. Он протянул руку к фонарю, медленно обхватил его пальцами. И одновременно: повернул голову — и направил луч туда, в угол, сжимая его до узкого, почти игольчатого, пучка…
Ничего там не оказалось. Железные коробки, трубы, шланги, колеса, провода… Десять человек могло спрятаться за всем этим, и никто бы их не нашел.
Его вдруг охватила дрожь. Не от страха. Просто внезапно стало очень холодно в этом каменном мешке. Холода Артем не выносил, это все знали, это не было стыдно. Стыдно было трусить, а мерзнуть — это уже от организма зависит. Кубинцы, говорят, при двадцати пяти в толстых свитерах ходят… в хозяйственную коммуну. Они напечатали об этом статью, и отозвалось почти сто тысяч человек! Все хотели уехать, всем надоело дышать угаром, все устали от воров и бандитов. Но отец и его друзья написали еще одну статью, где объясняли, что в коммуне будут очень строгие порядки и что нарушение этих порядков будет караться изгнанием сразу и беспрекословно. Артем однажды оказался невольным свидетелем такого изгнания: отец еще был бургомистром, он пришел к нему на работу по какому-то делу — и случайно через незакрытую дверь услышал, как выгоняют одну женщину. Он не слишком понял, за что именно ее выгоняют, но слышал, как она кричала: "И куда я там пойду? На панель? И дочку за собой на панель потащу?!" И ей отвечали, что она была предупреждена, когда записывалась, что все имущество теперь общее, городское, она внесла свой пай, но забрать его права не имеет, а получит, как все уходящие, денежный эквивалент полугодового содержания и два комплекта одежды для себя и для ребенка… Артем тогда подумал, что это неправильно, несправедливо, но когда попытался заговорить на эту тему с отцом — получил такую взбучку (не ремнем, конечно, отец его и пальцем ни разу не тронул), что зарекся навсегда… Но все это было потом, а тогда — тогда автобусы стояли и гудели, и люди высыпали из них и кричали что-то, и размахивали руками, и обнимались, и говорили, что теперь-то начнется настоящая жизнь.
И вечером были костры на берегу, и пир, и танцы, и игры, и песни. "Там вдали, за рекой, уж погасли огни, в небе ясном заря догорала…" Непонятно почему, но эта песня стала как бы гимном города. Каждый год шестнадцатого августа, в годовщину основания, вот так же собираются люди на берегу, жгут костры, пекут картош… Да, маленькая Куба! — отец даже пристукивал кулаком по столу. — Да, на велосипедах. И так же, как там: недовольных не держим-с. Хотите жить по-нашему — живите. Не хотите — вот вам Бог, а вот порог. И все, и не будет иначе.
Артем правой вцепился в ручку топорика, в резиновую нескользкую ручку, в левой у него был фонарь, и он сделал несколько шагов туда, где все громоздилось и где опять мелькнуло что-то на границе светового пятна. Крысы, сказал он себе. Кто же еще, кроме крыс? Про подземных жителей — сказки…
Да, он сделал несколько шагов и вдруг остановился. Просто ноги не шли дальше. Не шли, и все. Это было просто смешно. Будто отсидел. Мурашки. Не слушаются. Он попытался сделать шаг, шажок… и тут за спиной раздался громкий прерывистый шорох!
И — подлинный ужас обрушился на него. Артем тихо пискнул — и долго, бесконечно долго не мог обернуться. Все страшные истории про жителей подземного города внезапно оказались втиснуты в этот шорох за спиной.
Он сам не помнил, как сумел обернуться. Катушка со шнуром прыгала по полу, и шнур слетал с нее быстрыми рывками.
Нет, все-таки правду говорят, что в четырнадцать лет люди ни черта не боятся. Артем упал на катушку — и буквально в последний миг успел остановить ее, не дать уйти последним метрам шнура. Катушка рвалась, шнур натягивался и пружинил — как-то не в такт: будто несколько человек отнимают друг у друга что-то, привязанное к этому шнуру. Потом, заглушенные расстоянием и препятствиями на пути, донеслись звуки драки, обычной драки: выкрики, удары… А потом закричала Ветка. И тут же — шнур ослаб. А Ветка кричала и кричала, и вдруг замолкла мгновенно. И уже ничего не доносилось из дыры, будто ее прикрыли чем-то. Артем крутил катушку, шнур шел легко, изредка цепляясь, и понятно было, что он оборван. Он намотал полную катушку, а узла все не было, и совершенно автоматически Артем перерубил шнур топориком, закрепил на пустой катушке и продолжал мотать. Он ничего не чувствовал. Вот проскочил узел. Значит, еще столько же…
Оказалось — значительно меньше.
Выбрав метров сто, он обратил внимание, что шнур начал лохматиться. Потом пошли куски, измазанные черным. Место обрыва было тоже все перемазано, разлохмачено — будто шнур перетирали напильником. Черное, попав на ладонь, оказалось красным. Артем поднес к лицу: это была кровь.
Из ватной тишины, пробив ее, долетел звук выстрела. И после этого все смолкло окончательно.
— Надеюсь, Толя, ты не станешь отрицать, что нынешняя цивилизация достигла некоего предела своего развития? — Стахов, нынешний бургомистр или, как это с недавних пор называлось, председатель горсовета, долил себе чаю из чайника и положил в чай ложку меда. — Мед у тебя — совершенство… Потребности создаются искусственно, лишь бы загрузить производство. Даже в России с ее традициями аскетизма — девять из десяти занятых в производстве людей производят черт-те что! Я даже не называю это предметами роскоши, потому что это даже не роскошь, а какой-то изврат. Телевизоры, которые сами выбирают для тебя программы. Они, видите ли, лучше тебя знают, что ты любишь смотреть. По три автомобиля на семью. Дорог проложили: жми, не хочу… куда, зачем? Никто не думает, не считает… Или взять эти, не к столу будь сказано, таблетки — чтобы говно приятно пахло. Ну, Толя! Это-то к чему? А ведь такого — миллион. И на все идет ресурс, а он ограничен. И вот если взять вдруг и обрубить то, что не нужно никому, что полнейшее излишество, — окажется, что один работающий способен прокормить, обуть, одеть и поселить человек сорок… Это раз. А два я уже почти сказал: ресурс ограничен, и вот-вот что-то случится — то ли нефть кончится, то ли перегрев начнется, то ли еще что похуже… И когда это произойдет, когда мы вмажемся с ходу мордой о забор — когда встанет во весь рост проблема чисто физического выживания, — тут и пригодится наш опыт. Никакой торговли, а честное распределение. Ничего лишнего, но все необходимое. И сверх того: подлинное равенство, подлинное братство и подлинная свобода. Всему приходит наконец-то время…
Краюхин слушал молча. Все это он не просто знал: он это и вывел. Теоретические предпосылки неизбежности прихода человечества к коммунизму. Рост производительности труда и ограниченность всех ресурсов планеты. Двадцать лет назад он написал брошюру. А. Краюхин, "Неизбежное завтра". Теперь вот этот дубок излагает ему основы его же собственной теории. Сейчас начнет делать выводы. Выводы первого порядка…
— …и чем большее число людей пройдет нашу школу, освоят науку жить в коммуне — тем легче, проще, безболезненнее вся страна сумеет сориентироваться в меняющихся обстоятельствах, тем…
— Ты демагог, Федор, — перебил Краюхин. — И, что хуже всего, ты неумелый демагог. Школу жизни нельзя пройти на наглядных примерах, и в человеческих катаклизмах бесполезен любой опыт. Ты думаешь, когда начнется это, мы будем иметь хоть какие-то преимущества перед остальными? Ты ошибаешься. Преимущества будут иметь те, кто сумеет превратиться в крыс или хотя бы в волков. Поэтому твое предложение бесполезно с одной стороны — и безусловно вредно с другой. Мы существуем до сих пор только потому, что держим жесткую оборону от окружающего мира и допускаем к себе одного из тридцати приходящих. Много званных, да мало избранных — это и про нас. Пока мы держим такую высокую планку, к нам стремятся лучшие. И из лучших мы отбираем самых замечательных. Опусти мы планку…
— Я не считаю, что мы должны менять критерии приема. Но помочь другим организовать коммуны по примеру нашей…
— Никому нельзя помогать, — сказал Краюхин. — Никому. — Он заглянул в чайник, покачал головой, встал. Стахов дернулся было помочь, Краюхин махнул на него рукой. Кипяток в кубе еще был. Он заварил покруче, набросил на чайник полотенце, вернулся, сел. Стул тяжело скрипнул. — Помогать нельзя. Мы — это опыты природы над человеком, понимаешь? Над человеком, над обществом. Ты что, уверен, что мы избрали наилучший вариант развития? Я — нет. Пусть другие упираются и изобретают. Не будем мешать…
— Тогда я не понимаю, как ты мог, не будучи уверенным в своей правоте…
— Мог, — Краюхин пристукнул по столу кулаком. — И смогу еще, если потребуется. Я уверен в нашем деле в целом, — сказал он, смягчаясь, — и именно поэтому не уверен в каждой отдельной детали. Если угодно: я могу позволить себе сомневаться в деталях потому, что абсолютно убежден в целом. У тебя, как я понимаю, противоположные проблемы…
— У меня просто другие проблемы, — сказал Стахов, не обижаясь. Его вообще было трудно обидеть — такой он был упругий и кругленький. — Завтра приезжают два козла из Всемирного совета церквей. С ними, естественно, помощник губернатора, из наробраза, из земства… Короче, засада. Опять будут подводить нас под "тоталитарную секту"…
— Старая песня.
— Однако поется…
— Им просто больше нечем нас припереть — а припереть хочется. Давай, я с ними встречусь? Скажу, что коммуна создана по образцу раннехристианской: там тоже полагалось отдавать все имущество при вступлении. Просто у нас либеральнее: там за попытку выхода из общины карали смертью, а мы выдаем подъемные для обустройства на новом месте…
— Ты скажешь… — Стахов помрачнел. — А это правда — про кару смертью?..
— Читай "Жития Святых". А что?
— Да ходят какие-то дурацкие слухи… Маруся рассказывала. Будто бы мной — мной, представляешь! — создан какой-то "эскадрон смерти", который выявляет тех, кто хочет бежать, и убивает их. Будто бы это еще с Мирона началось…
— О черт! — Краюхин отодвинул чашку. — Опять. Тогда болтали, будто я Мирона утопил, теперь… А кто болтает, Маруся не выяснила?
— Языки все равно не отрежешь, — махнул рукой Стахов. — Обидно. Не буду я на новый срок заявляться.
— Значит, те, кто сбежал, — не сбежал, а убиты? — задумался Краюхин. — Сколько их у нас было?
— Семеро за последний год.
— И на их счет никаких сомнений?
— Абсолютно. Разве что Соня Красулевская…
— Напомни.
— Прошлым летом. Поехала из города в детский лагерь и не доехала. Хватились только через три дня, искали — ни самой, ни велосипеда, ни следов каких-нибудь. И дома все цело. Другие, если помнишь, вещи забирали. Но у Сони два брата в Барнауле, да и сама девка такая, что нигде не пропадет. С другой стороны, ни с кем никогда ни полслова о том, что ей тут не в масть. Вот — казус…
— Красулевскую я вроде бы помню, — кивнул Краюхин. — Все с ребятишками возилась. Жалко, если с ней что случилось.
— Вот. А болтают, что это я, значит…
— А не ты?
— Толя, ты бы фильтровал базар…
— Извини. Просто люди логичны и злопамятны — что удивительно сочетается у них с полной алогичностью и отсутствием какой-либо памяти вообще. Коммунизм и чека — близнецы-братья, это вбито с детства. Эрго…
— Но у нас же нет никакого чека!
— Следует создать, или оно возникнет само. Вернее, она. Комиссия. Если уже не возникла.
— Что?!
— Ты ведь меня понял, Федор. И, думаю, сам догадывался. Короче, нам нужно очень быстро собрать несколько умных и энергичных ребят — и расследовать эти случаи исчезновения с точки зрения возможных убийств. Все это воняет, Федор, и никакие таблетки…
— Я тебя не понимаю, Толя, честное слово. Говори проще, прошу тебя.
— И не говори красиво… Я подозреваю, что где-то в нашей среде созрело тайное общество, взявшее на себя обязанность карать отступников состоявшихся или потенциальных. Вот так.
— Но… зачем это?
— Может быть, им кажется, что мы живем недостаточно праведно. Ты же вот хотел помочь новым коммунам. А может быть, они хотят сэкономить для общины пару-тройку рубликов. Или приучить всех к мысли, что законы следует блюсти: положено уходить голым — уходи голым. Или они просто маньяки.
— Да ну тебя…
— Федор, я не шучу. Это самая большая опасность, с которой мы сталкиваемся. Если позволишь, я завтра же передам транспортный парк Зайчику — и займусь этим делом сам.
— Но ведь надо как-то посоветоваться…
— Ни в коем случае. Полная, кромешная тайна.
Солнце уходило, и небо меж полузадернутых штор было медно-медовым. Пологий луч, пролетевший уже под кронами сосен, заглянул в забытое на подоконнике зеркало и лег, умиротворенный, на стену, на старый плакат турбюро "Тропа", где семилетняя Алиса изображала счастливую альпинистку на снежной вершине, и другая Алиса, трижды семи и еще чуть-чуть, подняла руку и задумчиво обвела солнечного зайчика по контуру пальцем, и снова обвела, и снова…
— Ты думаешь о чем-то? — спросил Золтан тихо.
— Не знаю… — Алиса повернулась к нему и, выпятив губу, дунула на упавшую на глаза прядь волос. — Жалко, что уже вечер.
— Жалко, — сказал Золтан. — Это был хороший день.
Это был первый день, который они пробыли вдвоем весь: от восхода до заката. Жена Золтана, Мирка, еще затемно уехала с Келли и Ивановыми на базар в Тарасовку — продавать молодую картошку. Вряд ли они вернутся до полуночи, и все же…
— Надо подумать, как тебя незаметно выпустить, — сказала Алиса зачем-то, нарушая ею же учрежденное правило не говорить вслух о сложностях этой любви.
Золтан сел, потянулся за одеждой.
— Подожди, — выдохнула она. — Еще рано… Не уходи. Не хочу так.
Он молча обнял ее, прижал к себе. Алиса положила ему руку на грудь, провела по черным, с сильной проседью, волосам. Золтану было тридцать восемь, просто он рано поседел, как это часто бывает у балканцев.
— До сих пор изумляюсь, что ты такой смуглый, а я такая светлая, — Алиса тихонько засмеялась. — Дружба народов, смотри… — они переплели пальцы рук, и вышло, как на плакате из музея.
— Я тебя по-настоящему люблю, — сказал вдруг Золтан, тоже нарушая запрет на это страшное слово. — Я тебя люблю, и надо что-то делать, потому что больше так нельзя жить…
Алиса покачала головой, и он плечом поймал это движение.
— Даже в самом крайнем случае — мы уйдем вместе, и все. Неужели мы не проживем в большом мире? Я ведь умею много всего, я просто умею работать, наймусь строителем…
— …и будешь приходить домой грязный и усталый, после двенадцати часов на ветру, и падать на диван, и съедать не глядя то, что я тебе подам, и засыпать перед телевизором? Милый, я видела все это… Знаешь, что я тебе скажу? Если меня вдруг выгонят отсюда — а к этому идет, вот в чем беда… если выгонят — я повешусь прямо на перилах моста. Меня слишком круто брали в оборот, чтобы я хотела туда вернуться. По крайней мере, не в этом году. И не в следующем. Может быть, через пять лет. Может, никогда. Понимаешь?
— Я тоже там жил, — Золтан погладил ее по голове. — Скитался. Как цыган: без родины, без документов. Ничего нельзя. Детей кормить нечем. Воровал. Ты знаешь.
— Ты не был рабыней.
— Не был. Это так…
Алиса пробыла "рабыней" три года: ее сдавали внаем богатым суданцам, арабским шейхам, бухарцам, филиппинским купцам, чеченским нефтяным князькам… С нею можно было делать все, что угодно, — кроме как убить, конечно. За убийство с нанимателя спросили бы так, что потом и следа бы его не нашли. Впрочем, настоящий садист ей попался только однажды, перс с безумными глазами. Остальным просто было лестно иметь белую рабыню…
— Знаешь, — сказала вдруг Алиса, — мне страшно за наших детей. Здесь они вырастают, как птицы в дому. Ну, умеют они построить дом, сложить печь… Разве же это нужно уметь там? Представь себе, что с коммуной что-то случится. Разгонят, сама распадется. И что будут делать они, приученные к любви?
— Многие погибнут, — сказал Золтан неожиданно спокойно. — Многие выживут. Кое-кто добьется успеха.
— А твоя Ветка?
— Выживет, но успеха не добьется. Успеха с точки зрения большинства, — пояснил он. — У Ветки может оказаться свое понимание успеха.
— Ты страшный человек, Золтан, — сказала Алиса. — Из темного камня. Как Командор. Его шаги… Слушай, — она привстала. — Почему дети чего-то боятся? Они что, предчувствуют то, о чем мы говорим?
— Может быть, — Золтан кивнул. — А может быть, им не хватает настоящего страха, и они придумывают страшилки. Когда я был маленьким, все безумно любили фильмы ужасов. А когда пришел настоящий ужас, их разлюбили. Взрослые у нас тоже боятся, ты заметила?
— Да. В учительской сплошное шу-шу-шу, кто-то войдет внезапно — и все замолчали. Неприятно. Куда-то пропадают собаки. Вчера, например, пропала собака директора… Я боюсь, что меня выгонят из коммуны за аморальную связь с женатым человеком. Я этого боюсь так, что на собак мне наплевать. Говорят, что Стахов завел тайную гвардию и убивает тех, кто хочет тайно убежать. Убивает, понятно, тоже тайно. Поэтому все об этом знают. По-моему, чушь. Стахов может только размахивать руками и кудахтать, а не ходить ночами с топором по городу. Не та порода. Вот ты бы смог. Может, это ты их и убиваешь?
— Да, — сказал Золтан. — И тут же съедаю.
— Без соли? — ужаснулась Алиса.
— У меня соли — два мешка.
— А собак?
— Собак я отдаю прислуге, — сказал Золтан. — А прекрасных юных женщин съедаю сам.
Он медленно приподнял верхнюю губу, обнажая ослепительные зубы, и Алисе на томительный миг стало сладко-страшно, как в самом давнем детстве, когда ждешь появления из шкафа лохматого чудища… Но у Золтана не оказалось вампирьих клыков, и она припала к его губам, вздрагивая от нетерпения…
Ветка брела по штольне, пригибаясь, когда свисавшие с кабелей лохмотья касались лба. Фонарь уцелел, но она избегала включать его надолго. Осветить путь, убедиться, что ям и препятствий нет, — и тихо-тихо вперед, вытянув руку и касаясь плечом стены. Левая рука, то ли сломанная, то ли вывихнутая, болела так, что из глаз сыпались искры. Ветка сделала, как учили: вытащила, скуля, эту руку из рукава, потом надела куртку поверх, застегнулась и подпоясалась. Прижатой полою руке было лучше, но все равно…
Может быть, из-за этой боли все было как в тумане и казалось то ли очень давним, то ли вообще выдуманным. Ветке временами приходила в голову мысль: а было ли все это? Даже не так: произошло именно это — или что-то другое, а просто показалось, что это? Потому что на самом деле этого просто не могло быть…
…Они шли мимо бесконечного состава из длинных зеленых вагонов с маленькими окошечками под самой крышей и выдавленными на боках старыми гербами и буквами, уже облупившимися: "МПС СССР". Двери вагонов были закрыты и заперты, и стандартный железнодорожный ключ, захваченный предусмотрительным Сегой, их не отпирал. Там стояли совсем другие замки. Почти неожиданно попался вагон с нормальными окнами. Они остановились, и Сега стал предлагать одно окно разбить, залезть внутрь и посмотреть, что там есть. Просто потому, что иначе останется только возвратиться ни с чем. И тут раздались явственно шаги по крыше, они подняли головы, стали смотреть вверх…
Набросились сзади. В мечущихся лучах Ветка успела заметить маленьких, будто бы семи-восьмилетних ребятишек, голые грязные тела. Но они были сильны и проворны, как собаки, они налетали молча к вцеплялись зубами, и почему-то тоже молча отбивались мальчишки. Ружье Сеги упало под ноги, и он никак не мог подобрать его. А потом, как-то отдельно, Ветка увидела Фрукта, лежащего на спине, — его прижимал к земле такой вот голый и, часто-часто работая челюстями, перегрызал ему горло. Фрукт молотил его кулаками, бессмысленно сучил ногами — все это почему-то в тишине, только сопение и мягкий хруст. Луч перелетел на Сегу: Сега, прижавшись к стене, отмахивался еще, но одной руки у него не было по локоть, а перед ним и спиной к Ветке стоял зверь покрупнее остальных — и замахивался на Сегу чем-то вроде большого серпа. Он не успел ударить: другой зверь, маленький, быстрый, весь в крови, метнулся к Сеге и вцепился зубами в пах — и, резко мотнув головой, все ему, наверное, там оторвал. Сега упал на колени, запрокинул голову — и большой зверь ударом медленным и плавным перерубил ему горло. А потом было что-то запутанное: они гнались за нею, все вместе, хватая и цепляясь, но их зубы и когти соскальзывали с кевларовой курточки, которую она носила, просто выдрючиваясь. Несколько шагов длилась эта погоня, а потом под нею что-то подломилось, и она полетела вниз, вниз… ватно ударилась обо что-то, услышала хруст и поняла: конец. Но — встала, ощупала себя: да, жива, почти цела, и те за нею почему-то не полезли… При свете фонаря осмотрелась. Над нею была узкая труба, в которую она и провалилась. Скоб, чтобы вылезти, не было. Она уцелела потому, что давным-давно кто-то составил под этой трубою пирамиду из пустых ящиков — хотел, наверное, выбраться. А может быть, и выбрался. Будь обе руки целы, можно было бы попробовать повторить этот подвиг. Подняться распорочкой.
Если, конечно…
Грохнул выстрел, и жакан врезался в обломки дощечек у ее ног. Она отпрыгнула. В локоть будто бы воткнули оголенный провод. Под током. Она подавила крик, но рвоту подавить не удалось…
Позже, пристроив более или менее руку, она двинулась по штольне к выходу. Почему она решила, что выход в той стороне, она сказать не смогла бы. Штольня. Или дренажная труба. Или кабельный канал. Время от времени появлялись боковые ходы, и все новые и новые кабели, гладкие или разлохмаченные, выходили из них и присоединялись к тем, что устилали потолок и стены. Можно было понять, что она приближается к центру, но… Она поняла, конечно. Потом. И изумилась, что была такой дурой. Даже с поправкой на боль и страх. Шагала, как заведенный человечек. В полной уверенности.
Между тем нарастал какой-то шум: будто в морозной дали шел бесконечно длинный поезд…
Артем не помнил многого: как вылетел наружу, под ливень, как сунулся в раскисшую глину (ноги измазаны выше колен — хорошо, что-то сумел сообразить, не полез дальше), как выволок зачем-то рюкзак и как потом вернулся за фонарем… С фонаря он и обрел себя вновь.
Тонкий конус света кончался овальным пятном на стене. Почему-то именно это пятно сказало ему: возвращаться нельзя ни в коем случае. Не просто потому, что нельзя вернуться: болото и все такое — нет, не поэтому. Как-то иначе. И даже не потому, что за такое его должны выгнать из коммуны — а значит, выгнать отца, а уж это-то совершенно немыслимо. Он ее придумал и основал. Его нельзя выгнать… но нельзя и не выгонять, потому что какой же тогда закон? Значит, и поэтому нет пути назад. Но — и еще почему-то… Артем понял вдруг, что не ушел бы, даже если бы этих причин не было.
Может, они еще живы? Кто-то же выстрелил много позже, когда все уже кончилось.
Но ведь не пролезть! Даже если раздеться догола…
Это была мысль.
Он уже расстегнулся, но приказал себе: стой. Не торопись. Ничего не забыл?
Оказывается, забыл все.
Топор в рюкзаке, а значит, снаружи. Дальше: взрослых нужно вызвать, чем бы это ни грозило. Сделать это можно с помощью все того же фонаря, серьезная машина, не зря туристы-прямоходы за него по полторы сотни отваливают. Тут вам и любой свет, и электроподогрев спальника, и радиобуй. Пробить мембрану, развернуть антенну-зонтик, нажать кнопку. И на диапазоне спасателей в эфир пойдет: "Мэйдей, мэйдей, мэйдей…" Взять координаты легко. Но тогда…
Тогда придется идти без света.
Есть, правда, ночные очки. Они неудобны, натирают переносицу, для них все равно нужен какой-то свет — хотя бы свет звезд. Это вам не инфракрасные, нет. С другой стороны, говорят, что в подземельях инфракрасные бесполезны, потому что там все одинаковой температуры.
Выхода нет?
Почти.
Потому что есть спички, а еще рефлектор с фонаря снимается — и провода, кажется, хватит…
Итак, получилось: сам фонарь под дождем снаружи, антенна развернута, сигнал бедствия идет в эфир — а лампочка с рефлектором на тонком длинном проводе просунута в "крысиную нору", светит — и будет светить еще долго. Сейчас Артем пролезет туда, установит самый тонкий луч, направит вдоль туннеля — и, если туннель прямой, то и в километре отсюда в ночных очках будет что-то видно.
Он в последний раз выбрался наружу, постоял под дождем, чтобы намокнуть и стать скользким, мазнул для того же раскисшей глиной плечи — и полез обратно. Дождь показался ему необыкновенно теплым.
На пульте диспетчерской уездной спасательной станции включился дисплей, и длинноногая блондинка с бокалом в руке сказала, придыхая:
— Вы! Мужчина! Или вы так и проспите все мансы?
Она бросила в бокал окурок черной сигареты, внимательно посмотрела на то, как прозрачное вино становится буроватым и пенистым, быстро проглотила эту жидкость и превратилась в лягушку.
— Вставай! — завопила лягушка. — А то я и тя щас в чё-нить преврашшу!
Митяй не спал, конечно, но и открывать глаза ему не хотелось.
Блондинка на дисплее была из его сна, компьютер умел вытворять подобные трючки, и было бы интересно досмотреть все до конца — но тогда завтра не расхлебать кашку, потому что Петр Петрович на расправу скор и склонен к рукоприкладству. И потому Митяй подал голос:
— Здесь.
На дисплее тут же возникла дама учительского вида.
— Господин дежурный, только что получен сигнал "мэйдей" из квадрата "Григорий-семь". Передатчик стандартный типа "Аргон", к спонтанному включению подобная система не склонна. Отсутствие текста сообщения и подписи под сигналом заставляет предположить, что пользователь находится в экстремальной ситуации. В квадрате "Дмитрий-шесть" расположен детский лагерь коммуны "Леонидополь". Сопоставляя…
— Карту, — сказал Митяй.
Дама сместилась в уголок, на дисплее высветилась карта.
— Поскольку приемник-пеленгатор в Тарасовке находится на профилактике, а прохождение спутника "АТОН" состоится лишь через три часа, погрешность в определении точки передатчика составляет…
— Вижу, — сказал Митяй.
Местность была еще та. Компьютер определил район, из которого мог быть получен сигнал, и получалась "бабочка" с размахом крыльев почти в двадцать километров. Почти все это — непроходимая тайга, сопки, бурелом… Нужен еще один приемник, а это значит — поднимать вертолет… Ну-ка, давай пока логически: если это дети, то куда именно они могли забраться? Вот здесь скальная стенка. Устроили восхождение и зависли? Ни хрена эти коммунары за ребятишками не смотрят. Сколько гусей на Смирновском хуторе сперли — не сосчитать. Главное, ночами. И собаки, что характерно, их боятся. Наверное, с "пищалками" ходят, гады мелкие…
Ладно. Скалы. Что еще? Болота? Это здесь и здесь. Хрена им делать на болотах? Гусей там нет…
А если здесь? Мальчишки любят развалины… Да, засыпало или прищемило.
Стоп. Если бы дети пропали, те бы уже давно в набат ударили. И Петр поставил бы уже всех на уши. Набата нет. Значит?..
Ничего не значит. Могли просто не хватиться. Двадцать три двадцать. Время детское.
Что это ты на детях защемился? Может, это пастух ногу сломал? Или дурной турист-прямоход забрался, а выбраться не может… взяли моду линию на карте провести, и по ней, ни на метр не отклоняясь… бред.
Нет, был бы текст сообщения. А детишки могли просто не знать, что так можно сделать…
Куда их черт занес?
Под землю, будто подсказал кто-то. Митяй даже оглянулся.
Под землю… под землю… Тут все изрыто, как в муравейнике. Петр говорил, что объем здешних подземелий впятеро больше, чем объем московского метро.
А входов! А выходов! А вентиляционных шахт и прочих хитрушек! Все заделаны, да. Но ведь — капля камень точит…
И уже почти с уверенностью он посмотрел на то место на карте, где обрывалась, уходя в туннель, железнодорожная насыпь — размытая, затонувшая в болотах, кое-где просто разобранная, чтобы не мешала.
Восемь километров по прямой было от этого места до детского лагеря.
— Артемида, — сказал он компьютеру, — а соедини-ка ты меня, голубушка, с леонидопольским бургомистром. И заодно — прикинь смету на вертолет по нонешней погоде…
На том конце провода отозвались сразу.
— Стахов слушает.
— Здравствуйте, Федор Иванович, спасательная служба вас беспокоит, дежурный Брешков. Получен нами сигнал бедствия, и получен с земель, которые вам отведены. Неподалеку ваш летний детский лагерь. Похоже, что ребенок сигнал послал, поскольку сумел лишь антенну вытащить и кнопку нажать. Так что решайте: вертолет мы выслать можем в течение часа, и будет это вам стоить… — Митяй скосил глаза на дисплей, — будет стоить пять тысяч четыреста двадцать девять рубликов в час плюс две тысячи за посадку вне аэродрома. Так что вот.
— Понятно. Подождите минуту, я позвоню в лагерь, узнаю, что там и как. Вы уверены, что это ребенок?
— Нет, конечно. Это предположение.
С некоторым опозданием бургомистр появился на экране. Митяй смотрел, как он разговаривает по другому аппарату. "Ага. Понял…" и чуть позже, Митяю:
— Подождите минуту, я еще проверю…
Характерный звук набора номера. "Толя? Тёмка из лагеря вернулся? Нет? Видишь ли… в лагере его тоже нет. Якобы уехал домой. Да. С ним дочка Золтана, Петров-младший и племянник Башкирцева. Люсе не говори пока, может… да. Прямо сейчас". И Митяю:
— Есть пропажа. Вылетайте, ваш счет оплатим. Спасибо.
— Вылетим в течение часа…
Но в течение часа не получилось — такой был ливень. Лишь в два пополуночи вертолет с четырьмя спасателями на борту взлетел с аэродромчика Тарасовки и направился на слабый, замирающий сигнальчик. В воздухе четкая триангуляция была проведена, и Митяй поздравил себя: его догадка была абсолютно верной. Сесть вертолет не смог, спасатели спустились по лееру. Перед стальной заслонкой, закрывающей вход в туннель, стоял радиобуй. От него уходил провод — в щель между скалой и заслонкой. Протиснуться туда не удалось. Зато дотянулись до записки на развернутой картонке из-под термитных спичек: "Туда ушли Иветта Тадич, Вадик Петров и Сергей Башкирцев. Иду за ними. А. Краюхин".
Медленно наступало утро.
Чека в Леонидополе, конечно, не было. Но у Краюхина была группа старых друзей, восемь человек, а у друзей были свои друзья… Раз в месяц эти друзья Краюхина собирались у него на вечеринку — а что делать приличным людям, не телевизор же смотреть, не суету эту безумную? Пристойно выпивали, пристойно закусывали, пристойно пели песни под гитару… Так что Краюхин был всегда в курсе всех проблем коммуны. Знаниями своими он не злоупотреблял и не вмешивался в события по пустякам. "Лучшая полиция — это та, которой как бы нет, а преступников Бог наказует…" За годы существования коммуны лишь одного излишне пылкого ленинца пришлось тихо придушить его же подушкой, да нескольким смутьянам-ворчунам подбросить в дом чего-нибудь этакого… Дедушку-коммуниста похоронили с почетом, смутьянов изгнали с позором. Коммуна жива.
Сейчас собрались внепланово. Вспоминали, было ли что тревожащее вокруг тех сбежавших — или исчезнувших? Не было, вот в чем фокус… Ну, бурчали иногда: было лучше, или это не так, или вообще: зря залезли в эту яму, теперь обратно нет ходу… Но ведь многие бурчат, когда можно. Такие вот пожилые, вялые, ни с кем не дружные, бездетные (или дети отдельно), одинокие… Одно было общим для всех: жили на отшибе, без соседей, и хватились их не сразу. Почему-то лишь сейчас пришло в голову: да мог ли, например, старик Панкратов утащить на себе ту гору поношенной обуви, которую ему накануне привезли для сортировки и обновления? Или чета Ахматишиных, у которых одной зимней одежды был полный сундук? Непонятно…
После звонка Стахова Краюхин на минуту окаменел и так и сидел, неподвижный, не понимая речи людей — и все, кто на него смотрел, тоже замирали и замолкали. Сейчас, сказал он наконец и вышел.
В ванной — плеснул в лицо холодной, уставился в зеркало. Там был кто-то незнакомый со страшными глазами. Тот, в зеркале, уже знал и понимал все, а Краюхину это еще только предстояло.
Он вернулся, сел за стол, повторил: "Сейчас…" — и закрыл лицо руками. Не головами мы думали, нет… Шесть человек исчезли из квартир. Соня — по дороге в лагерь. Собак пропало — не счесть. Воют они ночами, боятся, смертно боятся… И вот, дождались — четверо ребятишек. Артем. Да. И Артем среди них. И Артем. Он повторил это несколько раз, пытаясь пробить в себе какую-то корку. Или стену. Или вообще расколоть себя на части…
— Боря, — он повернулся к одному из помощников. — Сделай два крытых джипа. Сию минуту. Дети пропали. Поехали из лагеря… Да! И Золтан… — он схватил телефон и набрал номер. — Золтан, дети пропали. Наши. Да. У меня, через пять минут. Возьми Веткиных собак.
Башкирцеву он звонить не стал: старик болен, а сестра его Люся, как известно, лучший дезорганизатор из всех, живших когда-то. Может, все обойдется. Потом — набрал номер Алисы.
— Алиса Витальевна, это Краюхин. Дети пропали. Ваш братишка в том числе. Сейчас. От моего дома. Да.
Он бросил телефон. Все стояли: в плащах, в сапогах. Дождь на улице. Какие собаки, что вы…
Лишь с дороги он догадался позвонить Стахову, потом спасателям.
Сигнал бедствия…
— В пещеры полезли, сволочи…
Вытащим и из пещер. Из-под земли достанем.
И по задницам, по задницам…
Живых.
Она, наверное, уснула. Потому что — проснулась. На часах было 02:20. Левый локоть распирало так, что казалось — лопнет. Пальцы, торчащие из-под полы, стали толстые и гладкие, как сардельки. Но боль будто бы утихла. Если не шевелиться. Но шевелиться надо, потому что очень хочется пить. Большая бутылка газировки была у Фрукта — одна на всех. Туристы…
Говорят, без воды можно протянуть дней пять.
Но эти — берут же где-то воду! И — шумит! Что же это шумит? Ах, Ниагарский водопад…
Ветка стала приподниматься, цепляясь за кабели — и вдруг замерла. Она видела свою руку и видела кабели! Фонарь выключен…
— Только не зажигайте света, девушка, — сказал кто-то сзади, и она чуть не заорала. — Вы же не хотите, чтобы я ослеп?..
Она медленно обернулась. И увидела: огонек свечи и руку, держащую свечу. И — красноватый отсвет будто бы кошачьих глаз…
— Вы… кто? — в два приема выдохнула она.
— Живу я здесь… — и носитель свечи меленько рассмеялся. — Можете звать меня Айболитом…
Дурак, не оделся… дурак, не оделся… Артем медленно бежал, старательно вглядываясь в вагоны и в то, что под ногами. Очки давали гораздо лучшее изображение, чем он рассчитывал. То есть — почти все видно. Контурно, слишком контрастно, но отчетливо. Двести шагов, триста, триста пятьдесят… где-то здесь, скоро… Вначале он увидел провалившуюся решетку в полу — такие решетки несколько раз встречались на пути. А потом… потом запахло кровью. Он как-то сразу понял, что это пахнет кровью.
На гравии кровь была почти не видна. Мало ли какой мазут пролили… Но Артем шестым чувством — может быть, тем самым, которое помогало ему обходить топкие места, — схватил: это было здесь. Опустился на корточки. Тронул камешки пальцем. Липко и мокро…
Шорох раздался сверху и за спиной. Артем, даже не распрямляясь, кувыркнулся вперед — а когда вскочил, топор в отведенной руке уже наготове… Двое вышли из ниши в стене туннеля. Еще кто-то шевелился наверху, и Артем отступил на шаг, прижавшись спиной к стенке вагона. Ног он не ощущал…
— Ты кто такой? — спросил пискляво один из тех, что стоял у стены. — Мы тебя не видели. Ты за ними шел?
— За… кем?
— За неправильными. Сюда зашли три неправильных гада с источниками тьмы. У Драча до сих пор не видят глаза. И болят.
— А где они теперь?
— Это наша добыча. Да. Наша добыча. Что у тебя вместо глаз?
— Вы их поймали? Или убили?
— И поймали, и убили. Добыча. Завтра будет еда. Что у тебя вместо глаз?
— Я следил за ними…
— Это вещь, чтобы следить?
— Да. Зачем вы их убили?
— Мясо. Хорошее свежее мясо. Лучше собак. Ты хотел сделать другое?
— Да. Но теперь…
— А что ты хотел сделать?
— Я не могу этого сказать.
— Ты должен сказать. Ты человек света. Значит, наш брат. Родом откуда ты, брат?
— Я… я из коммуны.
— Где это — коммуна?
— Это не очень далеко… но надо идти через верх.
— Через тьму?
— Да. Через тьму.
— Мы умеем ходить через тьму.
Источник тьмы, подумал Артем. Идти через тьму. Он вдруг понял все.
— А как у вас в коммуне живут люди? Вы тоже готовитесь?
— Конечно.
— Ваш Наставник кто? — так это и было произнесено — с большой буквы.
— Краюхин, — гордо сказал Артем. — Нашего Наставника зовут Краюхин. Я его сын.
— Ты — сын Наставника? И ты просто так ходишь, один?.. И следишь за неправильными?
Артем почувствовал вдруг, что внутренняя исступленная дрожь вот-вот выплеснется в наружную трясучку, и тогда все. Запрыгала нога…
— Я устал, — сказал он капризно. — Хочу сесть.
— Садись, — разрешили ему.
— Я сын Наставника, — он оглянулся, демонстративно посмотрел назад и вниз. — Мне нельзя сидеть на твердом.
С Алисой уже было так — и в лапах того полубезумного перса, и потом… нет, об этом нельзя вспоминать, нельзя! — когда она сжималась и пряталась внутри собственного тела, и тело от этого становилось деревянным, бесчувственным. Даже удары гасли в нем… Прыжки машин, клекот моторов, мокрые плечи угрюмых мужчин… заросли, ржавые рельсы, грязевое море без дна… дождь, дождь. Дождь. Краюхин, стальной несгибаемый столп, телефон у щеки и генеральский уверенный баритон, но лицо почему-то будто вдавлено внутрь, и вместо глаз — лужицы страха. Потом — полощущийся прерывистый свист, светящийся марсианский треножник бродит где-то вдали…
С рассветом приходят танки. Две пятнистые машины с воем проламываются сквозь осинник и останавливаются на краю бездны (почему-то именно бездной видится Алисе грязевое море, будто не глиной оно полно, а жидким стеклом, прозрачным желе, медузным студнем… и так — до центра Земли) — и сухой, как хворост, офицер — черная куртка и черный берет с трехцветной кокардой, подходит быстрым шагом к Краюхину и бросает руку к виску:
— Штабс-капитан Саломатов по приказу командира сто сорок восьмой резервной дивизии прибыл в ваше распоряжение!
И именно с этого момента Алиса возвратилась в себя. Не сразу, не сразу… Голос у офицера сухой, как он сам: "Штапс-капитан Саломатоффф…" Она его помнит: лагерь резервного полка рядом, и офицеры — частые гости в лео-нидопольских школах. А мальчики, соответственно, — в дивизии. И она, учительница, с ними. Веселые молодые офицеры, гоняющие по полигону резервистов. Те — рады стараться: день на свежем воздухе, в движении, в игре и азарте. Раз в месяц — кто же против? Лишь в августе на три недели дивизия собирается вся, и тогда в Леонидополе бывают бессонные ночи, потому что грохот на полигоне и зарево на полнеба. Но с этим уже ничего не поделать…
Танки на воздушной подушке, грязевое море им нипочем. Золтан крепко держит Алису за талию, прижимает ее к себе. Здесь можно, здесь мотивировано. Воют турбины, ветер в лицо, ничего нельзя сказать — но и не надо почему-то. Все ясно и так…
Шесть часов утра.
Все еще дождь.
Ты в плену, окончен бой. Под тюремною стеной ходит мрачно часовой… Надо что-то делать. Надо что-то делать. Надо что-то делать…
Это просто шепчет кровь в ушах: надо что-то делать…
И я не в плену. Я просто не знаю, как выйти отсюда.
Айболит…
Ветка потрогала гипс. Сухой и звонкий. И с рукой он сделал что-то такое, что она занемела вся. Хруст косточек потом был как-то сам по себе. Не рука, а посторонний кусок мяса.
Кусок мяса…
Он меня им не отдаст. Не отдаст.
Просто потому, что… не отдаст.
И все.
Она открыла глаза. Закрыла. Открыла опять. Все-таки есть какая-то разница…
Зачем это все? Вообще — зачем мы полезли сюда? Ведь не хотели же, никто не хотел! И — как-то умудрились уговорить друг друга, взять перекрестно на "слабо"…
И в результате: "Билл, мне почему-то кажется, что мы оба наелись говна бесплатно…"
Артем сообразит вернуться за помощью. Не испугается. А я — испугалась бы, полезла бы сама…
Что сейчас? Утро, ночь, вечер? Часы Айболит отобрал… Часы, фонарь, спички, ремень. А курточку оставил. Не догадался, что не простая эта курточка, что не берет ее ни нож, ни пистолетная пуля.
Айболит… ну-ну. Всех излечит-исцелит.
Странно — совсем не хочется есть. Она подумала так, и тут же желудок свело болезненным спазмом. То ли голодным, то ли рвотным.
Когда ей было пять лет, она чуть не умерла от чего-то подобного: не могла есть, потому что от запаха пищи ее рвало.
Сама не помнит, конечно, — мама рассказывала. Они бежали от турок через горы, в снегу по грудь… а турецкие самолеты ходили над головами, стреляя ракетами по малейшим скоплениям беженцев. Это она помнит, но как-то почти празднично: невообразимо синее небо, и в нем тонкокрылые птицы, посылающие из-под крыльев куда-то вперед ослепительные огненные шары. Есть она не могла: плакала при виде куска хлеба. Какие-то добрые греки сумели обмануть ее: поили молоком во сне. Так и выжила вот…
Айболит… И корова, и волчица. Кто я? Часы-то зачем надо было отбирать?..
Витя Чендров, помощник дежурного электрика, шестнадцати лет человек, ушел с дежурства не в восемь, как положено, а в шесть с копейками — с позволения, разумеется, своего шефа Василия Дмитриевича. Версия рыбалки по ранней зорьке была шефом равнодушно принята, хотя вопиюще не соответствовала объективной законной реальности. Шефу не было резона задерживать своего помощника уже хотя бы потому, что толку от него было чуть. Да и предполагал шеф (без малейших к тому оснований), что Витя один из тех неприметных героев, которые помогают руководству держать руку на пульсе. Хотя бы по этой причине — пусть его гуляет… сам по себе. Василий Дмитриевич по уши хлебнул тех "золотых семидесятых", о которых так любили поговорить в коммуне. Сам он помалкивал — именно в силу того, что хлебнул. Пусть их…
Пусть.
А Витя не был стукачом и даже не подозревал, что такие бывают. Витя был человеком с ветром в голове, живущий одним днем. Сейчас он любил Эльвиру, кладовщицу на мучном складе, рыжую хохотушку двадцати лет. Она приходила на склад в пять утра, отпускала муку пекарням — и до девяти была свободна, если никем не была занята. Сейчас, например, она была занята Витей. Там, за штабелями с мукой, она расстелет покрывало…
Неподалеку от склада стоял под дождем без зонта какой-то пацан, странно одетый. Босой, куртка с чужого плеча, черная шляпа и черные очки на морде. Причем очки, кажется, не просто так — а такие, как для подводного плавания, прилегающие плотно…
— Ты чего здесь? — покосился на него Витя.
— Стою, — пискнул тот.
— А ну, пошел…
— Пошел, — согласился тот, повернулся и зашагал — там ничего не было, пустырь и старые новостройки.
Недоумевая, Витя вошел в склад. Пахло как-то не так.
— Эля! — позвал он.
Тишина. Чуть слышный шорох — крыса под полом.
— Эля, где ты? — он двинулся к "вертепчику" — так они называли уголок для любовных поединков.
Там она и была — лежала, голая, на готовом к любви ложе, поджав ногу, раскинув руки… Что-то было не так, но Вите понадобилось много-много времени, чтобы понять, что именно не так.
У Эльвиры не было головы.
Витя попятился — медленно, очень медленно. Нужно было бежать, но он не имел сил повернуться спиной к этому. Нужно было кричать…
Он споткнулся и грохнулся во весь рост, и все внутри у него рухнуло, слетело с мертвых тормозов — он завизжал… и замолк снова, будто кляп вогнали: перед ним стоял давешний пацан… нет, стоял маленький худой старик, абсолютно голый, в огромных черных очках — и с головой Эльвиры в руке. С шеи свисали какие-то лохмотья, глаза были открыты и смотрели прямо на Витю, язык высунулся… Старик одной рукой как бы протягивал Вите эту голову, а другой делал всем понятный жест: тише, тише! Указательный палец поднесен к улыбающимся губам. И Витя, неожиданно для себя, кивнул, согласился: да, конечно же, тише. Она спит…
Чьи-то маленькие ручки легли ему на затылок и подбородок, обхватили неожиданно крепко… Вяу!!! — пронзительно ударило в ухо, он вздрогнул — и эти ручки крутнули его голову так, что в затылке громко хрустнуло и полыхнуло огнем. Ой, громко как! — подумал Витя, валясь на пол безвольной куклой. Он был жив и даже немного в сознании, когда его подхватили и понесли: под дождь, на пустырь, в какую-то дыру в земле…
— …такой прибор, который превращает тьму в свет — и наоборот. Голову в него сунул — рраз! — и видишь во тьме. Рраз! — и опять стал нормальный. Никто почти о приборе не знал, только отец, я, еще несколько его слуг. И вот мы пошли на испытания — в самый разгар тьмы. Я переделал зрение, а отец не успел. Идут… эти. Мы, конечно, ломаем комедию, разговариваем с ними. Они нам верят. А потом… В общем, продал нас один из слуг. И неправильные ключ от прибора у нас украли. Они, может быть, думали, что это весь прибор, а прибор-то вот он, — Артем коснулся пальцем своих очков. — Но теперь без ключа я его снять не могу — ослепну. А мне слепнуть нельзя, я сын Наставника, мне здоровым нужно быть — в пример чтобы всем.
Слушали сочувственно, кивали. Артем старался не завираться: понимал, что могут уличить. Поэтому рассказывал о жизни в коммуне, как знал ее, только немного другими словами. И — будто бы коммуна под землей, в городе таком, который предки строили на случай войны. И — да, не всегда они там жили, первые люди пришли откуда-то, но вот откуда — это знать запрещено. Почему так? Первый Наставник так решил, и так стало.
Верили…
Когда он не нашел в вещах убитых Сеги и Фрукта "ключа" (а правильнее сказать, когда он убедился, что вещи здесь только их, Веткиных нет) — ему под величайшим секретом рассказали об Айболите, человеке тьмы, который живет среди них… ну, не совсем среди, но все равно здесь, в городе Света… так вот, был еще один пришелец, но он провалился туда, в подземелье к Айболиту, и теперь трудно будет забрать его оттуда… Почему? Да вот такой он, Айболит. С ним так запросто не поговоришь. Когда что хочет, тогда и делает. Или не делает. Все у него по-своему. Лечит, да. И учит, да. Но не любит, нет, не жалеет. Крысами зовет. И не сделать ничего, потому что тогда сразу умрем все. Айболит слово знает, что все умрем…
Артем сказал, что мяса не ест, пост у него, очищение. Посмотрели уважительно и накормили грибами. Несоленая масса со вкусом пыльного сыра. Сильный чесночный запах. Съел. Не умер.
Дальше-то что?
Если спасатели услышали сигнал — то уже там, открывают ворота, входят… А если нет? Не сработал передатчик, скалой заслонило антенну, залило дождем…
Зато — Ветка жива. И его встречают с почетом. Не сорваться бы, не начать бы спрашивать об очевидном — тогда заподозрят. И не перестараться, играя "VIP". Пока — сходит с рук. О-оххх…
Славные ребята, эти подземники. Люди Света. Незатейливые, простые.
Жаль, людоеды. А то бы…
Их много. Несколько тысяч. В этом подземном лабиринте. В котором тридцать этажей. У них есть предание: сюда, в этот лабиринт, они пришли из другого подземного мира, который затопило водой. Это было недавно: три поколения назад. Сколько лет, неясно: нет смены времен года. И они — о, с какой гордостью это было произнесено! — они продолжают Готовиться! Они не забыли заветов первых Людей Света!
Знать бы, к чему. Чуть не спросил. Тут-то бы его и… того.
Свет здесь исходит от мерцающих на потолке светодиодов. Подземникам этого хватает для их огромных глаз, Артему — для очков. Но раз светятся светодиоды — значит, в цепи есть ток? Значит, плафоны могут загореться? Темные пока плафоны, возле каждого из которых чуть светится точечка светодиода?
Интересно, знают ли они это сами?
И не это ли имеет в виду странный Айболит, когда…
Если лампы вспыхнут, для подземников настанет вечный мрак.
К девяти пробились в скальную нишу, куда втягивалась плита ворот и где находились механизмы ее перемещения — взорванные. Саломатов и его механик-водитель осмотрелись и сказали, что потребуется неделя, чтобы нечто пригодное смонтировать заною. Нужно было пробиваться дальше, используя обычную методику: сверлить шурфы, вбивать экспресс-патроны, пломбировать, взрывать, снова сверлить… Собаки Ветки, Рика и Тоша, крутились под ногами, жалобно скуля, жались к людям — а потом вдруг обе, подвывая, бросились к дыре, уходящей в туннель, и скрылись там. Их еще было слышно несколько минут…
Проверяющие прибыли на чопорном синем "Гранте" — и тут же неподалеку шлепнулся на лужайку глазастый тощий Ми-72 с телегруппой. Этих только не хватало, закрыл глаза Стахов, правду говорят — беда одна не ходит…
Инспектора, вопреки ожиданиям, оказались людьми вполне светскими: доцент из Института мировых религий АН (совершенно хрестоматийный доцент, разве что не в пенсне) и очаровательнейшая седеющая дама-англичанка, профессор психологии из Оксфорда; Стахов готов был руку дать на отсечение, что уже видел ее, но где и когда? Нервничаю, черт… В свите их были, правда, две монахини, католичка и православная — секретари-референты. Были еще трое молодых ребят и девушка, их представили как технических работников, но Стахов хорошо знал эту свободную походку и эти чуть свисающие плечи. Без охраны — никуда… Был еще Шацкий из наробраза, он поймал взгляд Стахова и развел руками: что, мол, поделаешь. Шацкий бывал в коммуне по пять раз за год и школами был доволен. Школы у вас, ребята, говорил он — это просто рай. С ним было хорошо, он помогал мебелью, учебниками, прочим. Последний год поговаривали, что вот-вот его то ли снимут, то ли повысят. Стахов про себя решил, что в случае чего Шацкого в коммуне примут…
Впрочем, зависело это не только от Стахова.
Еще когда "Грант" завис над землей, Стахов подумал: сразу же скажу им про ЧП, извинюсь — и пусть шастают везде сами. Скрывать нам нечего. Но когда из "мишки" выпали журналюги, обвешанные камерами, рекордерами, передатчиками — кто в разноцветных распашонках и ртутного цвета трико с черными гульфиками, кто в преувеличенно-военном: камуфляж, кожа, жилеты с миллионом кармашков, ботинки до середины икр, козырькастые кепи, — тут Стахов испытал сильнейший позыв скрыть все и ни на шаг не отходить от инспекторов, крутиться рядом мальчиком для битья и тем самым отвлекать на себя внимание. Может, пронесет…
И все равно: когда взаимные приветствия состоялись и мадам профессор на неплохом русском спросила: "Итак, что вы хотели бы продемонстрировать нам фф первую очередь?" — Стахов вздохнул, развел руками и сказал, что вынужден предоставить гостей самим себе, поскольку сам он должен… видите ли, вчера четверо детей заблудились, забрались в заброшенный туннель…
Он уже знал про окровавленные разлохмаченные веревки.
Но надо пригласить спасателей, специалистофф…
Они уже на месте. Кроме того, мы обратились за помощью к армии.
Дело так плохо? — это уже был доцент.
Там слишком узкий лаз. Взрослые не могут протиснуться. Приходится долбить, взрывать…
Конешшно. Если ваше присутствие необходимо там…
Мое присутствие необходимо здесь. С вашего позволения, я буду заниматься своим делом, а по окончании — весь к вашим услугам. Юрий Юрьевич! (Это Шацкому) Не могли бы вы как-нибудь так сделать, чтобы телебанда туда не полезла? Пусть ползают уж по городу…
Сашеньку Куницыну, гвоздь-репортера программы "Через афедрон", в вертолете укачало. Но уже не так, как укачивало раньше. Привычка начинала сказываться. Плюс рюмка коньяка, принятая перед полетом, — совет Кудрявчика, знающего в этом деле толк. И все равно укачало. Заррраза… Сашенька спрыгнула на твердую надежную землю (земля мягко подалась под ногами, но устояла сама и удержала Сашеньку) и огляделась. Пилотная камера огляделась вместе с нею. Все, что видел репортер, шло на рекордер и параллельно — на студийный монтаж-процессор. А это такая зараза, что да! Порой от часового материала оставляет пятьдесят секунд. Чеши и пой. Или не чеши…
В группе Сашенька была самой младшей по возрасту, но уже самой известной и стойкой. Два года она работала в "Афедроне" с именем в титрах, и от ее материалов даже после заррразы оставалось процентов десять. Сам Халымбаев не мог рассчитывать на большее. Однако сейчас…
Ощущение скорого и неизбежного разочарования наполнило ее. Ни черта мы отсюда не привезем… Хоть и сказал Халымбаев: инспектора направлены для проформы, решение о разгоне коммуны уже принято, патриархия давит на правительство, а тому сейчас не с руки защищать каких-то коммунистов-сектантов… а может быть, это правительство давит на патриархию, кто их там разберет, под ковром-то?.. Короче, большой скандал будет обязательно. И вы уж постарайтесь, чтобы на рекордер это попало…
А вот фиг тебе, Халымбаев. Вышла наружу и чую — не будет скандала. Ты же знаешь, какое у меня чутье на это дело. И даже знаешь, чем я чую. Недаром программу так назвали…
Нет. Будет что-то другое.
— Леш! — позвала она. — Тебе — тупо таскаться за инспекторами. Записывай все: их болтовню между собой, разговоры с охраной… ну, и с населением — но это менее важно. Роха, а ты путайся у них под ногами, понял? Чтобы реакция была. Петрак, ты идешь в народ. По сторонам поглядывай. Я — в свободном. На связи непрерывно. Разошлись…
— …и рассудили здраво, и делали правильно, а получилось что-то совсем другое. Думали как? Будет война на все-уничтожение, и победит не тот, кто больше раз проутюжит противника, а кто после любой утюжки уцелеет и в рост пойдет. А тогда как раз научились генами жонглировать… Самых первых этих чертиков было пятеро: мальчик и четыре девочки. Никто, конечно, не выжил — проверяли на них все, что только можно, до полного разрушения… Вторую партию делали широко: двести девочек, сорок мальчиков. Всяким дамочкам, которые нормальным путем забеременеть не могли, предлагали: искусственное, мол, оплодотворение, то-се… Потом бац: ребеночек умер. Бывает, давайте еще разок попробуем… ну, и если те соглашались, второй раз делали как надо. А детишек, будто бы умерших, сюда, под землю. Не совсем сюда, конечно, — "террариум" километрах в двух, если коридорами. Там и жили. Деточки эти, конечно, еще те деточки. В неделю начинает ходить, в месяц вполне самостоятельный, в три года размножаться может… Живут, правда, до семи лет, редко до десяти. Грибы свои разводят, потом эту дрянь, которая у них вместо хлеба… как ее? Во-от. А когда старую-то власть поперли окончательно, начальство за головы взялось. Это же под десяток статей подпадает, расстрел с пожизненным повешеньем… какой там Менгеле, что вы!.. Всю документацию в печь и под нож, сотрудников — туда же… А я вот спрятался. Да… Входы-выходы забетонировали, в "террариум" воду пустили. Из подземной реки. У нас же и река есть, все как у людей. Готовились тут я не знаю сколько веков отсиживаться… жратвы, не поверишь: мы три холодильника выели, еще тридцать семь осталось. Папиросы "Норд", водка под сургучом… А, тебе не понять. Сухари ржаные — сорок девятого года. Тушенка вот эта, которую ты трескаешь, — с сорок четвертого, американская, лендлиз… Ну, и прочее в том же духе. В общем, не знаю, нашла бы малышня сюда дорогу без меня или нет… Поначалу они меня чтили: вроде как начальника. А потом — как-то все дальше, дальше… я уже и понять не могу, что они болтают, слова вроде нормальные, а смысл другой. Учиться перестали, кучковаться начали, потом вдруг — биться между собой… Теперь вот у них две партии: одни считают, что надо совершенством заниматься и ждать, когда труба позовет… а другие — те говорят, что труба давно протрубила, война произошла и пора выходить на поверхность, очищать ее от "неправильных"… Слава Богу, этих мало пока, загнали их куда-то на нижний уровень, на окраины, там и держат. Царек у них, Колмак — из Колмаковых, значит, у них тут двенадцать фамилий, — совершенно чокнутый. Но колдун. Сильный колдун. Многое может, кое-что получше меня. Я ведь кто был? Так, лаборатория. Анализы, экспертизы… забыл уж все. И чего я их тогда не утопил, как котят? Жил бы без забот… правда, девок своих они мне приводят… ну да это — ладно. Вышел бы со временем, да и затерялся бы. Велика Россия и безалаберна. Слушай, а кто у вас там теперь: президент, или царь, или вообще никого?
— Пока президент, — сказала Ветка. — А что с осени будет, никто не знает. Назначено это… Учредительное Собрание. Оно и решит, кто дальше станет. Отец говорит, что будет, наверное, царь. А вообще-то это все не важно вовсе. Живем в коммуне, никого не трогаем, ни за кого не голосуем…
— Да… — Айболит торопливо кивнул птичьей своей головой, суетливым движением подвинул Ветке отодвинутую было банку, снял нагар со свечи. — Ты ешь, ешь… Сто лет, значит, без царя — и опять царь? Не может, получается, русский человек без царей? Не может, да?
— Не знаю, — сказала Ветка. Она уже наелась, но какой-то нервный зуд в деснах заставлял ее засовывать в рот и жевать волокнистое, жирное, с сильным, но почему-то непищевым вкусом мясо. — Я вообще сербка.
— А-а… — он сказал это, полуобернувшись и наставив огромное свое ухо на темный зев коридора. Что-то происходило там, вплетаясь неясным звуком в мерный рокот генераторов и шум водного потока, ставшие уже общим фоном существования…
К полудню лаз расширили достаточно, чтобы нормальному человеку можно было в него протиснуться. Краюхин шел первым, за ним Саломатов, потом Золтан — и Коваленко, спасатель. Воздух в туннеле был до странности свеж. Краюхин повел лучом вдоль вагонов: пусто. Посветил на сами вагоны — как бы между прочим. Пульс участился.
Такие вагоны он знал слишком хорошо…
Пять лет своего несчастливого офицерства Краюхин провел рядом с ними и внутри них. Пусковые мобильные установки стратегических ракет "Тополь"…
Молча он шел вперед, не зная еще, что делать с этой находкой.
Царь Колмак рассматривал пленника. Таких он раньше не видел. Все замирали, когда он своим страшным взором проникал в их сущность. А этот обрадовался. Пахло от него, как от мальчика, а не как от мужчины, и лгал он спокойно, не брызжа страхом во все стороны. Испытывал он страх перед чем-то другим, перед тем, что осталось позади и чего Колмак так и не смог увидеть…
— Отпустите его, — сказал Колмак солдатам, и те тут же убрали руки. — Встань, сын Наставника, и иди ко мне. И сядь рядом.
Артем поднялся с пола. Его покачивало: и от удара по голове, и от безумной гонки по подземелью, когда его, привязанного к двум жердям, передавали из рук в руки, как эстафетную палочку. Но от человека, сидящего на стуле с высокой спинкой, исходило дружелюбие, почти нежность… Он был совсем не похож на остальных подземников: напоминал сложением нормального мужчину, только низкорослого, а вовсе не мальчишку со старческим личиком… И Артем, стараясь держаться прямо, подошел к нему и примостился на краешке высокого стула.
Здесь дружелюбие было почти нестерпимым, как жар от открытой печи, и Артем некоторое время просто не мог ни говорить, ни слышать. Ему казалось, что он заболевает. А потом будто включили звук…
— …коварные и жестокие. Они погубили наших Создателей и хотели погубить нас, но добрый Доктор сумел помешать их планам сбыться. Хотя нелюди овладели всей землей, подземные города остались во власти Света. Но нелюди стали творить морок, и многие люди Света поддались этому мороку. Им думается теперь, что мы должны жить под землей вечно, пока нелюди не исчезнут сами или не передавят друг друга. Только тогда мы должны выйти на поверхность и обратить Тьму в Свет… Нет, отвечаем мы, не для того создавались подземные неприступные твердыни, не для того творили нас Создатели, не для того Доктор выводил нас из вод и трясины, чтобы мы без толку и пользы тянули свой век в тепле и ясности, среди наших плантаций и фабрик, занятые лишь подготовкой к тому, что нам предстоит пройти. Нет, знаем мы, что не сгинут нелюди сами, сильно их колдовство, хитры и коварны они. Разве не понятно, что создавали нас Создатели для того только, чтобы истребить нелюдей и освободить родную нашу землю от их жестокого кровавого гнета, сделать все, чтобы Создатели могли возродиться? Вопиет небо: выходите, выходите, сыны и дочери Народа, сейте разрушение и смерть! Десять и сто жизней нелюдей берите за одну свою, и расточатся пред вами источники Света. Никто не спасется от клинков мщения! Бессильны нелюди пред людьми Света, слабо их дыхание, медлительна рука. Наши старые женщины превзойдут их воинов в поединке. Мы каждый день едим их мясо, и найдется ли кто, оставшийся в живых, кто видел нас?
Повисло вдруг молчание.
— Да, ваше величество, — с трудом сказал Артем. — Они не устоят против нас. Мой отец тоже так считает.
Что-то произошло.
— Скажи это еще раз, — потребовал Колмак.
— Они не устоят…
— Дальше.
— Мой отец… тоже так считает…
— Я понял, — сказал Колмак. — Твой отец — наставник людей Тьмы. И ты — человек Тьмы. Но не посланник и не шпион. Кто же ты? Кто ты, сын Наставника?
Артем задрожал. Дружелюбие царя опаляло.
Уже не соврать…
— Я… мы… мы хотели просто… просто потому, что боялись идти сюда, и надо было доказать, что не боимся, понимаете? Поэтому…
— Можешь молчать. Я буду думать, что все это значит. Ты не простой человек, ты наделен Зрением, которым способен проникать под видимость. Ты еще не вполне умеешь им пользоваться…
— Вы ведь не совсем подземник, да? — с надеждой спросил Артем. — То есть, я хочу сказать…
— Я — от семени Доктора, — с гордостью сказал царь. — Я проживу много поколений. Может быть, я переживу Доктора…
Он положил твердую, будто цельнокостяную лапу на голое колено Артема, и Артем застыл. От лапы шел мертвый холод.
Бабушка Ирина помнила коллективизацию, а зрение терять начала лишь два-три года назад. Сначала будто бы темные мушки летали, потом стало казаться, что носит она засиженные мухами очки… Она действительно стала носить очки, но лучше от этого не делалось. Как сквозь грязное виделся мир, а где чистые промежутки оставались, так через них ничего нельзя было рассмотреть: глянешь в ту сторону, а прозрачное пятнышко отбежит… Покупали для нее какие-то безумно дорогие лекарства, привозили врачей, вы наш ветеран, говорили ей, наша первая комсомолка… Но не нахлебницей она была и теперь, не та порода: каждое утро, встав часиков в пять, заворачивала она по две сотни пирожков и ставила в печи — для ребятишечек-дошколят. А вчера прибежала Лика из горисполкома: "Баб Ир, спеки рыбный пирог, гости завтра…" Завернула баба Ира и рыбный: рис, лучок зеленый, яйца крутые мелко порубленные, белужатинка… Но главное дело — тесто, это всем ясно, даром, что ли, говорят: одна мучка, да другие ручки. Оно и получилось. Румяный пирог, высокий. Корочка лакомая, маслицем коровьим промазанная. Полотенцем укрыла, а как Лика прибежала да под полотенце заглянула, так и взвизгнула и понесла пирог, как младенчика: мягко ступая… А бабушка Ира села и задремала сидя. Не молоденькая…
Девяносто пять осенью. Бабы столько не живут.
Проснулась от шороха. Сумеречно было в доме, и пахло горелым. Опять не выключила духовку… Поднялась с трудом и пошла, разминая одеревеневшие ноги.
Чадила духовка, правда. Да как-то не так пахло, как обычно от духовки. Не маслом горелым, а будто бы шерстью. Шерстью ли?.. Может, тряпку-прихватку там оставила? Бабушка Ира откинула дверцу — в лицо пахнуло смрадом и дымом. Регулятор вывернут был до предела. Никогда она так не делала, никогда…
Кто-то пробежал за спиной со смешком.
Вот она, прихватка…
Баба Ира, обжигаясь, выдернула из духовки противень. На противне, шипя и пузырясь, горела отрезанная человеческая рука.
Через маленькое просветленное окошечко увидела она эту руку, а когда метнулась туда взором, все опять заволокло… но руку она видела, это точно.
И — опять кто-то пробежал.
А потом — схватил ее сзади за локоть.
Рука на противне корчилась и гнулась…
Сердце бабы Иры вдруг наполнилось доверху — и с тихим звуком, будто разбился маленький пузырек, разорвалось. Она медленно упала, будто вся была набита легчайшим пухом. Черные ножки старого кухонного стола оказались колоннами, на которых держался небесный свод, и грустная торжественная мелодия хоров звучала, и звучала, и звучала…
— Нас никто не заманивал сюда, поймите! — говорила Мирка Тадич. За эту ночь она осунулась и почернела. — Больше того — нас не пускали. Нам устроили экзамен, входное испытание. Мы месяц доказывали делом, что умеем работать и жить с людьми, а нам устраивали проверки, нас… как это?., провокации, да. Подвергали провокации. Потом говорили слова извинения. Другая семья поступала с нами, тем сказали слова прощания. Они… как это?., качали права, да. А мы с радостью — эй, слышите вы? — с радостью отдали все, что имели. Этого было мало, но это было все, что у нас осталось, все! Потому что знали: мы пришли сюда навсегда, мы не уйдем отсюда, а если нас попытаются разбросать… нет, как это?., разнести… разогнать — мы будем биться на пороге наших домов… — она замолчала. Рыдание сдавило горло. — Мы не уйдем отсюда, — сказала она очень тихо. — Так и передайте там: мы не уйдем.
Мадам профессор, Хелен Хью Таллин, слушала молча. Разве можно этой женщине, прошедшей через нищету и унижения, объяснить, что именно в таких вот тихих изолятах и вызревают опаснейшие и необъяснимые пока поведенческие реакции? Что здесь, среди этих мирных и приветливых людей, уже ходят психопаты, что почти у всех вас налицо все симптомы латентной сшибки — и если не среагировать вовремя, через два-три года она превратится в надпороговую, и тогда вы, замечательные соседи и товарищи, превратитесь в злейших врагов друг другу. Бедная Мирка, и ты при разговоре смотришь не в глаза собеседнику, а вниз и влево… ты что-то скрываешь, да? О, вам всем есть что скрывать, потому что слишком мало вас здесь, и накопление взаимных тайн происходит слишком быстро — особенно при вашем пуританском образе мыслей. Самыми долгоживущими изолятами были колонии хиппи семидесятых годов — именно потому, что там можно было почти все. Но и оттуда уходили выросшие дети… А боитесь вы не только того, что коммуну вашу расформируют. И страх ваш общий не только перед внешней жизнью. Есть какой-то другой, застарелый, привычный…
— Вашу дочь еще не нашли? — спросила Хелен Хью.
— Еще нет. Но ее найдут, обязательно найдут. Я не тревожусь о ней. Вы видите: я не тревожусь о своем ребенке, который заблудился в пещере, потому что знаю: его найдут и спасут. Но я тревожусь за всех наших детей, потому что им, выросшим в любви и' безопасности, вы готовите вышвыривание в жизнь, полную корысти, насилия и зла.
Они все равно придут туда, подумала Хелен Хью, но чем позже, тем менее подготовленными. А если вы попытаетесь не пустить их…
— Неужели вы думаете, что мы хотим вам плохого? — спросила она.
— Мы никогда не видели от вас хорошего, — был ответ. — Мы бежали от вас, но и здесь вы нагоняете нас, и здесь… Вы хотите, чтобы мы все умерли? Мы все умрем. И именно вы будете виновны в нашей смерти…
— Тридцать пять лет назад в Гайане покончили с собой девятьсот человек — примерно такая же коммуна, как ваша. Двадцать лет назад — три тысячи человек на Филиппинах. Десять лет назад — столько же в Японии. За последние пять лет это стало обыденностью. Каждый месяц, во всех уголках света… Люди собираются вместе, объединенные какой-то религиозной или социальной идеей, а через несколько месяцев или лет кончают массовым самоубийством. Вот и вы грозите мне тем же…
— Что вы хотите сказать? Что мы все сумасшедшие?
— Нет, конечно. Но, согласитесь, ситуация тревожная.
— Просто никто уже не выносит жизни, которой вы живете…
Телеоператор, снимавший их — тот, в желто-оранжевом "гарде", вечно лезущий под ноги охране, — вдруг замер и прислушался. Наверное, его вызывали по "москиту". Выслушав указание, он подхватил штативную камеру — ножки ее смешно подогнулись — и пошел к выходу. В дверях обернулся, и пилотная камера на его плече обернулась вместе с ним. Кажется, он хотел что-то сказать, но не сказал.
Перекусив на скорую руку, Сашенька заторопилась по указанному адресу. Улица имени XXII Съезда, дом 21, первый этаж… Было даже смешно. Но девяносто пять лет старушке, а? Подумать только…
Пирог красивый. Жаль, сожрут инспекторы, корочки не оставят. Может, удастся уговорить ее на еще один? Это будет гвоздь программы.
Дождь кончился, висела приречная сырость, пахло травой и землей. Улицы чистые, дома тоже чистые и нарядные. Ну и жили бы они здесь, с раздражением подумала Сашенька, кому от этого плохо? Нет, надо залезть руками в душу и вынуть — так принято… Человек пять прохожих встретились ей? один лишь старичок, остальные — не старше тридцати. Нормальные люди, спокойные… Она представила себе Шадринск. До отвращения богатые витрины центральных улиц, цветная плитка тротуаров, разодетые в пух и прах толпы — и грязь и темень переулков, крысы в мусорных баках, опасные тени в подъездах… Шадринск вырос в годы экономического чуда на каком-то внезапно возникшем торговом перекрестке, город без истории, новодел… Здесь же казалось: бродишь по кладбищу. Нет, по музею. Тоже нет: по ожившему… она вздрогнула. "Маленькие города", последний топ Петти Джонсон. Чудовище, которое мимикрирует под маленькие города на дорогах Америки… люди останавливаются на пути куда-либо — и становятся сначала игрушкой, а потом и пищей. Красивый фильм, красивые актеры, бесподобная музыка — "Хабитус Рарус". Индукция жутчайшая… Ах, черт. Конечно: засело в подкорке. "Хабитус Рарус". Всю дорогу, отвлекаясь от качки, слушала "Хабитус Рарус". Чего ж вам боле?.. Бабушкин дом был желтого цвета, кирпичный, под зеленой железной крышей. Два этажа, два подъезда. Бабушка живет здесь… По обычаю незапертая дверь. Сашенька толкнула ее, вошла. Громко позвала: "Ирина Мокеевна!" Нет ответа. Спит, бедняга… В квартире было чисто, но сильно пахло горелым. Коврик на стене, кровать, крытая голубым покрывальцем, круглый столик под кружевной салфеткой, вазочка с ромашками, комод, плюшевые собачки на комоде, фарфоровая балерина, две пары очков… Но где же бабушка? Сашенька прошла на кухню. Здесь был такой же порядок, как и в комнате. От большого духового шкафа шло тепло. Еще не остыл…
— Ирина Мокеевна!
Пошла погулять? Анжелика сказала, что она всегда дома, а гуляет на лавочке у подъезда. Родня ее вся на работе в полях… живут в соседней квартире: сорокалетний внук с женой и трое правнуков… Заглянуть туда? Неловко… Сашенька пожала плечами, вышла из квартиры — и тут услышала слабый полушорох-полувздох, будто кто-то прятался от нее, а теперь с облегчением перевел дух. Сашенька резко повернулась — и успела заметить быструю тень, метнувшуюся под кровать. Собака, неуверенно подумала она. Край покрывала покачивался. Господи, мое-то какое дело? — сказала она себе.
Сама не зная, зачем, она подошла к кровати, встала на колени, опустила ручную камеру на пол — и заглянула под кровать, откинув покрывало и одновременно включив подсветку пилотной камеры.
Бабушка была там. Она лежала на спине, вытянув руки вдоль тела, платочек сбился на затылок. А за нею. шевельнулся кто-то бесформенный и голый, и лишь огромные черные очки над оскаленным ртом были из реальной жизни. А в следующий миг — это бесформенное тело распрямилось, и маленькие растопыренные острые пальчики метнулись к глазам Саши…
Не зря ее так долго и так больно учили драться. Пальцы попали в скулу и переносицу, это было как удар гвоздями, ослепляюще-страшно, но — не ослепило по-настоящему. А ответный, чисто пружинный удар ее отбросил нападающего в сторону, раздался писк: обиженный котенок, ребенок… Саша перекатилась налево и вскочила, спиной к окну — и тот тоже вскочил. Голый мальчишка лет десяти, черные очки — и кривой нож на поясе.
— Ты что — с ума?.. — голос был не ее, и она оборвала себя: не отвлекайся на разговоры…
Мальчишка с места взвился в воздух, точно так же целясь пальцами в ее лицо, она присела, отклоняясь, — и удар ногой, нацеленный в голову, пришелся ей в плечо, как раз в пилотную камеру. Опять обиженный писк… Он висел на ковре, как кот, а Сашенька сдергивала камеру с плеча. Как ей мешала эта камера… Произошло одновременно: она выщелкнула камеру из шарнира, а мальчишка подтянул ноги и оттолкнулся ими от стены, как пловец отталкивается от стенки бассейна, и понесся на Сашеньку, переворачиваясь в воздухе, нож был в руке, и Саша не столько ударила его, сколько отмахнулась — но от этого отмаха и камера (килограмм с граммами), и голова мальчишки раскололись — и в тот же миг острый, как бритва, нож мягко коснулся Сашиной шеи. Она рухнула, сбитая с ног этим маленьким чудовищем, тут же вскочила — кипятком обдало шею, голова нервно дернулась, ее повело вбок — и тугая струя выплеснулась на потолок.
— Помогите… — это она подумала, а сказать не смогла: воздух свистнул из раны, и Саша с ледяной ясностью поняла, что вот прямо сейчас умрет, если… если не…
Обеими руками она залезла в горячее и сжала, как могла, и наклонилась к двери, к выходу, стараясь не дышать, не дышать… Она вышла на площадку, ноги уже не держали, было страшно и досадно, что вот так…
У нее еще хватило сил вывалиться на улицу и сделать несколько шагов. Потом руки разжались, выпуская кровь на свободу…
Ее нашли минут пятнадцать спустя.
* * *
— Так далеко они не пошли бы, — неуверенно сказал Саломатов, посылая мощный луч то вдаль (полная тьма), то в потолок (метров тридцать высоты, какие-то ферменные конструкции, легкие трапы, свисающие пучки проводов, бочонки и барабаны всяческих прожекторов…). — Наверное, свернули куда-то.
— Может быть, — шепотом отозвался Краюхин. Нормально говорить он уже не мог: сорвал голос. — Ну, засранцы, ну, найдем…
— Куда собаки-то делись? — в который раз задал вопрос Золтан. — Рика, Тошка, на-на-на! — потом он призывно засвистел и оборвал свист, прислушиваясь. — Вода шумит… Откуда здесь вода?
— Надо вызвать собак, — сказал Коваленко. — Без собак здесь делать нечего.
Из огромного зала две рельсовые нитки уходили вправо, в обычный туннель наподобие метрополитеновского. Три — так и терялись вдали, свет не доставал до конца зала. Слева открывались два безрельсовых туннеля, выложенных кафелем: один огромный, два трейлера разъедутся, второй маленький, для пешего хождения. Кроме того, была дюжина лестниц и пандусов, ведущих куда-то вниз…
— Вызывайте, — согласился Краюхин. — Об оплате не заботьтесь…
Во сколько эти приключения нам обойдутся? Тысяч в тридцать? Не меньше… А если бы не Артем, вдруг спросил кто-то нагло, ты бы стал платить? С ума сошел, подумал Краюхин, такие вопросы в голову пускаешь… А на самом деле? Платил бы — и с легкою душою. Платил бы, подумал он твердо.
А если бы знал, что они мертвы?
Что?!
Ты ведь знаешь, что они… что их… Вспомни веревку.
Нет же. Нет. Не обязательно. Миллион объяснений…
Коваленко взялся за рацию, но еще до того, как начал вызывать оставшихся у входа, раздался зуммер. Вызывали они сами.
— Петр Петрович! Петр Петрович! — было очень тихо, и слова из динамика разносились далеко и отчетливо. — Возвращайтесь скорее! Тут такое!..
— Что именно?
— Убили девчонку из телевидения! Но она засняла того, кто ее… Короче, это видеть надо!
— При чем тут мы?
— Так это, наверное, одни и те же — и детей утащили, и ее! Понимаете, это и не люди вовсе! То есть, может быть, и люди…
— Митя, — Коваленко вздохнул. — Ты переутомился, наверное. Ладно, мы возвращаемся, а ты вызови-ка мне двух проводников с собачками — и сгоняй за ними вертолет.
— Вы идите, — сказал Краюхин. — Я побуду здесь.
— Анатолий Михайлович, — сказал Саломатов, — не пори горячку. Потом тебя искать…
— Искать меня не придется, — сказал Краюхин.
Через пять минут, оставшись в одиночестве и погасив фонарь, он начал медленно привыкать к темноте.
— …Айболитик, миленький, выпусти меня отсюда… Выпусти, я домой хочу… Выпусти, меня мама ждет… Она испугается, что меня так долго нет… Айболитик, выпусти, хороший… Ну, пожалуйста… Ты же хороший… Ты же даже этих страшненьких жалеешь… Выпусти, я никому про тебя не скажу…
И так — час за часом. Вроде бы тепло, а ноги замерзли. Будто бы лед под полом. Может, и вправду лед. Крепка решетка, и никак не дотянуться до засова. Его ли эта серая тень? Забрал все, только курточку оставил, и ушел. Хорошо, хоть одеяло дал. Зачем ушел?
— Айболитик, ты где?.. Выпусти меня, мне страшно… Я пить хочу… Зачем ты меня запер?.. Пожалуйста, хороший Айболитик, выпусти меня отсюда, я к маме хочу, выпусти меня…
Свеча на столе все короче…
Город взорвался. С полей, с огородов, с ферм примчались люди, толпились перед Советом, многие с детьми, многие с оружием: вилами, дробовиками… Из Тарасовки прилетел вертолет со следователями; выехал, но застрял где-то в дороге автобус с вооруженными полицейскими. Дивизия прислала три десятка сержантов и младших офицеров: с автоматами за спиной, они стояли на перекрестках, прочесывали дворы, заглядывали в подвалы. Это успокаивало. Инспекторов их охранники запихнули в вертолет, но улетать они пока не собирались. Телевизионщики, ставшие героями дня, внезапно размножились: теперь их было человек десять, посерьезневших, в легких касках и брониках, быстрых и пронырливых. Чьи-то вертолеты кругами ходили над городом. Стахов чувствовал, что и его начинает затягивать темный азарт. Будто начало войны. Ужас и восторг…
Маруся Шелухина, полицейский, рассказала только что обо всем том, что накапливалось за год — тихо, исподволь: слухи о гигантских крысах, выходящих в лунные ночи из дыр в земле; слухи о том, что ребятишки повадились голыми шнырять по пустырям и в развалинах заводских недостроенных корпусов; постоянное исчезновение каких-то неценных, а потому оставленных без присмотра вещей… И люди, конечно. Вот сегодня: нет нигде Виктора Чендрова с электростанции (с работы ушел, домой не вернулся), и нет Эльвиры Булак, которая из дому ушла, а на работе ее нет, и склад стоит открытый, хотя и было предписано: склады запирать…
На экране в сотый раз прокручивали: в ярком пятне света тело старушки, а из-за него приподнимается и замирает на секунду чудовище: маленькая головка с огромными рубиновыми глазами, за головой плечи буквой V, и все это похоже немного на атакующую кобру; потом голова чуть поворачивается, рубиновый отсвет исчезает, и становится видно, что это не глаза, а странной формы очки; идут — медленно — снизу косо вверх и вперед и чуть влево две тонкие напряженные руки с вытянутыми пальцами, и вслед за руками начинает приближаться голова, плечи опускаются… Смена кадра: мальчишка у стены в позе готовой прыгнуть собаки, зубы оскалены, очки непроницаемы — прыгает, все так же вытянув руки вперед, плывет, плывет по воздуху…
— Маруся, — сказал Стахов, — возьми-ка пару армейских ребят да сходи на этот Эльвирин склад. Что-то там нечисто…
Дверь за Марусей закрылась и тут же открылась вновь. Вожатая Лиза привела из лагеря Гарика Шваба, пятого из звена Артема Краюхина. Стахову уже позвонили, что Гарик был в курсе преступного умысла четверки, но никому не сказал ни слова. Теперь он был уверен, что его с родителями выкинут вон.
— Ты не реви, — сказал Стахов ушастому белобрысенькому парнишке, испуганному и дрожащему. — Что не сказал — ладно. Ты еще молодой, чтобы различать, когда закладывать друзей грех, а когда наоборот. Со временем поймешь… Ты вот что скажи: почему ты сам с ними не пошел?
— Не знаю… — прошептал Гарик. — Так что — мне ничего не будет? — он посмотрел на Стахова недоверчиво.
— А ты орден хотел?
— Н-нет… Вы мамку с отцом не выгоните?
— Нет, конечно. Хотя выпороть тебя — потом — не помешало бы… Ладно, доживем до потом… а пока рассказывай.
— А чего рассказывать? Боялся я. Все же знают, что подземников трогать нельзя. А Темка говорит: не бывает их! А все же знают, что бывают… Ну, и… все. Ветка говорит: слабо в пещеру залезть. Вот. А Темка туда уже ходил, да дойти не смог: болото. А тут жара… Ну, и пошли. Я говорю… вот. А они: никаких не бывает, потому что… и все. А только Сега ружье-то прихватил. Хоть и говорил, что не бывает… А мне сказали, что трус — ну и сиди. А я что? Я не потому что трус, а просто… Ну, я же сам видел! Маленького, как первоклашку, голого, а с ножами. Спарту как раз прогуливал… она залаяла, он в канаву — и все…
— И ты молчал?
— Так все же знают…
— А я почему не знаю? Краюхин-отец почему не знает? Эх, детки! Или уж мы такое говно в ваших глазах, что нам ни доверия, ни… а, да что с вами говорить… В общем, парень, знай: в том, что ребята пропали, не только их глупость виной, но и твоя. Иди пока. Вспомнишь что ценное — скажешь. Мне, или тете Клаве, тете Марусе…
— Так не верят же! — закричал вдруг Гарик. — Не верит мне никто! Я же говорил — не верят!!!
— Говорил? — тупо повторил Стахов.
— Ну… говорил… — Гарик судорожно вздохнул, давя рыдание.
— Лиза, — Стахов повернулся к вожатой, внимающей изумленно. — Ты возле детей. Слышала что-нибудь такое: про подземных жителей, про голых малышей?
— Так ведь… они же всякие страшилки все время рассказывают, я уж их отвлекать пыталась…
— Ясно с нами все. Иди, Лизавета. А ты, парень, подожди. Нужно мне, чтобы ты — сейчас, немедленно — поговорил с ребятами и узнал про этих подземников как можно больше. Кто они, чем занимаются… Через, — он посмотрел на часы, — через четыре часа придешь сюда и расскажешь все, что узнал, мне или тому, кто будет здесь вместо меня. Понял? Теперь беги.
Курлыкнула рация. Маруся сообщала, что на полу в мучном складе под слоем муки обнаружена кровь, много крови, очень много крови…
Вначале Артем услышал шорох, потом уловил движение. Комната — целый зал — где его поместили, освещалась не светодиодами, а какой-то липкой сиреневато зеленой дрянью, размазанной по потолку и стенам. Свет от нее шел довольно сильный — по сравнению со светодиодами, конечно, — но из-за того, что шел он со всех сторон, казалось: зал полон дыма. Было плохо видно, что в очках, что без очков…
В дальнем конце что-то шевелилось.
Артем сидел неподвижно, закутавшись в почти не греющий брезент. Царь, уличив его в обмане, о чем-то задумался надолго, а потом велел страже отвести его — гостя! — в этот зал, вкусно кормить и заботиться, но наружу не выпускать. Отступники могут попытаться похитить его или даже убить… Артем чувствовал, что заболевает: дышалось тяжело, глаза казались тюбиками, из которых кто-то что-то выдавливает, кожа будто бы высохла и отстала, прикосновения к ней не ощущались. Замерз. Простыл. Слова не имели смысла. Замерз. Закон. Зарок. Рок. Кон. Мерз. Мерзавец. Я. Ну и что?
Подумаешь… Он покосился в угол, где продолжалось шевеление. Не звал я их сюда и силком не тащил… Только там, еще почти наверху, роясь в окровавленных вещах, Артем ощутил вдруг невыносимый ужас утраты. Сейчас ему было почти все равно. Будто оброс корой. Надо выбираться, вот и все. Надо выбираться… Он не пошевелился.
Потом он понял природу шевеления в углу. Светящаяся плесень на стене то погасала, то загоралась. Будто кто-то дул на угли. И шорох. Коротко прокатилось что-то тяжелое. Нехотя Артем встал и пошел в ту сторону. Оказалось страшно далеко.
По-настоящему болела спина. Будто тупой кол вогнали под лопатку. Плесень вспыхнула ярко, и Артем увидел кошку, катающую консервную банку. Кошка оглянулась, увидела его, шагнула к стене и пропала. Сразу стало темно.
При новом всплеске света обнаружилась решетка в стене. Приличных размеров решетка, из-за которой шел теплый воздух, пахнущий так, как пахнут при соударении два кремня…
Артему понадобился час, чтобы открутить гайки.
— Он пошел за зверем, — доложили Колмаку.
— Я знаю, — сказал царь.
Наконец Краюхин нашел главный рубильник и распределительный щит. Толстый, в руку, кабель шел к нему из-под земли, и десятки тонких уходили вверх и потом в стороны, разбегаясь и теряясь поодиночке. Теперь следовало как-то снять, сорвать, вскрыть заслонку… Краюхин поковырял в замочной скважине теми ключами, что были в карманах, гвоздем — и стал озираться в поисках какого-нибудь подходящего железа. И в этот момент в туннеле, из которого он пришел и куда не так давно ушли Саломатов, Золтан и спасатель, началась пальба. Краюхина будто парализовало. Усиленные эхом, гремели наперебой короткие умелые очереди, потом совсем рядом взревел пулемет… Под потолком лопнул прожектор, стекло падало с поразительным звоном. Раз, и два, и три — рванули гранаты. Потом — ослепительный шар летящей ППР вырвался из туннеля, мелькнул мимо и лопнул несколько секунд спустя где-то вдали от щита. Огонь заметно ослаб, било три или четыре ствола. Когда он сорвал заслонку, когда вогнал рубильник между клеммами, когда стал перекидывать в верхнее положение все тумблеры подряд, и где-то что-то вспыхивало, шипело, начинало вертеться — бил уже один автомат. Краюхин перекинул последний тумблер, оглянулся. Было светло. Как в полдень на пляже. Как на съемочной площадке. Как в оранжерее…
И тихо.
Где-то выл, цепляясь крыльчаткой о кожух, вентилятор. Где-то шумно искрило. Не стреляли.
Судорожно сжимая лом, он быстро пошел, почти побежал по туннелю. Вон — морда тепловоза…
Рядом с тепловозом стоял, покачиваясь, человек в военной форме и с автоматом в руке.
Краюхин узнал его только шагов с трех: настолько искажено было его лицо. Искажено, неподвижно, перепачкано сажей и кровью.
— Не надо вам туда, Анатолий Михайлович, — сказал человек в форме.
— Саломатов? — дернулся Краюхин. — Что случилось, Андрей Васильевич?
— Все, — сказал Саломатов. — Их больше нет. Не ходите. Я не хочу, чтобы кто-то это видел.
— Андрей! Да что, в конце концов…
— Победитель детей, — сказал Саломатов и вдруг упал, будто бы ломаясь на части еще в падении. Он ткнулся лицом в гравий, и Краюхин увидел длинную черную щепку, торчащую из-под левой лопатки.
Краюхин нагнулся, подобрал автомат, вынул из подсумка последний магазин. Из кобуры достал пистолет и запасную обойму.
Пошел вперед — туда, где что-то грудами, кучами лежало в тени вагонов.
Она вцепилась в Золтана и не отпускала его, не разжимая рук, и он даже неловко, оглянулся: молодые офицеры по одному проскальзывали в щель и исчезали в туннеле. Их было пятнадцать, перебравшихся через болото на броне танка. Брызги жидкой грязи, поднятые вентиляторами машины, превратили и офицеров, и все кругом в глиняные фигуры глиняной страны. Митя, спасатель, тихо ругаясь, протирал экран телевизора, стоящего рядом с переносным пультом космической связи. На экране в сотый раз прокручивали "последние кадры Саши Куницыной" (титры плыли внизу). Чудовище приподнималось, бросалось вперед…
Золтан, Золтан, говорила она, да что же это творится? Господи, Золтан, как нам быть? Ну, скажи, что всего этого нет, что это мой бред, скажи, я поверю… Ее не слышно было за ревом заходящего на посадку тяжелого армейского вертолета. Ведь это все, Золтан? Детей — нет. Надежды — нет. Это ведь все, да?
А он стоял, почти пустой и растерянный, и ему нужно было куда-то бежать и хоть что-то делать, чтобы заполнить эту пустоту собственным движением.
Почему на нашу долю все время что-то достается? Мы что, такие скверные люди? Или мы делаем что-то неправильно, или в нас есть какой-то дефект? Почему нам никто и никогда не дает жить спокойно, а когда наказывают, то наказывают до смерти? Я так не хочу больше… Вадик, Вадик, неужели — все? Я так хотела, чтобы ты не узнал того, что прокатилось по мне… мальчик мой бедненький…
Вертолет грузно сел, заглушил турбины, вернулись другие звуки. Золтан мягко и нежно отводил и разжимал ее руки. Мне надо идти, шепнул он, там Ветка… Он не понимает, грустно подумала Алиса. Бедные дети. Мы все хотели как лучше…
— Сейчас собак привезут, с собаками мы их быстро найдем, — сказал Золтан, и Алиса поняла, что он сам не верит своим словам. — Мы перетряхнем всю эту нору…
В этот момент началась стрельба.
Пить хотелось нестерпимо, и потому Артему везде чудилась вода. Когда он полз по трубе, то за стенами ее была вода, он это знал, но не мог пробить трубу ни рукой, ни камнем. И потом, когда труба кончилась и пришлось идти босыми ногами по острым горячим камням, он знал, что вода где-то рядом, и надо лишь точно повернуть. А блуждая меж ребристых горячих труб, идущих от земли к потолку, он слышал журчание в трубах, но крана найти так и не сумел. Запах воды бесил, отнимал последние силы, заставлял озираться, потому что вода всегда оказывалась сзади — и исчезала, когда на нее падал взгляд. Иногда делалось совсем темно, иногда — светлее, но ни разу Артем не видел, откуда берется свет. Потом он услышал звук падающих капель. Он пошел на звук и уперся в гору искореженного бетона с торчащей арматурой. Из трещин и щелей доносился этот звук, и не было никакой возможности добраться до воды — но не было сил встать и уйти. Неужели вот так и умирают? — подумал он. Потом он услышал песню. Безумно далеко, гораздо дальше, чем способен услышать человек, несколько голосов тянуло заунывно: "…поскакал на вра-ага, завязалась кроваавая битва…" Артем пополз, раздирая руки и колени, по обломкам, по железным прутьям. Брезент, в который он заворачивался, мертво застрял, и Артем его бросил. Над горой нависал край косой бетонной плиты, и когда Артем проползал в оставшуюся щель, на него посыпалась мокрая холодная земля, здесь и пахло так: мокрой разрытой землей… А через минуту он обеими руками наступил в лужицу.
Напившись — наполнив желудок скользкими несмешивающимися ледяными глотками-шариками, — он вдруг почувствовал, что куда-то летит. Все кружилось вокруг и призывало лечь на бок. Но Артем вместо этого встал, придерживаясь за шершавый обломок, и потом долго не мог понять, что это такое у него в руках. Звенело, но и сквозь звон врывалась в уши песня: "…из груди моло-дой…"
И он пошел туда, на песню.
Здесь был светлый берег реки, и несколько человек, сидя в кружок, тянули тонкими голосами: "…из бу-де-новских войск…" Артем сел рядом и подтянул: "На разведку в поля-a по-ска-ка-ала…" Люди повернули к нему лица с одинаково открытыми ртами. Что-то двигалось под лицами, как движутся под опущенными веками глаза, и это видно. Дяденька, сказал один из обладателей лиц, ты нашу песню не тронь, это мы ее поем. Это наша песня, хотел возмутиться Артем, но у одного из поющих личико вдруг сморщилось и задралось вверх, и из-под него высунулась маленькая ручка, ухватилась за подбородок и вернула лицо на место. "Это бело-о-о-о…" Все остальное стало красным, а потом черным. И зеленым. Трава, подумал Артем, я сижу в траве.
Кузнечики неистово скрипели. Палило, как в печи.
— Толя?..
— Да. — После долгой паузы.
— Почему ты не выходишь?
— Я же объяснял. Веду переговоры.
Краюхин отвечал голосом странным и с таким запозданием, будто кабель телефона тянулся через луну. Это походило на сеансы связи с "Порт-Армстронгом" или "Королевым" — Стахов, старший оператор Центра дальней связи РКА, провел их сотни, пока его не сократили за политический радикализм. И вот теперь он даже оглянулся, чтобы убедиться: нет, это не зал Центра, а старая железнодорожная насыпь перед стальной заслонкой туннеля, уходящего в сердце горы. Вот если здесь, ткнул пальцем под ноги полковник Юлин, рванет бомба в сто пятьдесят килотонн, эта железка выдержит. А ты — взорвать… А лазером — ну, понаделаем дырок, а дальше? Так вот и будем резать, но это на сутки работа… капли горящего железа от струи плазменного резака разлетались вокруг. Четыре заляпанных грязью саперных танка стояли, до половины выбравшись на твердый грунт.
Тучи вроде бы разогнало, дул упругий северный ветер.
— Толя, можно подробнее?
— Нет.
— Дети хотя бы живы?
— Кажется, да. Не мешайте мне, ладно? И вот что, Федор…
— Что?
— Прикажи саперам, чтобы помощнее заминировали вход. Так, чтобы насмерть могло завалить. Герметически. Радиовзрыватель — и передатчик мне сюда. Все понял?
— Зачем это, Толя?
— Дурацкий вопрос. Делайте.
Стахов беспомощно посмотрел на полковника.
— Он говорит, что…
— Я слышал, — кивнул полковник. — Наверное, он прав.
Краюхин сунул телефон в карман, вернулся в вагон. Чтобы поговорить, пришлось выйти. Мощность сигнала маленькая… Пенопластовой заглушки на пусковой не было. Много неясного с этим поездом… и много ходило в свое время легенд вокруг них… Он зачерпнул из ведра густую темно-красную термитную пасту и стал обмазывать боеголовку сверху. Конечно, он не собирался взрывать бомбу — это было невозможно сделать. Слишком много всяческих блокировок. Но ее можно разрушить, добраться до плутония…
До одного из самых токсичных веществ в природе.
Железный сурик и алюминиевая краска хранились рядышком, на "разъезде". Просто в углу. Ведерные банки сурика и бидоны с алюминиевой пудрой. Как специально собранные в одно место. Компоненты термита. Оставалось только смешать…
Через два часа здесь будет ад.
Килограммов десять термита в бумажном мешке он пропихнул поглубже к основанию обтекателя. Потом спустился к тачке, взял две банки, тоже полные термитом, и отнес их к хвосту ракеты — туда, где на стенке направляющей были скобы. Он примостил банки между направляющей и крышей вагона, примотав их толстой проволокой к ферме и надеясь, что пять сантиметров стеклопластика не окажутся слишком серьезным препятствием для потоков пламени в три тысячи градусов…
Когда прогорит направляющая, а потом стенка ракеты, когда вспыхнет горючее — весь туннель превратится в огромную пушку, стреляющую отравленной картечью — туда, внутрь горы, в этот мерзкий подземный лабиринт. Газов образуется столько, что частички окиси плутония вдавит во все закоулки, во все тупички и укрытия. Никакие двери, шлюзы, фильтры…
Вы нас держали за скот? Который — резать и жрать? Вот вам — скот!
Его начинало трясти, когда он думал об этом, и потому он старался не думать вообще ни о чем.
Царь Колмак ощутил прилив беспокойства. Источник его был где-то впереди и сверху, но впереди не в обычном смысле, не перед грудью, а — так впереди, что не обойти. И это была не обычная угроза со стороны ренегатов, и не от банды, и не от Айболита: те ощущались короткими иглами, выступающими из стен. А здесь — было похоже на котел с кипящей водой, который наклоняется, наклоняется… Жар этого котла ощущался всей кожей лица. Пока еще далекий жар.
Да, это было там, на верхнем этаже Города, который поглотила Тьма. Люди Тьмы одолели ренегатов, это было хорошо… но угроза возникала для всех.
Сын Наставника дошел до реки. Добрый знак. Кол-мак хлопнул в ладоши.
— Пусть Куница и пять воинов поднимутся к месту битвы с людьми Тьмы. Я хочу видеть это…
После гибели Петра Петровича Митяй некоторое время просто ничего не понимал. То есть на автопилоте он распоряжался, кого-то куда-то посылал… и, как впоследствии оказалось, распоряжался разумно и посылал куда надо. Потом подошел весь черный Стахов, дал глотнуть коньяка из фляжки и сказал, что спасателям спасибо, но вот теперь полиция и армия этим занялись, так что… Пятачок перед воротами туннеля был полон людей в форме, садились и взлетали с большого понтона вертолеты, вот-вот будет готов наплавной мост… Митяй покивал, усмехнулся чему-то, потрепал Стахова по плечу — и вдруг понял, что Петра нет и никогда уже не будет.
— Да, — сказал он. — Нам пора сваливать.
— Кто же знал, что так обернется… — виновато сказал Стахов.
Не фиг мешать большим дядькам, думал Митяй, глядя на уходящую вниз и назад скалу выветренно-красного цвета. Было досадно. Теперь мы уже только мешаем… Странную серую фигуру на краю обрыва, на светлом мху, он увидел — и долго не мог понять, зачем этот человек в плащ-палатке машет руками. Потом — дошло.
— Валера! — он повернулся к пилоту. — Сможешь подгрести во-он туда? Подобрать того парня?
— Аск, — пожал плечами пилот.
Струей от ротора человека на обрыве едва не сбросило вниз. Плащ-палатка развевалась, как знамя в шквал: то взлетая, то обвиваясь вокруг древка. Пилот опер машину о землю одной лыжей, Митяй распахнул дверцу: садись! Человек забрался в салон. Откинул капюшон. Он был абсолютно лыс, под истонченной кожей голубели вены. Глаза его прикрывали огромные непроницаемые очки.
— Кто у вас тут самый главный? — голос его звучал неестественно, будто говорил не он, а невидимый чревовещатель. — Отвезите меня к нему.
— А вы кто? — спросил Митяй, хотя уже догадывался, кто.
— Зовите меня Айболитом, — сказал человек. — Настоящее мое имя вам знать не надо. Я оттуда, снизу.
— Дети живы? — сразу спросил Митяй.
— Одна девочка. Остальные мертвы.
— Толя. Толя. Отвечай, Толя… — монотонно звал Стахов.
— Я здесь, — бросил Краюхин. — Помолчи.
— Я и так только и делаю, что молчу! Толя, они же тебе врут! Или… или ты мне врешь, Толя? Что ты задумал? Ты же делаешь там что-то, как я сразу не понял…
— Через пять секунд взрываю вход, — сказал Краюхин. — Пять… четыре…
— Не надо! Ты же обратно…
— Два…
— Ветка жива! А твой…
— Один…
Краюхин вдавил кнопку передатчика и широко раскрыл рот. Толкнуло в лицо, ударило по ушам. Вдоль вагона прокатилась волна ударов: сталкивались буфера. Сам взрыв был почти беззвучен: все поглотила скала.
Слышно было, как падают камни.
Краюхин выронил передатчик из рук. Зачем-то — наступил каблуком. Почувствовал жалкий хруст.
Все легли, и Стахов тоже лег. Чуть дрогнула земля. Из щелей между скалой и заслонкой вылетело облачко пыли.
Стахов тут же вскочил, машинально отряхивая плащ. Обернулся к Айболиту. Тот стоял, как стоял. Презрительно улыбался. Желто-голубая покойничья рожа.
— Как мы можем получить обратно девочку? И тела других детей?
— Тела — нет, — процедил Айболит. — А девочку можно. Я вам ее отдам. Обменяю.
— На что?
— А у вас есть что-то, на что вы ее не обменяете? — он усмехнулся серыми губами. — Впрочем, это может оказаться ненужным мне… Если какая-нибудь женщина согласится пойти со мной, то девочку я верну. А в придачу — помогу очистить подземелье от крыс. Они мне надоели.
— Вы чудовище, — сказал Стахов, помолчав.
— Да? — удивился Айболит. — Кто бы мог подумать…
— Мы прочешем этот подвал и вывернем его наизнанку…
— Их несколько тысяч, и каждый из них там, под землей, стоит пятерых. Они и наверху-то неплохие бойцы… В подземелье тридцать этажей, некоторые туннели тянутся на полсотни километров. Атомная крепость. Вам и через эти-то ворота не пройти, а там такое на каждом шагу. А я — включу освещение, и можно будет просто ходить и собирать их, как картошку. В мешки.
— Мы должны посоветоваться, — сказал Стахов. — Решаю здесь не только я…
— Советоваться вы будете в моем присутствии, — сказал Айболит. — И еще: не тяните. Будет плохо, если крысы обнаружат, что меня нет. Я для них Бог, а боги всегда должны быть на месте.
— Какая гарантия, что вы вернете девочку?
— Гарантия? Никакой, естественно. Вы же не требуете гарантий со своих богов. Я беру женщину, возвращаю девочку, потом включаю свет. Потом — все зависит от вас. Но меня вы должны будете навсегда оставить в покое…
— То есть вы требуете абсолютного доверия…
— Можете называть это как угодно, — сказал Айболит, ухмыляясь, — а только все будет именно так, как я сказал, и ни на йоту иначе.
— Здесь нечего обсуждать, — Алиса подошла так, что никто не заметил. — Я иду с ним.
— Что? — повернулся Стахов.
— Это шанс. Другого нет.
— Алиса… — беспомощно сказал Золтан.
Она посмотрела на него, как будто видела впервые в жизни.
— Новую жизнь устроили, — и рассмеялась. — Новый, зараза, город. А получилось — кладбище с упырями. Замок с привидениями. Кто же так делает-то, а? Думать мозгом надо было…
Глаза у нее были страшные.
— Алиса… — повторил Золтан.
— Ничего, — сказала она. — Так даже и лучше. А то от всяких засранцев-моралистов ни житья, ни проходу. Правда же, Федор Иванович?
— Что? — ошалело спросил тот.
— Каждый умрет, как сможет, — Алиса улыбнулась еще шире, и это была уже не совсем улыбка. — Пойдем, дорогой, — она подала руку Айболиту.
— Давай-ка, любезный, — повернулся Айболит к летчику, — отвези нас туда, где взял. И — сразу вниз. Предупреждаю: чтоб никто не подглядывал за мной, ясно? Это в основном к вам относится, полковник.
— Хорошо, — сказал Юлин.
Пять минут назад ему доложили, наконец, что система "Аист" дает полную картинку местности.
Айболит галантно пропустил Алису в салон вертолета, сам сел рядом. Летчик забрался в кабину — и увидел, как Золтан, пригнувшись, бежит за спинами людей куда-то и возвращается над самой землей, с автоматом в руке, вцепляется в стойку лыжи и делает знак пилоту: молчи!.. Видеть его может только летчик — и Алиса, если приподнимется и прижмется лицом к стеклу. Но она сидит, откинувшись на спинку кресла, и смотрит на того невидимого, кто будто бы сидит рядом с пилотом, и оборачивается, и смотрит на нее…
Вертолет взлетел к вершине скалы, завис над краем обрыва, выбирая место, свободное от искривленных и тонких, но все же берез. Золтан лежал, распластавшись, в промоине. Этот гад его не заметит… Он снова коснулся лыжей земли, сделал знак: выходите! Айболит выпрыгнул сам, принял Алису. Захлопнул дверь. Вертолет свечой ушел вверх, развернулся на сто восемьдесят, завис на мгновение — и в полувитке спирали исчез над обрывом.
Стало очень тихо.
— Пойдем, — Айболит взял Алису под локоть. — Нужно торопиться.
Солнце стояло высоко, затянутое дымкой. С разорванными краями облака казались синими. За близким лесом начинались поля, потом видны были крыши города, потом — река под обрывом. По обрыву неровной и лохматой черной шерстяной неразрывной нитью тянулся далекий бор. Если идти пешком, то до наступления темноты как раз и можно дойти до этого бора…
— Да, конечно, — сказала Алиса. — Где бы мы были, если бы не торопились?
За время, проведенное в полной темноте, Ветка превратилась в скулящего щенка. Жутко, толчками, болела рука. Хотелось сосредоточиться на боли — но не получалось. Одна, маленькая, заживо погребенная… под толщей земли и камней… Мама, мамочка, мама…
Много маленьких ножек зашлепало по коридору, и Ветка перестала дышать.
Но ножки уверенно нашли дорогу к ее двери, и взвизгнул засов. Нет, сказала Ветка, вставая. Ее схватили за ноги и уронили. Нет! Не-ет!!! Жесткое и вонючее закрыло ей рот. Она билась насмерть. Потом — устала. Ее держали за ноги, за плечи, за голову… Ее уже тысячу раз могли бы убить, но не убивали.
— Ты из тех, сверху, — сказал кто-то на ухо детским голосом. — Ты умеешь лечить?
— Что?
— Ты знаешь лекарства? Доктор ушел, нам нужно взять то, что нужно взять. И не брать того, что не нужно. Понимаешь?
— Да. Только я не знаю… где что лежит…
— Мы покажем.
— А кто болеет? И чем?
— Верхний человек. Он весь горячий. Говорит во сне.
— Да. Я знаю, что нужно взять. Где все это лежит?
Пойдем. Мы проводим тебя в комнату и оставим, и ты сможешь напустить полную комнату тьмы.
— Ведите, — сказала Ветка. — А потом — проводите меня к тому человеку, хорошо?
— Плохо. Доктор увидит, что тебя нет, и рассердится. Накажет.
— Я быстро посмотрю и вернусь. Он не узнает.
Золтан спрыгнул неудачно… То есть он попал, куда хотел, но оказалось, что целился он не туда. Промоина была слишком крутая, градусов сорок пять — и после дождя еще совершенно не просохшая. Песок и щебень, наполнявшие ее, тихонько плыли к обрыву под собственной тяжестью и под тяжестью тела Золтана — и всякая попытка за что-то ухватиться, как-то помешать этому сплыванию приводила лишь к продвижению вниз на дополнительный десяток сантиметров.
Он осторожно посмотрел сначала через левое, потом через правое плечо. Никаких корней, никаких прочно сидящих обломков. Если бы в руках был ледоруб, а не тупой автомат… Он все-таки попытался воткнуть ствол в сыпучку — бесполезно. Плывет, и все.
До края осталось чуть больше метра, наклон увеличился. Золтана охватило нечеловеческое спокойствие. Не закричать, подумал он. Падать молча. Как камень.
Он воевал, и прятался от башибузуков, и замерзал, и лежал на дороге под бомбами — и никогда не чувствовал ничего похожего. Тогда — был страх, ярость, желание жить. Сейчас — будто бы миг смерти уже позади…
Сзади обрушился целый пласт, и ноги потеряли опору. И вдруг — пронзительной любовью ко всему и ко всем переполнило душу. Он чуть не закричал, но не от страха, а от опаляющего счастья. Не закричал — и, заскользив быстро, быстрее, быстрее — начал свое долгое падение.
Айболит и Алиса удалились от края обрыва метров на сто пятьдесят и поэтому ничего не услышали.
На экране пульта телеразведчика видно было, как они идут, как спускаются в заросшую густым кустарником лощинку — и вдруг исчезают в ней, и даже тепла тел не ощущают приборы…
Краюхин посмотрел на часы. Было без двух минут восемь. Успел к назначенному самим себе сроку. Ничего не ждем. Он поднялся в первый вагон, поднес огонек зажигалки к осветительной ракете, воткнутой в густое термитное тесто вокруг боеголовки. Сейчас все это загорится, и через полминуты лопнут от жара шнурочки, удерживающие предохранительные скобы гранат, вбитых снизу. Хорошо, что он вспомнил про гранаты, а то черт его знает: вдруг не прогорит керамическая термозащитная рубашка? А так — все вдребезги, и беззащитное нутро открыто пылающему железу…
Ослепительно вспыхнул магний, Краюхин зажмурился и отшатнулся. Бросился к хвостовой части ракеты. Забрался по скобам наверх, поджег запал. Здесь тоже модификация первоначального плана: приспособил ручной гранатомет, были они у двоих… Даже если направляющая не прогорит — ее пробьет кумулятивной струей.
Вскочил в заднюю дверь вагона — и не понял, что происходит. Решил: ослеп от магния. Но нет, сзади горело, и отсвет пламени с его силуэтом лежал на стене…
Просто кто-то погасил свет.
Ему прыгнули на спину — сверху, с крыши вагона. С силой запрокинули голову назад и перегрызли горло.
Артем раскинулся в жару и бреду. Ветка потребовала воды, и принесли воду — в стеклянной бутылке. Она просунула горлышко бутылки между губ, вода попала в рот — и Артем закашлялся и попытался приподняться. Островки сознания у него еще жили. Он выпил почти все, и его тут же вырвало. Ветка знала, что так и должно быть, держала Артема за плечи, подземников вновь погнала за водой…
После этого он ненадолго пришел в себя.
— Ветка… — сказал он, озираясь и ощупывая свое лицо. — Ветка, уходить надо…
Потом он увидел свечу и уставился на нее.
— Огонь, — сказал он. — Везде огонь… Везде огонь! хрипло вскрикнул он и откинулся без сил. — Ветка, уходить надо, уходить…
Во второй бутылке она размешала шипучий аспирин и витаминный сироп, дала отпить несколько глотков. Потом набрала в большой шприц два флакона метрагила, легко нашла вену и стала вводить лекарство. Старый Шиян по прозвищу Акула научил Ветку попадать в любую вену и в любых условиях, когда ей было еще восемь лет. Они жили в соседних палатках, у Шияна было три с половиной пальца на обеих руках и множество осколков во всем теле. Он был полковым врачом на той войне. Когда шел очередной осколок и не было уже сил терпеть, он звал ее…
— Уходить надо, — тихо, но отчетливо сказал Артем, пытаясь подняться; Ветка прижала его руку к земле, ввела до конца то, что оставалось в шприце; выдернула иглу, согнула безвольную руку в локте. — Уходить… надо…
— Уйдем, — сказала Ветка. — Конечно, уйдем.
Первый доклад от агента-наблюдателя Марии Шелухиной лег на стол начальника спецотдела "Кадр" Главного управления контрразведки полковника Коренева в восемь часов сорок пять минут санкт-петербургского времени; в Леонидополе было двенадцать сорок пять. В течение дня доклад обрастал деталями совершенно невероятными, и компьютерный анализ давал не более двенадцати процентов вероятности. Но потом пришел телесюжет, а чуть позже — данные по архивам. Аналитики и интерполяторы из "Эха-2" дали заключение, что в семидесятых-восьмидесятых годах прошлого столетия имели место генноинженерные эксперименты над человеческой плазмой — именно на территории Петровска-69. В девяносто седьмом году были уничтожены как сама лаборатория, так и вся документация. Возможно, что уничтожение лаборатории проведено было не слишком тщательно… А к четырем часам дня поисковая программа набрела на след еще одного эксцесса тех же бурных лет: с боевого дежурства был снят, но на пункт демилитаризации не прибыл "стратегический поезд": состав с четырьмя пусковыми установками МБР "Тополь". Позднейшие рапорты и заключения комиссий отрицали факт исчезновения, назывались виновники дезинформации… но зацепка оставалась. Кореневу и раньше приходилось копаться в подобных делах: исчезали якобы проданные на лом эсминцы и подлодки, истребители и штурмовики; счет танков не сходился на сотни единиц, боеприпасов — на тысячи вагонов. Все это потом где-то всплывало, взлетало, взрывалось… И тогда были рапорты и заключения комиссий, отрицавшие саму возможность исчезновения чего-либо. В армии на учете даже пуговицы, что вы, что вы!..
Ракеты "Тополь". Четыре штуки. С боеголовками по шесть мегатонн…
Исчезли где-то на линии Решетнево — Саяногорск.
То есть вполне возможно, что и в Петровске-69. Там ракеты снаряжали боеголовками, туда же могли и загнать для каких-то нужд…
А раз так — то в первую очередь предположим, что весь шабаш есть не что иное, как внешние проявления некоей операции, затеянной то ли леваками, то ли фашистами, то ли религиозными фанатиками, и направленной на захват и использование этих самых боеголовок…
И Коренев пожалел — в который за сегодня раз! — что в свое время не позволил разместить в Леонидополе следящие видеодатчики. Эти киббуцники-фурьеристы показались ему людьми тихими, мирными, сломленными и обреченными. Пусть тихо поживут, сколько могут…
Основной задачей спецотдела "Кадр" было наблюдение — гласное и негласное — за различными социальными и религиозными изолятами, которые, как известно, являются особо питательной средой для вызревания самых беспощадных идеологий.
В шестнадцать двадцать две по столичному времени спецгруппа "Орион" (борьба с терроризмом, обезвреживание объектов повышенной опасности, освобождение заложников) вылетела с авиабазы "Енисейск-15". Сообщение о взрыве в туннеле застало их в воздухе…
Воздух, до этого неподвижный, вдруг ударил в лицо. Захлопали двери, что-то упало и разбилось со звоном. Ветка вскочила. Уши начало давить, как на глубине. Артем закричал и сел. Подземники метались, визжа. По камню дошел тугой подземный удар, отдался в коленях. Все шаталось. Потом почему-то даже в Артемовых очках стало ничего не видно. Ветка подумала: пыль, — но, взглянув на потолок, не увидела нежного свечения светодиода. Что-то случилось. Мир подземных жителей провалился в полную темноту. В подлинную Тьму.
Краюхин рассчитал все точно, и лишь случайность, граничащая с чудом, несколько сбила его план. Осветительная ракета, которую он использовал в качестве воспламенителя для термита, горела долго — и, когда термитный заряд над хвостовой частью "Тополя" уже воспламенился, все еще продолжала гореть. Вспышка термита отбросила ее чуть вбок — и в последний миг догорающий столбик прессованной магниевой стружки пережег нить, удерживающую спусковой крючок гранатомета. Выстрел и взрыв гранаты произошли почти одновременно, и сорок граммов обращенного в плазму циркония иглой прошли сквозь стеклопластик направляющей, сквозь титан и керамику ракетной ступени, сквозь толщу горючего (испаряя и поджигая его) — вплоть до центрального канала двигателя, наполненного воспламеняющим составом. Это было равносильно срабатыванию стартовых патронов — если не считать того, что площадь горения была больше штатной (из-за пробитого кумулятивной струей канала), а отток газов через дюзы затруднен. Ракета выдвинулась на полтора метра, сбросив с боеголовки горящий термит и расшвыряв гранаты, которые взорвались, но уже на некотором удалении от обтекателя — что хотя и привело к разгерметизации боеголовки, но плутоний, заключенный в вольфрамовую капсулу, так и не обрел контакта с внешней средой…
Взорвались сами ступени. Уже через две секунды после выстрела гранатомета давлением истекающих газов разорвало направляющую, потом вагон. Потом — вдоль, как консервная банка по шву, вскрылась первая ступень. Локальное давление в туннеле подскочило до пятисот атмосфер. Шесть вагонов, стоящих ближе к воротам, бросило туда, на завал, на скалы и сталь — и смяло в гармошку. Еще одна пусковая переломилась, как сигарета, заряд ракеты вспыхнул, добавив почти миллион кубометров пламени в течение следующих пяти минут. Восемь вагонов с тепловозом, направленные вглубь, в сторону "разъезда", — оказались пулей в стволе. Несмотря на мертвую хватку тормозов, скорость состава на срезе туннеля — там, где он открывался в обширный зал — составила восемьдесят метров в секунду — и продолжала нарастать, поскольку двигатели третьей ступени (вторая взорвалась и отделилась) мертво застрявшего в остове вагона "Тополя" работали штатно. Пролетев "разъезд", поезд-ракета скрылся в следующем туннеле и через три секунды врезался в бетонную стену. Проломив ее (от столкновения две оставшиеся ракеты деформировались и вспыхнули), поезд многотонной грудой стали на скорости сто метров в секунду врезался в плотину подземного водохранилища и, проломив ее и изменив траекторию, устремился по наклонному туннелю водовода — прямо в машинный зал электростанции.
Это было равносильно залпу всех орудий всех кораблей, сошедшихся сто двенадцать лет назад в Цусимском проливе — в одну точку, в упор…
Свечу, которую нес Айболит, задуло. Он вынужден был выпустить руку Алисы — и она послушно ждала, когда он огромной вонючей зажигалкой затеплит свечу вновь. Тянуло по ногам, временами будто мягкие мыши касались щиколоток, ощутимые сквозь тонкую резину сапог. Свеча мерцала и металась. Ладонь Айболита просвечивала, но не розовым, а желтым.
— Боялся, ты убежишь, — проскрипел Айболит. — А ты нет. Не убежала. Дочка твоя? Сестра?
— Сестра, — сказала Алиса. Зачем уточнять?..
— Понятно, — сказал Айболит. — За чужую-то какая дура пойдет…
Ты сволочь, подумала Алиса. Тебе не жить, понял, старая ты сволочь? Тебе не жить…
Чтобы успокоиться, она стала представлять себе, как будет убивать этого козла. Наверняка и без лишней жестокости. Просто убить, и все. Как таракана.
Грубый чудовищный рык, приглушенный камнем, доносился отовсюду.
Царь Колмак созвал народ. Они прибегали и ложились перед ним, пряча лица. Он смотрел поверх. Солдаты ходили вдоль стен, собирая на копья, обмотанные тряпьем, росистую тьму. Без нее, как ни крути, ничего не увидеть в этом мире… Мальчик, наделенный Зрением, был сейчас почти на самом верху и двигался к миру Тьмы. Это был знак. Нельзя противиться судьбе. Время пришло. Царь готовился к этому мигу всю жизнь, но вот — ждал знака, не мог начать…
— Люди, — сказал он и откашлялся. — Люди Света, мои люди. Час пробил. Предначертание должно исполниться. Последняя битва, битва сил Света против армии Тьмы — началась!..
Обломки состава и электростанции плотно запечатали отводящий канал подземного потока. С этой минуты подземный город был обречен, но потребуется еще около года, чтобы все его бесконечные помещения оказались затоплены водой…
Остро воняло горелой резиной. Из узкой отдушины над полом била струя горячего дыма. Впереди кричали — будто сгорая заживо. Ветка шла, не останавливаясь, свеча трещала в руке, да подземники позади вдруг замолкли и шлепали босыми ножками часто-часто, Артем на плечах у них стонал и несвязно говорил что-то, потом вдруг объявил: "Пустите! Пойду сам!" — но сам смог пройти шагов сто, и его вновь взвалили на плечи и понесли, шумно дышащего. Ветка не оборачивалась. Она и так знала, что все больше и больше подземников идут за нею, идут в каком-то торжественном трансе…
Оператор "Аиста" засек на инфракрасном экране восемь температурных аномалий — восемь столбов горячего воздуха, выходящего из подземных помещений. В эти места тут же отправились поисковые группы.
Стахов видел, как побледнел полковник Юлин, прочитав шифровку из штаба. Как он огляделся по сторонам — почти беспомощно. Ворота, красная скала, серая глина — все было в полосах и пятнах жирной копоти. Трое офицеров попали под удар пламени, прорвавшегося сквозь завал. Их только что вертолетом отправили в госпиталь.
— Что-то новое? — спросил Стахов.
— Да, — с трудом сказал Юлин. — Скорее всего, там, — он кивнул на туннель, — была ракетная батарея. И ваш… товарищ… ее взорвал.
— Так. И… что?
— Четыре термоядерные боеголовки. Если произошла утечка плутония…
Это Стахов понимал.
— Надо немедленно эвакуировать…
— Да, — полковник усмехнулся. — Просто если утечка произошла, то нам с вами эвакуироваться поздно.
— Видимо, Краюхин как-то узнал, что дети мертвы. И решил отомстить…
— Я так и подумал, что этот мерзавец врет, — полковник кивнул вверх и в сторону горы. — Не следовало, наверное…
— Алиса с ним справится, — сказал Стахов. — Она через такое прошла, вы и представить себе не можете.
— Ну, почему же, — сказал полковник. — Могу.
О том, что этот туннель существует, знал только Кол-мак. И только он знал, как его открыть. Еще, конечно, Доктор. Но сейчас он был не в счет. Колмак бежал впереди всех, вода журчала под ногами, догоняя. Следом бежали солдаты, за солдатами — женщины и дети. Весь его народ бежал молча, зная, что бежать придется долго, ничего не видя в ровном сплошном свете. Редко-редко пятна росистой тьмы дрожали на стенах.
Конвертоплан Су-208 с группой "Орион" на борту ходил кругами над местом инцидента. Тарас Пархоменко, командир группы, держал связь одновременно с Петербургом, со штабом близлежащей армейской дивизии и с руководством спасательными работами на месте. После взрыва в туннеле надобность в специалистах класса "Ориона" вроде бы как отпала: угроза захвата террористами ядерного оружия перестала быть даже гипотетической. Тем не менее он все не решался отдать приказ о возвращении: странные существа, запечатленные телекамерой, могли оказаться куда большей опасностью, чем леваки, вооруженные нейтронными фугасами.
— Гаттаров, Бергер, Яшко, — назвал он командиров штурмовых групп. — Давайте вниз, парни. Перекройте лаз, которым ушел Айболит с заложницей. Активных действий пока не вести, внутрь не лезть.
Сорок секунд спустя три десантные капсулы скользнули вниз.
— Бесик, — сказал Пархоменко пилоту. — Ты нас посадишь вон там, на насыпи.
— Тарас Андреевич… — жалобно пропел пилот.
— Нэ спорь, малтшик.
Айболит ухмыльнулся:
— Вот это встреча! Не ждали, зайчики?
Подземники сгрудились сзади, неразборчиво пищали. Ветка снова почувствовала, как болит рука. Огромный воспалившийся зуб вместо локтя… Артем стоял рядом, шатаясь.
— С дороги, — сказал он вдруг незнакомым голосом. — Это наша земля.
— Что?! — весело изумился Айболит. — Похоже, меня слишком долго не было с вами.
— Ты уже ничего не можешь, — сказал Артем. — Тебе не под силу открыть ворота тьмы. Ты — ложный бог.
— А это мы сейчас узнаем, — сказал Айболит и вынул из-за спины огромный пистолет…
Алиса будто сквозь сон смотрела долгий скучный фильм. Кто-то куда-то идет: низкие потолки, тусклый отсвет на стенах. Встреча, разговор. Плоско и равнодушно…
Проснулась она мгновенно. Перед нею в двух шагах стояли Иветта и Артем! Артем почти голый, грязный, взлохмаченный. Иветта — в каком-то брезенте, из-под полы нелепо торчит загипсованная рука… За ними, в полной почти темноте, угадывается шевеление. Свеча в руке Айболита, свеча в руке Ветки. Ослепительный свет… И вдруг Айболит отпускает ее руку и достает из-за пояса ракетницу! Пять минут назад Алиса видела это в деле… вот что ее отключило, вогнало в ступор… как они кричали, как они кричали, выцарапывая себе глаза, бросаясь на стены…
— Дети! — закричала она. — Это же дети!!! — и бросилась вперед, и повисла на руке с ракетницей, сгибая ее вниз, выкручивая… впилась зубами в восковое запястье… Свеча погасла, погасла вторая… нет, лицо Ветки мелькнуло туманным пятном…
Будто лошадь лягнула ее в живот — и все исчезло в огненной волне боли. Алиса попыталась за что-то уцепиться, но руки соскользнули…
— Убейте его! — крикнул Артем, падая вперед. Подземники шли вслепую. Алиса лежала под стеной, фонтан искр бил из ее тела, и она будто бы пыталась зажать его руками. Айболит сам был ослеплен: тряс головой, словно освобождаясь от капюшона. Потом он шагнул и уперся в стену. Кто-то с хрюканьем вцепился ему в ногу, кто-то повис на плечах. Мелькнул нож, еще нож… Айболит закричал тонко, упал. Над ним сомкнулись.
Последние прожектора установили уже после захода солнца. В городе ввели патрулирование: полиция, офицеры дивизии, вооруженные горожане хмуро бродили по улицам. Всех, живших на окраинах, срочно переселили в центральные квартиры. Детей не было ни видно, ни слышно.
Артем то приходил в себя, то проваливался под твердый горячий лед. Плачущая Ветка… красная крепостная стена, с которой он валится, валится… Ветка поит его чем-то, еще укол… это не шприц, это огромный петух с железным хоботком, глаз рубинов и зол, крылья делают мах, и мах, и мах! — взлетает, вытягивается стрелой и пропадает в небе… здесь узкая труба, и надо ползти самому, да, смогу, конечно, смогу… холод и вонь.
Ах, как они шли за ним, как они верили ему…
— Да, конечно, — Юлин сделал шаг в сторону, как бы уступая командное место. И Пархоменко слегка позавидовал ему, и тут же — завидовать стало некогда…
— Тарас Андреевич! — взревело в наушниках. — Идут! Видим и слышим! Идут! Много!
— Далеко?
— Метров сто осталось… Так, стоят, говорят что-то… не пойму… нет, не пойму. А воняет-то как оттуда!
— Спокойно, Ахмед. Сейчас подойдут вертолеты.
— Что делать, если полезут? Стрелять?
— По обстановке. Я отвечаю за все.
— Тарас Андреевич!
— Ну?
— Они люди? Или не люди?
— Стойте… — Артем опять встал на ноги. Его держали под локти, за плечи. — Стойте. Туда нам нельзя… И оставаться нельзя. Ничего нельзя… — он засмеялся. — Ничего себе, попали. Ветка, ты им скажи, у меня мозги заклинило. Ведь перестреляют же всех…
— За что? — сказала Ветка. — Никого не тронут. Мы скажем, что это другие. Не те, которые… а другие. Так мы скажем.
— Думаешь, ты хитрая? — снова засмеялся Артем. — Они же и правда другие. Ты не знала? А, ты же их не слышишь… Эй, люди! — крикнул он и тут же сорвал голос. Идем… наверх. Только кому мы там, в жопу, нужны?
Ветка почувствовала вдруг, что жидкий холод наполняет ее грудь. Не просто страх — что-то более основательное, долгое, пожизненное. Будто перед предательством, подумала она. Подземники стояли молча и смотрели из-под рук. Она прикрывала пламя свечи здоровой рукой, но и это было для них чересчур ярко. Как они будут под небом?..
Их действительно никто не ждет, поняла она с ужасом. Артем прав. Никто не будет знать, что с ними делать. Я их выведу, а там…
Но и оставаться они не могут. Их дом горит…
Вернуться вниз, подумала она. Помочь им, чем можно. Доктор жил с ними…
Нет. Я не смогу.
— Идемте, — сказала она с усилием.
Стало еще холоднее.
Вот она, эта дверь… Колмак сам налег на ржавый штурвал — он подался со скрежетом. Солдаты подобострастно оттеснили своего царя, закрутили колесо. Створки двери начали медленно расходиться. С той стороны посыпалась труха. Стало лучше видно: за дверью все стены были покрыты росистой тьмой. Гулкие железные лестницы вели вверх: десятки лестничных пролетов. Колмак шел первым. Ржа съела металл наполовину, но он своим видением проникал в суть железа и знал, что оставшееся — выдержит. Где-то далеко шел мальчик. Колмак не переставал его чувствовать с тех самых пор, как увидел впервые. И чувствовал все сильнее… Мальчик подходил к другому выходу и вел за собой часть народа, и это было знамением.
На верхних этажах чувствовалось чужое угрожающее присутствие. Колмак потянул носом воздух и рассмеялся. Два десятка молодых мужчин, не пожелавших быть воинами. Банда. Бежавшая от всяческой власти. Не хотелось оставлять их, но не хотелось и останавливаться. Он чувствовал их, забившихся в углы и тупики. Никто не устоит перед солдатами царя.
Никто.
Ветка выбралась первой — и задохнулась от воздуха и слез. Свеча погасла в ее руке, и горячий парафин полился на одеревеневшие пальцы. Черные листья шелестели вокруг, черная трава стояла до плеч, пахло дождем. Ветку тихонько толкали, обходя. Потом рядом оказался Артем, обхватил ее за плечи, почти повис.
— Вышли, — сказал он. — Вышли, да?
Подземники все прибывали. Сколько же их, подумала Ветка. Боль снова стала что-то значить. Сейчас мне помогут, подумала она, сейчас сделают что-то. И всем-всем помогут. Это же наши. Наши.
В следующий миг — тьма стала светом. Ярче солнца огненный круг вспыхнул перед лицом. Ветка закричала — и все вокруг тоже закричали. Треск, будто ломались связки сухих прутьев, был нестрашен, и удары над головой, от которых вниз сыпались листья, ветки, вершины деревьев, — тоже были нестрашными. А страшен был крик. Ветка не вышла из ослепления, но как-то сбоку вдруг увидела на миг сверкающий стеклянно-стальной скелет доисторического чудовища — который рос, поворачивался боком, потом пастью… блики и языки пламени плясали на нем, огненный круг над хребтом вспыхивал и гас…
— Ветка, ложись! — издалека вторгся голос Артема. Ложи-ись!!!
— Да что же это? — вслух изумилась Ветка. — Уберите же все!
Маленький подземник вдруг молча ткнулся ей в живот и замер, дрожа. Ветка обхватила его здоровой рукой, шагнула вперед, шагнула тяжело, волоча и себя, и его, маленького, но тяжелого — и вдруг повалилась на спину, так он ее толкнул… эй, ты что? — подземник дергался и мычал, а потом вдруг стал мягким, Ветка с трудом выбралась из-под него — рука утонула в горячем. Весь его бок был сплошная рана.
Ветка стояла на коленях.
— Что вы делаете? — кричала она.
В гуле и грохоте не было слышно людей. Сквозь лиловые пятна проступали лица. Вертолеты ходили по головам. Ветка поднялась. Расставила руки: сломанным крестом. Живые и убитые лежали у ее ног вперемешку.
— Не смейте стрелять! — кричала она. — Не смейте стрелять! Не смейте…
Артем поднялся перед нею. Так они и стояли, а навстречу им шипели прожектора и опасливо приближались одинаково истонченные светом люди…
* * *
Царь Колмак вышел из лаза первым. Солдаты — за ним. И он, и многие из солдат впервые ступали в верхний мир, но он прекрасно знал, что именно встретит здесь. Солдаты тройками растекались по сторонам и исчезали между домами. Великая битва Света с Тьмою начиналась…
Вас больше, подумал Колмак. Вас всего-навсего больше…
— Я, наверное, останусь, — сказала Хелен Хью Григоровичу. — Кому-то надо остаться, и лучше, если это буду я. Мы еще не сталкивались ни с чем, подобным этому…
— Мне, собственно, тоже не обязательно улетать, — пожал плечами Григорович. — Доклад можно переслать по мэйлу. Гем более, как я понимаю, прежняя наша миссия уже неактуальна.
— Пожалуй, — согласилась Хелен Хью. За стеклом салона вертолета светились окна домов, прожектора на краю летного поля, высокие фонари на каких-то башнях. Город был иллюминирован, как для праздника. — Я никогда не чувствовала себя менее готовой к принятию решений…
— Придется создавать какие-то лагеря для них, какие-то обиталища. А потом? В сущности, это вторая разумная раса на Земле. Хоть и созданная искусственно. Разумная — и враждебная человечеству. Или я не прав?
— Не знаю, — сказала Хелен Хью. — По первому впечатлению мне показалось: надо их всех немедленно уничтожить. Вы никому не скажете о моем первом впечатлении, Максим?.. Смотрите-ка! — она приподнялась.
Погасли окна в одном доме. Потом в другом, в третьем…
— Ух ты… — прошептал охранник, стоящий у открытой двери. Он попятился и сел, обхватив живот.
— Пилот, взлет! — крикнул Григорович.
Оглушительный удар в борт. Молочно-белым от трещин стало вдруг стекло.
Охранник лег, перебрал ногами и вытянулся.
С натугой завыли турбины. Медленно-медленно начал раскручиваться винт.
Две серые тени беззвучно скользнули в салон. В черно-зеркальных очках одного Хелен Хью увидела свое отражение…
Ветке сделали укол, потом еще укол, и теперь она смотрела на мир как из аквариума, полного годной для дыхания воды. Ее перенесли в вертолет, и вертолет тоже был аквариумом, потому что весь был из стекла, и даже пол под ногами был стеклянный. Ее пытались положить, как Артема, но Лежать она почему-то не могла. Все качнулось и поплыло назад, ей дали телефон, мама плакала, все обойдется, прости меня, Ветка не могла говорить, язык был восковой. Внизу плыли огни, город сиял. Потянулась гирлянда шоссе. Город оставался позади, Ветка смотрела на него и не могла оторваться. В горле встал ком. Огни города гасли, гасли, гасли — как угли костра, заливаемые ночным дождем.
1986, 1994
Две следующие вещи — осколки начатого, но потом мною же свернутого проекта "Время и герои братьев Стругацких", замысел которого у меня возник где-то сразу после смерти Аркадия Натановича. Чувство утраты было огромным, и хотелось как-нибудь поддержать иллюзию, что ничего не кончилось… Я даже не собирался публиковать эти вещи — писал для себя, для друзей. Где-то затерялись наброски еще одной повести, "Черный снег", тоже с героями "Далекой Радуги": первые сутки после катастрофы, спасатели пока не прилетели… Я писал с огромной отдачей, но потом меня стали мучить сомнения: а имею ли я право, а вообще этично ли это, — и кто-то мне сказал, что нет, не этично, и я перестал писать. Теперь жалею, как жалею и о том, что мы с Успенским отказались от мысли написать роман "Белый Ферзь" о приключениях Максима Каммерера в Островной Империи на Саракше; то есть мы обратились к Борису Натановичу с просьбой разрешить нам осуществить этот проект — ион сказал, что другой автор уже начал работу…
В общем, работает до сих пор.
Когда Андрей Чертков затеял "Время учеников", я отдал ему две законченные вещи, чуть-чуть их подработав: для себя пишешь все-таки немного иначе, чем для читателя.
СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА ДВУХМЕСТНОЙ МАШИНЕ ВРЕМЕНИ
(Время и герои братьев Стругацких)
Этого я все-таки не ожидал. Было больно, но не очень, и тем поразительнее оказался вид глянцевой синеватомалиновой кожи с вдавленным в нее рисунком грубых обмоток и верхней части ботинка. На ощупь кожа была горячая и липкая. Повторяю: боль была вполне терпимой, но от одного только прикосновения к опухоли меня начинало мутить. И, чтобы отвлечься, я стал смотреть по сторонам.
Лиловые лбы выпирали из склона напротив, и в тенистых ложбинах еще лежал снег. Елки казались игрушечными. Вершины, плоские, срезанные доисторическим морем, устилали заросли карликовой березы и багульника. Левее и ниже, видимое едва только на треть, чернело озеро в полукружии обледенелых базальтовых скал; сверху падала тонкая замедленная струя — там было второе озеро, верхнее, вровень со мной, а потому недоступное взгляду; а за ним было третье, у самой пяты ледника. Ледника Черышева. Названного так в честь Леонида Черышева, моего прапрапрапрадеда. Прапрапрапрапрадеда Дашки.
Но он-то дошел до него. И не в мае — а в марте. Когда здесь еще снег и ночью минус двадцать с ветром. И вместо палатки у него был лишь кусок брезента… Я же — совершенно точно — не дойду.
Ну, не повезло… Бывает.
Здесь, на плоском широком гребне, царила карликовая береза — пока без листвы. И несколько завязанных узлами горных сосен. Японцы любят выращивать такие в горшках. Они называют их "бонсай". Одно деревце живет у меня дома. Деревцу больше лет, чем мне. Его привез отец моего друга Канэко. Я видел мало отцов, которые настолько не походили бы на детей. Отец был на голову выше сына и раза в два тяжелее. Лицо у него было совершенно неподвижное. Очень твердое лицо. Он ездил по всей Земле и развозил его друзьям такие деревья.
Я не догадался сам, а потом кто-то из ребят сказал мне, что отец прилетел на Радугу сразу же после катастрофы, с первой волной спасателей, нашел остатки глайдера, в котором, наверное, сгорел его сын, и собрал то, что могло быть пеплом. И подмешал этот пепел в почву, к корням маленьких деревьев. Вполне возможно — какая-то частичка Канэко живет сейчас в моем доме в виде деревца, которое старше нас обоих…
Почему бы нет? В этих древних верованиях — своя немалая прелесть.
Послышался шорох осыпающейся каменной мелочи, и внизу показалось задранное Дашкино личико. Оно совсем осунулось и почти исчезло, остались веснушки, глаза и зубы.
— А ручей рядом! — крикнула Дашка. — Там только трудно дотягиваться, потому что камни! Поэтому я долго! А еще там лопух растет! Он опухоль снимает!
— Это замечательно, — сказал я. — У меня будет компания. А то обидно быть единственным лопухом в округе. Спасибо, дщерь.
— Как ты меня обозвал?! — обиделась она полушутливо. Она обижается полушутливо всегда: и когда шутит на полторы тысячи оборотов, и когда сердится по-настоящему.
— Дщерью, — сказал я. — Что по-старорусски значит, "дочь". В конце концов, не на машине ли времени мы странствуем? А значит, надо соблюдать условности. Но если тебе это обидно…
— Дщерь, — сказала она. — Дверь и щепа. Дверь в щепки. Или: дверь и щель. Склонность к незаметному исчезновению.
— Это точно, — сказал я. — Они такие. Только отвернись, а их уж нет…
Я распаковал аптечку. Вот: настоящие хлопковые бинты, обвалянные в настоящем гипсе. Надо сложить из них что-то вроде полотенца, потом смочить водой и примотать к ноге. И — довольно долго сидеть, пока все это просохнет.
Короче, о теплой ночевке сегодня придется забыть.
Я с тенью сожаления посмотрел на Дашку, потом — на браслет. Достаточно лишь активировать его…
И через пятнадцать минут здесь будет кремового цвета коптер с вежливыми киберами или даже вполне живым врачом-стажером, дежурящим на горноспасательной базе. Но тогда цель наша с Дашкой останется недостигнутой — а скорее всего, и вообще недостижимой…
Это не перелом, сказал я себе твердо. Это никак не может быть переломом. Потянул связки — и все.
Сделаем лишнюю дневку. А потом — доковыляем потихоньку.
И следующие полчаса, пока я складывал, смачивал, обкладывал, накручивал и оглаживал, я повторял себе строго: не перелом. Не перелом.
Дашка смотрела на меня и страдала. Но молодчина — страдала она молча.
Потом она сбегала вниз еще раз и вернулась с несколькими сухими сучьями то ли сосны, то ли арчи. Сопя, разделала их топориком, сложила костерчик и с первой спички разожгла. С этим у нее все было в порядке.
В тепле костра гипс затвердел до звона — ногу же стало дергать и давить, пока еще терпимо, но с намеком на трудную ночь.
Хорошо бы все же спуститься к воде и траве…
Ботинок пришлось распластать и подвязать снизу — шнурком и обмоткой. Потом, опираясь на альпеншток, я встал. Перенес тяжесть на больную ногу.
Уф-ффф…
Впрочем, я ожидал худшего. Боль ударила вверх, до колена — но тупая, темно-красная. Можно терпеть.
Можно терпеть и можно шагать.
И я пошел. Шаг, два, десять… Поворот. Обратно. До рюкзака.
Дашка молча выгребала из него банки и перекладывала в свой.
— Э! Мы так не договаривались!
— Ну и что?
В два приема — зло — закинула свой рюкзак на плечи и встала, вызывающе меня рассматривая. Полтора конопатых метра железного упрямства.
— Да, действительно… Обстоятельства изменились…
Я привел в порядок темную разворошенную обитель банок, сухарей и запасных носков, прикрепил сверху палатку и спальники. Вздел сооружение на спину, стараясь при этом не терять равновесия.
— Веди, Тенсинг.
— Кто-о? — с величайшим подозрением прогнусила Дашка.
— Чему вас только учат. Тенсинга не знаешь.
— Нас хорошо учат! А ты, может быть, неправильно произносишь. Ну кто это, кто?
— Первый человек на вершине Эвереста.
— А кто же тогда был сам Эверест?
Действительно…
— Кажется, это был какой-то английский…
— Смотри, — сказала вдруг Дашка и остановилась, показывая вниз. — Тропа. Наверное, козья, да? Козы ходят к ручью…
— Возможно.
Я прикинул направление. И так и так выходило, что тропы этой нам не миновать. А здесь к ней, похоже, спуститься достаточно легко.
В горах надо ходить по тропам. Какими бы извилистыми они на первый взгляд ни казались, а всегда являют собой кратчайший путь от точки А до точки Б. Если, конечно, путь измерять расходом сил.
Это так. Но когда я ступил наконец на эту тропу, в глазах моих было черным-черно, а пот тек струями по спине и бокам. Чудом, нелепым чудом дошел я… преодолел сто метров — вниз по склону…
Но в то же время я понял вдруг, что дойду.
Главное — пореже останавливаться.
Дашка топала гордо, и чувствовалось, что ей стоит больших сил не жалеть меня вслух.
Так прошел час. Потом — два и три. Тяжелее всего было начинать движение после отдыха.
Потом мы — вместе с тропой — стали пересекать снеговую линзу, и я провалился. Удача еще, что успел выдернуть альпеншток и, перехватив за середину, упасть на него грудью. Палка да рюкзак за спиной сработали как тормоз. Ноги, однако, болтались над пустотой, и сколько там — полметра или пять метров, — сказать я не мог…
Если больше полутора — я не вылезу.
— Дашка! — предостерегающе крикнул я, и она обернулась. — Стой на месте! — когда она уже бросилась ко мне.
И все же реакция ее была хорошей и здравый смысл оставался где надо: она успела затормозить.
— Отойди чуть назад, — скомандовал я, и она отошла. — Сними рюкзак. Достань веревку. Свяжи петлю на конце. Кидай мне. Еще раз. Не замахивайся так сильно. Молодец.
Стараясь делать как можно меньше движений, я продел в петлю правую руку.
— Теперь разматывай веревку до сухой земли. Там вобьешь кол и закрепишь конец.
Стал мокнуть и мерзнуть живот. При моем провале полы шинели распахнулись…
Вещный консерватизм предков изумлял меня все время, сколько я занимался внераскопочной археологией. Никак нельзя сказать, что они не понимали своего удобства и комфорта. Но покрой и конструкция мужских панталон восемнадцатого-девятнадцатого веков — это нечто. Или флотская офицерская фуражка девятнадцатого-двадцатого — со всеми ее планками, пружинами и ватными вставками. Или солдатская шинель восемнадцатого-девятнадцатого-двадцатого-двадцать первого…
Современники писали, что это гениальное изобретение. Видимо, я просто чего-то еще не понял.
Дашка помахала мне рукой. Быстро она… Я присмотрелся и увидел, что там торчит пенек. А-атлично…
В пару движений выбрав слабину, я попытался вытащить себя.
Через десять минут я оставил эту затею…
Видимо, я вклинился в дыру так плотно, что сдвинуться мог только вместе с тоннами окружающего меня ужасно мокрого и тяжелого снега. Все попытки как-то расшатать себя в этой дыре приводили только к тому, что я проседал чуть глубже. Это было унизительно и страшно.
И — жарко. Пар от меня бил струями, и пот жрал глаза. И еще громко пыхтело и стучало в ушах.
Может быть, поэтому я не сразу понял, что Дашка уже не одна. Кто-то в черном стоял рядом с нею, подняв руку вверх — привлекая мое внимание.
Я кое-как проморгался, помахал рукой в ответ.
— Держитесь крепче! — повторил черный человек.
И я стал держаться крепче…
— Извините, — мягко проговорил спаситель, разглядывая мое запястье. — Трудно рассчитать силу в такой ситуации.
— Да о чем речь, — сказал я. — Просто ссадина. Затянется. Все заживает, и это заживет. Ерунда.
— Давайте я вам помогу. Тут идти еще с километр.
— Докуда?
— Там мой дом. Надеюсь, вы не откажете мне — побыть моим гостем?
Дашка дернула меня за рукав. Я взглянул на нее — она быстро-быстро кивала.
— Спасибо. Только, видите ли…
— Не беспокойтесь. Дарья мне уже все объяснила. У меня нет ни линии доставки, ни порта связи, ни нуль-Т. Так что вы никак не нарушите свой… обет.
Он сказал это с неуловимой заминкой, а у меня вдруг словно открылись глаза. Мой спаситель, высокий, широкоплечий, загорелый и по виду очень сильный человек, одет был в черную монашескую рясу. На груди его висел грубый крест из темного дерева.
— Пойдемте, — с легкой усмешкой (или мне показалось?..) он забросил на одно плечо мой рюкзак, подхватил Дашкин — и зашагал по тропе. И мы, переглянувшись, тронулись следом, и вновь вначале я плавал в собственной боли, а потом будто бы вышел из нее, а она волоклась за мной следом, цеплялась и канючила…
Мы спустились к речке, перешли ее по простому крепкому мостику — и оказались у входа в неширокое ущельице; из ущелья катился ручей, прозрачный настолько, что казался дрёмой. Дном его были белые камни.
А через несколько минут ущельице расширилось, превратившись в маленькую долину, окаймленную зеленью. На этом берегу ручья прятался в соснах стандартный полевой модуль "Домбай", совсем как в полевых лагерях Юнны — только на крыше вместо обязательных антенн топорщились черные панели древних фотовольтов. Возле дома лежал, припав на брюхо, элегантный серо-серебряный глайдер. А напротив, через ручей, я увидел стоящие в ряд невысокие каменные плитки — десять или двенадцать…
Может быть, сказалась усталость. Может быть, я слишком отвлекся на пейзаж и перестал смотреть под ноги… В общем, подвязанный ботинок мой несчастный разболтался, ослаб — и соскользнул с какого-то невидимого камушка в невидимую ямку. Вспышка боли была настолько яркой и резкой, что я не просто рухнул — а еще и заорал вдобавок.
Сознания я не терял, но несколько минут просто не мог ничего замечать кругом и ни о чем думать, кроме как о ноге, проклятой чертовой ноге…
Монах внес меня в дом на руках — это при моих-то без малого ста — и уложил прямо в прихожей (по совместительству — кухне) на жесткий топчан, крытый шерстяным одеялом. Дашка, подозрительно сопя, стянула ботинок со здоровой ноги, а потом стала помогать монаху высвобождать меня из шинели; стыдно, но я чуть сам не разревелся тогда и от боли, и от растроганности чувств. А потом монах решительно пресек все мои неуверенные возражения и разрезал повязку.
Что сказать? Гипс раскрошился и не держал. Синебагровая опухоль выросла еще больше, стопа теперь формой своей напоминала коровье вымя.
— Прошу извинить… может оказаться больно…
Куда уж больнее, хотел сказать я, но подумал, что это будет враньем. Вполне может быть и больнее. Впрочем, руки монаха оказались бережными. Он не столько ощупывал, сколько слушал руками. Или смотрел — судя по его же реплике:
— Я вижу по крайней мере два перелома… вот — лодыжка, а вот — плюсневая…
Потом он поднял лицо, улыбнулся и сказал:
— Что я говорил, Леонид Андреевич?., и новые гости пожаловали…
Я запрокинул голову. В дверях, ведущих в одну из двух комнат "Домбая", стоял высокий худощавый мужчина с котом на плече. Свет падал на него сзади, рисуя лишь силуэт. В следующую секунду кот мягко оттолкнулся, спрыгнул на пол, а с пола — мне на грудь.
— У-ух! — сказала Дашка. — Как его зовут?!
— Наполеоном, — ответил монах. — Но отзывается и на Бонни.
Кот сунул морду мне под мышку и мощно заурчал.
— Как тщательно он сегодня намывал гостей, — сказал человек в дверях знакомым голосом и вышел из пятна света, так что теперь я уже без сомнения узнал его.
— Здравствуйте, Леонид Андреевич. Мир тесен и странен…
— Простите… Я вас знаю?
— Вряд ли. Меня зовут Петр. Черышев. Мы встречались дважды — при довольно бурных обстоятельствах. Но — в толпе. Когда была утечка в лаборатории Галати. И еще на Радуге…
— Вы были на Радуге?
— Ну… как сказать… Я был на "Стреле". Так что самое интересное я пропустил.
— Черышев… Простите, не могу вспомнить. Тогда… тогда все было так… нервно.
— Да, конечно. Мы сразу улетели на юг…
— На те сигналы… Да-да. Помню. Не поверите, но — этот эпизод помню. Так, значит, это были вы?
— Не только я. Нас было два десятка.
— Конечно, конечно… — он стал всматриваться в меня, и я понял, о чем он думает. Но помогать не стал.
Дашка обошла его и положила мне руку на плечо.
— А вы — тот самый Горбовский? — спросила она вздрагивающим голосом.
— Да вроде бы я, — ответил он. — А как вас зовут, сударыня?
— Дарья. Дарья Петровна.
— Очень приятно…
— А уж как мне-то приятно! — заявила Дашка.
Я накрыл ее руку, прижал. Спокойно, сказал про себя. Она хотела выдернуть руку, но услышала меня и удержалась.
И вдруг Горбовский все понял. Я видел, как изменилось его лицо.
— Мир полон странных перекрестков, — почти повторил я.
— Леонид Андреевич, — сказал монах, — раз уж вы встали — сходите, пожалуйста, за льдом. Вы знаете, куда.
— Мм… да. Знаю. Конечно, знаю…
Он подхватил стоящее в углу ведро и вышел наружу. Мембрана сомкнулась за ним.
— Я плохой врач, — сказал монах. — Вернее, я совсем не врач. Так, эмпирик…
Он замолчал. Кот распластался по мне, тяжелый, мягкий, горячий. Казалось, он впитывает мою боль.
— Если использовать методы двадцатого века, вам придется задержаться у меня недели на две-три, — продолжал монах. — Или же — можно прибегнуть к активатору.
У меня есть полевой бета-активатор. Тогда вы сможете ходить уже завтра. Что из этого меньше противоречит вашим принципам?
— Если всерьез — не годится ни то, ни другое. Как ты считаешь, Дарья?
— Может быть, — сказала Дашка невпопад. Потом она включилась: — Не знаю, папа. Это уже не игра.
— Это и не было игрой.
— Ты делаешь вид, что не понимаешь меня. Я ведь о другом.
— А ничего другого нет. Понимаешь, просто нет, и все. Тебе показалось.
— О чем вы? — спросил монах.
— О Леониде Андреевиче!..
— Дашка, прекрати, — сказал я. — Прекрати. Простите, у вас есть гипс? Я не хочу выходить из того времени, но и трех недель у меня нет. Если сделать более прочную повязку…
— Не получится, — сказал он. — Во-первых, у меня просто нет гипса. Конечно, за гипсом можно слетать в Абакан… это не будет противоречить вашему обету?., впрочем, не важно. Самый прочный гипсовый сапог не защитит ногу от холода, будет отморожение и после — гангрена. Да и размокнет он на второй день… Поверьте, в двадцатом веке у вас здесь была бы четкая альтернатива: отлежаться в тепле — или умереть. В лучшем случае — потерять ногу. При такой вот пустячной травме. Весело, правда?
Я молча кивнул. Он был прав. Хотя признавать эту правоту не хотелось.
— Сейчас Леонид Андреевич принесет лед, обложим опухоль льдом, потом забинтуем. А вы пока подумаете… В каком году ваш предок был здесь?
— В тысяча девятьсот пятьдесят седьмом.
— И что, неужели он был один?
— Вдвоем. Он и мальчик-подросток. Они выжили после катастрофы маленького самолета и больше двух недель шли по горам.
— И сколько же ему тогда было лет?
— Пятьдесят шесть.
— A-а! И вы решили повторить его маршрут — в ваши-то годы? Извините, что об этом напоминаю, но… кости уже не те, да и силы, наверное…
— За что же тут извиняться? Все нормально… Знаете, я подумал вот как: будем активизировать… Представим себе, Дашка, что мы отлежались с месячишко в пастушеской хижине? Ты охотилась на коз…
— Нет, я охотилась на диких горных ежиков. Все хорошо, папка. Ты правильно придумал… — и она вдруг шмыгнула носом.
— Что такое?
— Да я вдруг… Понимаешь, я вдруг представила, что прапрапра вот так же подвернул ногу… и не дошел. И некому было его вылечить…
— Вся жизнь состоит из таких моментов, — глухо сказал монах. — Иногда мы их замечаем. Очень редко. Но именно из них по-настоящему и состоит жизнь.
Вошел Горбовский с ведром. Неловко потоптался у входа.
— Вот… я лед принес…
— Поставьте в уголок, пусть тает. Надобность отпала, Леонид Андреевич. Мы решили применить бета-активатор.
— A-а… Ну, понятно. Конечно. Да, это правильно. Вам еще чем-то нужно помочь, Роберт? Я чувствую себя бездельником.
— Вы гость. Но, если хотите, можете приготовить ужин. Нас, как видите, стало больше.
— Я приготовлю, — сказала Дашка.
— Но вы же еще больше гостья, — запротестовал Горбовский.
— Готовить буду я!..
— Лучше не спорьте с ней, — сказал я. — Во-первых, она действительно умеет, а во-вторых, вам ее не одолеть. Девочки в таком возрасте неодолимы.
Дашка просверлила меня взглядом и, вздернув короткий нос, повернулась к маленькой плите и продуктовому шкафу-стерилизатору.
— Мужчины, — презрительно сказала она, роясь в пакетах и коробках. — Одни консервы…
Ночью я сквозь тяжелую дрему услышал шепот. Не помню, что мне померещилось: какой-то зловещий заговор, наверное, — но я стал настороженно прислушиваться, одновременно всячески подражая спящему человеку. Но нет, это был не разговор, шептал один человек, монах, и я не мог разобрать слов. Будто бы угадывались имена: Ирина, Маргарита, Фатима, Анна-Мария… Герман, Игорь, Денис… Впрочем, я не уверен. Я лежал и вслушивался, а потом вдруг уснул.
К утру опухоль спала, и я даже смог, почти не опираясь на палку, пройти до нужника и обратно. Потом — вышел на крыльцо.
Солнце еще не показалось над хребтом, но небо было дневное. Длинные нервные облака летели высоко и стремительно, что-то предвещая. Но что именно, я вспомнить не мог. Именно по утрам я чувствовал, как сильно сдал за этот проклятый год…
Но воздух был сладок, и ручей — пел.
Я стоял, чувствуя что-то глубокое и настоящее.
А потом подошел Горбовский и встал рядом.
— Дурацкая ситуация, — сказал он тихо. — И надо бы попросить прощения, но знаешь, что будет еще хуже…
— Нет, — я вдруг засмеялся; смех был скрипучий. — Хуже уже не будет.
— Ох-хо-хо… — протянул он горестно. — Так вот всегда и бывает. Бросаешься помогать, не думая ни о чем. И главным образом о том, что с тобой побегут другие люди и что они тоже — люди…
— Нас заворожило название, — сказал я. — Надежда… Надо же было такое придумать.
— Я знал эту Надежду, — сказал он. — Ну, в честь которой… Надежда Моргенштерн, балерина. Поплавский был влюблен в нее всю жизнь, планету назвал… а она в его сторону даже не смотрела. Странная была женщина… Сколько вам лет, Петр?
Он спросил это — будто в ледяную прорубь прыгнул…
— Тридцать шесть. Плохо выгляжу?
Он не ответил. Из домика вышел кот Бонапарт и стал тереться о мою больную ногу. Уже не такую больную…
— Интересное вы затеяли путешествие, — сказал Горбовский очень не скоро. — Значащее. Я вот размышляю… Наша нынешняя жизнь — всё всерьез, но очень часто так: подойдешь к самому краю, а там — барьер, а там — страховка, спасатели дежурят… И вот — раз от раза — становимся слишком храбрыми, что ли. Наглыми. А когда вдруг — ни барьера, ни спасателей, и сделать уже ничего нельзя, и не отменить сделанное, и снова не начать…
— Да, — сказал я. — Это была авантюра. Но теперь-то уж… не бросать же на полпути. Дойдем.
— Я не об этом… — с тоской сказал он.
— А я — об этом. Только об этом.
Мы помолчали, переглянулись и пошли в дом.
1992, 1998
(время и герои братьев Стругацких)
— Вон-вон-вон прекрасное местечко! — пропела Лариска, перевешиваясь через борт глайдера и указывая рукой куда-то вправо-вперед-вниз; просторный рукав ее куртки затрепетал на ветру, и в размеренный шорох воздушного потока ворвался механический звук, от которого у Али на миг остановилось сердце: точно так же звучали сирены общей тревоги тогда на "Хингане"… "Убери руку!" — крикнула она и даже сделала движение — дать негодяйке по шее, — но глайдер тошнотворно ухнул вниз, задирая и поворачивая нос, и надо было его удерживать, выравнивать, возвращать на курс пеленга — это отвлекало от всего, даже от глыбки льда, медленно сходящей по пищеводу вниз, вниз, ничего, лед растает, ничего… А когда истекли секунды — впереди, прямо на кончике штыря пеленгатора, возникла шахматная бело-оранжевая башенка с прозрачным куполом, а еще через несколько секунд — яично-желтая плоская крыша с синими линиями разметки и одиноким серебристым "стерхом", небрежно, как карандаш на столе, забытым на краю поля. Не смахнуть бы его, подумала Аля. Она просунула руку под панель, нащупала установочный узел. Вот эти бугорки… Легкими движениями пальцев она начала смещать вектор тяги. Достаточно… Шум воздуха стих.
Аля оглянулась. Желтое поле было теперь слева и медленно уходило под корму. Она развернула послушную — чересчур послушную — машину. Положила руку на регулятор тяги. В этой цепи ток был, но как среагируют эффекторы на команду при выбитом доминаторе: пропорционально или дискретно — ведомо лишь… Она покосилась на выдранные с мясом панели автопилота. Ты-то знаешь, конечно. И ответишь. Только вот не мне и не сейчас…
Сжавшись, она потянула ручку на себя. И журчание двигателя послушно и плавно сменило тон.
Аля откинулась на спинку. Хорошо, что ветерок… а то бы так разило потом… Лариска, кажется, поняла все: смотрела прямо перед собой и неслышно дудела на губе. Зато Тамарка с заднего своего сиденья перегнулась, просунулась вперед и сыпала вопросами, и Аля, как спикер-бокс, отвечала, отвечала, отвечала, изо всех сил стараясь, чтобы голос звучал легко. Глайдер медленно снижался и медленно скользил вперед, описывая неправильную спираль вокруг посадочной площадки, и кружился вокруг буйный лес с редкими свечами цветущих поднебесников, и синий, синее неба, хребет Оз, до которого так и не долетели, сменялся белым далеким хребтом Академии, от подножия которого, позавтракав, вылетели на прогулку…
Ну, все. Аля направила глайдер вдоль посадочной площадки, задрала нос, сбрасывая остатки скорости, и выключила двигатель. Генератор по инерции крутился еще несколько секунд, и этого как раз хватило, чтобы сесть без лишнего шума.
Лариска хмуро посмотрела на нее и вдруг молча полезла через капот раздатчика, давя и разбрасывая остатки автопилота, и обхватила Алю за шею, и запричитала тоненьким голоском, неразборчиво и торопливо, и Тамарка басом подхватила и тоже повисла на шее, и все поплыло, и Аля, мгновенно ослабев, заревела в голос. Она видела через завесу слез, как кто-то бежит к ним — два или три человека. Но это не имело никакого значения…
Она даже поспала немного — переживания, избыток кислорода, глоток чего-то горько-сладкого сделали свое дело. Странно: обычно она запоминала свои сны, а момент пробуждения тем более: это были секунды подлинного счастья. Иначе оказалось на этот раз: помнить и понимать себя Аля начала лишь после душа; все предыдущее было смазано, нереально, расплывчато. Зато и полет на свихнувшемся глайдере воспринимался легко, как событие позапрошлого года. Можно было продолжать жить, не обмирая от ужаса, что под тобой и девчонками — непроходимые болота и джунгли, полные жутких зубастых прожорливых тварей…
Приведенный в порядок охотничий костюмчик издавал запах озона и будто бы потрескивал — настолько был чист. Аля, ежась, натянула его на себя, вспушила волосы, похлопала себя по щекам: полевые косметические процедуры. Всмотрелась в отражение. Неплохо, прямо скажем. Особенно когда вот так: взгляд вполуприщур… Она засмеялась и пошла к людям.
Было, наверное, за местный полдень, а если по внутренним, земным, кейптаунским еще часам — то поздний вечер. На открытой галерее, куда выходила дверь ее комнаты, никого не оказалось, лишь маленький кибер полз вдоль стены, доводя чистоту до абсолютной. Аля постояла у перил. Джунгли были вот они — протяни руку. Синеватые, в сиреневых прожилках, листья лягушачьей пальмы качались перед лицом, и вереница жуков-оборотней двигалась по ним, тропя новый, имеющий неявный смысл, маршрут. Про жуков-оборотней вчера рассказывал доктор Пикач — может быть, слегка привирая для интереса. Якобы, помещенные в нужные условия, они могут развиться в любой живой организм Пандоры, а как доктор Пикач предполагает еще — и не только Пандоры. Что — неужели и в человека? Ну, если удастся подобрать ключ к коду… Но это же ужасно! Ужасно, согласился доктор Пикач и непонятно задумался. Аля всмотрелась в жуков. Размером в ладонь, темно-бронзового цвета, длинноусые, очень похожие по форме на земных бронзовок, они ритмично шагали по пальмовым листьям, перебираясь с одного на другой, и если расфокусировать взгляд и смотреть вдаль, казалось, что пальму обвивает свободно брошенная бесконечно длинная бронзовая цепочка.
Аля двинулась вдоль перил в сторону трапа, ведущего на крышу. За пальмой в ряд стояли минные деревья — сейчас в цвету. Алые и белые шары, издающие запах свежевыпеченного хлеба. Плоды их будут смертельно опасны. Всех, ступающих на землю Пандоры, учат — до синевы под глазами и нервного тика, — как распознавать и обходить семенные коробочки минных деревьев, и все равно ни одна осень не проходит без смертей и увечий. Об этом тоже рассказал доктор Пикач. Он мог бы рассказать еще о тысяче вещей, но тут набежали девчонки, и доктор стушевался: видимо, в его планы не входило семейное развлечение.
Аля почти поднялась на крышу, когда все вокруг на мгновение потемнело и джунгли скрылись за молочно-белой стеной: кто-то нежелательный и сильный попытался преодолеть защитную мембрану. Потом мембрана вернула себе прозрачность, и Аля увидела нарушителя: трехметровая птичка, состоящая практически из одного клюва, молотила по воздуху куцыми крылышками и размахивала длиннющими ногами. Как-то она сумела наконец развернуться, в этих ногах не запутавшись, расправила межпальцевые перепонки — и потрещала, не оглядываясь, между пальмами, над верхушками минных деревьев… Гарпия гнусная ногокрылая — было полное имя этой пташки. А также — скунс перелетный.
Все были тут — наверху, на ветерке. Девчонки, подвязавши волосы, прыгали — хвосты пистолетом — и бестолково размахивали ракетками перед двумя парнями, которые им явно подыгрывали. А третий абориген грустного вида сидел, опершись спиной о ее глайдер, и пил что-то из высокого черного бокала. Увидев Алю, он поднял бокал, салютуя, и похлопал ладонью рядом с собой: приземляйся, мол, еще раз. Нравы у аборигенов были простые.
Этот, по имени Стас, наверное, местный вождь, подумала Аля. Он старше всех, и оба воина племени слушаются его. Вековая мудрость тяжелит его веки, и темнит взор, и серебром покрывает власы… нет, правда: молодое лицо, вряд ли сорок, а глаза старые, и какая-то усталость во всем: в жестах, в позах… Она вспомнила, как слушал он ее рыдания и ругань. И улыбнулась.
— Здравствуй, вождь, — сказала она. — Ты позволяешь мне сесть с тобою рядом?
— Садитесь, садитесь, — сказал Стас и зачем-то подвинулся. — Хотите вина? Оно местное, но из настоящего винограда.
— Немного, — сказала Аля. — Попробовать.
Она села. Бок "джипси-мот" был теплый и пружинисто — податливый.
— Я еще не говорил, что восхищаюсь вами? — спросил Стас, наливая ей в такой же, как у него, бокал бледно-розовое вино. — Так вот, я восхищаюсь. У "джипси" боковая устойчивость отрицательная, считается, что его без автопилота не то что посадить — развернуть нельзя.
— Хорошо, что я этого не знала, — сказала Аля. — Приятное вино.
— Вино доброе, — сказал Стас. — Жаль, что о планете этого не скажешь.
— Вам не нравится Пандора? — удивилась Аля.
— Почему же не нравится? Замечательная планета. Только вот доброй ее не назвать… — Стас запрокинул голову и посмотрел в небо. Аля непроизвольно повторила его движение.
В зеленоватом, океанского цвета, небе на немыслимой высоте сталкивались и сминались когтистые крылья облаков.
— Поэтому люди и стремятся сюда, — продолжал он. — Отдохнуть от чересчур доброй Земли.
Аля промолчала. В разговор проникли странные нотки; в таких случаях она, чтобы не выглядеть дурой, предпочитала пропускать ход.
— Чем вы занимаетесь? — немного другим — более живым? — голосом спросил Стас; головы он, впрочем, не повернул и продолжал смотреть в небо. — Космос? Биосферы?
— Не угадали, — засмеялась Аля. — Я библиотекарь. Гутенберговский центр, Кейптаун, слышали?
Это вождя проняло. Он мгновенно сел прямо и, по-грачьи наклонив-повернув голову, буквально впился взглядом в ее лицо — будто силился узнать. Так продолжалось не меньше секунды. Потом он расслабился, обмяк, отвел взгляд.
— Странно… — он сглотнул.
— Мне самой странно, — заговорила, чтобы погасить неловкость, Аля. Она улыбалась и чувствовала, что улыбка идиотская, но согнать ее с лица не получалось, и переменить тон — тоже. — Я, понимаете, девчонкой еще занималась воздушными гонками, двадцать лет прошло, думала, перезабыла все, в глайдер сажусь утром — будто в первый раз пульт вижу, и вдруг высота километр, и он мне начинает выдавать черт-те что…
— Доминатор сварился, — сказал Стас. — Здесь иногда такое случается. Я переналадил автопилот, теперь он совсем безмозглый, зато очень послушный. Как велосипед.
— Вы смогли его наладить?! — восхитилась Аля. — Я его так ломала, что думала — навсегда…
— Очень трудно что-то сломать навсегда.
— Значит, нам уже можно лететь?
— Как только вам наскучит с нами. Девушки уже рассказали о ваших планах. Кстати, для такого маршрута вам было бы разумнее взять "стерх". Например, наш.
— Спасибо, но это… мне даже неловко…
— Для неловкости нет оснований. Впрочем, жажду благодарности вы можете утолить очень простым способом.
Аля приподняла бровь:
— Очень простым?
— Самым простым. Когда вернетесь домой, пришлите мне реставрат первого русского издания "Графа Монте-Кристо".
— Диктуйте адрес.
— Пандора, Академия, точка "Ветер". Нуль-связи здесь нет, поэтому шлите на любой номер Академии, мне передадут.
— Простите, а фамилия?
— Ах, да. Попов. Станислав Попов.
— Я обязательно сделаю. А почему здесь нет нуль-связи?
— Не может же она быть везде.
— Наверное…
Они помолчали. Здесь что-то не в порядке, вдруг поняла Аля. Острое чувство неловкости накатило и задержалось — будто она неожиданно стала свидетелем чужой семейной ссоры. Только здесь не было ни семьи, ни ссоры…
— А вы здесь живете? — спросила Аля. — В смысле — постоянно?
— Пожалуй, да, — неуверенно сказал Стас. — Пожалуй, постоянно… Знаете что? Давайте устроим праздничный ужин. Не каждый день сюда падают гостьи-красавицы. На Земле, если я не путаю, двадцать первое ноября? Сегодня же день рождения Вольтера! Четыреста восемьдесят шесть лет старичку. Отметим?
— Вы заранее готовились?
— К чему?
— В смысле Вольтера?
— Нет, я просто знаю. О, это пустяк. Можете задавать любые вопросы — отвечу быстрее БВИ. Хотите попробовать?
Стас заметно оживился: заблестели глаза, появилась улыбка: азартная, мальчишеская.
— Н-ну… — Аля задумалась. — Автор "Свинцовых обелисков"? Год первой публикации?
— "Свинцовые обелиски" — первый роман Сергея Закревского, выпущенный им под псевдонимом Алан Шварцмессер. Астрахань, издательство "Дельта", тысяча девятьсот девяносто седьмой год. Четыреста пятьдесят пять страниц, газетная бумага, тираж две с половиной тысячи экземпляров. О творчестве Закревского рассказать?
— Не надо… — Совпадение, неуверенно подумала она. Или он действительно знает все? — Сейчас придумаю посложнее. Какое произведение Кливленда Дина Кегни выдержало максимальное количество изданий?
— Учебник "Основы математической статистики" издавался на языке оригинала и в переводах на протяжении семидесяти лет. Общий тираж…
— Ой, нет! Подождите. Удивительно… Это касается только литературы?
— Нет, — покачал головой Стас. — Всего.
— Всего?
— Да. Я знаю практически все. Разумеется, поверхностно.
— И что такое "принцип Смогула"?
— Это из области инфраинформатики. Якобы в крупных информационных сетях имеет место инверсия причинно-следственных связей. Следствие влияет на причину, и в результате возникает как бы обратный ход времени: мы начинаем получать информацию из будущего. Безадресную и рассеянную, но — информацию. Смогул пытался ее уплотнять и обрабатывать…
— И — что?
— Вы не знаете?
— Н-нет, наверное…
— Он покончил с собой. Оставил письмо. Совершенно непонятное. Цитирую: "Тем, кто живет. Финал провален. Скучно. Спасибо за роль. Увидимся после всего. Рышард Смогул".
— Грустно, — сказала Аля. — Только что уж тут непонятного.
— Вы не представляете себе, сколько толкований этого текста было сделано.
— Ладно. Тогда, если можно, еще вопрос… я вам не надоедаю?
— О, конечно, нет.
— Кто вы, Стас?
Аля спросила это — и похолодела. Лицо Стаса на миг застыло, сделалось ледяной маской, а когда ожило — было почти лицом старика. И улыбка, насильственно возвращенная на место, растянувшая сероватые губы, — ничего прежнего уже не вернула.
— Кто я? — тихо сказал он и зачем-то тронул себе ладонью подбородок и щеку. — Пожалуй… — и замолчал.
— Кажется, я нашла вопрос, на который вы не знаете ответа, — прошептала Аля.
Стас посмотрел ей в глаза. Она почувствовала, как первобытный страх вливается в нее с этим взглядом. Потом лицо Стаса сделалось почти прежним.
— Да, — сказал он равнодушно. — Один из примерно полутысячи.
Праздничный в честь господина Вольтера ужин прошел чинно и благородно. Стас был весел и легок, произносил тосты, рассказывал анекдоты, а также обильно цитировал виновника торжества. Его более молчаливые товарищи тоже не оставались в тени, хотя — Аля отметила это не без удивления — не производили никакого впечатления. Люди без качеств. Она все еще не очень твердо знала, кто из них Тони, а кто Мирон. Не потому, что были похожи друг на друга, а потому, что были похожи на всех молодых людей сразу. С непонятным, но напоминающим брезгливость чувством она осознала, что уже завтра, встреть она Тони-Мирона, — не узнает его. Для Лариски же и — подавно — Тамарки это были блистающие рыцари без страха и упреку. Паладины. Или тамплиеры. Девчонки таяли и щебетали.
Нет, что-то крупно не в порядке здесь, на этой "точке "Ветер". Что-то здесь не так, как подобает быть. Слишком никого нет — в разгар курортного сезона. Два десятка комнат — пустые. И не научная это станция, хотя и принадлежит Академии. Впрочем, Академии принадлежит много чего…
— …а техника там — девятнадцатый век, все на уране, изношено, как черт знает что: сравнить не с чем. Но ездят они и летают — и мы с ними, что же делать. И вот такая ситуация: над джунглями — а летим мы впятером, двое местных и нас трое — мотор вертолета начинает чихать, чихать — и останавливается. Хорошо, высота приличная была, автораскрутка сработала — сели. А джунгли там не чета пандорским… скажи, Тони.
— Древний укрепрайон. Пятьдесят лет его строили, потом десять долбили, но столько всего осталось…
— Сели мы на полянку, винт крутится еще, тишина, только шестеренки урчат да мотор потрескивает — остывает, значит. Сидим, в себя приходим. И вдруг — тихое такое… не гудение, не звон, а — по краю бокала пальцем провести…
Прогрессоры, с облегчением подумала Аля. Я навоображала себе черт знает чего, а это — просто Прогрессоры. Говорят, где-то здесь у них то ли база, то ли центр реабилитации, туда не пускают посторонних… хотя нет, это не здесь, это в южном полушарии — Алмазный пляж… Все равно, Прогрессоры — это отдельно. Она огляделась. Девчонки, конечно, внимали, открыв рты, Мирон из посуды и собственных рук творил панораму события, Тони ему помогал, улыбаясь чуть снисходительно и отпуская комментарии, а Стас… Лицо его было безмятежным, и он, казалось, с удовольствием слушает рассказчика — но костяшки пальцев, сжимавших нож и вилку, побелели; стейк так и лежал перед ним на тарелке, нетронутый. Поймав взгляд Али, он осторожно положил предметы на стол, виновато улыбнулся и шепнул: "Сейчас вернусь". Аля видела, как Тони кивнул, а потом посмотрел на часы. Она тоже посмотрела на часы. Было четырнадцать после полудня местного, значит, около пяти по Гринвичу. Спать не хотелось абсолютно. Солнце цвета остывающей стали висело меж черных ветвей, и было хорошо видно, что солнечный диск — и не диск вовсе, а эллипс, перечеркнутый по большому диаметру тонкой, как волос, темной чертой. За пределы диска черта продолжалась тускло-багровыми, с золотыми вкраплениями, полосками, постепенно сходящими на нет, тающими в розовом зоревом мареве. С орбиты Кольцо производило еще более сильное, потрясающее впечатление…
Все было безмерно чужим.
На миг не стало хватать дыхания и объема. Почти в панике, Аля огляделась. Глыбы пространства, как глыбы невидимого льда, погребли ее, отделяя от живущих. Непреодолим был лед… Она смотрела — и видела все как бы с огромной высоты, из бесконечности, оттуда, где нет ни воздуха, ни света. Плоско-невыразительные, лежали, слегка двигались и производили ненужные звуки изображения тел и предметов. Это называлось жизнью и ни для чего другого не было предназначено.
Потом дыхание вернулось — с жаром и грохотом. Воздух распахнулся, и оказалось, что за ним скрывается белое пламя. Каждый звук, умноженный пламенем, взрывался под черепом, раскалывая и дробя. Огромная пылающая рука упала на лицо и сжала, сжала, сминая кости, глаза, мозг. Еще немного, пришла мысль, еще немного. Чувство финала, чувство близости великой цели. Одуряющий запах раскаленных роз. Торжество пламени. Все исчезает в белом сиянии, моментальные красные контуры, голубой пепел…
— Мама, мама, что? Тебе плохо? Ты меня слышишь? — Лариска рядом, и Тамарка подскочила, и обе трясут за руки, за плечи, и встревоженные морды Тони-Мирона на втором плане, и громадный цвета черных вишен полуэллипс за их плечами, и вверх рогами голубой серп над головой, и хлебно-медовый запах цветущих деревьев, невидимых в темноте, и шуршание мягких крыльев за мембраной, и легкое подрагивание пола в такт далеким многотонным шагам, и возвращение в собственное "я" из ниоткуда — это восхитительно. Никто не знает по-настоящему, как это восхитительно…
— Нет, все хорошо, устала, надо поспать, поспать… — Язык послушен, и довольно. Довольно на сегодня. — И вам — спать. Всем спать.
— Правильно, — издалека говорит Тони-Мирон, — только примите снотворное, а то проснетесь среди ночи, ночи же здесь длинные, что будете делать тогда?..
— Примем-примем, — говорит язык, — да мы и без снотворного…
— Ни-ни, — Тони-Мирон машет в воздухе огромным, как баллон, пальчиком, — у Пандоры свои странности, без снотворного никак не можно…
У нас тоже свои прибабахи, хочется сказать языку, но Аля укрощает его и отправляет в конуру, и позволяет девчонкам взять себя под локотки и вести, вести, вести, дорога дальняя, а ночка лунная, три луны, и в темноте, далеко-далеко, Тони-Мирон переговаривается сам с собой и говорит сам себе, думая, что его не слышат: это инсайт. И, соглашаясь сам с собой, кивает.
Уже в вертолете, описывая прощальный круг над желтым квадратом с пестрой букашкой глайдера на краю и тремя игрушечными человечками, отбрасывающими неприятно длинные тени, Аля почувствовала, как ее отпускает что-то, не имеющее названия и места приложения, но сильное, четкое и цепляющее. Будто вырывались с корнем проросшие в тело — ночью, неслышно — нити.
Свобода, — возникло слово.
— А он тебе понравился, — ехидно сказала Лариска. — Я видела, как ты на него смотрела.
— Ну и что? — Аля тряхнула- головой, сбрасывая с глаз мешающую прядь. — Мало ли кто мне нравился?
— Нет, он хороший, — встряла Тамарка. — Только все время о чем-то думает.
— Он знает много, — сказала Лариска. — И так хорошо все объясняет. Я вот не понимала, как время может быть многомерным…
— Это вы что — в школе проходите? — изумилась Аля.
— Интерметтивный курс, — важно и непонятно объяснила Лариска.
— С ума сойти, — сказала Аля. Давно — в прошлой жизни — Камилл пытался втолковать Ламондуа, Прозоровскому и ей, соплячке (подвернувшейся случайно), именно это: многомерность времени. Потом Камилл ушел. Розовый и потный, Ламондуа водил пальцем по столу, потом, не поднимая глаз, буркнул: "Как думаешь, Лев, возьмут нас в зоопарк?" — "Меня возьмут", — сказал Прозоровский.
Славное было время…
И вдруг она вспомнила. Не мысль, не картина всплыли, нет — тень, привкус, полузвук… но из тех славных времен. Аля цыкнула на девчонок и осторожно, чтобы не сбиться, стала притрагиваться к тому, о чем вспоминала только что. Прозоровский… нет. Зоопарк… нет. Ламондуа… н-нет… кажется, нет. Камилл…
Камйлл.
Вот оно: Аля только-только начала работать в Гутенберговском центре, и кто-то — Амет-хан? — несколько раз приглашал Камилла на консультации, и раза два Камилл на эти приглашения отзывался; а запросы, вынуждавшие Амет-хана скручиваться в тугой жгут, исходили от некоего Попова… и вообще бытовала фразочка: "Работать на Попова" — то есть искать и находить нечто такое, о чем все давно забыли либо никогда не знали. Для Али Попов был чистой абстракцией…
Проверим. Амет-хан стар, но бодр.
Джунгли кончились, начались предгорья, изумрудные холмы, муаровые луга, и через десять минут внизу, на берегу озера Ахерон, возникла ярко-оранжевая перекошенная буква "Ф" — посадочная площадка курорта Оз-на-Пандоре. Аля запросила разрешение на посадку и заказала срочный сеанс нуль-связи с Землей, с номером — и она по памяти назвала номер Амет-хана. Никто не помешал ей садиться, она приткнула вертолет в отведенный ей сектор, торопливо выбралась сама и подстраховала выпрыгивающих девчонок. Земля была удивительно прочной и надежной — только сейчас Аля поняла, что во время полета страшно боялась… чего? Непонятно. Кажется, не хотелось признаваться себе, чего именно она боялась.
Даже ноги подгибаются…
Амет-хан пил кофе. По этому нельзя было судить, какое вокруг него время суток: Амет-хан пил кофе всегда. Обрадовался он Але или нет, тоже был неясно: лицо Амет-хана всегда было непроницаемо, как лицо индейского вождя. Он внимательно Алю выслушал и ответил: да, в шестьдесят первом году появился такой чрезвычайно активный абонент с полным доступом КОМКОНа.
Лично Горбовский следил, чтобы его обслуживали с максимальной эффективностью. Как понял сам Амет-хан, Попов был контактером — хотя с кем именно он вступал в контакт, осталось для него неизвестным. Эта эпопея продолжалась шесть лет со все нарастающей интенсивностью информобмена, а потом внезапно оборвалась. Амет-хан слышал краем уха о некоей странной катастрофе, в которой Попов не то погиб, не то пропал без вести. Как Але должно быть известно, кодекс информистов запрещает им интересоваться личностями и судьбами абонентов. Поэтому лучше всего обратиться в БВИ. До свидания, Александра.
До свидания…
В БВИ… Поповых — миллионы. Формальных данных она не знает. Хотя… он же был абонентом с Полным допуском! А таких единицы.
Але повезло: на абоненте дежурила Дайна. Без лишних слов она вызвала архив шестьдесят первого года, Поповых много, но ни одного с допуском КОМКОНа, Станислав Игоревич есть, но ему девяносто восемь лет… То же самое — в архивах шестьдесят второго, шестьдесят третьего… Я же помню, был такой! — растерянно сказала Дайна. — Мы же на него пахали, как землеройки. — Спасибо, Дайна, я все поняла, — сказала Аля и отключилась.
На новый вызов сначала долго никто не отвечал, хотя экран осветился; потом появилась недовольная неизвестно чья физиономия. Позади нее бродили блики в пересечениях полупрозрачных нитей, и что-то большое, бесформенное — тошнотворно-медленно проворачивалось, погружаясь в самое себя.
— Здравствуйте, — сказала физиономия. — Вам меня?
— Здравствуйте, — отозвалась Аля. — Нет, лучше Валькенштейна.
— Это срочно?
— Да.
— Одну минуту. Но предупреждаю: он будет свиреп. Марк Наумович!
Действительно, возникший Марк был свиреп. Седые кудри обжимал полушлем, на лоб косо сползали странной формы фасетчатые очки. Но, увидев Алю, Марк мгновенно растаял:
— Ох, Алька! Какими судьбами? Где ты?
— На Пандоре. Курорт Оз.
— И девчонки с тобой?
— Ну, разумеется.
— А далеко?
Аля оглянулась. Девчонки в соседнем зале свисали с буфетной стойки.
— Далеко. Марк, у меня серьезное дело. Точнее, странное. Я ничего не могу понять, но мне почему-то жутко. Короче: ты можешь связать меня с Горбовским?
Марк ладонью провел по лбу. Полушлем с очками остался у него в руке. Кудри расправились, брови немного опустились, глаза чуть прищурились. Это был почти прежний Марк — тот, которого она так любила. Сильный и безупречно надежный. Не укатанный еще никакими крутыми горками.
— Рассказывай, — потребовал он, и она послушно стала рассказывать.
Они улетели, а я остался.
Погано было на душе — или в том месте, где у человека, по обычаю, располагается душа. Хотелось выпить вина, или подраться, или расколотить что-нибудь. Но ничего этого делать было нельзя, и даже думать об этом было нельзя.
— Ладно, — сказал я Мирону. — Кто куда, а я под душ.
Тони уже спускался по трапу — рапортовать.
— По-моему, получилось все неплохо, — внутренне суетясь, продолжал я. — Вроде бы обошлось, а? Как тебе показалось?
Мирон помолчал, я обошел его и направился к трапу. С Мироном трудно разговаривать. По крайней мере, мне.
— У нее был инсайт, — сказал он. Как выстрелил между лопаток.
— Когда? — обернулся — нет, повернулся всем телом — я.
— На этом дурацком ужине. Когда ты ушел.
— Когда ушел… Глубокий?
— Видимо, да. Ночью я проверил ее медиатроном. Сплошные красные поля.
— Это ни о чем не говорит. После той встряски… — Я понимал, что говорю глупость.
— Это был инсайт. Можешь мне поверить. Надежда только на то, что — не развернется.
Надежда была хилая, и мы это отлично знали.
— Инсайт так инсайт, — сказал я. — Мне же хуже.
Я старался, чтобы голос звучал ровно. Инсайт вкупе с тем, что она — умная женщина — увидела и услышала здесь… это все равно, что взять и рассказать прямо. Хотя… что с того? Иного не дано, разве что — свинцовая пломба…
— Как я устал, — сказал вдруг Мирон. Никогда я от него ничего подобного не слышал. — Знал бы ты, как я устал.
— Извини, — сказал я. — Старайся не стоять рядом.
— Я не от этого, — качнул он головой. — Хотя, может быть, и от этого тоже…
— Я буду у себя, — сказал я. Он не ответил.
Дома я выгнал кибера и сделал уборку — сам. Предварительно включив воспроизведение ночных записей. От меня долго все это прятали, и я уже нафантазировал себе неизвестно что. Потом пришел Салазар и разрешил мне их просматривать. Первому. И даже стирать то, что я хочу стереть. Правом цензуры я не воспользовался ни разу. Были и остаются у меня на этот счет свои соображения. Ну а еще потому, что в сравнении с тем, что я ожидал увидеть, мои реальные действия ничего особенного собой не представляли. Странно я себя вел, это да. Но не омерзительно. Не так, как я ожидал, исходя из запомнившихся обрывков сновидений — и из поведения тех, досалазаровских, психологов.
Изодранные простыни и пропоротую подушку я сунул в утилизатор. Туда же отправил рассыпанные пуховые шарики. Вернул на место кушетку и кресла. Поставил на полку книги. Странно: я никогда не рвал книги. А может, и не странно… Делая все это, я краем глаза поглядывал на экран, прихватывая и монитор медиатрона. Все шло как обычно, и ноограммы светились в полном спектре, но больше — в крайних цветах, красном и синем. И прежде бывало именно так, и этих снов я не запоминал никогда, а только те, что лежали в желто-зеленой полосе. И сам я на экране был обычный: гиббон гиббоном.
Короче говоря, ночь как ночь, лишь одно происшествие было: около полуночи кто-то подходил к двери и пытался открыть ее снаружи. Охранная программа это засекла и задала, естественно, вечный вопрос: что делать? И ответа, понятно, не получила. Я вернул это место и просмотрел все подробно. Ноль часов пятнадцать минут. Короткий стук в дверь, кто-то трогает ручку. Я в это время сижу на столе в какой-то дичайшей позе и веду разговор сам с собой, но разными голосами: мужским, взволнованным, задаю короткие вопросы — и отвечаю женским, задыхающимся, как после долгого бега, красивым, глубоким, за один такой голос в женщину можно влюбиться по уши и навсегда — причем все это на языке, которого я не знаю и не знал никогда. На медиатроне желтое с оранжевыми облачками свечение. Ничего не помню… За дверью еще раз пробуют замок и уходят.
Да, чего только не услышишь, стоя под дверью…
Чего только не подумаешь.
Я закончил уборку и пошел мыться. Пустил мозаичный душ и долго крутился под ним, смывая пот и напряжение. Потом пустил просто теплый, с легкой ионизацией. Потом перебрался в сушилку и там, качаясь в гамаке под мягким обдувом, почувствовал наконец, что — расслабился.
Час прошел с их отлета. Может быть, уже сели. На всякий случай — еще полчаса полного покоя.
Не одеваясь, я прошел в комнату, оказался около книжных полок, расслабленно и не глядя протянул руку, взял книгу — это оказался Боэций. И прекрасно, подумал я, падая в кресло. Книга сама собой открылась на первой главке "Утешения".
Как хороши бумажные книги! Они ненавязчиво предлагают тебе любимые тобой страницы, они хранят характеры и запахи своих владельцев, с ними уютно. В книгах есть что-то от пожилых мудрых кошек.
"Тем временем, пока я в молчании рассуждал сам с собою и записывал стилом на табличке горькую жалобу, мне показалось, что над головой моей явилась женщина с ликом, исполненным достоинства, и пылающими очами, зоркостью своей далеко превосходящими человеческие, поражающими живым блеском и неисчерпаемой притягательной силой; хотя она была во цвете лет, никак не верилось, чтобы она принадлежала к нашему веку…"
Очаровательно, подумал я. И как все легло: и над головой, и во цвете лет, и насчет неисчерпаемой притягательной силы очень верно подмечено… Согрел и умаслил меня стойкий мудрец нечаянной своей интрагнозией. Я читал и читал дальше, будто шел по знакомой тропе к дому, а время тоже шло, и вот он, стих десятый: "Сюда, все обреченные, придите в оковах розоватых, тех, что страсти на вас обманчивые наложили. Страсть обитает в душах ваших, люди. Здесь ждет покой после трудов тяжелых. Здесь сохраняет тишину обитель — убежище для бедных и гонимых… Слепые не прозреют, заблуждений им никогда не превозмочь несчастных. Земля все погребет в своих пещерах. Величие, что небесам пристало, и душу тот лишь сохранит, кто сможет узреть тот свет, который ярче Феба, и может все затмить его сиянье".
Где-то внутри звякнул неслышный колокольчик, я встал, поставил книгу на место и пошел одеваться. Надел шорты и натягивал майку, когда в дверь стукнули и голос Тони позвал: "Стас!"
— Иду, — сказал я.
Тони был раздражен и недоволен, хотя и старался ничем этого не выказывать; мимика была в порядке: добродушная полуулыбка. Однако с недавних пор я метрах в двух-трех стал ощущать эмоции и общие намерения человека. Ощущал я это почему-то правой щекой, а напоминало это обоняние. Понятно, что делиться сведениями об этом новом своем качестве я пока не торопился. Так вот, Тони был недоволен, хотя очень хорошо скрывал свои чувства. О причинах же недовольства догадаться было легко…
— Меняем квартиру, Стас.
— Из-за инсайта?
— Мирон сказал? Да, сам понимаешь… так вышло…
Я вдруг почувствовал, что ему стыдно. Стыдно передо мной. Это было уже лишнее, поэтому я улыбнулся и пожал плечами:
— Да, я понимаю. Так вышло. Ладно, мне собраться — сам знаешь.
— Да. Стас. Собирайся потихоньку. Никто не торопит.
Это все-таки Пандора, не Земля: одноразовые вещи здесь не в ходу, приходится иметь запас одежды и прочих вещей, так что два полных увесистых чемодана со мной были: с гардеробом и надзирающей аппаратурой один и с библиотекой — другой. Также и сопровождающие мои были увешаны сумками и футлярами. Тони активировал киберкомплекс, и после нас здесь все будет вычищено под ноль, а Мирон извлек из обоймы ампулу с ксимексом и продемонстрировал мне. Ксимекс был микрокапсулированный, молочно-белый: значит, мне обеспечено минимум шесть часов комы — или нирваны? В общем, беспамятства. Процедура необходимая, потому что пролетать мы наверняка будем над населенными территориями, а кому же это надо: сводить с ума стада компьютеров и киберов, имеющих блоки-доминаторы? А шесть часов — значит, лететь далеко. По условиям содержания я не должен был знать координаты места. Не понимаю, зачем. Все равно на второй-третий день я смогу назвать их с точностью до угловых секунд.
Короче, забросив чемоданы в багажник глайдера, я повернулся к Мирону и закатал рукав. Но Мирон смотрел мимо меня и поверх моей головы, я обернулся: на нас круто пикировал "гриф".
— Закон парности, — пробормотал Мирон.
— Он же вмажется! — закричал Тони и замахал руками — будто это помогло бы "грифу" не врезаться.
Хотя, может, и помогло: вертолет, выкрашенный необычно: в ядовито-зеленый цвет с коричневыми разводами и черными зигзагами — завис метрах в трех над площадкой. Могучим воздушным ударом нас чуть было не снесло. Глайдер, по крайней мере, крутнулся и отъехал почти к самому краю. Потом "гриф", произведя сотрясение уже не только воздуха, припечатал себя к площадке. Дверь салона отсутствовала; из проема сразу же, не дожидаясь положенного по правилам останова лопастей, выскочили трое в охотничьих костюмах и, что характерно, с карабинами.
— Парни, вы что — с ума?.. — Тони шагнул им навстречу, но один из прилетевших небрежно отодвинул его в сторонку стволом карабина. Что-то в них троих было очень необычное — настолько, что не улавливалось сразу. Они остановились в двух шагах от меня, и один, который шел посередине, не разжимая губ, спросил:
— Попов — это вы?
Мысли летели сквозь мою бедную голову, не задерживаясь, так что вполне можно было сказать, что я ни о чем не мог думать. Поэтому я просто кивнул и голосом подтвердил:
— Я — Попов.
— Вы полетите с нами, — сказал он.
Тут я понял, что в них было необычного. Они имели одно и то же лицо. Разные фигуры — тот, который говорил со мной, был ниже меня на полголовы и пухловат, а двое других — повыше и в плечах пошире, но один мускулисто-литой, здоровенный и тяжелый, а второй — костистый и жилистый, но тоже, наверное, очень сильный.
Тройняшками они не были. Просто у них было одно и то же лицо.
Краем глаза я видел, что Мирон медленным движением снимает с плеча сумку, а Тони пятится, и в этот момент коротышка выбросил прямо к моему лицу руку — я увидел черный блестящий зрачок глушилки-станнера. Их применяют для обездвиживания крупного зверя. Я не был крупным зверем, поэтому и грохнул по мне коротышка не полной мощностью — я еще успел заметить, как прыгнул на мускулистого Мирон и как Тони затанцевал, разгоняясь… но время закачалось вперед-назад, и снова Мирон прыгнул, и снова, и опять, и все чаще, без пауз, слилось, а потом черные воронки выстрелов стали появляться то здесь, то там, медленно прокручиваясь и затягиваясь, и вновь лишь рябь — а потом синяя, как небо над Гималаями, пустота…
В начале было слово.
— …уже после их Гражданской войны, когда неграм дадены были равные права и все такое прочее — эмансипация, слышали? — так вот, начали негры торговлишку. За бедностью общей приходилось им открывать лавки свои в темных амбарах да в подвалах. Масло для освещения в то время было дорого, так что негры на освещении экономили изрядно. А "лавка", "магазин" по-английски будет "шоп". Отсюда и пошло: "Темно, как у негра в шопе". А форма, которую избрали вы, суть не что иное, как искажение…
— Есть.
— Есть — что?
— Не "суть", а "есть". Суть — множественное число.
— Вы ошибаетесь, коллега! "Суть" — это краткая форма от "сущность", что означает, в свою очередь…
— Тихо. Он, кажется, очнулся.
— Вы что, видите в темноте?
— Нет, я просто хорошо слышу. Эй, новенький? Вы проснулись?
— Еще не знаю, — сказал я. — Нет критериев.
— Наш человек, — сказал кто-то другой.
— И должен заметить, — я приподнялся, — что в Америке времен Гражданской войны для дешевого освещения использовалось не масло, а керосин.
— Керосин — это и есть название хлопкового светильного масла…
— Тихо! — выдохнул кто-то на пределе волнения. — Новенький! Назовись!..
— Стас Попов…
— Стась! Не может быть!
— Но факт. Ты кто?
— Не узнаешь?
— Пока нет. Скажи что-нибудь спокойно.
— К черту спокойствие! Я — Эспада!
— Костя… — у меня куда-то делся голос. — Так ты живой…
— Осторожно!.. — прошипел кто-то, а потом меня просто смяли в комок. Костя был фантастически длиннорук и силен при этом.
Когда в шестьдесят седьмом началась вся эта мерзость на станции "Ковчег", Эспада был в числе первых пропавших — еще до появления призраков и выворотней. Так что он и знать не знал, что пришлось пережить нам, оставшимся, — и чем все кончилось…
Впрочем, относительно "кончилось" я, наверное, заблуждаюсь.
Их здесь было пятеро: Эспада, пропавший вместе со мной и почти одновременно; Вадим Дубровин, один из открывателей Саулы, — именно он развлекал общество толкованием поговорок; Вольфганг Свенссон, нуль-наладчик; Патрик Дэмпси, пилот; и Эрик Колотилинский, профессор, специалист по Гиганде. Все они были похищены неизвестными людьми из мест изоляции; все, как и я, когда-то исчезли в глубинах космоса, а потом неведомыми путями оказались на Пандоре неподалеку от курорта Дюна, голые, почти ничего не помнящие поначалу… Пафик обладал способностями, отдаленно напоминающими мои: в его присутствии у металлических проводников резко изменялось сопротивление; в какую сторону, зависело от того, какое у Пафика настроение. Другие ничего особенного за собой не числили — кроме того, разумеется, что дверные мембраны их — нас — не пропускали, приравнивая к пандорианской фауне. И это несмотря на то, что все и всяческие исследования генетического кода — по крайней мере, моего — ответ давали один: человек. Мембраны плевать хотели на результаты исследований…
Мы с Эспадой пропали из орбитальной станции "Ковчег". Эспада — просто из закрытого отсека, я — после того, как погасли звезды и станцию начало корежить и ломать. Пафик, пилотируя транспортный "Призрак-Дромадер", вышел из очередного прыжка в каком-то очень странном месте: в ценфе исполинской каменной пещеры. Судя по практическому отсутствию гравитации, это была внуфенняя часть полого астероида. Он задал обратный курс, но началось что-то непонятное, и потом уже Пафик очутился на Пандоре. Вольфганг был одним из тех, кто весной шестьдесят седьмого пропал в нуль-кабинах: была такая загадочная полоса, причин этого не узнали, но события как-то сами собой прекратились. Вольфганг, собственно, и пытался по долгу службы разобраться с этими случаями… Вадим смутно помнил, что летел куда-то на глайдере, а потом вдруг оказался в дюнах, и это можно было бы толковать как банальную аварию с ударением головой о более твердый предмет, да вот только летел он на Марсе, а пришел в себя на Пандоре. Самое странное исчезновение случилось у Эрика: он занимался на ноотическом тренажере именно по программе выживания в джунглях — и долгое время был убежден, что ему составили такую вот весьма оригинальную программу…
Если резюмировать — а этим ребята занимались долго и упорно еще до моего появления (Эрик и Вольфганг находились здесь уже недели три, судя по внутренним часам), — то получалась простая вещь: кто-то собирал в одном месте тех, кого прогрессоры (кстати, почему именно они?) старательно держали порознь, не позволяя им даже догадываться о существовании себе подобных. Интересно, много ли нас еще в природе вообще и на Пандоре в частности? На "Ковчеге", когда там начались чудеса, находилось одиннадцать человек…
Было беспричинно и непривычно тяжело. Будто бы увеличилась гравитация. Икры налились тяжестью, подошвы прилипали к мягкому рифлонгу пола. Хотелось лечь в ванну, но почему-то эта мысль вызывала неясное отвращение. По отдаленной аналогии вспоминались беременности — хотя формально ощущения были другие.
Она прогнала девчонок и осталась лежать. Сначала просто так, потом вывела на потолок дисплей мнемониатора. Настроилась — и начала воссоздавать то, что помнила.
Вот они подбегают: трое. Стас и Тони-Мирон. Стас смотрит на глайдер, а Тони-Мирон одним глазом, рассеянным, смотрят на глайдер, другим, бдительным — на Стаса. И это не позднейшие наслоения впечатлений, нет, это было замечено, а потом забыто…
"Граф Монте-Кристо".
Нуль-связи здесь нет.
Извините, я ненадолго…
И — сны. О, да! Какие сны, сколько снов! Я там была, там видела… Не помню.
Мнемо — не помогает. Будто лезу на ледяную горку…
Вот и опять вниз.
Стоп. Зацепилась.
Не упасть бы…
Сон-матрешка. Я во сне — не я. И та, кто я во сне, — видит сон. И я его вижу, разумеется, тоже, но как-то со стороны и неглубоко — будто смотрю одним глазом.
Бег по серой грязи, из которой торчат голые прутья — поодиночке и пучками. Стремительный бег, беззвучный, ровный. Я почему-то смотрю не прямо перед собой, а чуть вправо.
Серая стена — металл? Рядом каменная глыба. Я погружаю в камень руку, что-то вынимаю…
Потом — я лечу! Справа в поле зрения — мое колено, лоснящееся, темное. Будто бы распухшее.
Подо мной кромешный ад: нагромождение скал, пропасти без дна. И вот я ныряю в такую…
Темно. Темно. Темно. Теплая, сладкая, почему-то исторгшая меня темнота. Радость возвращения и обида: зачем выгоняли, за что? Как щенка на мороз.
Нетерпение. Сейчас что-то произойдет — невыносимо приятное. Темнота течет навстречу, обнимает. Она может быть ласковой.
Вот сейчас… сейчас… Ожидание, нетерпение. Ну же!..
Взрыв — боль — слепота — вибрации вперекрест — будто дисковые пилы входят медленно в череп. Я кричу…
Я отшатываюсь — в миллионный раз. Я успеваю, потому что знаю, чего ожидать. Я привык. Потом — оборачиваюсь…
Следом идет женщина в легком дорожном костюме. Костюм белый, волосы черные, глаза чуть прищурены и смелы. Большой яркий рот. Высокая, красиво движется — уверенно, сильно, плавно.
Я никогда ее не видел.
Я много раз ее видела…
Мнемониатор выключился сам: сработал стресс-блок. Но его можно и… Аля провела рукой по лицу. Пот. И дрожат пальцы. И кто-то глубоко внутри кричит: хватит! Нельзя! Не смей больше!..
Да что же это со мной?
Я — боюсь. Это настоящий страх. Я — боюсь…
Она полежала, расслабляясь, глядя на чистый, ничем не замутненный экран. Дождалась, когда лежать так — станет невыносимо. Отключила стресс-блок. Зеленый глазок погас, зажегся красный.
…Я успеваю отшатнуться, потому что знаю, чего ожидать. Но в той последней мгновенной вспышке вижу: бесконечное поле, и на нем стоят, как пешки на доске, идеально правильными рядами — тощие черные мальчишки. Их сотни или тысячи. Они стоят и смотрят на меня, а я смотрю на них с какого-то возвышения. И они ждут… чего? Моего слова? Нет, здесь не разговаривают вообще. Звуки — другие. И только я сам могу, когда захочу, сказать и услышать: "Колокольчик!.."
Потом все гаснет. Женщина в белом подходит, кладет руку на плечо. "Здравствуй, вождь. Я нашла вопрос, на который ты не знаешь ответа…" Сейчас она его задаст, и тогда всему наступит конец. Потому что есть такой вопрос, который задавать нельзя. И я, чтобы не отвечать, убегаю назад, на станцию Ковчег.
Амет-хан на меня в обиде: ему опять приходится идти на поклон к Камиллу, а это становится морально все тяжелее и тяжелее: Камилл и прежде был невыносим, а после дела "подкидышей", когда его зачем-то изолировали от всей имевшейся информации, стал невыносим в кубе. У него ярко выраженный комплекс Кассандры: он всегда прав, но ему все равно не верят. А раз так — то нечего и метать бисер. А Амет-хан при всей своей кажущейся невозмутимости человек мягкий, отзывчивый — и ранимый. Я сделаю то, о чем просит Малыш, Амет-хан сделает то, о чем прошу я, Камилл сделает то, о чем просит Амет-хан… Никому не будет хорошо от этого. Но, может быть, иной раз имеет смысл делать то, от чего не бывает хорошо?
Я подозрительно часто вспоминаю Майку. С ее неправильной правотой.
"Что делают люди?" Вот уже шесть с хвостиком лет я отвечаю на этот самый первый вопрос Малыша — и все меньше понимаю сам, что они делают. Раньше мне казалось, что я знаю все. Постепенно — масштаб увеличивался — стали видны странноватые лакуны в моих познаниях. Потом они заполнились, но — масштаб увеличивался — появились лакуны в информации БВИ. Их тоже пришлось заполнять, обращаясь к специалистам. Потом оказалось, что есть специалисты, которых как бы и нет, и есть работы, которые как бы не проводились, и есть что-то еще…
Но это почти не важно сейчас. Ребята разбирают Черный спутник Странников, я не слишком вникаю в их дела, потому что занят именно этими последними вопросами, к которым меня подвел неприятно выросший Малыш… как мало в нем осталось от того восторженно взвинченного, раздираемого страстями мальчишки!.. Он сух, насмешлив, иногда презрителен. Он слишком много о нас знает и делает выводы. Он похож на молодого упрямого голована.
Я по-прежнему люблю его.
Эспада с ребятами ходят счастливые. Они докопались до какого-то узла, которого ни на каких других сооружениях Странников не находили никогда раньше. Узел являет собой приличных размеров ком труб и трубочек, сплетенных плотно и прихотливо. Никто не понимает, для чего он может быть предназначен…
Они просвечивают и простукивают узел, пытаются томографировать. И в какой-то момент что-то происходит, хотя это "что-то" ничем не улавливается. Просто все чувствуют себя так, будто им пристально смотрят в спину.
Первым исчезает Эспада.
Следом — еще двое ребят.
Коридоры станции кажутся колодцами, на дне которых клубится мрак. В спину уже не просто смотрят: дышат.
Наверное, надо было эвакуироваться сразу. Не знаю, почему задержались. Наверное, было стыдно бежать, бросив пропавших ребят. Была надежда, что мы их найдем, вернем… Когда появился запах фиалки, было уже поздно.
Он был густой, этот запах. Воздух сделался студенистым, подергивающимся. На границах поля зрения происходило что-то совсем непонятное и часто страшноватое. Киберы умерли. Станционные и корабельные компьютеры вели себя так, как хотели сами.
Может быть, имело смысл рискнуть и улететь вручную. Не рискнули. Это уже была деморализация.
Пришли ответы на вопросы Малыша. Передать их ему я не смог. Начали гаснуть звезды…
А после — будто гигантская рука стала медленно сжимать и скручивать станцию. Лязг, хруст и скрежет. Мы метались по помещениям, потом разбрелись по каютам и стали ждать конца.
Это затянулось почти на трое суток.
Нас плющило аккуратно: воздух не выходил. Коридоры становились похожи на трубки, перекушенные кусачками: стены сведены вплотную. На моем потолке образовалось мокрое пятно, висели крупные холодные капли, иногда отрывались и падали на лицо и грудь. Я лежал и думал о последних вопросах Малыша и об ответах на них. Он знал о нас все — гораздо больше, чем мы сами. И думал не так, как мы. Конечно, большей частью думал не он сам, а таинственные аборигены планеты. Но тем не менее, тем не менее…
Почему Малышу было так важно знать подробнейшую биохронику доктора Бромберга? (И почему вдруг оказалось так трудно добыть ее?..)
И почему у людей в основном разные мнения, но по некоторым вопросам совершенно одинаковые?
И — почему андроидам нельзя жить на Земле? Кто и когда это запретил и как им самим это объяснили?
И, наконец, — что такое "проект "Валгалла"?
Ответы от Амет-хана я получил, но даже не стал их читать — было просто не до того…
Стены каюты сжимались, шли складками. Дверь вывернуло, мембрана не замыкалась, повиснув мертвой складчатой шкуркой. Воняло все сильнее…
Аля от крепкого, плотного, вовсе не цветочного запаха сморщилась, непроизвольно дернула головой — и вдруг будто бы очнулась. Она лежала в комнате гостиницы, одна, на потолке бледно мигал экран мнемониатора. За окном, широким, панорамным, — зрела гроза. Небо было океански-зеленым, в белой пене. Облачные башни всех оттенков черного — надвигались. Светлая стрелочка глайдера скользила косо вниз, перечеркивая тучи…
Что это было?
Она встала, неуверенно шагнула к столику. Вот теперь тяжесть исчезала, испарялась… и так же исчезали и испарялись обрывки увиденного и понятого, разлитые лужицы чужой памяти… и, торопясь успеть, она подплыла к столу, схватила блокнот и начала диктовать то, что еще могла вспомнить: станция "Ковчег", проект "Валгалла", Эспада, андроиды, Бромберг, Малыш…
Я шел вперед, спотыкаясь, и какие-то бестелесные твари касались щек и лба. Повязка была плотная, жесткая, двое за спиной крепко держали меня за локти, так что не хватало только скрипа несмазанных петель и вони факелов. Имелась, впрочем, другая вонь, которая не была похожа ни на что.
Я был уверен, что мы находимся не то в облагороженной естественной пещере, не то в приспособленной для обитания шахте. На Пандоре когда-то было много кобальтовых шахт — еще до организации природного заповедника. Об этом мало кто знает.
Вот — открылся некий объем. Зал? Гулко и темно. Здесь, в подземелье, я обнаружил в себе новое умение: ощущать близость стен, людей и предметов. Этакое серебрение исходит от неживого, и зеленоватыми тенями кажутся люди. Повязка на глазах мешает и этому зрению, но не абсолютно, и я различаю три продолговатых зелено-серебряных пятна перед собой…
— Отпустите его, — сказал низкий реверберирующий голос. — И снимите повязку.
Меня отпускают. Я стою смирно. Ловкие пальцы касаются затылка. Повязка сложная, с какими-то ремнями и застежками. Зачем такая, если хватило бы просто темного мешка?.. Впрочем, время вопросов еще не пришло.
Но вот — повязка (сбруя?) снята, я осторожно приоткрываю глаза.
Полумрак. Просторное помещение, которое даже залом не назвать: ангар? купол? И — остро: уже видел! Уже был здесь!..
Не знаю уж, отчего, — но меня передернуло.
Только потом я стал смотреть на тех, кто стоял передо мной.
Вернее, так: один сидел и двое стояли. Просто головы их были на одном уровне.
Тот, который сидел, был огромного размера мужчина, бритоголовый и звероплечий. Двое, стоящие за его спиной со станнерами в руках, в биомасках — как те, которые захватили меня и ребят. Вряд ли это те же самые — фигуры не такие. И уверенности той в них не чувствовалось, а лишь — опаска. Боятся меня? Как интересно…
— Приветствую вас, Попов! — пророкотал сидящий. — Поздравляю с освобождением!
— Спасибо, — хмыкнул я. — Где дверь?
— Дверь далеко отсюда. Одному вам ее не найти. Стул гостю!
Тут же под колени сзади мне ткнулось мягкое, я сел — и почти провалился. От этих бегающих безмозглых кресел-амеб я успел отвыкнуть. Теперь мой собеседник возвышался надо мной подобно горе.
— Я понимаю, у вас множество вопросов, — продолжал человек-гора. — Равно как у меня — множество ответов. Но прежде я сам спрошу вас: вам известно, кто вы такой?
Я ответил не сразу.
— Известно ли… Не знаю. Правильнее сказать — я догадываюсь.
— Поделитесь. Догадками.
— С удовольствием. После того, как узнаю, кто такие вы и что вообще произошло?
— Разумно. Мы — подпольная организация. Одна из немногих существовавших и, наверное, последняя оставшаяся. У нас нет ни имени, ни списков. Есть только принципы и — цель. Я — заместитель руководителя организации. Зовите меня Мерлин. Я андроид.
— Очень приятно, — сказал я.
— В организацию входят также и люди, — продолжал Мерлин. — Руководитель организации — человек. Мы боремся и за равноправие — в том числе. Впрочем, если нам удастся достичь главной цели, то разница между людьми и андроидами просто исчезнет… Знаете ли вы, что такое Д-контроль?
— Когда-то я был кибертехником, — кивнул я.
— Следовательно, вы понимаете, что единственная реальная разница между человеком и андроидом — это наличие у андроидов Д-ответа?
— У нас Д-ответ есть?
— Нет. Ведь вы созданы не людьми.
— Именно созданы, вы полагаете?
— Созданы, модифицированы… Вот это ваше нечеловеческое спокойствие — откуда, Попов?
— От Боэция.
— Заслуживает внимания как гипотеза… Но Боэция знаете только вы. В то же время все, освобожденные нами, имеют железные нервы. Ни один нормальный человек не вынесет испытания темнотой и неизвестностью. Вы все — как каленые солдатики.
Я вспомнил Вадима и не стал его поправлять.
— Так вот, совершенно ясно, что вы созданы и сконцентрированы в одном месте с совершенно определенной целью. Оставалось вычислить, какова эта цель.
— И?
— Думаю, нам это удалось. Равно как и определить, кто именно это сделал.
— Поделитесь?
— Обязательно. Чуть позже. Я хочу, чтобы вы сами пришли к тому выводу, который мы сделали. Это надежнее, не так ли?
— Для меня безразлично. Я знаю, что таким путем человеку можно внушить все что угодно — просто подбирая факты. И даже не искажая их.
— И все же… я хочу быть несколько убедительнее.
— Может быть, вы убеждаете себя?
Раздался странный звук. Один из тех, кто стоял за спиной Мерлина, зажал себе ладонью рот. Похоже, я булькнул что-то смешное. Мерлин не обернулся.
— Вы помните, должно быть, десятилетие с две тысячи тридцатого по сороковой годы?
— Только по книгам.
— Ну, разумеется. Странности были?
— Да уж. Еще какие.
Странности — были. Полыхающие по всему миру малые войны, канун большой (или, как писал Створженицкий, "мировой торфяной пожар"), разруха, голод, миллионные толпы беженцев — в начале десятилетия; мир, покой, благополучие, всеобщая любовь и взаимоуступчивость (только после вас!) — в конце. Без видимых причин. Само собой. По мановению. Волшебный дождь. И что самое забавное: всеми это воспринято было как нечто само собой разумеющееся. Одумались. Поняли, прозрели… Мне попались лишь две работы, где робко, как неприличный, задавался этот вопрос: а почему, собственно? И тут же вопрошавшие сдавали назад, вспоминали, что есть такое "человеческое здравомыслие" и "инстинкт сохранения разума", и что-то еще… И — не было никакой художественной литературы о последних войнах. О них забыли моментально и начисто, и только многочисленные памятники солдатам стояли над оплывшими траншеями: будто знаки признания греха беспамятства. Страшное прошлое забывалось, как дурной сон. Дети пятидесятых уже не могли представить себе иной жизни, чем тот бесконечный праздник, который им устроили старшие. В их представлении война с Гитлером закончилась едва ли не позже Евфратского котла, великого транссахарского марша Шварценберга или битвы за Дарданеллы…
— Я подозреваю, что вы уже знаете, в чем тогда было дело, — сказал Мерлин медленно.
— Данных нет, — сказал я.
— Вот как… Впрочем, этого следовало ожидать. Но неужели всеведение отучило вас делать самостоятельные выводы?
— Оно привело меня к осторожности в подобных выводах. Я догадываюсь, что вы имеете в виду. Но первые работы Блешковича появились лишь в пятьдесят пятом.
— Понимаю: вам трудно вырваться из сферы привычных представлений. Блешкович вообще был абсолютно ни при чем. Ему лишь позволили озвучить то, что становилось невозможно скрыть.
— Так, — сказал я.
— Гипноизлучатели космического базирования были созданы в тридцать втором году и в тридцать третьем применены… Ничего характерного не вспоминаете?
— Болезнь Арнольда?
— Совершенно верно. Болезненная апатия, апатия долороза эпидемика. Первое боевое применение гипноизлучателей. А в следующем году состоялась тайная встреча разработчиков этого вида оружия из всех конфликтующих стран, своего рода подпольная мирная конференция, где и было решено запрограммировать все приборы вполне определенным образом.
— Так началась новая эра…
Вопросительная интонация у меня не получилась. Мерлин говорил правду: в бедной моей голове шла перекрестная проверка сообщенного им, и оказывалось, что все ложится очень ровно и четко.
— Так началась новая эра, — согласился он. — Группа заговорщиков образовала некое подобие всемирного правительства. В дальнейшем они старались держаться в тени…
— "Махатмы Запада", о которых упоминал Шваб, — это они?
— Не знаю, о чем вы говорите. Шваб — это?..
— Гюнтер Шваб, венский экспозиционист. Главный труд: "С полдороги в рай". Умер в пятьдесят девятом в полном распаде сознания.
— Кстати. Динамика психических заболеваний в двадцать первом веке?
— Прирост в тысячу шестьсот процентов с две тысячи двадцатого по пятидесятый год, примерно пятилетнее плато с незначительными годовыми колебаниями, затем медленное снижение к концу века до трехсот пятидесяти процентов…
— Подтверждается этим наша версия?
— Возможно. Хотя есть и другие объяснения.
— Объяснения есть всегда. Особенно тогда, когда кто-то небесталанно сочиняет их.
Горбовский не изменился совершенно: кажется, даже куртка на нем была та же — мешковатая, полотняная, неопределенного цвета, который, чтобы не путаться в оттенках, называют для простоты серым. И улыбка была та же: чуть робкая и радостная улыбка человека, увидевшего красивую редкую бабочку среди сухих листьев…
— Здравствуйте, Леонид Андреевич, — Аля протянула руку. — Как я рада видеть вас снова!
— Здравствуйте, Сашенька, — он упорно называл ее так, единственный из всех. — Сколько же лет, а?
— Десять, — сказала она. — Или одиннадцать. Лариске как раз три года было.
— Это вон та длинная? — с ужасом спросил Горбовский, оглядываясь. Лариска в дальнем углу террасы делала вид, что любуется пейзажем. Слух у нее был, как у горной козы.
— Та длинная, — кивнула Аля. — Противная мерзкая любопытная жаба, которой когда-нибудь прищемят хвост.
Лариска обернулась и показала язык. Потом лениво оттолкнулась от перил и почапала в комнаты, помахивая тем самым несуществующим хвостом.
— Ну зачем же так? — Горбовский огорчился. — Пусть бы девочка…
Аля чуть заметно качнула головой.
— Марк не смог прилететь? — спросила она.
— Да. Без него там все рухнет… как обычно. By же знаете Марка. Неизбежно в центре мира.
— Он вам… рассказал?
— Попытался. Его часто отвлекали… ну, эти… как их… ученые. Сотрудники.
— Конечно. Это же Марк. Леонид Андреевич, я расскажу, конечно… это будет очень странная история, потому что сегодня у меня началось что-то не совсем обычное… и я подозреваю, что — только началось.
— Подождите-ка, Саша. Не будем забегать вперед. Марк сказал, что вы сказали, что того человека, Попова, держат якобы… взаперти?
— Да. Сначала это были намеки, подозрения… сейчас я уверена полностью. Э-э… Леонид Андреевич… — она вдруг начала заикаться. — Что такое "проект Валгалла"?
— "Валгалла"? Подождите, что-то знакомое… А, ну это было давно. Это было годах в… да, точно. В десятых. Как раз накануне Массачусетского скандала. Собственно, это и разрабатывалось под ту машину… А почему вы вспомнили?
— Сейчас… Что случилось на планете Ковчег?
— Это, Сашенька, печальная повесть. Мне даже как-то не очень хочется вспоминать ее. Это важно?
— Но ведь Попова вы должны помнить именно по Ковчегу?
— Ах, вот какой это Попов! Стась Попов, да? Помню, конечно, помню! Очень он нервничал поначалу… На планете Ковчег была найдена негуманоидная цивилизация, воспитавшая человеческого ребенка. Об этом не слишком распространялись, хотя информация оставалась открытой. Основная цивилизация на контакт не вышла, а с мальчиком связь с орбитальной станции поддерживали… лет семь, если мне память не изменяет. Попов как раз и был с ним на связи, дружба у них с пареньком завязалась… А потом произошла трагедия: станция была пристыкована к старому спутнику Странников, и спутник этот неожиданно свернул пространство вокруг себя. Когда к нему пробились — полгода ушло, — на станции никого не оказалось. Нашли заклеенный проход в некое иное пространство. Странники пользовались такими на планете Надежда. Мы так и не смогли понять…
— И Попов исчез?
— Да. Значит, если это тот самый Попов…
— Тот самый, Леонид Андреевич.
— Тогда он побывал у Странников. У настоящих живых действующих Страннйков. Это уже интересно.
— Но ведь кто-то знает об этом! Кто-то организовал его охрану, заточение…
— Точка "Ветер"… Но, Саша, мне все же кажется, вы… как бы это сказать… преувеличиваете. Какое может быть заточение?
— Назовите как хотите. Факт тот, что он несвободен: он не может покинуть это место, и его охраняют. А что такое "Валгалла"?
— Очередная попытка бессмертия. Создавать программные копии человеческих сознаний и вводить их в машины. В программную копию мира…
— И что же?
— В конце концов проект заморожен как этически неоднозначный. Да и машину так и не запустили.
— А вы не помните, кто работал над этим проектом?
— Ой, нет, Сашенька. Столько лет прошло… Но можно же посмотреть по БВИ.
— Там этого нет вообще.
— Неужели требуется допуск?
— Нет. Просто отсутствует всякое упоминание. Есть агентство "Валгалла", но это туризм. Есть движение "Валгалла" — борцы за эвтаназию. Но ничего, связанного с кибернетикой.
— Странно… Саша, давайте начнем с простого: слетаем на эту самую точку. Я пока сделаю запрос в Академию… он ведь просил прислать книги туда?
— Да. В Академию.
— Вот и попробуем… где здесь связь?
— Леонид Андреевич! Но — как это вообще может быть? Как?..
— Сашенька, Сашенька! Помните, как мы встретились впервые? Тогда, на Радуге?
— Помню. Я крала энергию…
— Ну вот. А вы спрашиваете. — Он усмехнулся грустно, повернулся и пошел в комнаты. В дверях обернулся: — Вы, Саша, собирайтесь. Через полчасика вылетаем. Посмотрим, как там Попов поживает, попроведаем…
Наружу мы все-таки не вышли. Мерлин сам привел меня в небольшую стаканообразную комнату, где стояла походная пневматическая кровать и такое же кресло. Янтариновые панели испускали ровный вечный свет. Было как-то особенно голо и неуютно: эти стены принципиально были предназначены не для человека. Кроме того, звучало во мне какое-то эхо былого: забытого накрепко, с корнями, с мясом — но тени, но отзвуки, но запахи зацепились за что-то и теперь вытягивали по паутинке, по волоконцу из ничего, из вакуума и серой тончайшей пыли испепеленной памяти — нечто… Я знал, что все равно ничего не вспомню. Страница была вырвана.
Проклятый янтарин…
Я сел, встал, лег. Снова встал.
Деть себя было некуда.
Странно: я даже не ощущал, что узнал нечто новое. Будто бы знал все и раньше, но не придавал значения…
Подозреваю, что это не последнее мое удивление.
Вечером должен прилететь сам руководитель подполья… Ну-ну.
В дверь стукнули.
— Входите, — сказал я.
Это был Эрик.
— Стас, я — можно? — посижу немного у тебя?.. — Вид его был как у побывавшего в холодной воде гордого кота.
— Падай, — разрешил я. — Сомнения?
— Не могу переварить…
— Представляю.
— А ты что — сразу?..
— У меня же особый случай. Очень много засунуто сюда, — я дотронулся до брови и непроизвольно поморщился: показалось, что сейчас будет больно. Но больно, конечно, не было… — Так что ничего нового они мне сообщить не смогли. Лишь обозначили акценты.
— И ты думаешь — это правда?
— Правда. Хотя, может быть, не вся.
— Что ты имеешь в виду?
— Что эти ребята могут не знать всей правды. Что есть кто-то еще, кто знает больше.
— А с другой стороны, — он взглянул на меня почти зло, — я не понимаю, что это меняет. Ну что? Подумаешь — гипноизлучатели… Ведь это же не порабощение, не насилие. Разве не так? Разве открывать то, что от природы есть в нас самих, — преступление? Или грязь? Или — что? Почему меня так затрясло, когда я… узнал?..
— Не знаю, Эрик, — сказал я. — Наверное, нам просто обидно.
Было почти невыносимо тревожно: почти так, как тогда на Радуге — в те несколько часов, когда о катастрофе уже узнали, когда понеслись страшные слухи, но и полнейшей уверенности в скорой и неминуемой смерти пока еще ни у кого не было. Стало легче именно тогда, когда пришло время умирать…
Сейчас не было ни Волны, ни бледных мальчишек и девчонок на площади перед кораблем — но давило, давило со всех сторон… Волна была невидима, а о горящих поселках все знали, но молчали, и детей вывозить было некуда и не на чем… и лишь Горбовский был тот же, был тут, рядом. Аля покосилась: угрюмый, длинноносый… Он перехватил ее взгляд и грустно-ободряюще улыбнулся ей:
— Ничего, Сашенька. Как-нибудь…
Он дернулся из узла связи вот такой: озабоченный и озадаченный. Ничего не сказал, а Аля — почему-то не смогла спросить.
Автопилот, пусть тупой и безмозглый, путь помнил, так что за курсом можно было не следить. Джунгли замерли внизу — как замирают многие вещи, когда на них смотрят. Стоит отвести взгляд…
— Леонид Андреевич, а вы сами в Странников верите? — высунулась сзади Тамарка. Лариска дернула ее за ноги, уволокла обратно, что-то сказала на ухо. Тамарка издала некий свист: такой получается, когда через вытянутые губы всасываешь воздух.
Горбовский обернулся:
— Как бы это так сказать, Тамара, чтобы и правду — и не слишком длинно? Пожалуй, в целом — да, верю. Они существуют — именно сейчас. Не в далеком прошлом, как это казалось поначалу. Но я убежден с некоторых пор, что все наши представления о Странниках ничего общего с действительностью не имеют. У нас слишком сильная инерция мышления, мы приписываем им, вольно и невольно, человеческие черты. Или хотя бы черты известных нам негуманоидов. А они — совсем другое…
— Вы их боитесь? — вдруг спросила Аля.
Горбовский посмотрел на нее искоса, вздохнул:
— Ну что значит — боюсь… Привык уже.
— Понятно, — сказала Аля.
— Их становится как-то неприятно много, — сказал Горбовский. — То ли мы раньше не замечали их следов, то ли… то ли этих следов не было. Я помню: мы ведь специально, целенаправленно искали эти следы, каждая пуговица была сенсацией. А вот уже лет двадцать — не ищем, потому что какой смысл искать то, что в изобилии? Начинает казаться, что космос засижен Странниками, как мухами… Смешно: на Луне — туннель из янтарина! Как раньше не заметили, непонятно. Буквально под Птолемеем… тысячи людей: ходили, копали, строили — никто не видел. И вдруг: вот он. Старый такой, в пыли весь. Как это понять? То ли сто лет полнейшего разгильдяйства и верхоглядства, то ли Странники умеют значительно больше гитик, чем наша наука.
— Просто они живут не только в пространстве, но и во времени, — сказала Лариска.
— Вот и Комов так считает, — грустно согласился Горбовский. — А я боюсь, что — не только это…
— Мы отклонились, — сказала Тамарка. — Вон где площадка.
Она показывала далеко в сторону, где на самом деле мелькнула между кронами желтая крошечная башенка.
— Не понимаю, — сказала Аля. — Вот же — курс…
— Не обращайте внимания, Саша, — мягко сказал Горбовский. — Что такое автопилот? Железка… У меня ощущение, что мы все — человечество, что ли, — вселились в покинутый дом. Но не совсем покинутый. Сумасшедшие киберы устраивают сумасшедшие уборки. Призраки умерших хозяев приходят по ночам и звенят цепями, воют, скрежещут зубами…
— Подкидывают детей, крадут носовые платки… — в тон ему сказала Аля.
Тамарка завизжала.
— Коза! — обернулась Аля. — Ты могла бы…
Но Тамарка, по-настоящему бледная, смотрела в сторону и вниз, указывая на что-то вздрагивающей ручкой, и Аля посмотрела туда же. Выплывшая из зарослей клетчатая посадочная площадка была пуста. У основания башни лежали два человека. С ними было что-то не в порядке. Но надо было иметь Тамаркины сверхзоркие глаза, чтобы увидеть и понять увиденное…
У лежащих просто не было голов.
После "сьесты" я никак не мог успокоиться: трясло, лил пот, зубы стучали. Ни о каком мониторинге здесь, конечно, и думать не приходилось, но прежде подобным ощущениям сопутствовало то, что я называл "павианством": ловкая ходьба на четвереньках, почесывания, неразборчивые звуки. Кое-что еще. Моих новых тюремщиков я ни о чем таком не стал предупреждать — даже не знаю, почему. Должно же быть что-то, чего они обо мне не знают…
И — странно: вдруг обнаружилось, что без мониторинга, непроизвольно сосредоточась на том зареальном своем существовании, я кое-что — слабо, нечетко, размыто, непонятно, бесцветно и бессмысленно, — но помню! А значит, можно поработать над этим…
Пандорианский день клонился к вечеру. То есть — прошли как раз сутки с момента прилета гостей. Точнее — гостий. Я почему-то знал уже твердо, что встреча та начала иметь последствия, что сдвинулись какие-то пласты в мироздании, заскользили — и вот-вот (но не в смысле времени, а в смысле причин и следствий; времени же может пройти и век) разразится землетрясение, мое ли персональное, никем более не отмеченное, или же повсеместное, повселюдное… Почему-то очень хотелось выть.
…Да знаю я, что я — не человек! Копия, подделка… действующий макет в натуральную величину… точность молекулярная, ну и что? А с другой стороны…
…не вяжется что-то у этих подпольщиков. Но что именно — пока от меня ускользает. Хотя вроде бы должно лежать близко и просто…
…и вроде бы как со мной самим — ну и что? Ну, гипноизлучатели. Прав Эрик. Если это помогло выжить, спасло, если и сейчас миллиарды счастливы не иллюзорно, не вопреки реальности, а именно потому, что жизнь так замечательно создана, сконструирована и воплощена, — то не оставить ли все так, как оно есть, на веки веков Или мы опять начинаем искать приключений?..
А почему все-таки андроидам нельзя жить на Земле? Ведь не прихоть же это Мирового Совета?
И — Странники…
Я выгнал из головы все прочие мысли и заставил себя сосредоточиться на двух последних. Пришел кто-то в биомаске, принес еду. Я автоматически воткнул в себя несколько рыбных палочек, запил томатным соком. Зарядился. Держа при этом на лице скучающую гримаску. Приходилось прилагать усилия, чтобы ее держать, потому что то, что стало возникать в голове через полчаса после начала усиленных спекуляций, нравилось мне все меньше и меньше.
Наконец почувствовав, что буксую, я зафиксировал в памяти результаты размышлений, встал — и отправился на поиски компании. Не для того, чтобы поделиться благоприобретенными сомнениями. Просто так.
Шесть лет общения с Малышом приучили меня не придавать особого значения всплывающим из каких-то неведомых глубин знаниям. Малыш был связан (а почему "был"? Просто — "связан"…) невидимой пуповиной со своими создателями, я — со своими. Как ему приходили ответы на вопросы, которые он не в силах был задать, так вот и мне — пришел.
Как его терзала боль от этих немыслимых ответов, так она терзала теперь меня.
Кажется, она даже вцепилась в него руками. Или — очень хотела вцепиться. Потом уже увидела, что сломаны несколько ногтей и до крови сбиты костяшки. Хваталась за рукав? Может быть.
…девчонок они выбросили из вертолета просто за шкирку, как котят, а потом Горбовский почему-то решил, что ей тоже не следует туда лететь. Он был не прав. Через красноватый туман в глазах она видела, как происходит нечто не слишком понятное. Наконец оказалось, что она летит с ним, правда, на пассажирском месте. Сзади сидели трое ребят-пилотов, прилетевших на выходные поохотиться: Горбовский мобилизовал их вместе с их карабинами. В воздухе неторопливого "стерха" обогнали три глайдера. Но когда вновь подлетели к площадке, оказалось, что никто еще туда не садился, глайдеры ходили кругами, наблюдали; в эфире шла ожесточенная перепалка. Горбовский попросил всех замолчать, вытребовал представителя прогрессоров — им было еще минут пять лету, — велел садиться следом и повел вертолет на посадку. Але показалось, что он разобьет машину, так стремительно метнулась в лицо земля, — но все обошлось, и машина села с ходу, даже не зависая.
— Вот это класс, — сказали сзади.
Лопасти еще вращались, когда все пятеро выпрыгнули на чуть пружинящее покрытие посадочной площадки.
Было жарко и зловеще тихо.
А когда ток воздуха от лопастей прекратился, возник запах.
— Валя, — сказал Горбовский одному из пилотов, — вы, пожалуйста, следите за воздухом, хорошо? Вдруг под шумок…
Пилот сдержанно кивнул. С карабином на груди он теперь напоминал воина со старых картин.
Сжав зубы, Аля направилась к мертвым. Горбовский вполшага обогнал ее и даже чуть отстранил. Пилоты держались сзади.
— Наверное, отказала мембрана, — сказал один из них. — Иногда, говорят, бывает. И гусачок спикировал…
Гусачками называли в просторечии летающих дракончиков Гусмана, тварей с крокодильей пастью и шестиметровым размахом крыльев.
Горбовский наклонился над одним мертвецом, потом над другим. Выпрямился.
— Боюсь, что гусачки тут ни при чем, — сказал он. — Боюсь, что в этих ребят стреляли. Из карабинов, в упор. Я видел однажды…
— Леонид Андреевич, — сказала Аля через силу. — Давайте дальше пойдем. Их ведь здесь трое было.
— Да, Сашенька. Пойдем, конечно.
Они заканчивали обход помещений, пустых и стерильно чистых — киберы поработали на славу, — когда зажурчал воздух под лопастями и огромный двухвинтовой "гриф" завис над посадочным кругом.
— Его нигде нет, — сказала Аля — то ли Горбовскому, то ли себе самой.
— Да, — сказал Горбовский, глядя на садящийся вертолет. — И глайдера вашего тоже нет, Сашенька?
Аля в ужасе осмотрелась. Только сейчас до нее стало доходить…
— Нет, Леонид Андреевич! Это невозможно! Это совсем не то, что вы думаете!..
— Я еще ничего такого не думаю…
"Гриф" не успел коснуться настила, а из него уже вывалился огромный, толстый и очень подвижный человек в голубом полукомбинезоне и яркой клетчатой рубахе. Следом высыпались горохом с десяток загорелых и совершенно разномастных молодых людей, мгновенно все собой заполнивших.
— Вальтер, не топчи следы! Мишка, назад! Назад, стервец! Все! И не подходить пока! Сергей, Акиро, Зенон! Вниз, все осмотреть, доложить! Гамлет, съемки! — Большой и толстый метнулся к краю площадки, — к трупам, к Горбовскому. — Здравствуй, Леонид! Какой кошмар! Здесь, на Пандоре! Не было сто лет такого…
— Здравствуй, Эфраим, — Горбовский покивал, потом легонько отнял руку, помассировал кисть. — Вот, Сашенька, позвольте представить: Эфраим Каценелен-боген, директор Центра переподготовки прогрессоров. Чтобы не заставлять людей ломать язык, взял рабочий псевдоним. Даже в документах фигурирует под ним. Так что зовите его просто Слон.
— Очень приятно, — Слон деликатно поклонился. — Александра?..
— Постышева. Просто Аля.
— Знаком с нею с Радуги, Слон, — сказал Горбовский. — Считай это рекомендацией.
— Это серьезно, — Слон важно покивал.
— А главное, — продолжил Горбовский, — Александра была здесь вчера и многое видела.
— О! — восхитился Слон. — И как же вы сюда попали? Вынужденная посадка?
— Откуда вы знаете?
— Значит, я прав. Это опять началось…
— Что — началось?
— Активизация… Вальтер, иди-ка сюда, сынок. Садись на рацию и быстренько опроси остальные "Ветры" — все ли у них в порядке. Особенно охраняемые. Давай.
— Эфраим, — сказал Горбовский, — я имею право знать…
— Ты — да. А вот наша милая дама…
— Я и так уже все знаю, — выпалила Аля.
Слон с тревогой посмотрел на нее. Перевел взгляд на Горбовского. Горбовский кивнул:
— Она действительно знает больше меня. Так что — можешь говорить. Под мое поручительство. "Ветры" — это там, где вы держите "детей дюн"?
— Легкомысленно относишься, Леонид… Ладно. Пойдемте под крышу.
— Сколько их на сегодняшний день? — спросил Горбовский, оглянувшись на ходу.
— Сорок два человека.
— И всё идут?
— Идут, — Слон вздохнул судорожно — почти всхлипнул. — Всё, понимаешь, идут…
Так. И вот этот сухонький старичок — руководитель подполья? Рядом с массивным Мерлином он выглядел не просто несолидно — как-то шутовски несолидно. Но так казалось только первые три минуты. А потом разница в размерах перестала улавливаться совсем.
Вспомнилось почему-то, что все великие террористы и революционеры были маленькие и шустрые. У таких людей фантастическая выносливость и равное ей упрямство, выработанное подавлением комплексов.
Вот и Александр Васильевич — так он представился — был из этих шустрых и выносливых. Он успевал ходить, переставлять мебель, пить из высокого стакана что-то молочно-белое (может быть, и молоко, чем черт не шутит?) и разговаривать как бы с каждым в отдельности, но при этом и одновременно со всеми. Почему-то только четверых из нас: меня, Эспаду, Вадима и Патрика — пригласили на эту встречу. То ли Эрика и Вольфганга пригласят отдельно, то ли они чем-то не подошли, не устроили наших хозяев…
Александр Васильевич был одним из первых прогрессоров — еще тогда, когда только нащупывалась стратегия и тактика взаимодействия с отсталыми (по нашему пониманию) гуманоидными цивилизациями. И назывались они, разумеется, иначе — наблюдателями; и права на вмешательство не имели вовсе. Считалось поначалу, что все следует предоставить природному ходу вещей. Но — практически у всех, причастных к тем давним проектам, рано или поздно начинался психический надлом, который либо приводил к полнейшей профессиональной непригодности, либо заканчивался грандиозным срывом, часто кровавым. И хотя сам Александр Васильевич ничего не говорил о своих собственных переживаниях и приключениях, я покопался в памяти и нашел несколько эпизодов, которые могли быть связаны именно с этим человеком.
— …Конечно, мы наделали массу глупостей, — говорил он, расхаживая широко и деятельно. — Наивно было думать, что наши люди, выпав из постоянного фона гипноизлучения, сохранят психическую устойчивость. Требовалась постоянная подпитка хотя бы портативными приборами, а вот этого-то как раз и старались избежать по тем самым соображениям секретности. Даже руководители института не знали о гипноизлучении… вернее, не знали о том, что оно применяется. Ставка была сделана на внутренние силы, на убежденность, на, если хотите, ностальгию. Как оказалось, человек способен выносить почти все — если за спиной у него Земля… Это было и нашей силой, и нашей слабостью. Люди шли в огонь, на пытки, на смерть… и эти же люди ломались, когда оказывалось, что и на Земле есть пятна…
— От кого и при каких обстоятельствах лично вы узнали о гипноизлучении? — спросил Эспада.
— Лично я… — медленно повторил Александр Васильевич. — Это было в сорок восьмом году на оперативном совещании сразу после теократического переворота в Арканаре и нескольких эксцессов с нашими наблюдателями… этаким спонтанным вмешательством, надо сказать, впервые — удачным, результативным… если вы читали Ахметшина, "Извлечение из миража", то там эти эпизоды очень красочно изложены…
— Антон Зерницкий? — спросил я.
— Да, и Антон в том числе… Вы с ним знакомы?
— Был когда-то, — соврал я. — Что с ним сейчас?
— Не имею представления… Так вот, на совещании вновь всплыло предложение применить гипноизлучатели. Я и еще несколько руководителей групп возражали против этого, используя обычную аргументацию: не подменять естественные процессы наведенными, не инвалидизировать историю планеты… И человек, который предлагал провести облучение, проговорился в пылу полемики. Сказал, что с Землей ничего не случилось, а она под облучением более ста лет…
— Это был Бромберг? — спросил Эспада.
— Да, Бромберг, — чуть удивленно сказал Александр Васильевич. — А это вам откуда известно?
— При мне он тоже проговаривался…
Ага, отметил я.
— Послушайте, — сказал Вадим. — Вот я все думаю про это гипно. Допустим, мы — не представляю, каким способом, но это уже детали, — подавим излучение. Что дальше?
Александр Васильевич ответил не сразу. Для начала он нас оглядел, прищурясь: а вдруг мы уже все знаем, просто валяем дурака? Но мы не знали, конечно.
— Мы считали спектр гипноизлучения, которое идет на Землю. Это, как оказалось, очень трудно сделать… да. Проанализировали его. Лишь четыре процента сигналов удалось идентифицировать. Это как раз те, что обеспечивают бесконфликтность и девиацию личных интересов. Девяносто шесть процентов сигналов воздействия имеют совершенно непонятное нам предназначение…
Кто-то присвистнул.
— И давно ведется такая… обработка? — спросил я.
— Неизвестно. Выяснили только, что девять лет назад гипноспутники были серьезнейшим образом модернизированы. И, что достаточно необычно, часть оборудования была поставлена с Тагоры.
— Спутники "Атлас"? — вдруг напряженным голосом спросил Патрик, как-то изогнувшись.
— Да, — Александр Васильевич посмотрел на него. — Вы их знаете?
— Видимо, это я и возил на них оборудование… Да, девять лет назад. Тагора — Приземелье. Одиннадцать рейсов. Какие-то зеленые контейнеры…
— Тесен мир, — пробормотал Вадим.
— Насколько я помню, — сказал я, — девять лет назад с Тагоры на Землю были доставлены части некоей установки Странников, демонтированной тагорянами на второй планете своей системы. Части эти поступили в распоряжение Академии…
Все вдруг замолчали. Упоминание Странников в таком контексте прозвучало не просто зловеще — а мертвенно-зловеще.
— Нет, — сказал зачем-то Вадим. — Не может быть. Это… даже не смешно…
— Совпадение, — махнул рукой Эспада; глаза у него были беспомощные. — Просто совпадение. Иначе… получается что? Получается, мы — стадо? Или кто?
— Вот так обстоят дела, ребята, — сказал Александр Васильевич. — И даже это не все. Хотя главное — именно это. Некто получил доступ к величайшей тайне нашего мира — и, похоже, намерен распорядиться ею как-то по-своему. Скажу сразу: мне очень не нравится, что на меня, на моих друзей, на моих детей и внуков кто-то — пусть самый добропорядочный и добронамеренный — воздействует помимо их собственной воли и бесконтрольно. Пусть даже во благо… Здесь есть нечто грязное, непристойное… но я никогда не стал бы прибегать к насилию, к конспиративным методам борьбы… не стал бы. Нет. Но вдруг оказалось, что мы столкнулись, похоже, с угрозой самой Земле, всей нашей культуре, цивилизации… может быть, жизни?.. И никто при этом не может оказаться нашим союзником, помощником… никто. После истории с Абалкиным… И еще: я боюсь сам. Не только неудачи, но и удачи. Лекарство может оказаться страшнее болезни. Но опять же: нельзя не попытаться. Если не сделать, то хотя бы узнать. Понять.
— И упростить… — шепотом продолжил Вадим, и услышал его один я.
Наверное, Слон ни минуты своей жизни не провел на одном месте. Он катался по гостиной — той самой, где отмечали некруглый юбилей Вольтера, беспокойно смотрел в окно, переговаривался по радиобраслету с теми, кто был в разлете, и вообще проявлял крайнюю степень беспокойства. Уже известно было, что за последние двое суток опустошено восемь "точек "Ветер", при этом еще на одной охранник убит, на двух — оглушены станнерами до состояния комы и придут в себя не скоро, и лишь один — отставной прогрессор Боб Загородкин — дал отпор нападавшим. Раненный в ногу, он дотянулся до кнопки противопожарной системы — и потом, управляя вручную тремя пульпометами, сумел загнать нападавших в вертолет и удерживать их там, создав патовую ситуацию. Наконец поняв, что сделать ничего не смогут, нападавшие улетели. Подопечный Боба, доктор Эжен Кокнар, разволновался так сильно, что своим биополем сжег все электронные и электрические приборы, находившиеся в радиусе четырех километров; собственно, только благодаря этому группа туристов, лишившись связи, забрела на "биостанцию" — позвонить — и обнаружила там раненого прогрессора и совершенно невменяемого старика… Еще не все было ясно с теми "точками", где подопечные жили без надзора, в одиночку; случалось и раньше, что они не выходили на связь — просто так, из нежелания — или каким-то способом расправлялись с мембраной и уходили в джунгли, или даже кончали с собой — правда, ненадолго… поэтому сейчас на все неотозвавшиеся адреса вылетели группы, но пройдет еще не один час, пока станет ясно все досконально.
Аля рассказывала все, что могла, — включая странный свой опыт с медиатроном, — и слушала в ответ рассказ Слона о "детях дюн"; Горбовский изредка что-то вставлял, уточнял, переспрашивал, но казалось, что он только проверяет себя, правильно ли запомнил давний урок…
"Дети дюн" впервые появились неподалеку от курорта Дюна шестнадцать лет назад. Правильнее сказать: их начали находить — мертвых, разодранных хищниками. Естественно было думать, что это дикие туристы, тем более что генетический анализ позволял идентифицировать их как земных людей. Но почему-то никто не пропадал в этих местах — и это сразу насторожило сначала спасателей, а потом и КОМКОН. Был учрежден постоянный пост, произведено несколько облав на песчаных волков, гусачков и кириллических змеев, установлены ультразвуковые барьеры — и вскоре в дюнах обнаружился первый живой человек. Это был голый и безволосый мужчина с неопределенными чертами лица; он не умел говорить и не понимал обращенной к нему речи; что самое интересное, его не пропускали биобарьеры… Несколько дней спустя он заболел какой-то непонятной болезнью и умер. Это был удар. Медики пришли в неистовство. Биологи — тоже. У человека не было К-лимфоцитов, а лейкоцитарная формула напоминала таковую после сильнейшего лучевого удара. Через две недели из дюн вышла женщина…
Она прожила почти месяц. К исходу месяца она начала понимать отдельные слова; у нее начали расти волосы.
Но только четырнадцатый из "детей дюн" оказался полностью жизнеспособным.
Установленные повсюду телекамеры так и не позволили увидеть, откуда приходят люди. Ясно, что из джунглей. Поиски "месторождения" результата не дали по сей день, несмотря на привлечение самой совершенной техники.
Потом началось еще более странное. У найденышей стали возникать черты — внешние и внутренние — конкретных людей. Они "вспоминали" свое имя, свое прошлое, семьи, профессии, друзей, знакомых… Многие требовали — не слишком настойчиво — вернуть их домой. Но, как ни странно, все с каким-то тупым пониманием относились к своему заточению. Сразу выяснилось, конечно, что имена и биографии принадлежат реально существовавшим людям, незадолго до того пропавшим при тех или иных (иногда не слишком обычных) обстоятельствах.
Да, это дело было не проще "дела подкидышей". Не проще, не легче и не разрешимее. Странники с прежним упорством ставили Землю в ситуацию, чреватую сильнейшим этическим шоком. Дело осложнялось необходимостью, с одной стороны, соблюдать крайнюю степень секретности (легко представить себе реакцию людей, узнающих вдруг, что их близкий, пропавший в позапрошлом году в нуль-кабине, находится в заточении где-то в джунглях на Пандоре), а с другой — слишком большим количеством людей, уже посвященных в проблему. Решение было выбрано старое, но верное: шумовая завеса. По различным каналам, включая такой, как мягкое подпороговое внушение через Мировую сеть, удалось настроить общественное мнение на негативное, недоверчивое восприятие любой информации о Пандоре. Теперь это была планета легенд и слухов, населенная сумасшедшими прогрессорами и не менее сумасшедшими учеными, которые валяют дурака, хулиганят и развлекаются особенным способом, и поэтому ничему о Пандоре верить нельзя…
Никто, собственно, и не верил.
Я совсем забыл, до чего это противно: летать на "призраке". Впрочем, в этом вопросе я всегда отличался от большинства, начиная с самых первых рейсов: меня выворачивало, мутило, потом целыми днями я лежал пластом, а веселые друзья осваивали новые (для себя, конечно) планеты… Вот и сейчас: все прилипли к иллюминаторам, и я вполне мог прилипнуть к иллюминатору, только повернись на бок и сделай визор прозрачным… но не хотелось. Я лежал на спине, смотрел в потолок и ничего не хотел. Прострация.
А ребята — смотрели на Землю… Спины Эспады, Вадима, Патрика выражали — страдание.
Александр Васильевич подсел ко мне.
— Держитесь, Станислав.
— Я держусь. Я вполне держусь. Знаете, последние три часа я вспоминаю все, что помню о десантных операциях, — и не могу припомнить ни одной, более идиотской по сути. Вы уж простите меня…
— Во-первых, это еще не десант, — сказал он, чуть поджав губы. — Это разведка. А кроме того… Знаете, я никогда не руководил десантными операциями. Если можете, научите меня.
— А вы во мне, оказывается, совсем не разобрались. Возможно, и ни в ком из нас. Я могу сообщить что-то — если меня попросить. Или… как-то иначе. Но не могу сам… в общем, ничего. Ничего не могу сам. Ни научить. Ни сказать. Ни предупредить. Понимаете? Вы хотите сделать из нас разведчиков, десантников, бойцов за человечество…
— А больше просто не на кого положиться, Стас, — сказал Александр Васильевич совсем тихо. — Я боюсь, что все остальные, все пятнадцать миллиардов…
— А вы?
— Я… не знаю. Со мной тоже что-то не так.
— Как с пятнадцатью миллиардами?
— Нет, как с вами. Как с андроидами. Своего рода отторжение, секвестрация. Я не ощущаю себя частью человечества. Мое человечество — вы. Знаете, мне в свое время слишком уж пришлось ломать себя об колено. История с Зерницким — это же только эпизод. Знаете, сколько таких прекрасных мальчиков прошло… через то? Сотни. И где они? Я пытался найти их после. Некоторые есть — физически. Не духовно, нет — только тело. Сытое довольное тело. А многих просто нет нигде, и никто не знает, куда они делись. Может быть, вы — это они и есть? В каком-то общем смысле. Помните, лет сто назад забавлялись с машинной реинкарнацией? Технически все получилось, а потом оказалось, что никому это просто не нужно. Да, можно человека записать, потом воспроизвести. И появится как будто то же самое…
— У Странников тоже получилось не сразу, — сказал я.
— Я о другом, Стас, немного о другом. Оказалось, что личность категорически нельзя законсервировать.
Что это не структура, а процесс. Вихрь. Взаимодействие с другими. И когда оно прерывается, это взаимодействие, а оно прерывается при таком переносе, а точнее — заменяется другим… с другими машинами или внутри машины…
— Да, — сказал я. — Протез оказывается гораздо совершеннее живой конечности. Но при чем здесь мы?
— Потому что вы тоже наверняка прошли через подобное, но вам запрещено об этом помнить. И те мальчики на каком-то другом уровне — тоже… и им тоже запрещено помнить…
— И андроидам, — сказал я.
— Да. И в результате все вы — мы — оказались за краем. Сброшены со стола. И это даже не то чтобы обидно — хотя и обидно, конечно… Вызывает подозрения.
— Скажите, — я сел, — у вас есть версия происходящего? Предупреждаю сразу, что у меня — нет.
— У меня их три. Думаю, сегодня, если мы уцелеем, останется одна.
— Странники присутствуют во всех?
— Э-э… да. В разной степени.
— А как активное начало — в одной?
— В одной — как активное начало, в другой — как создатели используемой техники, в третьей — как объект воздействия.
— Даже так?
— Да. Человечество выступает как орудие… ну, борьбы — не совсем то слово…
— Я пойму. Дальше. Борьбы — чьей? Другой сверхцивилизации?
— Нет, это был бы вариант первой версии… Послушайте, Стас, это совсем безумная теория, и вы всерьез сочтете меня шизофреником.
— Ну и что? Расскажите, интересно.
— Нет. Нет-нет. Извините, просто… ну, не могу сейчас. Будете смеяться.
Я знал, что смеяться мне не над чем, но спорить не стал.
Следующие три часа кораблик наш маневрировал, подходя к старому спутнику "Атлас". Напряжение росло, и Эспада даже сорвался: в ответ на совсем уже дурацкую шутку Вадима он ответил резко и зло. Правда, потом мы странно расслабились. Как будто летели на охоту…
Меньше всего девчонки хотели улетать одни, но Аля была неумолима:
— Нет. У меня "синдром Радуги", так что лучше со мной не спорить. Погостите у отца, он будет страшно рад. А то — в интернат, как всех! Ясно?
— Ясно…
— Ясно, но…
В порт девчонок отвез Горбовский. Ему надо было что-то там забрать или кого-то встретить — Аля воспринимала все как сквозь туман и чувствовала, что сама она никаких перемещений в пространстве совершать больше не в состоянии. Но и спать, несмотря на неимоверную моральную усталость, она не могла — поэтому, проморозив себя под душем, сунула под язык пастилку хайреста и вытянулась на кровати под медиатроном.
…смешалось с явью, и как относиться к происходящему, было непонятно. Как вообще может к чему-то относиться человек, заброшенный за полсотни световых лет от родной планеты и втиснутый в странной формы ящик, у которого медленно сдвигаются то те, то другие стенки, а вокруг чернота без звезд, воздух в ящике тяжелый, аварийные патрончики выплевывают кислород с противным запахом мертвых цветов (это следы недораспавшегося озона и квадрона), и спасения не будет — и вдруг появляется из стены некто в белом и заводит многозначительную беседу сам с собой, а чуть позже приходят парни без лиц и с повадками санитаров… и все это в медленном, заунывном, завораживающем, тягучем ритме, как будто царит среднеазиатское средневековое пекло, солнце не заходит никогда, все окрашено в цвет расплавленного янтаря и пересушенного песка, и где-то играет зурна. Зурна меня особенно донимала… пытка зурной. Наверное, ее придумали древние китайцы.
Часы то шли, то стояли, то показывали вчерашнее время. И я склонен почему-то верить часам, а не своим ощущениям. Два раза я пытался писать, но когда однажды обнаружил толстую полуистлевшую тетрадь, полную моих записей, обрывающихся словами "харистоподнический исклюинатор вестит крайне адваютротиллинопропно… не поминайте…", — решил, что это занятие не для здешних условий. Впрочем, "решил" — не то слово. Там я не решал. Там я соглашался или не соглашался. И даже не так. Там я или находил силы отказываться от безумных затей, или не находил.
Я ведь вешался там. Сделал петлю, надел на шею, спрыгнул с койки. И повис, медленно покачиваясь, приподнимаясь, опускаясь… Тяжесть была, но не для меня.
И потом еще — что-то было подобное… вены резал? Может быть, и вены. Иные вещи забывались сразу, стоило проскочить мимо, — так испаряются утренние сны. А иные — застревали в памяти, как камни…
Когда появился Малыш, я уже считал себя мертвым.
Я уже видел это много раз в своих повторяющихся снах: коридоры трапециевидного сечения с одной стеной темно-зеленой, другой серебристо-зеленой, почти черным полом и светящимся потолком. Коридоры шли либо бесконечно прямо, заканчиваясь точкой перспективы, либо уходили в сторону, закругляясь… Спутники "Atлас" построили лет восемьдесят назад и предполагали использовать в качестве космических санаториев: тогда как раз началась эпидемия болезни Шнее-Мура, с нею долго не могли справиться, и счет людей, кости которых превратились в безе, шел на десятки тысяч. Но потом, когда три спутника были готовы, а семь построены, но не оборудованы, появился Рокухара со своей вакциной, и спутникам пришлось искать новое применение.
…Помещения были заполнены азотом, температура поддерживалась примерно плюс пять, мы шли в масках и натянутых на компенсаторные костюмы свитерах, серых и одинаковых, из какого-то набора спецснаряжения. Индикаторы мю-воздействия вели нас. Позади было уже километра три коридоров и анфиладных залов, я шел и думал, что у архитекторов прошлого были свои странности, а мы уют понимаем не так.
Скорее всего, мы причалили не к тому шлюзу. Вряд ли получатели зеленых контейнеров с Тагоры перетаскивали их черт знает куда этими переходами…
— Наверное, здесь, — в который раз сказал Александр Васильевич, останавливаясь перед двустворчатыми раздвижными воротами из анодированного титана. — Как полагаете, десант?
Десант, собственно, никак не полагал. Ворота казались несокрушимыми. Кроме того, по ту сторону нас могли ждать недовольные нашим вторжением таинственные заговорщики. Или инопланетные чудовища. Или собственной персоной Странники. Или вакуум. Хотя индикаторы и у меня, и у Эспады, и у Александра Васильевича дружно (кажется, впервые сегодня) указывали именно туда, за эту преграду.
— Даже если и здесь… — начал Вадим, но я уже наперед знал, что он скажет: что не открыть, не пройти, не знаем ключа, замка, шифра, способа, привода… — и мы действительно ничего этого не знали и в снах моих чуть ли не умирали у этих ворот, отчаявшись и перепробовав все, включая какую-то стрельбу и вообще непонятно что, и тогда я сделал то, чего мы во сне никогда не догадывались сделать: я просто подошел к воротам, приложил голые ладони к холодному металлу и стал сдвигать плиту, преодолевая только массу ее, но не сопротивление каких-то механизмов… с минуту ничего не получалось, плита весила на Земле несколько тонн и даже здесь, в щадящем гравиполе, с полтонны тянула наверняка, а я — едва десять килограммов, но вес не в счет, пол был одной сплошной присоской, ноги не скользили абсолютно, я приналег еще, и Вадим втиснулся снизу — помогать… и пошла, родимая, пошла сама, пошла — все, теперь не удержать.
— Ух ты! — сказал кто-то, заглянувший в щелочку раньше нас.
— Осторожно!.. — голос Александра Васильевича, а потом — пахнуло сзади раскаленным и шершавым, я оглянулся: сияющий вихрь ворвался в спутник, разбрасывая нас, это был горячий от солнца песок, это был солнечный свет, это был страшный, ревущий шквал! Створка уплывала, и передо мной открывался уносящийся вниз песчаный склон, легкий белый взмывающий навстречу песок и розоватое солнце высоко и чуть справа, и все это спутник всасывал в себя, как громадный пылесос! Меня поволокло этим потоком, я не отцеплялся от створки, Вадим не отцеплялся от меня, сзади кричали: "Назад!" и "Осторожно!" — и вдруг пол ушел из-под ног, тяжесть подхватила нас, мы повалились, хватаясь друг за друга, и — закувыркались по склону…
Она выпила три стакана воды один за другим, и все равно хотелось пить. В зеркале отражалось что-то малознакомое и злое. Пожалуй, все уже выветрилось из памяти, да и — не было сил… Она с отвращением покосилась на раскрытый блокнот. Нет. Просто не хочу.
Есть, оказывается, вещи, о которых лучше никому не знать.
А ведь это еще не конец, подумала она.
Или все-таки конец?
В том, давнем смысле?
Хорошо, что отправила девчонок… и Марк обрадуется…
Она представила себе, как это будет, и посмеялась — не слишком весело.
В гостинице было слишком шумно: человек двести, в основном молодые ребята, девушек меньше, все одетые по-полевому, с оружием — оружия было непривычно много, — собрались внизу, в холле, вокруг фонтана, среди пальм: сидели кто в кружок, кто поодиночке, что-то поправляли в снаряжении, пели. Аля заметила Слона: он стоял, окруженный другими, как взрослый человек среди ребятишек. Потом она увидела — чуть в стороне — Горбовского. Он слушал высокого и широкоплечего молодого человека с очень загоревшим лицом и почти белыми от солнца волосами. Человек что-то яростно, но шепотом Горбовскому доказывал.
Странно: этого человека она никогда в жизни не видела, но почему-то знала, что от него здесь и сейчас зависит почти все. Не от Горбовского и не от Слона. От него. Возникло незнакомое чувство: будто внутри нее пряталось маленькое дрожащее животное, и пряталось именно от него… от убийцы. Оно его узнало и теперь панически пряталось, и это могло плохо кончиться, потому что страх вдруг передался ей самой…
Горбовский увидел ее и помахал рукой, приглашая.
— Вот, Сашенька, это Максим. Девушек ваших я в корабль усадил и отправил… очень возмущались. Особенно младшая. Максим, это Александра, мой товарищ по Радуге. Она практически в курсе дела.
— Вы там побывали за несколько часов до нападения, — сказал, пожимая ей руку, Максим. Рука была хорошая. — Слон успел мне пересказать кое-что, а кое-что я и сам понял. То, что произошло с вами, называется инсайт. Уже были подобные случаи…
— С вами тоже? — почему-то догадалась я.
— Заметно? — Он улыбнулся.
— Да уж…
— Это пройдет, не слишком беспокойтесь. Кое-что остается надолго, но… Впрочем, это не так уж важно. Важно другое. Скажите, после того, как Попов извинился и покинул вечеринку, вы не заходили в его комнату?
— Нет. Я вообще туда не заходила.
— Это точно?
— Да. Я не была настолько невменяема…
— Но к комнате вы подходили?
— М-м… Видите ли, я не знаю, была это его комната или чья-нибудь еще… Мне послышался разговор из-за двери, я постучалась и попыталась войти, но было заперто. Я ушла.
— А почему вы хотели войти?
— Не знаю. Что-то… ну, зацепило, что ли… Не могу точно сказать.
— Разговор был слышен хорошо?
— Нет. Я не поняла, о чем говорили. Но будто бы спорили — мужчина и женщина. Потом я подумала, что это спектакль…
— Все то же самое, Леонид Андреевич, — повернулся Максим к Горбовскому.
Тот горько покивал головой.
— Спасибо, Александра, — сказал Максим.
— Я чем-то помогла?
— По крайней мере, одно существенное опасение отпало.
— Вы нашли его? Или кого-нибудь?
— Нет. Слишком буйная растительность. Целую армию можно спрятать…
— Постойте… — Аля вздрогнула от какого-то толчка изнутри. — А на кобальтовых шахтах вы были? На старых шахтах?
— Это где же такие? — задрал брови Горбовский. — Ты знаешь, Максик?
— Нет. Надо спросить Слона… Эф! — Максим взмахнул рукой. Слон мгновенно оказался рядом — воздушной волной Алю качнуло. — Ты слышал про какие-то заброшенные шахты поблизости?
— Поблизости — нет. Здесь же была запрещенная зона. Есть старые кобальтовые шахты на Мраморном берегу.
Полторы тысячи километров. И есть соляные пещеры под Оз, но там полно туристов…
— Наверное, это там, — сказала Аля. — В смысле — на Мраморном…
Было почему-то трудно выговаривать слова.
— Откуда вам известно?.. — начал Максим, но Горбовский вдруг, оттолкнув его, сделал быстрое и неловкое движение, и Аля оказалась у него на руках. Тело стало невесомым и непослушным, неподотчетным.
— Сашенька? Сашенька, вы меня слышите?
Аля слышала, но ничего не могла сказать. Она мигнула изо всех сил, и глаза закрылись.
— Ты что-нибудь понимаешь? — в сотый раз спрашивал Вадим, и я в сотый раз отвечал, что не понимаю. Каким-то образом я знал, что находимся мы в Западной Сахаре — с литром воды на двоих, без радиобраслетов и без воли к сопротивлению.
Кто бы мог подумать, что перенаселенная Сахара — такая пустая?..
— Случай спонтанной нуль-транспортировки, — продолжал Вадим. — Которой якобы не может быть. Но кто сказал, что мы разбираемся в нуль-физике? Даже великий Ламондуа не разбирался в ней ни черта…
— Вадим, — попросил я. — Будь другом, не трещи. Может быть, мне удастся сообразить что-нибудь.
— Мне нельзя не трещать, — сказал он серьезно. — Иначе такое начнется…
— Что именно?
— Ну… фигня всякая. Заранее не скажешь. Я болтаю, и все как бы стравливается. А в противном случае, особенно когда напряжение какое-нибудь вокруг… даже думать неохота. Я просто стараюсь, чтобы ничего не случилось… а ты поменьше на меня внимания обращай, хорошо?
— Приложу все усилия…
Пустыня была как в старых фильмах. Жара под пятьдесят, мертвая сушь, белый песок. Мы шли по гребню длинной дюны куда-то на юго-восток — просто потому, что в ту сторону было легче идти. Прокаленные до прозрачности облака тянулись из какой-то далекой благодатной окраины неба — полусложенным наклонным веером.
Две птицы летели, обгоняя нас, низко и медленно.
Сил хватит на три часа. Может быть, на пять. Мы умрем от перегрева, если не снимем костюмы. Или от обезвоживания — если снимем.
— Знаешь, — сказал я, — нам терять нечего. Давай попробуем устроить твою фигню.
— В смысле — мне заткнуться?
— Да.
— Ну, давай попробуем…
Но добрый час не происходило ничего.
Если бы не пропали все чувства — это было бы страшно. Она все слышала и видела то, что попадало в поле хотя бы бокового зрения полузакрытых глаз, но не могла ни шевельнуться, ни подать голос. Ее как бы залило невидимым твердым пластиком…
Врачи хлопотали вокруг нее, но вряд ли эти хлопоты имели смысл: дышала она и так неплохо, и сердце билось само. А освободить ее от оков — она это откуда-то знала — они не могли. Если повезет, то все пройдет само.
— Ничего, Сашенька, ничего… — Горбовский не отходил от нее. — Главное, не бойтесь. Найдем мы вашего Попова, узнаем код…
— Вы же знаете код, — склонился над Алей Максим, вглядываясь в глаза, в лицо, пытаясь найти хоть тень ответа. — Эх, мнемоскоп бы сюда…
Она и на самом деле знала, как выйти из того состояния, в котором оказалась, — но не было ни малейшей возможности объяснить это тем, кто мог сделать необходимое. А сама она — не могла… или почти не могла.
Откуда взялось это "почти"?
— Может, и правда — под мнемоскоп? — оживился Горбовский. — У Слона обязательно должен быть.
Она больше не видела Максима — он отвернулся. По потолку медленно полз световой блик. Вытянулся в лучик, скользнул в угол и исчез. Кто-то взял с подоконника что-то металлическое и блестящее.
…рубиновые и стальные шестигранники внизу, и густо-коричневые, как шоколад, промежутки меж ними, и непрерывное скольжение — чуть вниз и чуть вверх, и чуть вниз — над всем этим — неясно, на какой высоте — без тела и без смысла…
— Если Попов и правда там, на шахтах, — сказал Максим, — то лучше дождаться его самого. Потому что ментоскопия, Леонид Андреевич, это… Ее и вообще-то лучше никогда и никому не делать, а в нашем случае — это просто опасно. Опасно. Да.
— А я всегда полагал тебя рисковым мальчишкой, Макс, — сказал Горбовский с непонятным смешком.
— Это было давно, — сказал Максим.
— Противно быть старым, — горестно вздохнул вдруг Горбовский. — Противно сидеть и ждать, когда тебе скажут, что и как. Очень хочется пойти и самому все узнать…
Потом они долго молчали.
…касаясь чем-то, чего у нее не было, избранных площадок, то зеркальных, то матовых, то неприятно-фасетчатых, и во всем этом был какой-то дикий смысл и намек на спасение…
— Я не хотел говорить об этом сегодня, — сказал наконец Максим, — но, видимо, придется. Надо выжечь Дюны… Иначе мы будем обречены на все новые и новые инциденты. Изощренность растет по экспоненте. Про Петра и Павла вы уже знаете? Это ведь пострашнее всех подкидышей и всех Странников вместе взятых.
— Я думал об этом, — сказал Горбовский неожиданно легко. — Но как ты представляешь себе это… технически?
— Повесить старый корабль с отражателем. Их два десятка болтается на стационаре. Со ста километров пятно получится — пятнадцать в диаметре. При экспозиции шесть-восемь минут…
— Кто будет управлять кораблем?
— Я.
— Возьмешь такое на душу?
— Возьму.
— Не возьмешь ты, Максик. Тебе сейчас кажется, что сможешь, а как дойдет до дела…
— Смогу, Леонид Андреевич. От страха люди могут все. А я — очень боюсь. Очень.
Они опять замолчали, потом Але показалось, что Горбовский начал говорить, но его прервал сигнал вызова.
— Да. Слушаю тебя. Что? Не может быть… Спасибо, Слон. Хорошо. Да, прямо сейчас. Ничего не трогайте до нас. Ничего…
…нужная ей, похожая на бассейн с зеленой ртутью, она касается поверхности — и будто невидимым хоботком начинает втягивать эту ртуть, и вот из ничего возникают зеленые руки со сведенными судорогой пальцами, она пытается пальцы распрямить, и не с первой попытки это получается, а между тем ртутью заполняется некая полость в пространстве в форме невидимого человеческого тела, она начинает видеть это — себя — как бы со всех сторон одновременно — ртутная женщина…
— Сашенька, нам придется покинуть вас…
— Нет… — она с трудом разлепила губы. — Без меня вам там нечего делать. Две минуты, я займусь собой…
Наверное, это когда-то называлось оазисом. Полузасыпанные песком, стояли белые, без единой прямой линии, постройки. Купола, частью проломленные, напоминали черепа вымерших тысячелетия назад великанов.
Пологая лощина, чуть темнее окружающих песков, уходила направо. Наверное, здесь когда-то стояли пальмы и синело озеро. Но и сейчас мог быть колодец, а поэтому нужно было спускаться…
— Может быть, найдем воду, — тихо сказал Вадим.
— Да, — так же тихо сказал я.
Если мы не найдем воду, то вечером выпьем последнюю, а за сутки высохнем, как воблы. Ничто не поможет…
Я подумал почему-то, что нас выбросило не только за сорок тысяч километров, но и за сорок веков. И нигде вокруг нет ни человека, ни верблюда, потому что колодцы высохли и пути караванов переместились на север…
У подножия дюны было еще жарче, хотя солнце уже касалось гребня ее, и вот-вот должна было лечь тень. А пройдет еще сколько-то лет, и дюна вползет на развалины оазиса, хороня его навечно, как похоронены здесь, наверное, целые города и страны.
— Колодец, колодец, колодец… — бормотал Вадим. — Колодец…
— Наверное, вон там, — показал я.
Чуть видимый, темнел край каменного кольца.
Мы почти подбежали. Колодец был полон песком до края.
— Может быть, там крышка… — я абсолютно не был уверен в том, что говорю.
Мы начали раскапывать. Руками. Трудно сказать, как долго это длилось. Может быть, час. Потом Вадим сказал, что пойдет поищет что-нибудь, что сойдет за лопату. Мы углубились примерно по грудь. Я присел и стал рыть еще. Песок был плотный, слежавшийся, но сухой. Впрочем, если подо мной крышка колодца, то песок и должен быть сухим. Я попытался почувствовать, что именно находится внизу, но от усталости не мог ни черта.
Вадим не возвращался, и я вдруг как-то очень остро ощутил его отсутствие. Его не было вообще нигде. От напряжения и жары у меня было черно в глазах, и я с трудом, обваливая края с таким трудом вырытой воронки, выбрался наружу. Цепочка волочащихся следов тянулась к ближайшему куполу. На пути ее чуть приподнимались над песком зубцы древней стены. Почему-то от стены шли уже три цепочки: направо, налево и прямо. Коня потеряешь, подумал я. В спину тянуло жаром. Воздух впереди дрожал и переливался.
Янтарного цвета полоска проходила по далекому горизонту.
— Вадим! — Я думал, что кричу, но крик как-то не получался: было неловко. — Вади-им!
Молчание.
— Вадим, черт возьми!!!
Я уже знал, что ответа не будет.
Следы подходили к пролому в куполе, но и от пролома тянулись две цепочки, и уже ясно было, что так будет и дальше. Началось то, о чем Вадим предупреждал и о чем я смутно догадывался.
Внутри купола было темно. Пыльный луч не столько освещал помещение, сколько мешал хоть что-то увидеть. Впрочем, кроме песка, там не было ничего. И я пошел по следам, чтобы хоть куда-то идти.
Уже начало темнеть, когда я наткнулся на нечто, представляющее интерес.
Чуть в стороне от основных развалин стояла башня — как и все здесь, в песке по плечи. Коническая крыша ее, собранная из лавовых плиток, имела нечто вроде слухового окна — и от этого окна внутрь башни спускалась винтовая лестница. Слабый запах плесени поднимался оттуда. А где плесень, там сырость, а где сырость, там (не исключено, что) вода. Терять мне было, в общем-то, нечего. Я забрался внутрь, постоял на ступеньке — каменном брусе, вмурованном в стену, — дождался, коша привыкнут к полумраку глаза…
И стал спускаться.
Салон "стрижа" рассчитан на четверых, но набилось в него девять человек: помимо Али, Горбовского и Максима, еше четверо прогрессоров, врач и кибератор. Кибератор и вел машину — на небольшой высоте, в тропопаузе. Облака казались снежным полем. Несколько раз в опасной близости пролетали гусачки и лязгуны, и автопилот бросал машину в стороны так резко, что Алю вдавливало в твердого, как кость, Горбовского. Он пытался как-то смягчить эти толчки…
Сам полет длился меньше часа, но долго нельзя было сесть: единственная приемлемая площадка вблизи заброшенных шахт была забита глайдерами и вертолетами, и пришлось ждать, ходя кругами, пока их не растащат в стороны и не освободят достаточно места для посадки.
— Где? — спросил Максим, первым выпрыгивая из "стрижа" навстречу ожидающим.
— Вон там, под деревьями…
— Аля, не ходите, — предложил Горбовский, но она упрямо помотала головой и пошла, почти побежала, вслед за Максимом.
Под низкими, с черными листьями, плоскокронниками на белом полотнище лежали в ряд, прикрытые по грудь таким же полотнищем, полтора десятка тел. Тел людей. Полотнище, очевидно, не промокало, оставаясь белым. От этого все казалось ненастоящим.
Аля прошла вдоль ряда, наклоняясь и всматриваясь в лица: молодые и не очень, спокойные и искаженные…
Все было как-то безумно просто.
— Его здесь нет, — сказала она.
— Да, из захваченных здесь только двое, — сказал Максим. — Их опознали…
— Я имею в виду руководителя. И… центр. Центр. Да, нужен центр…
Максим смотрел на нее, не понимая. Она и сама себя не вполне понимала.
Это был тот самый пресловутый янтарин. Проклятый бестеневой свет не позволял судить о размерах и даже форме помещения. Для простоты я решил считать, что это приплюснутый купол. На полу песок, серый и тонкий. Присыпанные им, лежали непонятные металлические скелеты — части распавшегося исполинского насекомого.
Чуть позже мне попался просто скелет. Точнее, мумия.
Человек умер сидя, спиной к дырчатой пластиковой панели. При жизни он был до пояса гол. Кожа его была цвета высохших листьев. Из песка торчали колени, обтянутые белесо-голубыми штанами; там, где был когда-то живот, свободно лежал коричневый кожаный ремень. Еще один ремень обхватывал руку мертвеца. Я зачем-то наклонился и потянул — и вытянул древний автомат. Немецкий МП-40, знаменитая в свое время машинка… Вторая мировая. Получается, что мои предчувствия относительно переброски во времени могут оказаться истиной… хотя — проще предположить, что железо просто-напросто мумифицировалось — как и его владелец. Как, наверное, скоро сделаю и я…
Я положил автомат мертвецу на колени и пошел дальше. И очень скоро наткнулся на полупогребенную нуль-кабину.
Конечно, он был здесь — она почти узнавала эти комнаты, переходы, залы… Здесь ему было легко. А здесь — что-то угнетало. У стен, у воздуха — была память, и эта память каким-то образом стала доступна ей.
— О чем вы так напряженно думаете, Саша? — спросил ее Максим; он ходил рядом с нею, охранял, и не было возможности спровадить его и побыть одной.
— Ни о чем. Я напряженно думаю ни о чем. Вы должны меня понимать, раз были в таком же положении.
— Поэтому я и спрашиваю. Как бы имею право.
— Вам кажется. Никто не имеет такого права.
— Я и говорю — как бы. Мнимое право. Корень из минус единицы.
— Корень… Вы не знаете случайно, почему андроидам запрещено жить на Земле?
— Знаю.
— Мне можете сказать?
— Пожалуй. Хотя это не слишком просто объяснить.
— Попытайтесь.
— Хм… Ладно. Программу эту начали шестьдесят лет назад, когда всеми почему-то овладела идея о скором вторжении Странников. И воз помимо всего прочего решено было создать… как бы это сказать… архив генофонда человечества. И носителей этого архива расселить по всем планетам, для жизни пригодным, но для посторонних интереса не представляющим. Вот. Людей этих сделали крайне адаптивными, способными существовать в самых невероятных условиях. Всего их создали около пятисот, на сегодняшний день осталось четыреста одиннадцать человек. Если Земля опустеет, они вернутся и заселят ее…
— Вы хотите сказать, что на Земле они начнут лавинообразно размножаться?
— Да. Это такая программа…
— Спасибо, Максим. Вы можете сказать, кто именно это придумал?
— Некто Пирс. Он давно умер. Я тоже, когда узнал, хотел найти его и набить морду.
— Жаль, что не успели.
— А знаете, как он умер? У нею была лаборатория в Западной Сахаре. Он выполнял некое задание для Института экспериментальной истории — это такие предтечи профессоров… Интересно, что у Пирса был не слишком обычный персонал: он брал только физических инвалидов, которым медицина почему-то не могла помочь. Случается такое, знаете ли. И вот в один не слишком обычный день заказчики прилетели принимать работу. Вроде бы приняли. Сказали — утром заберем. А сами вечером вернулись, вооруженные какими-то ископаемыми автоматами, и перестреляли там всех — и персонал, и… как бы сказать… собственный заказ. Перестреляли, сожгли, взорвали, уничтожили всю документацию… дико, правда? Потом написали записки родным, друзьям — и перестреляли друг друга. В одной из записок было утверждение, что успели они в самый последний момент…
— И — ничего не известно?
— Практически ничего. Не удалось даже выяснить характер той работы. Они ведь и в своем институте чистку провели. Уничтожили архивы, записи…
— Какая жуткая история. Даже трудно поверить, что в наше время может твориться такое.
— Да, Саша. Редко, но может. К сожалению.
Аля вдруг замерла. Будто легкий ток теплого воздуха в правую щеку…
— Стоять, Каммерер, — сказал кто-то негромко. — У меня скорчер, и вы оба у меня на прицеле. Если ты начнешь делать глупости, я выстрелю. Я успею.
Кабина была из тех, первых, с цилиндрической дверью. Для того, чтобы только узнать, подключена она к сети или нет, мне пришлось выгрести из нее весь песок и потом еще продуть направляющий паз. От этих продувок в бедной голове моей сгустился туман, замелькали огни перед глазами…
…мы опять играли в мяч: Малыш, Майка и я. Только это была не холодная планета Ковчег, не промерзший песок, не берег серого океана — а Западная Сахара, развалины древней крепости, укрытые серебристым куполом "оазиса", легкие домики персонала, смуглый, но с льдистым поверхностным блеском куб лаборатории. Малыш шутя обыгрывал нас, потому что мы играли в дохах, а на мяч был надет обруч "третьего глаза", и где-то в сыром темном уголке, как в центре паутины, сидел Комов и наблюдал за пляской фигур на экране, и делал свои выводы. А потом вдруг зашевелился песок, и поднялся голый по пояс мертвец с автоматом в руке. Автомат медленно застучал, выбрасывая кровавые сгустки, и мы все трое брызнули в разные стороны, оставляя за спиной разноцветные фантомы, я подумал, что надо скинуть доху, но Майка успела раньше. Доха долго держалась в воздухе, ломаясь и падая, как человек, пораженный в спину, а вперед со страшной скоростью неслось по-своему прекрасное металлическое насекомое, стройное, шипастое, удлиненное, смертоносное…
Я встал. Голова кружилась. Все вокруг падало вместе со мной. Будто наступила невесомость. Промахиваясь, я все-таки нажал клавишу двери, и она скользнула влево и назад. Передо мной открылась кнопочная панель — и экран видеофона. Это была удача.
Я вдруг понял, что не знаю ни одного номера — и ни одного кода.
И вообще не понимаю, что это такое — номер или код.
Превозмогая что-то невидимое, но мощное там, в собственной темной глубине, я включил видеофон, набрал наугад десять цифр и стал ждать. Клавиша "вызов" медленно замигала. Через минуту экран осветился. Появилось не слишком довольное лицо…
Это была Майка.
Онемев, я смотрел на нее. А она, в свою очередь, смотрела на меня, и глаза ее расширялись…
— С…тась?..
— Да… Майка…
— Но ты же… — она замолчала, будто чуть не сказала что-то страшное.
— Нет. Я живой.
— Господи, да что же это происходит… — И Майка вдруг заплакала, не переставая смотреть на меня, даже не моргая — будто моргнет, и меня не станет… — Где ты?
— В Сахаре.
— Нуль-Т там где-нибудь есть?
— Я стою в кабине.
— Немедленно… — и она назвала свой код. — Немедленно, слышишь?.. Немедленно! И не отходи от кабины, я сейчас…
Почему-то не в силах оторвать от нее взгляд, я набрал код. Проверил. Нажал "старт".
Экран погас. Мгновенная дурнота. Изменился цвет панели. Почти бесшумно открылась сзади дверь. Я повернулся и вышел в холод и аромат. Этот воздух можно было пить. В нем можно было купаться. Улица невысоких коттеджей уходила вперед, а слева на полнеба висела россыпь огней: Вертикальный город. Я чувствовал, что могу упасть.
— Одно из двух, Каммерер, — подвел итог Мерлин. — Или вы полный идиот и сами верите во всю эту чушь, или занимаетесь не своим делом и не представляете, что творится у вас под носом. А следовательно — тоже полный идиот…
— Хорошо, — сказал Максим. — Я идиот. Согласен. Я действительно не представляю, что творится у нас под носом. Но я не убиваю ни в чем не повинных людей. Не убиваю, понимаете это?
— Даже если самую смирную зверушку загнать в угол, она начинает кусаться, — сказал Мерлин. — А нас загнали не то что в угол…
— В данном конкретном случае в угол загнали нас, — сказала Аля.
— Я приношу свои извинения, — сказал Мерлин скучным голосом.
— Чего вы хотите конкретно? — спросил Максим. — Отменить запрет? Это нереально. Я не имею веса в Мировом совете. После того, как Сикорски… Единственное, что можно сделать, — это изменить вашу тропность к Земле… хотя бы на нейтральную. Будет легче.
— Вы ни черта не понимаете, Каммерер! Андроиды посещают Землю — и ничего! Ничего абсолютно! Никакая программа не срабатывает! Сейчас на Земле несколько наших людей. Это все полная чушь. Пирс был жуликом…
— Вряд ли. Кем-кем, а жуликом он не был. Если он солгал, то лишь потому, что создавал андроидов с какой-то иной целью…
— Вы совершенно правы, Максим, — сказал Мерлин совершенно другим голосом. Аля вздрогнула: будто незамеченным вошел и заговорил с нею кто-то… — Узнаете? Мы ведь встречались однажды. Вы должны помнить. Вас только-только вытащили с Островов, вид у вас был помятый, но очень боевой. И бедный Руди, собираясь возвращаться, сдавал вам дела на Саракше. И вдруг появляюсь я с проектом идеального шпиона…
— Пирс… — прошептал Максим. — Ничего не понимаю…
— Ну, тут нет ничего необычного. Контрразведчик должен ничего не понимать — в этом его основная ценность. Только так он и может заинтересоваться чем-то совсем уж тривиальным… Но я рад, что вы меня узнали. Приятно, знаете, когда узнают.
— Так… — выдохнул Максим. — А остальные четыреста с чем-то — это тоже вы?
— Тоже я. То есть — и я в том числе. Каждый сам себе личность, но я в нем живу. Неплохо придумано, правда?
— А — зачем?
— Ну, Максим, вы и спросили… Вы помните меня — того — на Саракше? Помните?
— Ах, вот в чем дело…
— Конечно. Попасть из полумеханического обрубка в тело полноценное, да еще не в одно, а в несколько сот, обрести реальное бессмертие, пережить миллионы приключений… Поверьте, с вами бы я не поменялся. Например, я даже не сразу заметил, что меня-исходного — убили. Кто может похвастаться подобным?
— А что вы там сделали такое, за что вас пришлось убить?
— Много хотите знать, Максим. Любопытство, как известно, сгубило кошку.
— Слушайте, Пирс. А вот вы — один или множество?
— Один. Во множестве мест.
— Вас нет сейчас рядом с Поповым?
— С этим гомункул юсом? Сейчас… нет. Он пропал на спутнике "Атлас". Вошел в мультипликатор. Теперь его не найти.
— Ясно… Что вы хотите делать с нами?
— Ничего. Правда, Мерлин имеет на вас свои виды… Я не вмешиваюсь в дела своих креатур. Так интереснее жить. Поэтому прощайте, милые эфемериды.
— Минутку, Октавиан…
— Вы вспомнили мое имя? Замечательно. Если желаете, можно еще поболтать.
— Помните Курта Лоффенфельда?
— Конечно… Да, зря Мерлин считает вас тупой скотиной, Максим. Когда захотите, вы умеете думать.
— Значит, Сикорски уже вышел на вас?
— Не сказать, чтобы вышел — но начал принюхиваться.
— А зачем такая сложная интрига? Не проще ли было — отравить его, например?
— Нет, конечно. Во-первых, до Тристана дотянуться было все-таки проще, потому что… впрочем, это понятно. Он человек молодой, любознательный. Был. Да… Очень восприимчивый, кстати. Такие — редкость. Два сеанса по пятнадцать минут. И многоходовая операция свелась к первоначальному толчку… А эффект? Какое отравление могло дать такой эффект? Вся система безопасности буквально разнесена на куски — одним выстрелом! Одним. Или сколько он там раз пальнул…
— Четыре.
— Ну, вот видите…
— Понятно. Я предполагал подобное, но подозревал не вас. Спасибо, Октавиан, вы мне помогли.
— Да что уж…
Что произошло дальше, Аля не поняла. Максим, лежавший только что лицом вниз, вдруг оказался рядом с черным человеком, раздался страшный звук, будто ломали толстые сучья, а потом слепящая молния ударила в каменный потолок…
Я утонул в пене, и маленькие мыльные роботы ползали по мне, шлифуя и массируя, посылая слабые токи и вгоняя куда надо лучики своих лазерных рубиновых глазок. Майка сидела напротив, и лицо ее было… не знаю, видел я или чувствовал, но на прекрасном этом лице читался испуг — и какое-то ожесточение. Будто она решила что-то важное для себя — и готова была отстаивать то, что решила, всеми средствами…
Я уже три часа рассказывал ей все, что произошло со мной с тех времен, когда мы виделись последний раз — миллион лет назад и в другой Вселенной, — и она рассказывала, и я видел, что ей тоже нужно выговориться… как и мне почему-то, никогда раньше не испытывал этого желания, а тут вдруг — рухнуло…
— Я тебя спрячу, — сказала она неожиданно и без всякой связи с предыдущим. — Спрячу так, что они век тебя не найдут. Сдохнут, а никогда…
— Спасибо, Майка, — сказал я. — Только ведь я не прячусь. Да и не спрятаться мне. Видишь ли… время от времени вокруг меня начинают сходить с ума киберы. Я совершенно не контролирую это. И если меня захотят найти, то найдут очень легко. Но прежде будет много происшествий. Могут и люди погибнуть. Зачем?
— Не знаю, — сказала Майка. — А зачем вообще всё?
— Это хороший вопрос. Не знаю. Как я сумел набрать именно твой номер? Тоже не знаю. Кто я? В чем смысл оперы Верди "Трубадур"? Что такое гр’охб? В конце концов, чего хотят Странники?
— Может быть, их и нет совсем, — сказала Майка.
— Может быть, и нет. Хотя — кто-то точно есть.
— Я пыталась систематизировать наши представления о Странниках. Не знания, а именно представления.
Динамика за восемьдесят лет. Корреляция с реальными находками. Все очень странно. Представления опережают находки примерно на пять лет.
— Да. Это ложится в общий ряд.
— Ты уже знаешь что-то?
— Я знаю, наверное, все. Я же говорил. Но мне именно поэтому трудно делать собственные выводы. А относительно общего ряда… Понимаешь, Майка, у меня нет ничего, что можно было бы назвать доказательствами. Я как Малыш сейчас… помнишь, он получал ответы, но не знал, как. Вот что-то подобное и со мной творится, и я совершенно не знаю, как к этому отнестись.
— Со мной что-то тоже творится, и я тоже не знаю, как к этому отнестись, — сказала Майка. — Никогда бы не подумала… Когда я увидела тебя на экране, я вдруг поняла, что ждала именно этого… долго… годы… Понимаешь? Ждала именно тебя. Не зная того сама. Это так странно…
— Не страннее прочего, — сказал я медленно. — Только, Майка, пойми: я не человек. Я очень похож на человека, но я — что-то другое. Гораздо более другое, чем был Лев. Тебе придется запереть меня на ночь…
Сознания она не теряла, но на какое-то время вновь утратила возможность реагировать на происходящее. Уменьшенная и приблизительная копия недавнего состояния. Шок. Перегрузка. Кажется, она кричала. Или что-то еще.
Потом оказалось, что ее несут наружу. На руках. Как девочку. И она заплакала — от обиды и от непонятного облегчения.
— Сашенька, Сашенька, — говорил Горбовский. — Уже все. Уже все хорошо. Все кончилось.
Но она знала, что еще не кончилось ничего.
Было еще темно и холодно. Сеялся мелкий утренний дождь, остаток большого ночного. Город просыпался, и нужно было идти.
— Пока, — сказал я.
Майка наконец посмотрела на меня, и я вдруг задохнулся.
— Они и тебя убыот, — сказала она. — Я знаю, они убьют и тебя. Они всех готовы убить.
— Меня бесполезно убивать, — сказал я. — Убьют здесь, и я снова появлюсь там. И вернусь к тебе…
— Не вернешься ты. Никто никогда не возвращается. Это легенды, что кто-то когда-то вернулся. Все уходят и исчезают.
Мы вместе сходили с ума…
Но в нашем безумии была система.
Мы так и не дали друг другу уснуть в эту ночь, и я боялся, что сорвусь, разнесу всю электронику в ближайших кварталах, а потом у Майки будет инсайт, и тогда…
Не представляю, что будет тогда. Что-то страшное. Оказаться между двух зеркал…
Теперь у меня была вода, пища, нормальная одежда. Мне не о чем было заботиться, кроме как о главном.
— Если ты не вернешься к полуночи, я… я не знаю, что сделаю. Нет, знаю. Знаю. Ты им скажи: если они тебя не отпустят, я отдам детонаторы… тем. Я знаю, кто из них где…
— Они уже не боятся этого.
— Боятся. Ты не знаешь, а они боятся.
— Хорошо…
Я поцеловал ей руку и шагнул в кабину.
В подземелье было еще прохладно. Я повернулся к пульту видеофона. Вызвал БВИ. Через полчаса довольно хитрых поисков нужный номер был у меня в голове. Я почему-то помедлил, прежде чем набрал его. Замигал вызов. Ждать пришлось довольно долго.
Человек, появившийся на экране, напоминал старую черепаху. Он был абсолютно лыс, морщинист и пятнист. Огромные безобразные мешки висели под глазами, и сами глаза были водянистые и невероятно спокойные. Тонкие губы кривились как бы презрительно…
— Здравствуйте, — сказал я. — Меня зовут Стас Попов. Я из "детей дюн".
— Попов?.. — Он наморщил лоб. — А, так вы с Пандоры…
— Нет. Я на Земле.
— Зачем?
— Хочу вас увидеть.
— Меня? Как странно… Ну, вот он я, смотрите. Кстати, кто вам сказал мой номер?
— Я его вычислил. Это не так сложно. Особенно…
— Вы ведь должны быть под наблюдением, не так ли? Причем, как я понимаю, добровольно.
— Это очень относительная добровольность… Значит, вам еще не сообщили, что произошло на Пандоре?
— Нет. Что там могло произойти?
— Очень многое. Простите, но мне было бы… приятнее… говорить с вами непосредственно.
— Что — действительно что-то серьезное?
— Да.
— Хорошо, приходите… — и он назвал адрес.
Первым говорил Максим.
— Должен отметить, что операция нами блистательно провалена. Погибли люди, погибли андроиды — боюсь, специально для этого оставленные здесь: чтобы погибнуть… а к разгадке феномена мы не приблизились ни на шаг. Больше того, мне почему-то кажется, что мы отдаляемся от нее, что кто-то умнее нас подбрасывает нам квазиважные проблемы, на разрешение которых мы расходуем все свое время и силы. Не исключено, что "дело Пирса", которое всплыло таким необычным образом, тоже является предметом отвлечения…
— Вы считаете, что вам сказали правду? — спросил кто-то незнакомый, при бороде и загорелой блестящей лысине; их было несколько человек, появившихся недавно и пока Але не представленных; она сидела в уголке, слушала, но молчала; так велел Горбовский: слушать и молчать. — Или же это была заведомая дезинформация?
— Боюсь, что в нашем случае одно от другого отличить нельзя в принципе, — странно сказал Максим. — Поскольку именно эти понятия являются объектом деятельности сторон.
— Послушайте, Каммерер, — сказал другой, смуглый, узколицый и смутно знакомый; но где она видела этого человека, Аля вспомнить не могла; возможно, его видела не она сама, а Стас, пришло вдруг в голову… — Про девиацию информационных потоков мы знаем. И знаем условия, в которых она происходит. Объясните лучше, какова цель всех этих мероприятий? Мы что, опять защищаемся от вторжения?
— Да, — кивнул Максим.
— Но это же смешно!
— Вы думаете?
— Конечно. Судя по результатам…
— Знаете такого зверя — чарли-хохотунчик? С Яйлы?
— Не знаю. А при чем здесь какой-то зверь?
— Он очень смешной и неуклюжий, и будто бы и сам себя высмеивает, и передразнивает вас, и все здорово, пока он не приблизится метра на три. Но даже зная, что он опасен, вы все равно попадаете под его обаяние и до последней секунды не можете поверить, что вас просто хотят съесть.
— Максим, здесь взрослые люди, а вы пытаетесь рассказывать притчи. Говорите нормально.
— Это не притча. Это грубый зоологический факт. Жертва, хихикая, сама лезет в глотку к зверю. Ей кажется, что это такая шутка. Мы почему-то совершенно неадекватно оцениваем степень опасности, и это никому не кажется странным. Больше того, мы готовы всяческими способами инактивировать тех, кто указывает нам на это. И больше того: я сам чувствую внутреннюю потребность не думать ни о какой опасности, а если думать, то иронически…
— Послушайте, — опять сказал тот, смутно знакомый. — Тема просачивания и вторжения инопланетян на Землю настолько затаскана, что об этом всерьез даже говорить как-то неловко. Тем более, что и в данном конкретном случае нет ни малейших доказательств того, что все это имеет неземное происхождение.
— Разумеется, нет, — пожал плечами Максим. — Как и у обитателей Саулы нет ни малейших доказательств прогрессорской деятельности землян.
— Мы спорим обо всем этом уже сорок лет, — сказал Горбовский. — И давно уже пришли к мысли, что требовать друг от друга доказательства неэтично и даже недопустимо. Поскольку, как верно заметил Максим, именно информация, информационные массивы являются основным объектом воздействия. Кроме того, в ряде случаев мы имеем дело с явлениями единичными, уникальными. А следовательно…
— Тогда мы имеем моральное право оперировать понятиями черной магии, алхимии, начинать вертеть столы… что там еще делали?..
— Оживляли мертвецов.
— Вот я и… — и вдруг узколицый замолчал. Огляделся беспомощно…
— Ничего, Фил, — сказал Максим. — Все нормально. Привыкай. Добро пожаловать в страну Оз.
Тут Аля вспомнила, почему этот человек казался ей знакомым. Филипп Шеллер, контактер с негуманоидами. Лет десять назад про него много писали. Удивительная адаптивность, четкость и цельность интеллекта…
— Я понимаю Максима, который не хочет разбивать задачу на более простые элементы и решать ее именно поэлементно, — сказал тот, с бородой. — Это внесет, скорее всего, очень существенные искажения… Но, в свою очередь, я хотел бы, чтобы уважаемый Максим понял меня. Нас. Нам предложена смесь из ксенологии официальной и апокрифической, логических загадок, странных явлений психики, возможно, даже патологических, и природного феномена, механизм которого абсолютно не прояснен, хотя феномен наблюдается уже сколько? Лет десять?
— Немного меньше.
— Не важно. За это время можно было бы исследовать все до субвакуумного уровня…
— Исследовали, Питер. Никаких загадок. Все ясно. Неясна мелочь: откуда что берется и зачем?
— И — кто это затеял, — тихонько подсказал Горбовский.
— Именно так.
Але вдруг показалось, что здесь есть что-то неправильное. Так описывают дежа-вю. Будто бы она уже в пятый раз смотрит любимый спектакль, и вдруг актеры начали путать реплики. Даже не путать — упрощать. Выпускать что-то. И будто бы бородатый Питер должен сидеть не там, где сидит, а справа, и говорить торопливо и непонятно, а вон там, между Филом и девушкой-квази-биологиней, не хватало кого-то пожилого, белоголового, с эспаньолкой… Ощущение было настолько острым, что она приподнялась со своего места. Хотелось подойти и потрогать, чтобы убедиться.
И вышло так, что она стоит, а все смотрят на нее и ждут, что она скажет.
Она еще раз посмотрела вокруг себя. Невозможно было отделаться от ощущения странной нарочитости происходящего.
— Знаете, — сказала она, — я ведь в какой-то степени Попов. Слепок с него. Ментальный снимок. Говорят, это пройдет, но пока что — держится. Так вот, этот внутренний Попов говорит, что ответ на заданный вами вопрос был получен, ответ четкий, однозначный, достоверный. И был получен не один раз, а — множество… Но каждый раз этот ответ будто забывался, и все начиналось снова.
— Так, — сказал Максим. — И каков же этот ответ?
— Не знаю… — Аля вдруг растерялась. — Не могу это… открыть. Там как бы дверь… А кто такой Ященко?
Она заметила, как переглянулись Максим и Шеллер. Горбовский почесал подбородок.
— Не расстраивайтесь, Сашенька, — сказал он. — Тут дело, получается, непростое. Ященко — это Камилл. Фамилия у него такая. Камилл Ященко. Ее почему-то мало кто помнит…
Мы сидели на веранде и пили какой-то травяной настой. Сикорски утверждал, что трава эта проясняет мысль. Остров был каменист и мал. Сосны, скрученные ветрами, держались за край террасы, дальше начинался океан. Черные скалы поднимались за нами четырьмя быками. Небо было низким и серым. Внизу глухо бил прибой. Ветер с юга доносил льдистый антарктический запах.
Святая Елена, маленький остров…
Это была не Святая Елена, но что-то похожее присутствовало во всем.
— Я восхищен вашими способностями, Попов, — сказал Сикорски, отставляя свою кружку, огромную и коричневую, с изображением всадника с копьем. — Жаль, что вас не было с нами тогда. Может быть, со мной не случилась бы… неприятность… Абалкин бы остался жить, а служба продолжала бы — служить… — он вздохнул. — Знаю, что не смешно. Старческое слабоостроумие. Извините. Так вот, о главном… Все, что рассказал вам Суворов, — правда. Но это такая невинная часть правды, что даже… нежность пробирает. Нежность. На t о же деле…
Он медленно встал, обошел вокруг стола, шлея передо мной. Движения его были медленны осторожны.
— Я вам расскажу. Потому что вы все равно все узнаете. Но вдруг вы узнаете потом, когда будет поздно? Как я, например…
Он помолчал, глядя, как вдали летит, почти касаясь воды и оставляя белый прерывистый след пены, маленький оранжевый глайдер.
— До поры все было так, как он рассказал. До недоброй памяти двадцать девятого.
— Нашего века? — зачем-то уточнил я.
— Что? Ну да, конечно, нашего. Кому-то из гигиогенистов пришла мысль передоверить некоторые управляющие функции машине. Сделать ее арбитром, поскольку противоречия между владельцами ключей зашли далеко. И что бы вы думали — сделали машину…
— Массачусетскую?
— Совершенно верно. Именно ее, родную. Собрали, запрограммировали, запустили. Функции: сбор всей формализованной информации. С целью: всем сделать хорошо. Ну, а по мелочам — управление погодой, транспортом, и так далее… Вы спросите: почему не сеть, не что-то попроще? Зачем такого монстра отгрохали? Ответ: чтобы полностью исключить возможность перехвата управления. Мотивы понятны.
— И что же помешало возложить на ее плечи это бремя?
— Ничто. — Сикорски посмотрел на меня как-то по-птичьи, боком. — Машина работает. Уже больше пятидесяти лет.
— Как — работает? Ведь известно же… — я осекся. Я все понял.
— Машина работает. Более того, она создана так, что перехватить у нее управление могут только все шестнадцать гипногенистов одновременно, если соберутся за пультом. Этого не происходило никогда.
— Значит, машина работает… и вторгнуться в ее работу нельзя? И проконтролировать нельзя?
— В общем, да. Только косвенными способами.
— Например?
— Ну, самое главное… Стас, сколько сейчас на Земле людей?
— С Системой?
— Ну да. С Системой, с Периферией… Сколько насчитывает наше племя?
— По последним данным — пятнадцать и тридцать шесть сотых миллиарда.
— Да. И это все знают. И люди должны умирать время от времени, да? Их кремируют, пепел ссыпают в такие урночки… Я собрал данные по производству этих урночек. Так вот, судя по этим данным, на Земле и в Системе сейчас живет около одного миллиарда человек.
— Что?
— Один миллиард. Один, а не пятнадцать. Но мы знаем, что пятнадцать. И живем так, как будто бы — пятнадцать… — он закашлялся. — Ошибки нет, Стас. Данные проверены перекрестно. Расхождение на порядок как минимум.
— И это значит…
Порыв ледяного ветра налетел, ударил в лицо. Мелкая водяная пыль…
— Это значит только одно: машина поняла задачу по-своему, по-машинному. И по-своему ее исполнила.
Получив результат. Человечество похудело, совершенно этого не заметив. Вписалось наконец в экосферу. И без катастроф, без горя…
— То есть — как? Ведь получается — уничтожено четырнадцать миллиардов?..
— Может быть, и уничтожено. А может быть, и нет. Про планету Надежда вы знаете? Пример грубой, провальной работы. В нашем случае — работа тонкая, мастерская…
— То есть — вы… как бы сказать… — одобряете все это?
— Разве важно, как я к чему-то отношусь? По большому счету, это не интересует даже меня самого.
— А вам не кажется, что это имело бы смысл прекратить? — спросил я.
— Не знаю. Ведь идет постоянное облучение. Снимите его — и наступит глобальный шок. У вас, как я знаю, психическая резистентность очень высокая. Но и вам, наверное, будет не по себе, когда вы сможете смотреть на мир новыми глазами…
— Он что — слишком отличается?
— Формально — нет. Но впечатление от него совсем другое.
— И все-таки: не решит ли машина, что нас может быть еще меньше? Или что мы должны стать пониже ростом? Отпустить хвосты? Жить под водой?
— Вполне возможно. И тогда мы будем жить под водой. Боюсь, что сейчас гораздо опаснее — с точки зрения сохранения того, что мы имеем… что от нас осталось… — это менять способ существования. Древние говорили: "Не навреди".
— Но ведь машина не вечна. Рано или поздно она придет в негодность, разрушится…
— Попробуйте поговорить об этом с Бромбергом. В конце концов, он один из…
— Бромберг?!
— Да. Старый Айзек Бромберг. Жизнь положивший на…
И тут раздался сигнал вызова. Сикорски недовольно махнул в сторону экрана, но тот уже осветился.
— Экселенц! — почти крикнул появившийся человек. — Мы раскопали, что произошло с Абалкиным! Раскопали до конца… — Тут он увидел меня. Глаза его распахнулись. Светлые холодные глаза.
— Очень хорошо, Максим, — сказал Сикорски. — Я доволен. Но стоит ли врываться без предупреждения?
— Да, Экселенц. Не стоит. Стас, вы?..
— Со мной пока все в порядке, — сказал я. — Мы беседуем о жизни.
Все самое главное приходило к ней в полудреме…она знала откуда-то, что просто глазами увидит это иначе, не так, как сейчас: изумрудный песок, черные волны, иссиня-серый айсберг вдали. Волны ворошили сероватые льдинки, шугу, прибитую к берегу. Это значит лето. Она стояла, широко расставив ноги, и смотрела вдаль. Громадная оранжевая туша лежала, полузарывшись в песок. Торчала вверх очень человеческая, но чересчур огромная рука. По белому, с лиловатыми и желтоватыми пятнами небу ползла цепочка багровых огоньков. Стоило мне захотеть, и черные воды расступятся передо мной, открывая дорогу в таинственную бездну. Там мой дом, мой истинный дом. И в горах. И за болотами, в глубоких расселинах, откуда восходят дымы, пахнущие целебно. Я никого никогда сюда не пущу, я сделаю так, что пришедшие забудут дорогу. Но мне тоскливо без них, и я творю их перед собой из остатков воображения. Темный город возникает на пляже, и волны обтекают его, не смывая. Тонкий звук поднимается кверху, к небу, зажигая концентрические кольца…
Аля очнулась и, вскочив, осмотрелась. Все было слишком просто, чтобы казаться ужасным.
Пустые стулья стояли неровным полукружием, как бы беседуя. В открытые окна влетали голоса. Доносились удары мяча, невнятные механические звуки и электрические потрескивания.
Вошел Горбрвский, по-прежнему озабоченный. Сел на стул верхом, посмотрел на Алю, вздохнул и покачал головой.
— Нашелся наш Стас, — сказал он. — Только не знаю, хорошо ли это…
— Где он? — быстро спросила Аля.
— На Земле. У Сикорски.
— А кто такой Сикорски?
— Неужели не знаете? Это была громкая история.
— Первый раз… — она замолчала. Внутри лопнул пузырек. — Знаю. Да. Все знаю. Но — зачем он Стасу?
Горбовский пожал плечами.
— Мы безнадежно опаздываем… главным образом — вот здесь, — он дотронулся до лба. — А кроме того — некий паралич воли…
— Паралич воли, — повторила Аля. — Жалко.
— Как вы себя чувствуете? — спросил Горбовский. — В такой переделке побывали.
— Не знаю. Никак не чувствую. Еще не прожгло.
— Да, это я понимаю. Ну, что — оставим работу профессионалам?
— Нет, — сказала Аля. — Я так не могу. Должен же кто-то, кто понимает…
— Через полчаса Максим улетает на Землю. Туда, к Сикорски. Я пока остаюсь. Вы — как намерены?
— Я полечу, — твердо сказала Аля.
— Стас для вас… что-то значит?
Аля посмотрела на Горбовского. Неясно было, он действительно не понимает — или спрашивает о чем-то другом?
— Он у меня вот здесь, — повторяя жест Горбовского, она дотронулась до лба. — И я уже почти не могу это выносить…
— Вы ничего не понимаете, Попов, — хрипло сказал Бромберг. — Допускаю, что вы все знаете, но не понимаете вы ни черта.
— Ну, почему же? — вежливо ответствовал я. — Древний способ отучения от наркотиков: медленно и постепенно уменьшать дозу. Девятнадцатый век.
— А от пищи вы так никого не пытались отучать? От воздуха? Нет? Ну, так попытайтесь, попытайтесь…
— Бросьте, Бромберг. Это не я, это вы не понимаете, что предприятию вашему все равно пришел конец. Остановлюсь я — не остановятся другие. Это же выстрел дробью. За нас взялись всерьез.
— Кто? Кто взялся? Что вы несете, идиот?!
— Некий весьма сведущий разум, который мы ассоциируем с Малышом. Им, видите ли, не нравится наше поведение…
— Я же сказал: идиот! Повторить? Я повторю: идиот! Какой Малыш? Какой разум? Это все выдумки нашей разлюбезной! Она пичкает нас байками, чтобы мы…
Я подождал, когда он прокричится, и спросил:
— Скажите, а вы сами-то подвержены этому внушению?
— Я? Конечно, нет. Я знаю, что оно существует, что оно направлено на модификацию моего поведения, и веду себя с поправкой на оное.
— Вы давно снимали спектр этого излучения?
— Регулярно. А что?
— Вам не бросилось в глаза ничего необычного?
— Нет. И не могло броситься. Потому что ничего необычного там нет.
— Понятно. Так вот, слушайте меня внимательно. Я жил на планете, где гипноизлучения нет. На Земле я около суток. Даже на обычного человека излучение еще не окажет влияния за такой срок… эффект его накапливается, не так ли?
— Ну, в некотором роде — да.
— Отлично. Вам, когда вы возвращаетесь, не бросаются в глаза простор и пустота на Земле?
— Вы были у Сикорски? Может быть, вы и сейчас у него?
— Нет, — ответил я только на последний вопрос.
— Сикорски — сумасшедший старик. У него идефикс…
— Перед прилетом сюда я ознакомился со спектром гипноизлучения, которое орошает Землю. Золотым дождем. Лишь четыре процента спектра — это модификаторы поведения. Девяносто шесть — модификаторы восприятия.
— Бросьте нести чушь, Попов. Я сам писал эти спектры, сам, понимаете? И что же, я не знал, что пишу?
— Излучатели на спутниках "Атлас" не работают, — продолжал я. — Зато там установлен вероятностный мультипликатор, который, как вам должно быть известно, к использованию запрещен категорически… Тагора, по-вашему, тоже изобретение машины?
— Да. То есть не машины. Тагору придумал в сорок седьмом году Майкл Хиггинс. Машина воплотила его мысль.
— Понятно. Его можно поздравить: изобретение оказалось столь емким, что обрело самостоятельную жизнь.
— Род иллюзии. Надеюсь, это-то вы понимаете?
— Конечно. Но тогда откуда взялся мультипликатор?
— А при чем тут?..
— Мультипликатор доставлен с Тагоры. Якобы образец техники Странников.
— Все смешалось. Впрочем, так и должно быть. На определенном этапе накачки уже не удается проследить, откуда приходит та или иная иллюзия.
— Скажите, Бромберг, а с Пирсом вы сотрудничали когда-нибудь?
— Что значит — сотрудничал? Он ноолог, а я — историк науки. Конечно, я изучал его работы, его самого… Когда случилось несчастье в лаборатории, я как раз направлялся к нему.
— Несчастье какого рода произошло там?
— Взрывной импульс Тиффани. Вы знаете, что такое импульс Тиффани? Хотя что это я…
— У меня другие сведения.
— Ваши сведения неверны!
— Возможно… Вам не закрадывалась такая интересная мысль: все ложные объяснения всегда по касательной проходят рядом с истиной? Как бы дразня ее. Когда-то говорили, что вора тянет на место преступления…
— Это вы обо мне?
— Пока нет. Но вспомните: запрет на Машину объяснялся тем, что в недрах ее зародился новый нечеловеческий разум, новая цивилизация. Так?
— Да. Я сам придумал это объяснение. До сих пор горжусь им.
— А вам не кажется, что нечто подобное случилось на самом деле?
— Болезненный бред. В стиле Сикорски.
— Разум, получивший возможность расселяться по сознаниям тысяч миллионов людей, которые ни сном ни духом…
— Перестаньте!
— Пирс работал как раз над этим, не так ли? Может быть, машинный разум почувствовал в нем опасного противника, конкурента?..
— Да прекратите же!!! — Голос Бромберга взметнулся до визга, сорвался… Сам он, багровый, качнулся к экрану, лицо его вывалилось за пределы, остались только глаза и лоснящийся нос. Безумные, чуть косящие глаза. Потом они медленно мигнули… — Вы правы, Попов, — сказал Бромберг совсем иначе. — Я не сомневался, что вы догадаетесь обо всем. Владея таким объемом информации, мудрено не догадаться…
— Вы — Бромберг? — спросил я.
— Да. В определенной мере.
Они сели на каком-то крошечном островке посреди пустого океана. Дом приземистый, вжатый в скалы… Наверное, зимой здесь штормы.
— Рудольф Сикорски, — представил Максим хозяина. — Александра Постышева, носитель ноограммы Стаса Попова.
— Вы это ощущаете? — спросил Сикорски, пожимая ей руку.
— Иногда.
— Крепитесь, девочка. Это бывает очень тяжело, особенно когда она начинает распадаться. Вот Максим побывал в таком положении…
— Он говорил. Но без подробностей.
— Те подробности такие, что лучше о них не говорить. Главное, не позволяйте наезднику управлять вами. И знайте, что боль — ненадолго. День, два.
— Он будет исчезать…
— Да. Умирать в полном сознании. Цепляться за вас.
— Какой ужас…
— Ужас. Он симпатичный человек, он мне понравился. Что ты думаешь обо всем этом, Максим?
— Что он намерен делать, Экселенц?
— Он? Намерен? Это не те слова…
— Возможно, не те…
— Просто не те, Максим. Я не знаю, чего ты хочешь от меня. Разве не видишь: я сдался? Я вдруг оказался человеком, который желал отстоять крепость — решительнее, чем другие, — но сам в рвении своем разрушил стены… И вот — все. Последний шаг противника. Он просто входит… он даже приходит ко мне. На чашку чая. Ко мне. Какая ирония.
— Он не противник, — сказала Аля.
— Не он. Не Попов. Противник — в нем.
— Нет. Вы ошибаетесь. Вы ошибаетесь в чем-то главном.
— Нет, Александра. Не ошибаемся. Может быть, мы просто говорим о разных вещах…
— Где он? Вы знаете, где он? Догадываетесь?
— В сотне мест одновременно. Он прошел через мультипликатор… Вы знаете, что это такое?
— Да.
Аля повернулась и стала смотреть на океан.
Она никогда прежде не видела океана…
— Когда я все это узнал, я пытался почувствовать себя в шкуре Машины, — сказал за спиной Сикорски. — Не думаю, что можно вынести это сколько-нибудь долго. Я бы застрелился сразу.
— Ей пришлось очень долго выращивать себе руку, — сказал Максим. — И потом — может быть, для нее каких-то полвека — это и есть "сразу"?
Я летел в маленьком пестром флаере-жучке на север. Человек на экране — Бромберг, который не совсем Бромберг, а так… представитель… говорил что-то, иногда убедительно, иногда просто умоляюще…
Кажется, я иногда даже отвечал ему.
Территория, занятая комплексом Машины, резко выделялась в ландшафте. Увядающе-осенние цвета вдруг сменились черно-зелеными: по каким-то давним причинам здесь все засеяно было марсианской травой-камнежоркой. Три ряда кольев с проволокой, разумеется, были чисто символической преградой… зато преградой реальной можно было считать вон те тарелочки гипноизлучателей. Человек, попавший на территорию, просто не сможет пройти за них, туда, в квадрат пятьсот на пятьсот примерно, где не видно с земли серопесчаное, очень низкое, едва ли выше моего роста, 11-образное строение.
Я сбросил скорость и пролетел над ним, потом развернулся и пролетел еще раз.
Казалось, я физически ощущаю, как подо мной — там, в глубине — лопаются тугие пузырьки.
Теперь можно было лететь куда угодно…
Человек с экрана молча смотрел на меня.
Переход, и еще переход. Незнакомый город. Листопад. Теплый ветер. На площади они нашли глайдер.
— Спасибо, Максим. Дальше я сама…
— Прощайте. — Он повернулся, будто теряя интерес и к ней, и ко всему остальному.
— Не обижайтесь.
— Какие обиды…
Какие обиды могут быть, когда нам грозит… что? Гибель? Нет. Просто — всеобщее и полное унижение. Осознание своего ничтожества. Своей зависимости и мизерности. Но и — освобождение…
Она по широкой дуге развернула послушный глайдер и повела его вручную, без видимой цели — в поисках чего-то необычного.
Я думал, что увижу хоть немногое. Что-то должно было измениться… исчезнуть, раствориться, перетечь из формы в форму… не знаю. Как-то отреагировать. Но ничто не менялось.
— Вот вы и добились своего, — сказал человек на экране, глядя куда-то в сторону.
— Что-то происходит?
— Нет. Теперь никогда ничего не произойдет. Машина мертва.
— Неужели только она толкала нас куда-то?
— Уже много лет… Не хочу вас больше видеть. Уходите.
— Куда я могу уйти? Я сижу в кабине. Вам проще — отключитесь.
— Не могу.
Я не успел обдумать его странную реплику: флаер мой качнуло и повело в сторону. Как-то очень быстро бросились в лицо верхушки деревьев, раздался мощный треск… На миг возникло чувство настоящего полета, возникло и пропало.
Не думаю, чтобы я по-настоящему терял сознание. Нет, я просто лежал на спине и смотрел в небо, и почему-то меньше всего мне хотелось отвлекаться от этого занятия.
Вишневый с белым глайдер описал два глубоких виража надо мной, потом из поля зрения исчез. Потом появилась Аля.
Он лежал в высокой траве, неподвижный, но живой. Непонятно, как человек может выжить при таком ударе… Обломки флаера валялись вокруг, двигатель горел в кустах, выбрасывая синце снопы искр. В любой момент могло рвануть. Я тащила его в глайдер, тяжелого, за все цепляющегося. Надо было, наверное, взвалить его на спину, но я боялась что-нибудь повредить дополнительно и поэтому волокла его просто так, ухватив под мышки. Я уже взлетела, когда двигатель взорвался — правда, несильно. Вряд ли нас убило бы этим взрывом.
— Аля… — сказал он и закашлялся судорожно. — Ничего себе…
— Молчите, — сказала я.
— Машина мертва…
— Я знаю.
— Как вы меня нашли?
— Я вас ненавижу. — Я не могла на него смотреть, но все равно смотрела. — Вы это понимаете?
— Еще как.
— Если бы я могла, я бы вас убила. Что вы с нами сделали…
— Не я. Не только я… Что-то уже… проявилось?
— Не знаю. Рано, наверное. Но уж наверняка проявится.
— Все равно это пришлось бы делать… потому что иначе — разве бы тогда мы были людьми? — Он отвернулся и вдруг напрягся всем телом: — Где это мы?
Я посмотрела вниз. Под нами была пустыня. Солнце садилось.
— Началось…
Не знаю, кто это сказал: я или он.
— Проклятая тва-арь! — вдруг закричал он страшно. — Аля, держите вручную!.. — и начал крушить автопилот. — Ты и сюда добралась, гадина, ты и здесь… — Он откинул фонарь — яростным потоком воздуха меня ударило, перебило дыхание, ослепило. Он выбрасывал блоки за борт. Уже ничего не слыша и почти не видя, я держала, держала, держала глайдер… все было, как недавно, как вечность назад…
— Это агония, — вдруг услышала я. — Она так умирает — медленно.
Ветер уже не ревел и не хлестал по глазам. Скорость наша упала, стал слышен мотор. Фонарь сорвало совсем.
Внизу расстилались джунгли.
— Дорога, — сказал он и показал направление. — Садитесь на дорогу.
Просто сказать… Я села с третьего захода.
Когда-то это была движущаяся дорога. Сейчас она усохла, местами потрескалась. Примерно в полукилометре впереди поперек нее лежало огромное дерево.
— Это опять Пандора, — сказал он как о чем-то обычном. Подумаешь, залетели на глайдере на другую планету…
— Что происходит, Стас? Я думала…
— Не знаю. Но, может быть, мы еще узнаем все.
Дорога дрогнула под ногами, напряглась… расслабилась. Рванулась — мы упали — и вновь расслабилась уже совсем.
— Я боюсь… — мне действительно стало очень страшно. — Может быть, улетим?..
— Да, пожалуй… — он оглядывался и прислушивался к чему-то. Лес был безмолвен. — Да, лучше улетим.
Через два часа полета показался берег океана.
Было поразительно, как она держалась. Бледная, закусив губу, смотрела вперед.
— Кабина — это условность, — вдруг сказала она. — Я вспомнила. Ламондуа говорил об этом.
— Может быть, и так, — согласился я.
— Скорее всего, кабины были замаскированными медиатронами, — продолжала она. — Машина выявляла людей, с ее точки зрения асоциальных, и отправляла куда-то… в эфир, в бесконечность…
— Нуль-фобия развилась не на пустом месте, — согласился я. — Беспочвенных фобий не бывает.
— Это все спекуляции, — вздохнула она. — Никогда мы ничего не выясним. Как я устала… Ты хоть понимаешь, что я теперь не могу от тебя отойти ни на шаг? Понимаешь, да? Я тебя ненавижу, ты приковал меня к себе цепью… я не хочу, чтобы ты умирал. Не хочу, понимаешь?
— Это будет не настоящая смерть. Смерть призрака. Ментальной модели.
— Успокоил…
— Может быть, отдохнем вон там? — я показал вперед.
— Что это?
— Похоже на туристский лагерь.
— Как он мне не нравится…
И мы пролетели мимо. А минут через пять показался поселок.
По-моему, все силы мои уходили только на то, чтобы не кричать непрерывно. Я мазала мимо посадочной полосы, мазала, мазала, мазала… Не помню, как мы сели.
От домиков бежали люди.
Это был поселочек глубоководников. Их здесь было четверо, две супружеские пары: Гарольд и Вика, Тихо-мир и Сью. Обычно население поселка достигало двух десятков, но сейчас настало время отпусков.
Мы сидели, очень тихие, а нас посильно и весьма тактично веселили и подбадривали. Гарольд играл на банджо, Вика пела негромким приятным голосом. Тихомир и Сью сидели обнявшись. И в какой-то момент я почувствовал, что расслабился уже чересчур, рванулся обратно, но уже не успел…
…зеленое сияние погасло, потом начало набирать силу снова. Малыш стоял рядом и смотрел в ту же сторону.
Когда-нибудь это все равно пришлось бы сделать, — повторил он.
Может быть, да, может быть, нет, — сказал я. — Все могло рассосаться само.
Ты сам не веришь в то, что говоришь, — сказал он. — Мне только жаль, что это оказался ты. Тебя я любил. По-настоящему любил. Может быть, только тебя.
Что же теперь будет? — сказал я.
Катастрофического — ничего. Паразит уничтожен. Что же касается его яда, к которому вы так привыкли… Я постараюсь поддержать вас. Хватит ли сил, не знаю, но постараюсь. Может быть, потом мне понадобятся помощники… ты хотел бы?
Еще раз пройти через это? Нет.
Подумай. Никогда не поздно перерешить. Никогда не поздно…
…сигнал вызова, и я очнулся.
Дом был пуст. Аля стояла на коленях и смотрела на мигающий глазок видеофона.
Я взял ее за руку и подошел к экрану. Коснулся клавиши ответа.
Это был Горбовский.
— Стас, — сказал он устало. — Вы можете возвращаться. Решение по вам принято. Положительное. Я даже не ожидал такого единодушия…
Я не стал спрашивать, что это значит. Выяснится когда-нибудь.
— Хорошо, Леонид Андреевич. Спасибо.
— Я здесь ни при чем. Вы помните такого Сикорски?
— Да. Помню. До позапрошлого года он был уполномоченным Совета по безопасности.
— Совершенно верно. Он застрелился вчера.
Рука Али задрожала в моей, я сжал ее крепче.
— Был случай, чем-то похожий на ваш… Наверное, все это — повлияло…
Он не договорил, махнул рукой и отключился.
— Мы не упадем, — сказал я. — Немного покружится голова. Будут путаться мысли, но не слишком. Может быть, потеряем какие-то старые вещи. Посмеемся над этими потерями. Пойдем дальше. Хотя, может быть, лучше бы мы упали…
1992, 1995
Пожалуй, это единственный в моей практике случай, когда произведение возникло из сна. Мне приснился концерт "Битлз" на базе советских атомных подводных лодок. Я рассказал сон Мише, он раскрутил нашего общего друга поэта Володю Трохина на чертову прорву военно-морских баек (под много пива), и получилась эта славная история.
Андрей Лазарчук Михаил Успенский
ЖЕЛТАЯ ПОДВОДНАЯ ЛОДКА "КОМСОМОЛЕЦ МОРДОВИИ"
Старшине первой статьи запаса Владимиру Трохину.
— Тут как-то в "Намедни" — передачка одна так называется — показали знаменитый английский аукцион "Сотбис". Так на этот аукцион безутешная японская вдовушка сбагрила кой-какое барахлишко своего незабвенного — видно, дабы было на что помянуть. Две пары носков, свитеришко с оленем, очки с одним стеклышком… срамотища. И вдруг! Я, ребята, аж взмок: среди всех этих обносков дорогим самоцветом взыграла одна очень знакомая мне вещь. Да и как ей не быть мне знакомой, если из моих рук она и вышла, и ушла, и затерялась в джунглях шоу-бизнеса.
Я-то, дурак, думал, он ее на первой же ливерпульской помойке выкинул…
Кто купил, и за сколько, и купил ли вообще какой идиот — не сообщалось, короткий сюжетец был. Но окажись я в тот день в городе Лондоне — всю свою фунтовую заначку снял бы со счета и вещугу эту из чужих рук выручил бы.
А потом прижал бы к груди, обнял и заплакал…
Началось это все в недоброй памяти шестьдесят восьмом годике, когда доламывал я третий год службы на атомной подлодке "Комсомолец Мордовии". Про то, что тем летом случилось, я и по сю пору не имею права трепать языком; скажу только, что анекдот "Кто бросил валенок на пульт?!!" — вовсе не такой смешной, как кажется. Вообще все было как в песне: и горела роща под горою, и светилась, падая, ракета… и нас оставалось только трое. Но не помнит мир спасенный своего спасителя, потому что он вообще никогда ничего доброго не помнит. Да и несерьезно числить в спасителях рыжего и лопоухого человека по фамилии Залупынос, радиолюбителя из-под Кривого Рога, из колхоза "Великие Проблемы". А вот любитель-то он был любитель, да сделать смог то, что наши офицера с "макаровкой" за плечами от избытка знаний не потянули… Он просто не знал, что этого сделать нельзя, оттого все у него и получилось. Сам он при этом чуть не улетел, конечно, аки кузнец Вакула на черте…
Э-эх, кабы не его невежество, где бы сейчас все умники были, да и мы с ними заодно…
И вот лежим мы в госпитале, отдельная палата на троих; подводников вообще кормят на убой, так уж повелось (с фабрики-кухни ресторана "Прага" на лодки обеды поставляли), но здесь и мы удивились… да я и сейчас себе не все из того позволить могу… телевизор в палате, программу "Время" смотрим, "Сагу о Форсайтах", Архангельский народный хор… "Ленинский университет миллионов"… не дотянуться ведь, не выключить.
И приходит адмирал флота Кабаков, личность совершенно легендарная.
Много про него можно было бы рассказать, только это отдельная книга получится…
Одна борода — это три главы из той книги… вечно она у него куда-то попадала…
И присаживается он на кровать к Толику нашему Залупыносу — а у того из-под бинтов один глаз виден, натруженный созерцанием тяжелого семейного положения Форсайтов, — бороду в сторону отводит и говорит:
— Спасибо тебе, сынок, что сорвал ты чрезвычайное происшествие во время боевого дежурства. А то зияла бы в ракетно-ядерном щите нашей Родины дырища от Калининграда до Диксона. Командование этого так не оставит. Проси чего хочешь.
Толик говорить-то мог, хохлу так просто рот не заткнешь, но тут дара речи лишился. Только пальцами показывает: лычки, мол, лычки.
— Это само собой, — машет рукой адмирал, — мичманом будешь и к "Боевому Красному" представим. Ты для души, для души проси…
Толик и попросил. Да так попросил, что адмирал аж крякнул и напрягся.
— Хочу, — говорит наш радиолюбитель, король эфира, — прежде чем помереть, "Битлов" живьем увидеть и услышать…
(Сестры потом рассказывали, что с месяц адмирал названивал по два раза в день: не помер ли Толик. Но Толик не помер. И мы заодно.)
— Увидишь, сынок, — сказал адмирал твердо, встал, честь отдал и вышел строевым шагом.
Почти год прошел. Выздоровели мы, в экипаж вернулись. И даже в автономку ушли. Веселая автономка вышла, потому как на гражданке хохлы и русские, составлявшие поначалу костяк ракетно-ядерных сил, кончились. Видно, слишком много лодок наделали. И пошли на флот татары. Но городские образованные татары все как один плоскостопые и с язвой, поэтому набрали по заволжским степям пастухов и подпасков. И самую ответственную сторону жизни в автономке они превзойти никак не могли. Дело в том, что гальюн на подлодке представляет собой не просто место, где матрос с радостью справляет естественные потребности организма, но и сложное гидравлическое устройство. Из-под кустика можно просто встать и уйти; в доме с ватерклозетом уже труднее: надо дернуть за цепочку и проконтролировать процесс; в самолете или там поезде надо нажать на педаль. На подлодке педаль тоже есть, но прежде чем на нее нажать, нужно опустить крышку унитаза и запереть ее на четыре болта с барашками. Каждый второй матрос-первогодок понимает это и делает все как надо, не вызывая нарекания товарищей. У прочих бывают сложности. Это же пополнение проходило три ступени посвящения: не смывать вообще (за это их подвергали, как говорил боцман Тремба, "отсракизму"); смывать при открытой крышке; смывать при закрытой крышке, самонадеянно прижав ее ногой… Но что такое давление одной человеческой ноги против пяти атмосфер системы продувки?
Так что пополнение половину автономки занималось только тем, что чистило за собой гальюны зубными щетками и иголками, и это не бесцельное армейское издевательство, а жестокая флотская необходимость, поскольку вторичный продукт при пяти атмосферах подачи забивается в любую щель, ароматизируя посредством системы вентиляции все отсеки и палубы…
С другой же стороны, если за время автономки ни одного такого случая не происходит, это почитается за дурную примету. Так что предзнаменования нам выходили самые блестящие.
Однако от говна вернемся к битлам.
Толика, конечно, подначивали. Все мы понимали, что адмирал стравил сгоряча, потому что секретного матроса в Америку не выпустят даже запаянным в свинцовый гроб, с кляпом во рту, урезанным языком и в сопровождении большого хора автоматчиков Девятого главного управления КГБ под руководством Никиты Карацупы и его верного пса Ингуса, который на самом деле был Индус, но имя это всегда писалось через "г", чтобы не обиделся Джавахарлал Неру, — даже если концерт будет проходить на территории советского посольства в условиях оккупации США объединенными силами войск стран Варшавского договора, Вьетнама и Кубы. И вот, понимая это, разработали мы проект завлечения битлов на территорию СССР. Мол, сидит сейчас адмирал в кабинете и своей адмиральской рукой выписывает повестки Леннону, Маккартни, Ринго Старру и Джорджу Харрисону, где пишет, что в случае неявки будут доставлены, и что битлы в военкоматы по месту жительства пока не являются, но уже постриглись налысо. Но Толик был "сундук", без трех минут офицер, и обижаться на какого-то старшину второй статьи считал ниже своего сундучачьего достоинства. Хотя в автономке, чтоб вы знали, звания не считаются, все по имени-отчеству, если официально, и просто по имени, когда свои.
Тем временем посрамленные Толиком офицеры-электронщики, которые обслуживали арифметическую счетно-решающую машину "Ставрополь-Изумруд", заронили в его душу отравленное зерно: идею поступить после убытия в запас не куда-нибудь, а в самое МГИМО. Английской язык ты уже знаешь, говорили они едоу. опыт спасения человечества от ужасов ядерной войны у тебя есть… Станешь военно-морским атташе, а там и послом… а кто запретит послу с супругой и внуками сходить на концерт битлов?
Тут и я подливал своего маслица:
— Представляешь, Толик, год этак восемьдесят пятый. Нет, лучше восемьдесят шестой, год Двадцать седьмого Съезда и новых решающих успехов. И ты, как посол Советского Союза в Социалистической Республике Мексике, приезжаешь делегатом с решающим голосом на Съезд. Тебе вручают подарки: пыжиковую шапку, папку из крокодиловой кожи, малахитовую вечную ручку с золотым пером производства Ленинградского завода особо точной аппаратуры. И конверт с деньгами, а там рублей как бы не триста. Ты этот конвертик берешь и этак небрежно в боковой карман опускаешь. Ну, проходит съезд. Пионеры стихи Михалкова наизусть шпарят, от шоколадных конфет нос воротят. Бурные положительное аплодисменты, переходящие в авиацию — так, что на патрулирующих в стратосфере бесшумных самолетах слышно. И тут тебя вдруг начинает на родину тянуть, на корешей посмотреть. А жена у тебя — Громыкина племянница, солистка Большого театра. Ей в деревню ехать западло. Тогда берешь ты в гараже кремлевском казенную "Чайку" с шофером, загружаешь ее с черного хода Елисеевского гастронома — и отбываешь. И приезжаешь ты под Пензу в деревню Молябуха Верхнеландёхонского района, в колхоз "Явь Ленинизма", бывший "Грёзы Ильича". К тому времени все проселки уже заасфальтированные будут, с фонарями и указателями. И видишь ты среди белых особняков с павлинами и бельведерами покосившуюся такую халупу. А тебе председатель навстречу бежит-торопится, а за ним счетовод с агрономом и счётами, парторг освобожденный с протоколом, — а ты их небрежно так спрашиваешь: и где у вас тут старшина второй статьи, отличник боевой и политической подготовки Сенявин Дмитрий Николаевич проживает? И тут председатель спотыкивается, начинает землю ножкой ковырять и зовет тебя во Дворец культуры и отдыха на банкет по случаю начала весеннего сева. Ты его вдругорядь спрашиваешь: а где мой кореш Сенявин Дмитрий Николаевич проживает? Он тебя приглашает на открытие колхозного зоопарка на полторы тысячи голов крупного, мелкого и хищного скота и птицы. Тут ты не выдерживаешь, кроешь его позабытым стропальным матом и орешь: Димка где? Куды Димку дели, муфлоны?! И тут парторг весь покрывается красной краской и на ту темную хибару кивает. И ты отодвигаешь их всех плечом и смело подходишь, и стучишься. И ворота падают.
И я слышу этот стук, открываю пальцами глаза и выхожу посмотреть, кто там. И мерещится мне с бодуна, что это из райцентра уполномоченные приехали ликвидировать меня как класс. А посреди двора у меня лужа, и из нее перископ торчит — самовар там утопился по пьяному делу. И вот иду я, в майке весь, вот тут дыра прожженная, вот тут шрам от ножа… и начинают сквозь туман сознания проступать знакомые силуэты. Председатель… парторг… агроном… счетовод… и с ними кто-то пятый, солидный, как эсминец "Неисповедимый" среди шаланд, полных фекалий. И я смотрю на этот эсминец и понимаю, что допился, потому что стоишь передо мной ты, Толик, в двубортном габардиновом костюме партийном (а брюки все равно чуть-чуть на клеш идут!), в шляпе и при бабочке. А тут гусь вокруг топчется и все порывается тебя за штаны ухватить грязным свои клювом, которым он до этого в куче копался. Не выдержал я, вилы схватил, за гусем погнался. Сообразил, что не то творю, вилы бросил, возвращаюсь. Говорю:
— Толик. Залупынос. Неужто ж это ты?
А ты так руками делаешь и говоришь:
— Это, Дима, я. Но только теперь я не просто Залупынос, а Залупынос-Австралийский — в честь тайно спасенного южного континента.
Тогда я говорю:
— Ну, так что же мы так стоим? Заходи. Я тут к майским светлым праздникам бражку поставил…
А ты снимаешь шляпу, даешь ее председателю подержать, достаешь из кармана хромированную золотом расческу, делаешь в голове пробор и говоришь:
— Да нет, Дима, не получится. Я тут на пять минут, проездом… А в ЦК партии, гражданин председатель, я доложу, какие тяготы и лишения, невиданные на военной службе, испытывают героические североморцы-подводники.
А сам машешь рукой шоферу, и шофер в белых перчатках выходит из "Чайки", открывает багажник и достает оттуда две агромадные коробки из-под регенераторов. И слышно, как в одной из них стекло дзенькает и бульки булькают, а в другой фольга да бумага промасленная шуршат. Агроном и парторг хватают одну коробку и готовятся волочь ее ко мне в избу, а ты их веским словом останавливаешь.
— Не-ет, гражданин председатель, — говоришь ты, Толик. — Тащите-ка это на свою гасиенду-фазиенду, Дмитрий Николаевич отныне там проживать будут. А вы быстренько с семейством и без вещей сюда перебирайтесь. А то оторвались совсем от народа. Партия нас чему учит? Вот то-то же. Эй, милейший, отвори-ка коробочку…
И вытаскиваешь ты за горлышки две черные бутылки портвейна "Порто", а из другой коробки банку устриц в сметане. Чокнулись мы с тобой, выпили за Северный флот, за тех, кто в походе, на вахте и на гауптвахте. За адмирала нашего Кабакова, личность легендарную, даром что трепач. Гусь тут мой сообразил, что прямо сейчас на закуску не пойдет, обнаглел весь. Засунул башку в коробку, проглотил целиком банку мангового компота — и подавился. Трясем мы его, трясем — банка назад не идет. Ты, Толик, тогда пистолет из кармана достаешь и бьешь гуся навскидку в левый глаз.
— Эх, — говоришь ты, — на гусиную охоту в Акапулько все равно не успеваю.
Потом достаешь из кармана внутреннего портоманет. Он такой, как подводная лодка, из восьми отсеков, в каждом отсеке валюта: английские фунты, французские франки, марки восточногерманские и западногерманские, голландские гульдены, мексиканские песо с портретом Че Гевары, американские доллары по шесть копеек за штуку… Конечно, ведь дипломату к месту службы ехать через целый ряд стран, везде плати… И полный чемодан наших родных красненьких с жирной прослойкой полусотенными и сотенными.
— Вот, — важно говоришь ты, Толик, и протягиваешь мне стопку красненьких, и их там штук пять или шесть, а то и все девять. — За нанесенный ущерб…
А на выстрел-то вся деревня сбежалась! Стоят и смотрят, смотрят и плачут…
Пока я так травил, и автономка кончилась. Приходим в родную базу, бухта Ягельная, пирс, швартовая команда, берег. Офицерский городок на сопке… Стоим мы чистенькие, костюмы радиационной защиты сдали, форма уставная отглаженная… кого-то ждем. И тут подваливает к нам маслопуп (это с дизельной подлодки, значит; а зовутся они так потому, что на дизельной масло капает отовсюду, в пупу задерживаясь; спят они, скажем, так: койка подвесная, справа ящик с картошкой, слева компрессор тарахтит, в головах торпеда вся в солидоле…) и вопрос задает:
— Братва, какое число сегодня? Три недели в стальном гробу…
Выдаем мы порцию здорового смеха, поскольку в море полгода, время округляем до недель и в имени месяца не вполне уверены.
Но тут возникает перед строем командир наш, капраз Полубородов, глаза круглые и косят слегка, будто хлопнул он вместо нормального спирта рюмку нашатырного. Но свобода, равенство и панибратство на берегу кончаются, поэтому он ничего не говорит толкового, а только матерится изощреннейшим образом, и из мата этого мы понемногу понимаем, что не на атомном подводном ракетоносном крейсере нам служить, а ходить малым каботажем, перевозя гуано в посудине водоизмещением не крупнее ночного горшка архиепископа Кентерберийского, что он был бы счастлив иметь костяк экипажа не из нас, а из выпускников Мурманской школы для идиотов имени Тринадцати Павших Борцов, и что на дембель мы пойдем никак не раньше того, как диктор Игорь Кириллов поздравит весь советский народ с новым тысяча девятьсот семидесятым годом, а главные государственные часы на Спасской башне Кремля подтвердят его правоту последним двенадцатым ударом. И до нас потихоньку доходит, что на берегу без нас что-то произошло. Начинаем строить предположения. Может быть, Генеральный Секретарь сменился? Или войну мы Китаю проиграли, потому что они миллионами в плен сдаваться начали? Или коммунизм на десять лет раньше объявили, все поделили по-братски, а мы теперь ни с чем остались?
Делает паузу командир, набирает побольше воздуху, согревает его легкими и объявляет строевым голосом, что объявлены учения и что на отдых нам дается двое суток…
Тут мы едва строй не нарушили.
При одной мысли о том, что и родную-то казарму мы как следует пощупать не сможем, и гарью котельной угольной не надышимся, и на офицерских жен не поглазеем всласть — ноги у нас подкосились, а мысль коллективная вообще в упадничество бросилась. Вот вроде бы все хорошо на подлодке: корм от пуза высококачественный, спишь в пенале, так что дрочить можно, никого не смущая, не то что в учебном отряде, и отношения все-таки другие, не то что на берегу: командир к тебе по имени-отчеству, уважительно, и ты к нему так же; а на берег сошли: "Товарищ капитан-лейтенант, разрешите обратиться?" — "Не разрешаю, пошел вон, говно", — так вот, повторяю, несмотря на все это — как приходим из автономки, земля вся родная-родная, и даже проволока колючая вокруг базы такая, что целовал бы ее взасос, а уж на офицерский городок на сопочке просто часами бы любовался, как самурайский японец на свою Ёкосуку.
А теперь, значит — два дня передышки, и назад на палубу, которая за это время и проветриться как следует не успела. Хорошо хоть, не бывает учений на полгода, не хватает на это начальственной выдумки, полет фантазии у них, как у того крокодила: низэнько-низэнько…
Это я тогда так по наивности думал.
Идем мы в казармы, я по обычаю на шкентеле плетусь, а навстречу ребята из береговой команды — в робах промасленных, с кистями на плечах, — а за ними грузовик с бочками югославской желтой краски. Ребята ржут, но как-то растерянно. Приказано, говорит, покрасить вашу лодку в желтый веселый солнечный цвет…
Думаете, мы им тогда поверили? Как же. На флоте считается день пропавший, если ты ближнего своего невинно не натянул.
Проходим мимо штаба: на плацу из креневых плах огромный помост сколачивают и уже навес поставили из старой антенны берегового радара, обтянутой брезентом. Значит, артистов ждут — и судя по размером помоста, не менее чем Ансамбль танца Сибири, где в. се девки и парни под два метра ростом — приезжали они как-то к нам в Пензу… Офицеры, конечно, приладятся с первого ряда девкам под юбки заглядывать, а мы, как сироты, будем созерцать общий рисунок танца.
Вот и родная казарма. Смотрим: рядом со стенгазетой "Арктический рубеж" висит афиша работы штабного художника Мариновича (он и на действительной рисовать не горазд был, и по сю пору не научился; но если тогда он за болгарские сигареты ребятам наколки размечал, то теперь в Нью-Йорке миллионы за те же самые наколки гребет; ничего я не понимаю в этой жизни; это сколько же моя шкура должна стоить?..), и в этой афише значится: "Завтра, 2-го августа, большой праздничный концерт. Первое отделение — выступление Архангельского женского народного хора. Второе отделение — вокально-инструментальный ансамбль "Битлз". Начало в 18–00".
Мы, конечно, посмеялись и дальше полетели, а вот мичман Залупынос-Австралийский застыл в изумлении и не сходил с места примерно так с полчаса. Потом подошел ко мне — а мы уже строимся, чтобы в столовую маршировать.
— Ты, — говорит, — как? Веришь или нет?
— Знаешь, — говорю, — если верить всему, что пишут на заборах… Ты поверил, полез, а там дрова.
— Вот и я думаю, что дрова, — сказал задумчиво Толик.
В ужин слизнули мы, конечно, традиционного поросенка. А с утра начался аврал. Все равно что к приезду министра обороны. Посыпание дорожек, убеление камней и зеленение трав. Маринович с подручными плакат натягивает, мелом на кумаче: "Wellcome, "Beatles"!!!" — а ниже, мелким шрифтом и по-русски: "Братский привет участникам движения против войны во Вьетнаме и за мир во всем мире от подводников Северного флота!" Ворота покрасили голубенькой эмалью, голубей мира по трафаретке возобновили на створках. И мы тоже что-то красим, что-то таскаем, и офицеры таскают с нами на равных — и тут вдруг начинаем сомневаться в текущем мимо нас моменте.
А разговоры почему-то все только вокруг женского хора. Сколько их там, да какие у девок глаза, да что опять все офицерам достанутся… Был у нас опыт приема артистов, чего греха таить. Кобзон приезжал, Хитяева, Магомаев Муслим, ансамбль "Аккорд" с песней про пингвинов. Ну и хоры различные, как пишут в меню про пирожные: "в ассортименте". Да только если на день нас к артистам приставляли для всяческих их поручений, то в одиннадцать по команде "отбой" все наши матросские поползновения пресекались, ибо по части скорострельной куртуазности морскому офицеру нет равных еще со времен Петра Великого. Не в диковинку случаи, когда холостой офицер-подводник в субботу вечером уезжал в Ленинград, а в понедельник к подъему флага был уже на месте с молодой неопомнившейся женой в охапке и штампом в паспорте.
И вот после обеда показывается автоколонна: "газик" ВАИ с мигалкой и матюгальником громкой связи на крыше, а за ним три автобуса с чем-то пестрым за окнами. Подъезжают к гостинице, разгружаются… Мы, конечно, поближе сгрудились, чтоб на девок живых посмотреть — но вышло нам большое разочарование, потому что самая юная хористка наверняка еще ссыльных народовольцев охальными частушками ублажала. День для нас погас, и вели мы последнюю подготовку базы без малейшего энтузиазма…
Ну и, естественно, никаких битлов в тех автобусах не обнаружилось.
Начался концерт. Выстроились бабули, платочки повязаны. Вышел их помполит во фраке, объявляет:
— Выступает женский народный хор Кондопогского района Архангельской области! Лауреат Всероссийского смотра художественной самодеятельности, обладатель специального приза Европейского фестиваля народного творчества в Руане! Песня про Ивана! — взмахнул рукой, и бабульки грянули:
Цё сказали у Ивана Да конек вороной?
Не вороной, не вороной —
У ево рыжий да худой.
Цё сказали у Ивана Будто санки баски?
Ой, не баски, ой, не баски —
У ево розвальни одни.
У ево розвальни одни,
Да и те не свои —
Людям выброшены,
Ногам вытоптаны.
Цё сказали у Ивана Будто женка хороша?
Не хороша, не хороша —
Она сутула да ряба.
У её кошацье рыло,
Собацьи глаза,
У ей собацьи глаза Да лошадина голова!..
Вижу, Толик наш приуныл. Вот тебе и "Гёл, гёл!" — лошадина голова… Ну, сбацали бабульки еще что-то зажигательное с притопом да прихлопом, а потом вышла их солистка и запела про Илью Муромца. Он, надо думать, столько не жил, сколько она пела.
Но даже у самой большой бухты каната есть шкентель, как говаривал баталер наш мичман Лопато. А он в этом деле понимал туго, поскольку опыт имел богатейший. Начинал он службу на острове Минус, где всего гарнизона было шесть матросов и старшина второй статьи. А служили в то время на флоте по семь лет. И вот до одного из матросиков старослужащих доканывает медленный дембель, а на замену ему присылают молоденького Лопато, сразу после учебного отряда. Учебным отрядом командовал тогда капраз Яхонт Ефимович Наружный, утопивший подряд две подводные лодки. Ну, про Наружного — это отдельная повесть, попечальнее "Ромео и Джульетты". Да. И вот прибывает юный розовый матросик на обитаемый остров… понятно — сразу на кухню. Что вы думаете? В первый наряд торжественно пошел — и проштрафился. Плохо помыл посуду, чем привел в несказанную ярость все население острова. Тут же арестовали его, посадили в канатный ящик, ночь он там просидел. Утром выводят, хмурые все. Старшина за столом сидит, ни на кого не смотрит. Бумагу к себе какую-то подвинул, читает: "Акт о списании. Комиссия в составе таких-то под председательством такого-то рассмотрела дело о проступке матроса Лопато, который недобросовестной помойкой посуды привел гарнизон острова Минус на грань желудочно-кишечной эпидемии, чем поставил под удар безопасность государства. Комиссия постановляет: вследствие недоброкачественности матроса Лопато списать последнего по акту. Способ списания: отстрел из карабина Симонова АКС калибра 7,62 мм. Выдать два патрона для отстрельного и контрольного выстрелов. За отсутствием погоды на пирсе списание произвести завтра. Подписи председателя и членов комиссии наличествуют".
От советской власти Лопато иного как-то и не ожидал.
Отвели его обратно в ящик. Дали бумагу, карандаш — пиши, мол, письма.
И Лопато стал писать. Он написал родителям, сестрам, соседке Феньке, за которой как-то раз подглядывал на речке, и даже телке Звездочке, названной так в честь собаки-космонавта. Почему-то именно перед Звездочкой он чувствовал себя особенно виноватым за то, что стегал ее хворостиной… Всего писем было около двадцати.
Утром его вывели на пирс. Вот-вот грозил пойти снег. Океан был серым, как родная раскисшая земля.
Ему предложили завязать глаза, но он просто отвернулся. Когда сзади пальнули, он зажмурился, потом осторожно посмотрел. Снег начался, тяжелый и мокрый. Здесь все то же самое, подумал он.
Потом пальнули еще раз. Теперь Лопато даже не стал жмуриться.
Когда его отвели обратно, он как-то долго еще не верил, что жив. Но старшина, все так же сидя за столом, сказал, что по уставу, если патроны израсходованы, а списуемый почему-то не списался, то ему надлежит в течение года исполнять наряды там, где проштрафился, в данном случае на кухне…
Целый год Лопато, счастливый донельзя, содержал кухню в изумительной чистоте. А как он готовил!.. Вечерами же свободное от вахты население острова Минус вслух, с выражением, читало его письма домой. Письмо к Звездочке пользовалось особым успехом…
Вот так приходится заполнять свой досуг там, где плохо работает КВЧ.
В антракте дают нам команду: прогуляться до седьмого пирса. Аккурат там наш "Комсомолец Мордовии" пришвартован. Построились, идем. Я опять топаю замыкающим, курю, и того, что там видят передние, мне не ведомо, однако вот ропот — дошел. Ох, какой ропот!
И наконец вижу все сам своими глазами и в ропот тот добавляю свою басовую ноту.
Сияет наш "Комсомолец Мордовии" желтым флюоресцентным светом, и на всем вокруг лежит этот солнечный отблеск, и черные его соседки по контрасту кажутся уже и не просто черными, а какими-то ненормально черными… в общем, производит он впечатление китайского императора в золотом халате, решившего полежать на негритянском пляже в жаркий день в угнетенном Гарлеме. Тут нам командуют "рряйсь-смирно!", оркестр играет "Встречный марш", и из рубки выходят и начинают спускаться на шканцы четверо длинноволосых ребят в цветастых пиджачках, у троих гитары в руках, а четвертый какими-то погремушками трясет, споткнулся на трапе и чуть не в воду, но устоял.
И вот ведь что интересно: все своими глазами вижу, а верю все меньше и меньше. Ну, не может этого быть, потому что этого не может быть никогда.
А вслед за ними выходит адмирал наш Кабаков, легендарная личность, и сияет еще ярче лодки, в белом парадном кителе, а борода надвое расчесана, как у Римского-Корсакова. И без команды мы начинаем вопить "Ура!", и это ура идет такими красивыми перекатами, которые на репетициях к парадам у нас сроду не получались. Вопим мы все, кроме Толика, который стоит бледный, губы сжал, а по щекам слезы. И адмирал подошел к нему, достал платок, пахнущий одеколоном "Шипр", и собственноручно слезы ему вытер.
— Вот так, сынок, — сказал он ему и что-то еще хотел добавить, но воздержался. Слов лишних не любил.
Место у меня было самое лучшее — после Толика и адмирала, они-то в первом ряду посередине сидели; а я приказал салажне сбегать на волейбольную площадку и притащить мне судейскую вышку, что и было исполнено в кратчайший срок. Завидущие офицеры на лавках и на стульях тут же задергались, но офицеров много, а вышка-то одна… А время я так подгадал, что качать права им было уже поздно: битлы предстали.
Но вперед них вышел, конечно, известный всему Северному флоту ихний однофамилец, а мой годок Вадим Жук, переносивший тяготы и лишения при штабе в культурно-воспитательной части; занятие у него было чистое и стержневое: возить артистов по базам и кораблям, обеспечивать командам надлежащие зрелища, а выступающим — надлежащий хлеб: рюмку коньяка до и сигарету после.
Одет Вадим был как надо: офицерская парадка без знаков различия и галстук-бабочка. Тогда я впервые увидел живую бабочку и страшно ее с тех пор полюбил. Кося под Бубу Касторского, он раскланялся и объявил:
— Товарищи североморцы! Матросы, старшины, офицеры и адмиралы! Как сказал поэт: "Ты помнишь, в нашей бухте сонной спала зеленая вода, когда кильватерной колонной вошли военные суда. Четыре серых…" Да!!! Их именно четверо, флагманов современного буржуазного искусства, ковбоев успеха, ударников эстрады. На нашей сцене с первым и единственным концертом за Полярным кругом — герои борьбы за мир во всем мире, мамонты контрапункта, выходцы из рабочих кварталов пролетарского Ливерпуля — вокально-инструментальный ансамбль "Битлз"!!! Первая и главная песня сегодняшнего концерта — "Желтая подводная лодка". Краткое содержание песни: "В нашем городе полным-полно моряков, и все они наперебой рассказывают о своей героической службе на подводных лодках. И мы с первыми лучами солнца начинаем воображать себя экипажем желтой подводной лодки…"
И ребята запели.
…Когда мы очнулись, была полночь. Мне сверху видно было, как сверкают в лучах прожекторов фляжки, вздымаемые высоко, поскольку именно так можно отцедить последние капли, и в каком-то полубреду мне казалось, что это сверкает одна и та же неисчерпаемая фляжка, которая обслуживает и зал, и сцену, и уходит ненадолго передохнуть или обслужить тех, кого с нами нет (в походе, на вахте, на гауптвахте…), и возвращается, что твой бумеранг… Нет, ребята, для того, чтобы всю ту картину воспроизвести, надо нас опять всех собрать на том же месте в том же составе, да придать нам пожилого опытного следователя из военной прокуратуры, который сумеет клочки наших воспоминаний сметать в единое полотно…
Кому это надо?
"Желтую подводную лодку" пели раз пять, а то и все десять. Вызывали на бис, подпевали сами, с ходу переводя на русский устный. И потянуло нас в море…
Но тяга та была еще слаба.
Вдруг обнаруживаю я, что сижу на вышке не один. Рядом какая-то соплюха тощая, кулачками по ограждению вышки стучит, плачет, визжит что-то не по-нашему. Заткнул я ее на время фляжкой, надо же песню дослушать. А она фляжку вытащила, отплевалась и на меня уставилась, будто никогда моряка-североморца не видала. Потом разулыбалась, взяла меня за гюйсы и под подбородком так аккуратно бантом завязала, чтобы я ничем щелкнуть не мог.
Тут мы и разговорились. Звали ее Дайяна, родом она оказалась из Бирмингема, и папа ее был фотограф. А сама она с десятком таких же идиоток путешествовала за битлами по всему свету, присутствуя на всех их концертах. Границ и билетеров они не признавали. И многого другого тоже. Например, она сразу же уселась мне на колени, я думаю: не обтрухать бы клапан… хрен: ей просто так лучше видно было, вот и все. И еще она меня спросила, не принц ли я, случайно, и объяснила, что раз битлы все уже такие женатые, то выйдет она замуж исключительно за принца…
Под конец мне почему-то казалось, что Жук появляется уже во фраке, натянутом поверх длинного, до самых колен, тельника, — и босой. Сам Жук потом, конечно, говорил, что ничего такого не было и быть не могло (он вам и сейчас это же самое скажет), но я стороной узнал, что он помазал с боцманом Трембой на две банки сгущи, что именно в таким виде будет заканчивать концерт. И закончил. Долго обводил глазами зал, потом растопорщил усы и произнес:
— Т’нцуют все! Дамы пр’глашают кавалерофф… — и лег.
Штаб, что с них возьмешь…
На положенный по протоколу скромный товарищеский ужин нижних чинов не допускали, да и мичмана присутствовали только в лице Залупыноса-Австралийского. А мы, серая порция, побрели бесчувственно в казарму, доковыляли до коек и рухнули, как подрубленные дубы, сраженные одной молнией. И снилось мне почему-то, что к северным нашим старушкам я приставлен хормейстером и должен в кратчайшие сроки разучить с ними "Полет шмеля" Римского-Корсакова для виолончели с оркестром. Старушки голосом изображали жужжание, а потом вышла одна, самая сухонькая, по имени Багратиона Степановна, и затрубила горлом. Она трубила так громко, что я вскочил.
Трубач играл побудку. Причем побудка у него плавно переходила в гопак из "Ивана Сусанина" и обратно.
Когда играют побудку, тело одевается само.
Проснулся я на борту родной подлодки. В руках у меня был сапожный нож, которым я что-то резал из тонкого картона. На столе стояла коробка гуаши и серая банка из-под охры, в которой я обычно мыл кисти. Но к этой банке я почему-то время от времени прикладывался.
Вроде бы в ней плескался спирт.
Тут появился Толик. Принес фотографии.
— Вот, — говорит, — весь твой Леннон.
Я стал разбираться. Снято было хорошо, со вспышкой. Джон был и один, и в компании своих, и в тельнике, и в адмиральском кителе, и в обнимку с какими-то веселыми лохматыми девками, в которых с трудом узнавались офицерские жены.
— Ага, — говорю я. — Только я что-то от нитрокраски одурел.
— От какой нитрокраски? — говорит он. — Где ты ее видишь?
Я альбом понюхал и сам удивился. Была же вроде нитрокраска. Раз голова такая чугунная.
Тут Толя мой заплакал.
— Нащо мэни цэ життя? — говорит он. — Колы мрии билын нэмае…
— Да, — говорю я и тоже плачу, — людыни завжды потрибна мрия. А МГИМО?
— МГИМО… — плачет он. — МГИМО — щоб батьки не журылыся, щоб дивкы кохалы. А битлы — оце була мрия…
Потом вытаскивает из кармана кусок хлеба белого и начинает крошить на стол, и два каких-то воробья прыгают и те крошки клюют.
— Ты, — говорю, — чего творишь, они же мне всю работу обгадят.
— Пусть кушают птички божии, не мешай…
Я плюнул и пошел проветриться.
Ясный-ясный день, океан зеленый, как очи болотной красавицы, и позади рубки, скрывшись от набегающего ветра, сидят свободные от вахты моряки, девки-фанатки, бабушки-хористки — и ливерпульская наша четверка, у кого гитары в руках, у кого компот ананасовый, Ринго по пустой кастрюле ритм отбивает… и курят все, кому не лень. И только тут до меня доходит, что мы идем в надводном положении.
Потому что с курением на подводной лодке очень сложно.
И вот стою я, по-пушкински опершись афедроном о леер, и слушаю добрую песню, которую напевают старушки и подтягивают битлы.
Во лугах, лугах, лугах, во зелененьких лугах,
Там ходила, там гуляла телка черненькая,
Телка черненькая, вымя беленькое.
Как увидел эту телочку игумен из окна, Посылает-снаряжает свого рыжего дьячка:
— Ты поди, моя слуга, приведи телку сюда,
Не хватай за бока, не попорть молока…
Потом уже, подо льдами, когда я в гальюне отскабливал растерянного Джона зубной щеткой, он говорил, пригорюнясь, что общение с этими пожилыми леди дало ему больше, чем все уроки у Махариши и Рави Шанкара.
Меж тем дембельский его альбом я все никак не мог закончить, хотя и не спал вообще ни минуты. Хотелось мне выразить всю полноту чувств, которые меня в те дни переполняли. Были в том альбоме цветы из множества открыток, присланных ребятам из разных краев бескрайней нашей отчизны, вырезанные из "Огонька" и "Советского экрана" портреты гимнастки Людмилы Турищевой, актрисы Натальи Барлей, французской певицы Мирей Матье, Эдиты Пьехи, Клавдии Кардинале в компании Юрия Визбора на фоне красной палатки, Марины Влади — и еще нескольких достойных женщин, которые, по тогдашнему моему разумению (с тех пор почти не претерпевшему девиаций) годились в супруги Джону Леннону с гораздо большими на то основаниями, чем худосочная кривоватая японка (кстати, куда она делась на время нашего похода, ума не приложу. На лодке ее вроде бы не было…
Впрочем, относительно того, кто был на лодке и кто не был, у всех после похода возникли большие сомнения. Скажем, двигателисты утверждали потом, что у них в отсеке сидел (и лежал) сам Высоцкий, пил вместе с ними спирт и сочинял песни про подводников. А два синих от непонятности происходящего маслопупа слонялись по палубам и все пытались найти несколько потерянных мешков сухого компота.)
Были в альбоме еще портреты знаменитых подводников: Маринеско, потом Гаджиева, Колышкина…
Последняя страница альбома украшена была ростовым портретом самого Леннона в полной парадной форме с балеткой в левой руке и гитарой за спиной, а на заднем плане печально красовалась типичная ливерпульская хатка и старенькая мама, ожидающая сына со службы.
По коридорам и трапам с частотой и скоростью челнока сновал адмирал Кабаков, легендарная личность, то ли сопровождаемый, то ли преследуемый девками-фанатками. Их какой-то шутник обучил одной русской фразе: "Где твой кортик, девок портить?", которую они обращали исключительно к адмиралу.
И за какой угол ни свернешь, в какую дверь ни сунешься — везде стоит недоумевающий баталер наш Лопато, списанный когда-то по акту, и пытается сосчитать канистры со спиртом и без оного, и вечно у него не сходится счет.
Но спирт спиртом, а политчас — политчасом, то Сеть каждый день.
Поначалу битлы политчас игнорировали, и это им как-то сходило с рук. Но и без их присутствия замполит вел себя как-то не так. То рассказывал о проекте переселения пингвинов в Арктику, которое задумал еще товарищ Папанин, но преодоление культа личности спутало его планы, а волюнтаризм, возникший как следствие, положил всему конец. То — вел речь о планах американских империалистов снабдить свои атомные подводные лодки специальным приводом, сконструированным беглым деникинским полковником Карлом Людвиговичем Дином, коий привод позволяет нарушать закон всемирного тяготения без тяжких последствий для нарушителя, и использовать тем самым свой атомный подводный флот для завоевания межпланетного пространства и планет Солнечной системы. А на тот политчас, на который битлы все-таки заявились, он назначил темой "Дзен-буддизм — повивальная девка японского милитаризма и китайского экспансионизма". Только ничего у него не вышло, потому что битлы вели себя развязно, а похожая на училку Линда — та вообще встала и заявила, что книга "Кама-сутра" вообще не имеет никакого отношения ни к дзен-буддизму, ни к милитаризму, а китайский экспансионизм происходит сам по себе и совсем по другим пособиям. Потом они начали петь, а мы подпевать: "Все мы любим пасту "Поморин", пасту "Поморий", пасту "Поморин"…"
Ну и допелись. Отменили у нас политчасы до самого конца плаванья. Такого никогда не было ни до, ни после!
А раз нет политчасов, ребята, то и вся дисциплина тоже вроде бы как отсутствует.
Вот тут-то, говоря словами классика, "и все заверте…".
Когда всплывали на полюсе, многие видели полярное сияние, хотя был день — и сильно пасмурный день.
Говорил мне потом Толик, что Леннон в нарушение запрета курил в каюте, а поскольку курил он далеко не табак, то по системе вентиляции мы вполне могли причаститься…
Кроме шуток: приходить в себя стали уже после Ливерпуля. Тут, правда, и спирт кончился, сошелся наконец у Лопато счет. Зато потерял он надувной спасательный плот ПСН. И как мы его ни убеждали, что плот этот он сам лично Ринго Старру подарил, не желал Лопато никого слушать.
А я как раз вот это отлично помню: ночь или вечер поздний, множество огней на берегу, и вода вся в огнях, так и кажется, что плот плывет по углям… девки-фанатки на веслах, гребут и плачут, а ребята поют — без музыки почти, Джордж на простой гитаре играет, Ринго ладонями легонько так по надутому борту лупит, — и выводят голосами:
…And our friends are all on board, many more of them live next door,
And the band begins to play.
We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine.
We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine.
И тут я вспоминаю: альбом! Альбом забыл! Бросился в люк, по трапу вниз, в первый отсек, в кубрик, схватил, назад тем же путем, разулся буквально на лету, разделся…
Отплыли они уже далеко. Хорошо, девки гребли так себе, да и плот не для гонок предназначен. И вода — теплая-теплая.
Догнал на боку, за леер ухватился:
— Джон! — и подаю.
Обнялись еще раз на прощание со всеми, я из воды наполовину торчу, тот еще русал… и поплыл обратно, уже на спине. Созвездия знакомые узнаю… Ливерпуль, понимаешь, а звезды те же.
Приплыл, тут и погружение сыграли.
Вот, собственно, и все. Разглашать нам об этом, понятно, запретили — равно как и обо всем остальном… скажем, как называется шпангоут "4–4", что такое "тяжелые силы" или сколько на лодке экипажу…
Да и, поверьте, сами мы по прошествии времени вдруг как-то перестали во все произошедшее верить. Ну — будто приснилось всем коллективно, что ли. Да потом еще — наложилось всякое. Та же К-33… как потом из казармы самосвалом личные веши ребят вывозили… Встретил туг несколько лет назад Жука Вадима, обрадовались, коньячку попили — а о том концерте и не вспомнили ни разу. Да и сейчас не вспомнил бы, наверное, если бы не этот, блин, "Сотбис"…
Вот и на плоту не было японки, чтоб я сдох. Я же со всеми тогда перецеловался…
Не было. И где была — никто так по сю пору и не знает. Да мне, по правде говоря, и неинтересно.
А вот что альбом тот мимо меня проскочил — это обидно. Второго такого уже не будет никогда.
Там изнутри на обложке групповое фото, и я — во втором ряду третий слева…
После серии небольших эссе (одно из них в конце этой книги) я задумал и набросал план большого эссе, намереваясь издать отдельной брошюрой. Но материал оказался вязок и неподатлив: хотя общая концепция была ёмкой и не несла внутренних противоречий, она требовала слишком большого количества доказательств, каждое из которых при желании могло быть оспорено, и эту возможную полемику тоже следовало вытащить на бумагу… В общем, нужно было либо писать труд объемом с "Постижение истории" (и затратить на это несколько лет) — либо ограничиться коротким рассказом и надеяться, что читатели, подобно Кювье, по фаланге мизинца восстановят весь скелет этого монстра.
Едемская улица вела, как всем понятно, на городское кладбище, лежащее меж двух холмов, а потом превращалась из улицы в дорогу и петляла по чистому полю Бог знает куда, говорили, что до богатой деревни Едемки. В ту сторону Никита с Плашкой не ходили никогда, потому что Драбка, Федул и вся их кодла отправились еще летом туда за яблоками и не вернулись. Еще кто-то, вроде бы очкастый Граф, рассказывал, что дальше по дороге там есть речка, мост, за мостом тракт и железная дорога, разъезд, где почти нет охраны и совсем нет мильтонов и можно забраться под вагон и проехать совсем недолго, день или два, и попадешь прямо к Макару, где есть все: и горячие печки, и лопать каждый день дают, а за это только и надо, что мыться в бане и отсиживать в школе на уроках, и еще врачи уколы ставят для опытов, да только туда не всех берут, а вот кого берут, он, Граф (или это был не Граф?), знает, но не скажет. Потом настала зима, Граф тоже насовсем исчез, и спросить стало не у кого.
Никита с Плашкой уже однажды побывали в приюте и удрали очень быстро, потому что жрать было нечего, то, что давали в столовой, отбирали шакалы, а объяснить им, что Плашку обижать нельзя, у Никиты попросту не получилось. Как это, всех можно, а гут кого-то нельзя? И ночью, не дожидаясь, пока что-то случится, Никита укутал Плашку старым драным одеялом, а сам ушел в чем был, поднапхав под бушлат совершенного уже тряпья. Плашку пришлось тащить на себе, ножка-то у нее одна была ходячая, а вторая то так, то эдак. Старый их чердак уже закрыли, забили и засов поставили с висячим замком, но тут вдруг подвалило: пустили их в старую кочегарку и даже дали место у трубы. Атаманили в кочегарке Гвеня и Марго. У Гвени не было левой руки по локоть, и он врал, что воевал на Польском фронте у Тухачевского, потом угодил в плен к австриякам, от них сбежал, попал к румынам — и что хуже румын никого на свете нет: за какие-то прегрешения они отрезали Гвене яйцо. И заставили сожрать. Тогда ему было тринадцать лет. Марго была нормальной веселой шалашовкой, у нее стояла своя будочка стена к стене с кочегаркой, и в удачный день вся кодла ела белый хлеб с колбасой и конфетами и запивала сладкой Массандрой.
Приют, из которого удрали Никита и Плашка, через месяц сгорел дотла, и Никита порадовался своей предусмотрительности.
Сами Никита и Плашка аккуратно промышляли на рынке: Никита стягивал на себя взгляды торговцев, облизываясь на их товары, а Плашка тихонечко приторбливала то, что оставалось без надзору. Ее никогда не замечали. Никиту же сколько раз ловили, но он всегда был ни при чем.
"Феликс, а Феликс, сбылась ли твоя мечта?"
Полусон. Все, что он может себе позволить. Колеса на стыках: бу-бух, бу-бух… бу-бух, бу-бух…
"Феликс, а Феликс, счастлив ли ты?"
Какое тут может быть счастье…
Засасывает. Хуже болота, хуже воронки. Морской кракен оплел щупальцами и медленно пожирает, глядя глаза в глаза. И задает вопросы — без голоса, изо лба в лоб.
"Феликс, а Феликс? Давно ли плакал ты, чадо?"
Не чадо уже, а исчадье. То, что вышло из чада. То ли из дыма, то ли из ребенка. Что, впрочем, одно и то же — в каком-то удаленном смысле.
Глаза не отпускают.
Если вспомнить фамилию, уйдет. Потом вернется опять. Так уже было, только потом фамилия все равно забывается, чем дальше, тем сильнее. Прозвище — пожалуйста, но прозвище не спасает.
Чулак. Чулак. Чулак…
Нет, не спасает. Смотрит в глаза.
"Феликс, а Феликс? Много людей счастливыми сделал?"
Много. Так много, что и не охватить разумом. Но еще больше — несчастливы до сих пор. Опускаются руки…
Тот смотрит сквозь толщу воды, сам опускаясь — медленно, медленно. Пузырек воздуха плывет вверх, за ним другой. Волосы текут с водою вместе и с водою вместе мутнеют от облачка крови.
Чулак. Ну кто же тебе виноват, что ты вышел не вовремя поудить? До рассвета, по туману? Проснулся слишком рано или заснуть не мог: мучили съеденные давней цингой зубы? Да еще забрался на горе не в ту лодку? Чужак, пришлый, почти что бродяга, шалашник. Урядник вон тобой интересовался…
Уйди. Послушай, уйди сейчас. Не наговорились разве в то лето? Не наговорились за жизнь? Сколько прошло? Больше двадцати пяти лет. Не могу больше.
"Так люди ж решили, что утоп я в озере Ад. Не за что мне такое, Феликс. Может стать', что и к раю я не способный, но Ад — это точно не для меня. Ты вот про чистилище ваше католическое так хорошо рассказывал…"
Проснуться. Стряхнуть. Стряхнуть!
Никого. Совсем тусклая ночная лампочка, и бу-бух, бу-бух, бу-бух… и за окном луна, красная, исполинская, с обгрызенным краем. Во всем теле закостеневшая боль.
Достал фарфоровую марафетницу с портретом Пилсудского. Холодными пальцами откинул крышечку. Смесь кокаина и морфия, "эсеровка". Спасает, хотя бы на время.
Неслышно подскочил секретарь. В руках поднос, на подносе стакан с теплым молоком. Поставил на стол и исчез.
Две ложечки порошка… легкое онемение нёба…
Скоро можно будет жить дальше.
Они угодили в лапы мильтонов, когда и не ждали. Ведь ловили летом да осенью — в городах, весной — на дорогах. Зима всегда считалась временем спокойным… но ранним морозным вечером их сцапали просто на улице, бежать было бесполезно, Плашка опять хромала. Теперь здоровенный усатый дядька в сильно, до белизны, потертом кожаном пальто и солдатских ботинках, зашнурованных новенькими сыромятными ремешками, вел их, крепко держа за локти, по скрипучему снегу к огромному сараю, обнесенному забором с колючей проволокой поверху. Насколько Никита знал, это был один из городских дровяных складов, и сюда лучше было не соваться.
За забором снег был утоптан, укатан и сплошь покрыт щепками и корой. Стояли два грузовика, один тихо, другой пердел и трясся.
— Ну, товарищ Кузьмичев, ну ты жь боже жь ты мой, ну сколько можно их водить и водить! — выскочил откуда-то сбоку румяный и кругленький, похожий на нэпмана типчик в котелке, натянутом на уши, и малиновом пальто. От нэпмана его отличал только широкий ремень, на котором болтался наган в желтой кобуре. — Уже скоро тридцать будет! А план-разнарядка на двенадцать душ! На двенадцать, вы жь это знаете лучше меня!
— Тихо, тихо, товарищ Соломончик. Что нам с вами тот план? Нам беспризорность искоренять велено, тут план не помощник. Инициативу масс проявлять — так нас товарищ Дзержинский учил или не так?
— Так-то так, учил, да, а чем мы их таки кормить будем? Поить, одевать? Размещать под крышу и одеяло, в конце концов? Вы это будете делать? Нет, вы же мне их приводите и говорите: Соломончик, алле-оп! И Соломончик сейчас опять вывернется наизнанку на потеху почтеннейшей публике!..
— То есть провианта нет, ты это хочешь сказать?
— Ну, как так нет? Но это же приходится самому ходить, угрожать пистолетом, будь он неладен, потом ругаться с возчиком, чтоб ему любить только свою кобылу…
И в результате Никита с Плашкой получили по огромному куску подсохшей французской булки, на палец намазанной маслом, и сколько угодно горячего жидкого чаю с сахаром. Плашка ссосала свой кусочек, а Никита заныкал.
Стало тихо. Поезд неслышно свистел по снегу, чуть подпрыгивая на ухабах. По вагону гуляла поземка, заставляя подбирать ноги и кутаться в шинель. Чулак стоял за плечом, не показывался.
"Не надо было меня убивать, Феликс. Видишь, во что сам теперь превратился? Хорошо, если еще год протянешь…"
Не надо было убивать… Может, и не надо. С испугу вышло, не по злому умыслу. Вдруг обуял такой ужас, что побег — давно задуманный, да и что там говорить — спасительный побег, ведь точно умер бы от тоски в ту осень или зиму, — сорвется. Из-за дурака, который по темноте вышел на Каму поудить рыбки…
"Ведь все лето об этом и говорили: что не может быть счастья на крови. И Царствия Божия на единой слезинке ребенка — тоже быть не может. Говорили, соглашались… И чем кончилось? Веслом по башке. Сам же все испортил — навсегда".
Знаю…
Нет, Чулак, ошибаешься ты — пусть в одном, но в главном. Не всё я испортил, а — только то, что вокруг себя. И теперь вот исправляю, исправляю… и исправлю, вот увидишь, всё исправлю, дай только сил чуть побольше. Улетают силы, как пар из паровоза, а новой воды пока не залить. Не залить…
Вагон был огромен и гулок, как туннель. Без малейшего проблеска света в конце.
От тепла и внезапной сытости Плашка осовела. Она еще дотащилась кое-как до нар, куда-то втиснулась, рядом трещала печка, ее прикрыли мешком, потом еще одним… Она не знала, спит она или нет.
Ах, беда приключилася страшная, пели вокруг, подыгрывая на зубариках, на помойке ребенка нашли, его вымыли, его вытерли и назад на помойку снесли… у нее голубые глаза и на длинных ресницах слеза, ах, зачем наступил ей на хвост ты, прохвост, несмотря на ее малый рост… потом кто-то упал, и все долго хохотали, и кто-то, все время приговаривая "етёл-котёл", рассказывал, как красные мадьяры спасли его от страшной смерти, перебив из пулемета несколько тыщ белых офицеров.
Потом Никита растолкал Плашку, поднял, укутал мешками и куда-то повел. В дверях их попытался задержать бесформенный мужик, но Никита, неразборчиво бубня, что-то объяснил ему и повел Плашку дальше, воняло, она подумала, что в нужник, но получилось мимо нужника — в полную темноту. Там была еще более темная дыра, они пролезли в нее, и Никита тут же повалил Плашку на снег и придавил сверху.
Загорелся желтый свет, и над самой головой прогремело:
— Мышата попались!
Их подняли за шкирки — Никиту просто на ноги, а Плашку высоко над землей. С высоты она увидела, что рядом лежит что-то длинное, так же, как и она сама, закрытое мешками.
Никита дернулся и пяткой сбил мешок в сторону. Под мешком лежал Гвеня. Один его глаз был зажмурен, другой — широко открыт.
— С бандюгами — только так, — сказал тот, кто их поймал. — А вы давайте-ка обратно, нечего по темноте бегать, утречком вас отвезут в детколонию, к хлебушку, к теплу…
— Сестренку, — сказал Никита тупым голосом. — Сестренку в нужник веду… Хроменькая она.
— Ну да. Вон нужник-то где остался. Промахнулись, мышата. Больше сквозь забор не лазьте, нечего тут делать. Быстро, быстро назад.
— Гвеня… — прошептала Плашка. — А как же?..
— Ш-ш, — сказал Никита. — Ш-ш-ш…
Они нырнули в дыру обратно и там затаились.
— Ты дёрнуть хочешь? — спросила Плашка тихо-тихо, в самое ухо брата — и почувствовала, что он кивнул. — А зачем? Может, в приемнике лучше будет? Теперь, когда без Гвени…
Никита помотал головой. Он всматривался и вслушивался в темноту по ту сторону забора.
Скоро Плашка начала мерзнуть. Но она так привыкла к этому состоянию — насколько вообще можно привыкнуть к холоду, — что не дрожала и не жаловалась. Просто изо всех сил старалась удержать в теле последнее тепло. Она будто бы прикрывала деревянными ладонями чуть тлеющий костерок.
Никита еще раза два пытался проскочить через лаз, но останавливался в последний миг. А потом стало вообще невозможно: по ту сторону забора стало светло, свет лился сквозь щели, и кто-то громко ругался. Там совсем рядом что-то волокли, бросали, роняли. Надо было уходить, страшно затягивало в сон.
— …не могу и не требуйте от меня, товарищ Дардзенс! — кто-то в этом сне кричал глухо, как сквозь шапку. — Смертный же это грех…
— Единственный по-настоящему смертный грех, товарищ Кузьмичев, — это не выполнить задание партии, — скрипучим, даже скрежещущим голосом, от которого хотелось проснуться, отвечали ему. — Нам партия и сам Феликс Эдмундович поручили ликвидировать проблему беспризорности — и мы ее ликвидируем! Во что бы то ни стало. Ты меня понял?
— Но не таким же способом, помилуй бог…
— За что миловать, товарищ Кузьмичев? За то, что ты пробивал путь к светлой жизни — и не для себя, а для миллионов трудящихся масс? Рассматривай беспризорность не как отдельных представителей несовершеннолетних, а как классовое явление, доставшееся республике в наследство от кровавого николаевского режима. Это ведь всё остатки догнивающих побитых классов: воры, дворяне, поповские и офицерские щенки. Ты понял меня, Кузьмичев? Так вот: или завтра город будет чист, или сам пойдешь к стенке. Партбилет положишь и пойдешь, как миленький…
Что-то тяжелое упало с грохотом и треском, кто-то закричал и стал ругаться с матюгами, а за спиной у Никиты и Плашки громко застучал мотор грузовика, и весь двор осветило голубыми фарами.
— В машины! Грузитесь быстрее, едем!
Он уснул на минуту — словно головой в прорубь, там вывернулся и снова всплыл, теперь уже холодный и прямой. Плохо, что Чулак так и не ушел, сидел за столом, пил чай, бормотал себе под нос. Будет теперь таскаться следом весь день, хватать за локоть, гундеть под ухом, как надоедливый вятский комар.
Уйди, Чулак. Сделай милость, уйди.
"Что тебе мои милости, Феликс? Тебе сейчас Божия милость нужна, не моя. Не пей молочка, теленочком станешь…"
С-собака. Знает, куда ткнуть шилом.
От кокаинизма пытался вылечиться в Швейцарии — тайно, товарищам говорил, что от туберкулеза. Почти получилось, стал контролировать себя, научился обходиться без. После переворота сорвался. Тогда многие пристрастились, Троцкий прямо говорил, что без кокаина ни Колчака бы не разбили (именно кокаином разложили белочехов, почти три тонны из парвусовского запаса на них потрачено было — партизанскими тропами доставляли, через калмыков, через хакасов, — и аэропланами…), ни Перекоп бы не взяли — спирт с кокаином раздали бойцам перед штурмом… И сам вернулся — пришлось вернуться, — потому что не спать приходилось неделями, а голова нужна была ясная и холодная.
А чтобы сердце не стерлось, добавлял морфий, как Вацек-бомбист еще в тюрьме научил. Главное, больших перерывов не делать. И вот — который год уже…
"Не слушаешь ты меня, или не слышишь — не знаю. А зря, дурного-то не подскажу. Как-никак свой человек, ты потом, как Его увидишь, вспомни: был, мол, такой Чулак — забыли его, потеряли, а он — суда молит. Эх… зря болтаю…"
О чем ты?
"Да всё о том же. О воздаянии. Далеко Он от нас и видит издаля плохо, а может, мольба медленно доходит, вон, наподобие как письма в войну, а может, живем мы шибко. Ну и посылает потому к нам то ли ангелов, то ли разведчиков — а мы-то их не признаем! Содомцы не признали — и где тот Содом? Евреи не признали — до скончания света жить им без родного угла и хаты, всегда на чужбине. Достоевский, помнишь, фантазии строил про Великого инквизитора — а я всё думаю, что это наши старокнижники были… Должен, должен кто-то бродить сейчас и смотреть, чтобы потом доложить. Ангел с крылами, или плотник, себя царем объявивший, или солдат беглый, или маленькая хромая девочка. И опять ведь не признаем, распнем, в воду кинем, пулей пронзим, в цепях замучаем..: А Он, когда весть дойдет — со всего плеча, да как всегда, не по тем, кто сам виноват, а по ком попало, кто рядом стоял, а то и просто — до седьмого колена, по единоверящим, по единоговорящим…"
Ерунду говоришь. Какой солдат, какая девочка? Какой Бог, наконец? Если и был, то спит.
"Вот-вот, а как проснется — да спросонок, не разберись, по правым ли, по виноватым ли… Аз воздам. За что? А за грехи отцов. Вот ты, Феликс, ты ни черта не боишься, и правильно — помрешь-похоронят. Ну, а допустим, если б ты знал наверное, что приказал вот давеча начальника станции расстрелять будто бы за саботаж, а на деле в острастку, а у него семеро по лавкам, — и за это завтра у твоей сестрицы Альдоны произойдет удар, паралик ее разобьет, и племянники твои счастья лишатся, — вот тогда как? На принцип пошел — или подумал бы еще?"
Ничего не понимаю. Ты пьян или нанюхался, Чулак.
"Я и говорю — слаб Он и стар, да и ты не Иов. И вообще поздно уже. Поздно, поздно. Не отмолишь, потому что не успеешь. Слово тебе скажу, и ты то слово запомни. И молочка не пей больше, не пей…"
Потом Чулак подышал на стекло, пальцем написал что-то — и исчез.
Дзержинский наклонился, стал всматриваться. Сквозь заоконную серь слова то проступали, то тонули в стекле. Потом медленно возник, переместился и пропал позади желтый свет обходческого фонаря. Слово было "КАТЫНЬ".
Оно казалось полузнакомым… вот только что слышал… сейчас вспомню…
От напряжения он проснулся. За окном было светлее, чем казалось, и много холоднее — стекло в кружевном инее по краям, "куржаке". И, конечно, никакой надписи.
Он подозвал секретаря, выпил стакан теплого молока — на этот раз чистого, без "эсеровки". Поколебавшись, спросил:
— Словацкий, вы не помните, что такое "Катынь"? Приснилось — одно только слово.
— Не твердо уверен, Феликс Эдмундович, но вроде бы река. Где-то в Полесье. Нужно узнать?
— Не обязательно. Когда прибываем?
— Через двадцать пять минут.
— Хорошо. Тогда давай умываться…
Когда грузовик уехал, оставив только вонь, Никита поднялся на ноги и с трудом поднял Плашку. Кругом был зимний лес, и чуть серело низкое небо. Снег не падал сверху, а просто возникал в воздухе, мелкий и колючий. Дорогу было видно еле-еле.
— Куда пойдем? — бодро спросил Никита. — Вперед или назад?
— Я… не могу, — тихо сказала Плашка. — Я ногу… опять… Ты знаешь что? Ты меня оставь. Я тут полежу, а ты иди. Если кого найдешь, вернешься…
— Дура ты, — сказал Никита.
Шагов сто он ее нес. Потом сколько-то волок по снегу. Потом полз с нею на спине. Потом больше не смог ползти. Лег рядом, сгреб в охапку.
— Кажется, это всё, — сказал он.
— Ага, — легко согласилась Плашка. — Ты только не бойся. Ты слушай. Как красиво поют…
1990, 2002
Предисловие 2001 года
Эта статья была написана за один майский вечер 1987 года на раздолбанной в хлам пишмашинке "Москва". Дело происходило тоже в Москве, в одном из зданий на бульваре Добролюбова, и если кто знает, в чем дело, тому можно не объяснять, а кто не знает, тому объяснить невозможно. Мы по очереди колотили по клавишам и были уверены, что изменяем судьбу страны. Потом последовали еще четыре статьи, этакие исправления и дополнения к первой. Они пропали в мусорных корзинах редакций, и я был уверен, что эта тоже пропала, но вот каким-то чудом зацепилась за краешек сети…
Термин "Голем Лазарчука-Лелика" за последние годы попадался мне не раз — в каких-то статьях, материалах научных конференций и т. д.; это лестно, конечно, но интерпретация меня не устраивала; впрочем, перечитав статью, до которой вы сейчас доберетесь, я понял, что иного трудно было ожидать. Это не совсем наш текст, это, скорее всего, материал, прошедший сквозь редакцию журнала "Молодой коммунист". Я ни разу не обнаружил слова "имманентно", которое Петру очень нравилось и которое он вставлял везде, где только можно, — и наоборот, нашел несколько оборотов, которые нам уж точно не принадлежали. Кое-что я вычистил — самую малость. Там все вперемешку: наши иллюзии, "паровозики", какие-то быстрорастворимые факты (что за фирма "Факел", чья судьба нас так обеспокоила?)… Кроме того, статья писалась для публикации в подцензурной прессе, и кое-какие вещи нельзя было называть своими именами. Но, как мне показалось, если процедить все это, кое-что на зубах останется.
Андрей Лазарчук, Петр Лелик ГОЛЕМ ХОЧЕТ ЖИТЬ эссе
В действительности все обстоит совсем не так, как на самом деле.
Станислав Ежи Лец
Бюрократия неизбежна.
В условиях управляемого общества на центральные органы власти поступает объем информации, заведомо превосходящий тот, который человеческий мозг в состоянии переработать. Следовательно, необходим аппарат, осуществляющий аналитические, селективные и накопительные функции, а также аппарат, способный доводить принятые решения до общества и контролировать их исполнение, а при необходимости — и настаивать на их исполнении, — то есть то, что мы, в зависимости от настроения, именуем управленческим аппаратом или бюрократией. Очевидно, что существуют два принципиально различных пути формирования управленческого аппарата: путь естественный, когда аппарат формируется постепенно, по мере развития общества, соответствуя развитию социальных и производственных отношений; и путь искусственного формирования аппарата для решения неких конкретных задач. Во всем мире общество имеет дело с бюрократией, возникшей естественным путем. Разумеется, никакая бюрократия не сахар, и по ее адресу сказано немало теплых слов. Но лишь в нашей стране обществу противостоит аппарат, созданный искусственно, аппарат-гомункулус.
Назовем его Големом.
Точную дату его появления на свет установить невозможно. Процесс рождения Голема был продолжительным и постепенным и примерно совпадал по срокам и темпам с процессом реставрации автократии. Очевидно, что ни в недрах царской бюрократии, могучей и разветвленной, но существенно ограниченной внешними факторами в сферах хозяйственной, идеологической, информационной, ни в недрах молодой советской бюрократии начала двадцатых годов, когда еще только шло полустихийное-полуэмпирическое формирование структуры аппарата, когда многие звенья его дублировались, а функции пересекались, — Голем зародиться не мог. Ему нужна была предельная централизация, стабильность структуры и полное отсутствие всяческих ограничителей. Такую "питательную среду" он получил в начале тридцатых годов.
В понятиях сегодняшнего дня схема управления обществом, внедряемая тогда, выглядела так: Пользователь, он же Генератор Идей — высшее партийное и хозяйственное руководство (желательно в одном лице); управленческий аппарат; информационное поле, оно же — среда реализации идей. В идеале такая схема обеспечивала Пользователю: сбор информации с любого участка информационного поля и максимально эффективное доведение любых принятых решений до среды реализации; контроль за их исполнением; доведение до Пользователя информации о результатах; вновь подача команд на среду реализации — и так цикл за циклом. Это обеспечивало обществу всестороннее процветание.
Поскольку саморегуляция в общественных отношениях была практически ликвидирована, аппарату придавались функции регулятора: он должен был статистически обрабатывать все общественные явления, устанавливать корреляции между ними и пытаться их оптимизировать — то есть выполнять интеллектуальную работу. Совершенно очевидно, что реальное исполнение этой работы было ему не по силам.
Негибкость этой переупрощенной структуры управления обществом очевидна, и есть все основания полагать, что кризисные явления были и остаются ее неотъемлемым качеством. Поэтому особый интерес представляют сейчас факторы, благодаря которым эта "машина кризисов" сформировалась и продолжает функционировать уже более пятидесяти лет.
Фундамент этого, на наш взгляд, в том, что Пользователь присвоил себе монопольное право на владение абсолютной истиной, то есть превратил доставшийся ему в наследство "пакет идей" в нечто метафизическое, неизменное. Первоначальное совпадение некоторых параметров этого пакета с реальными процессами привело как к определенной эйфории, так и к требованию признания всех без исключения идей, входящих в пакет, заведомо истинными, а фактов реальной жизни, противоречащих этим идеям, несуществующими. Сомнения — не в идеях даже, а в правомочности такой метафизации — объявлялись вражескими нападками. Другим, не менее важным, фактором, обеспечившим формирование и стабильность структуры, было состояние общества, в массе своей неспособного к восприятию информации сколько-нибудь высокого уровня сложности. Поэтому информация, подаваемая на среду реализации, адаптировалась, упрощалась — часто до полного искажения. Если же подаваемая информация противоречила реальности и отторгалась средой реализации, то вступали в действие механизмы насильственного ее внедрения. Деформировалась подаваемая информация, деформировалась среда реализации, но принцип управления оставался соблюден.
Восстановление в тридцатых годах централизованной многоступенчатой иерархической системы управленческого аппарата породило серьезное противоречие между необходимостью копировать схему старого аппарата, с одной стороны, и сравнительно низким качеством "информационных ячеек" (недостаточным образовательным и культурным уровнем "нового чиновничества") — с другой. Это привело к формированию системы "управленческого конвейера" — строжайшей специализации отдельных исполнителей на отдельных, крайне ограниченных операциях без какого-либо понимания этого процесса. Естественно, что при этом степень централизации еще более возросла, а гибкость аппарата еще более снизилась, и на изменение внешних условий у него осталась одна реакция: экстенсивный рост. Понятно, что при этом пути прохождения информации удлиняются, а аберрированность ее нарастает.
Установление монопольного права аппарата на владение информацией привело к тому, что сколько-нибудь полноценный контроль за деятельностью самого аппарата вскоре стал невозможен не только со стороны общества, но и со стороны Пользователя.
Таким образом, аппарат, создаваемый Пользователем для обслуживания своей автократии, приобрел все возможности для неограниченного саморазвития.
Были ли у него стимулы для такого саморазвития? Были.
При постоянном возрастании потока информации — примерно удвоение за десять лет — и при все более увеличивающемся расхождении между реальностью и метафизическим пакетом идей, который общество под руководством Пользователя призвано было осуществить, внутри самого аппарата лавинообразно нарастало количество информации, которая противоречила установкам, заданным Пользователем, а потому подлежала преобразованию. Очевидно, что одно это было мощнейшим стимулом для саморазвития системы. Очевидно также, что с течением времени относительный объем аберрированной информации стал значительным, а затем и подавляющим.
Итак, мы видим, что с ростом потока информации и увеличением числа операций, производимых над нею, растет необходимость в новых и новых информационных ячейках; при этом время, потребное для производства одной элементарной операции, растет прямо пропорционально количеству связей между ячейками. Аппарат заметно теряет оперативность, способность к анализу снижается, складывается впечатление, что он работает вхолостую.
Совершенно ложное впечатление.
Дело в том, что ни один чиновник любого ранга — от постового милиционера до министра, от нормировщика на фабрике игрушек до члена Политбюро, — и не подозревает даже, что, приступая к своим обязанностям, включается в исполнение мыслительного процесса гигантского нечеловеческого интеллекта, имя которому — Голем. Интеллекта, зародившегося в кабинетах и коридорах контор, комитетов и министерств, интеллекта мрачного, аморального, всепроникающего и почти всемогущего — и настолько чуждого человеку, что даже самые отчетливые его проявления мы обычно склонны трактовать как глупость или злую волю руководства, искать для них некие трансцендентные или приземленные объяснения. Признать же их именно как проявления деятельности иного разума, преследующего свои сугубо эгоистические цели, трудно чисто психологически: приходится отрешаться от представления о любом разуме как о кальке с разума человеческого. И тем не менее придется попробовать — уж слишком тяжелым было для нашего народа полувековое господство Голема.
Функции Голема, определившиеся сразу после его появления на свет, делятся на две неравноценные группы: на функции внешние, или номинативные, и функции внутренние, биологические. К первым относится все то, ради чего Голем и был, собственно, рожден и выпестован: управление государством, учет и планирование, финансовые операции, внешние сношения, правопорядок, борьба с внешними и внутренними врагами, выплавка чугуна и стали, производство ползунков и сосок, торговля, снабжение, выращивание хлопка и капусты, кораблевождение и вообще все остальное. Ко вторым: питание (себя), защита (себя), воспроизводство (себя). Несомненно, что значительная часть интеллекта Голема задействована на отправление биологических функций — особенно в период роста. А растет Голем не тогда, когда это положено по возрасту, а тогда, когда не мешают.
Особо питательную среду для роста нашего Голема дали идеи великого экспериментатора и реконструктора, Отца народов.
Замечено, что вектор развития социума всегда направлен в сторону максимально возможного упрощения структуры при усложнении функций. Бюрократический аппарат, как мы видим, стремится к прямо противоположному. Поэтому насыщение информационного поля, появление в обществе новых сущностей угрожает стабильности, а в перспективе — самому существованию аппарата в том виде, в каком он был создан.
Именно в этой ситуации, ситуации "ножниц", аппарату были переданы (или захвачены им — что одинаково верно) функции, контроль над которыми всегда был прерогативой самого Пользователя, а именно — карательные. Пользователь видел в аппарате идеального исполнителя, а Голем в это время, играя на маленьких слабостях Пользователя — властолюбии, патологической трусости, неодолимом упрямстве, — получал неограниченные возможности для саморазвития. Имея уже монополию на информацию, следовательно, и возможность бесконтрольно манипулировать ею, Голем начал игру с Пользователем, поставляя ему тенденциозно подобранную и обработанную информацию с целью вызвать у Пользователя появление новых идей, идущих на благо Голему. Так, например, кадровый террор 1937–1938 годов, не имеющий — с человеческой точки зрения — никаких объяснений, был Голему жизненно необходим, так как таким образом информационные ячейки Голема освобождались от образованных, мыслящих, наконец, просто опытных людей, от людей, способных вести себя, вызывая тем самым сбои в мыслительном процессе Голема; освободившиеся ячейки заполнялись простыми исполнителями, к тому же запуганными до полной потери личности. Так Голем, сыграв на страхе и маниакальной подозрительности Пользователя, поднялся на следующую, очень важную ступень своего развития.
Что касается исполнения Големом своих номинативных функций, то очень показательным было его участие в осуществлении "большого скачка" 1930–1933 годов. Трудно сказать, насколько именно Голем повлиял на принятие самого решения о форсировании первой пятилетки — слишком уж противоречивая и лакунированная информация о том периоде, — но дальнейшие его действия прослеживаются вполне отчетливо. Голем был тогда еще очень молод и неопытен, это было первое крупное дело, порученное ему, и старался он изо всех сил, пользуясь, разумеется, единственным доступным ему методом — методом проб и ошибок.
Итак, Голем получил задачу: создать новую индустриальную инфраструктуру без привлечения иностранных капиталов, с минимальными финансовыми затратами, в кратчайшие, почти нереальные сроки. Неизвестно, подразумевал ли Пользователь, ставя задачу, какие-либо ограничения морального плана; мы подозреваем, что нет. Однако если даже и подразумевал, то введены они не были — Пользователь не умел обращаться с кибернетическим устройством. Мы знаем, что Голем решил эту задачу — пусть, главным образом, по формальным показателям (склонности Голема к формализации мы еще коснемся). Мы знаем, как именно это было сделано: создание сверхдешевой трудовой армии по образцу систем государственного рабства сатрапий древнего Востока, резкое снижение жизненного уровня, полное и окончательное установление в экономике внеэкономических методов регулирования. Мы знаем, чего это стоило обществу: уничтожение крестьянства как свободного класса и возврат к феодально-крепостническим отношениям в деревне, голод 1933 года, унесший миллионы жизней, резчайшее понижение "порога криминальности" ("Если стране нужны преступники — она их получит!") и чудовищное падение в цене человеческой жизни… Мы знаем, наконец, какие приобретения для себя сделал Голем, решая эту задачу.
Главным из приобретений — повторимся — было приобретение монополии на всю информацию. Получив возможность свободно и бесконтрольно манипулировать информацией и вступив в игру с Пользователем, Голем, с другой стороны, приложил большие усилия, чтобы обезопасить себя от постороннего вмешательства в эту игру. Присущее интеллекту Голема стремление упростить все общественные процессы до элементарных операций (влияние принципа "управленческого конвейера") — то есть буквально разложить интеграл на натуральные числа, — и физическая возможность сделать это постепенно привели к угнетению и искоренению всего, что могло сию минуту или в перспективе усложнить поступающую к Голему информацию — то есть к деинтеллектуализации общества.
Обратная сторона этого процесса — усиливающийся нажим на Пользователя, который, чувствуя постоянную незавершенность решенных задач, но не понимая действительной причины этого, все более переключается на чисто тактические, частные вопросы. Считая аппарат всего лишь рычагом, механизмом, послушным его воле и руке, он передает ему значительную часть своих функций. Аппарат же, органически не способный к выработке идей, начинает производить мифы. Первоначальный пакет идей многократно аберрирован, истолкован — каждый раз в соответствии с текущим мифом; информация, обрабатываемая аппаратом, также превращается в миф, и строительство новых общественных структур явственно приобретает черты мифологические. Существует уже как бы два общества, два самостоятельных и независимых друг от друга информационных поля: реальное, но почти лишенное информации о себе самом, и идеальное, существующее лишь в виде информационных блоков в памяти Голема. Как часть информационного поля Голем рассматривает и самого Пользователя.
Круг замыкается. Заказывающий музыку танцует под нее. Голем полностью превращается в самодовлеющую сущность. Паритет между ним и Пользователем сохраняется лишь номинативно, Пользователь функционирует в рамках, заданных Големом (хотя в этих рамках Голем поддерживает показное всемогущество Пользователя). Переломным моментом, на наш взгляд, было так называемое "мингрельское дело" 1951–1952 годов, — неудавшийся, подавленный бунт Пользователя против всесилия аппарата.
Голем вступил в пору зрелости, в пору гомеостаза.
Сколько в стране чиновников? Численность работников административно-хозяйственного аппарата названа: восемнадцать миллионов человек. Если мы приплюсуем к этому освобожденных и не освобожденных партийных, комсомольских, профсоюзных работников, органы внутренних дел и госбезопасности, управленцев средних и низших рангов непосредственно на предприятиях, армию, работников средств информации и пропаганды — то можем смело называть цифру пятьдесят миллионов, не боясь ошибиться в сторону преувеличения. Чем же они занимаются, помимо исполнения своих обязанноетей, с которыми, судя по положению дел в стране, не справляются? Перекладыванием бумажек? Отработкой строевого шага? Сложением и вычитанием натуральных чисел? Созданием шедевров абсурда, которым позавидовали бы Ионеско и Беккет? Да, и этим тоже. Но главным делом, делом, жизненно важным для аппарата, является только сохранение состояния гомеостаза. Структура, создавшаяся в начале пятидесятых годов, должна быть сохранена любой ценой. Это не проявление чьей-то злой воли, это инстинктивное стремление, это врожденное, имманентное свойство гигантского, всезнающего, но примитивного, негибкого интеллекта Голема; свойство обретшего свободу поступков исполинского арифмометра.
В чем специфика положения Голема на этапе гомеостаза? В том, во-первых, что он полностью подчинил себе Пользователя, превратив его в собственную подструктуру, которая по определению не способна выдавать идеи, хоть как-то подрывающие гомеостаз. Во-вторых, аппарат приобрел такую степень автономности, что может игнорировать реальное информационное поле, имея в своем полном распоряжении миф. Голем из образования подчиненного и зависимого стал доминирующей системой, полностью пренебрегающей не только общественными интересами, но и обществом как таковым.
Движение вперед, к которому постоянно призывает общество Пользователь (сам факт того, что к движению вперед приходится призывать, симптоматичен), с точки зрения Голема отнюдь не означает улучшения исполнения им своих номинативных функций, а только и исключительно: питание, безопасность, рост. Лучшее питание, более полная безопасность, ускоренный рост. Поэтому Голем стремится до предела упростить и формализовать свои номинативные функции, чтобы максимум внимания и сил сосредоточить на отправлении функций биологических. Таким образом, в период гомеостаза номинативные функции полностью подчинены биологическим и становятся производными от них — функциями второго порядка. Поэтому информация, обеспечивающая их исполнение, как правило, есть производная от мифа, поскольку информация истинная, полученная с реального информационного поля, для обработки своей потребовала бы отвлечения от основной, гомеостатической деятельности Голема дополнительных информационных ячеек, — что нежелательно. Здесь имеются в виду не только "бюрократические игры" в обычном понимании, но и вещи более серьезные и масштабные, начиная от бесчисленных "козлотуриад" и кончая многолетней деятельностью органов госбезопасности по пресечению анекдотчиков и составлению пухлых досье на хиппи, панков, рокеров, любителей фантастики и прочих столь же опасных для государства элементов — в то самое время, когда в мусульманских республиках полным ходом шла суфийская пропагандистская кампания, когда сложилась и стала неуязвимой система организованной преступности, когда в целых регионах была фактически ликвидирована Советская власть.
В этих условиях единственной объективной реальностью, с которой Голему приходилось считаться, был рост потока информации (вспомним — удвоение за десять лет) — процесс, от Голема не зависимый, но угрожающий сохранению гомеостаза. Реагировать на это Голем мог трояко: простым увеличением количества информационных ячеек, перераспределением удельного веса информации, относящейся к отправлению номинативных и биологических функций, и активным вмешательством в информационное поле с целью снижения его напряженности. На первых двух способах сохранения гомеостаза мы уже останавливались, о третьем поговорим подробнее.
Как мы уже говорили, Голем, несмотря на свою громадность и громоздкость, представляет собой интеллект весьма примитивный. В процессе самообучения, применяя единственно доступный ему метод проб и ошибок, он приобрел способность к синтезу, но отнюдь не к анализу; анализ он может производить в рамках своих номинативных функций наподобие того, как человеческий мозг, способный мгновенно производить сложнейшие расчеты по баллистике и отдавать соответствующие команды руке, бросающей камень в цель, должен отрешиться от всего и страшно громоздким способом делить сто пятьдесят пять на девятнадцать. В рамках же естественного процесса своего мышления Голем предпочитает прецеденты — сущности (до сущности еще надо докапываться, а это лишние усилия), — а поскольку память его хранит "отрицательных" прецедентов наверняка больше, чем "положительных" (естественное следствие применения метода проб и ошибок), то практически все новое, что возникает в информационном поле, классифицируется по формальным признакам и отождествляется с тем, что уже было, — и, как правило, отождествляется с "отрицательными" прецедентами. У Голема вырабатывается своеобразный условный рефлекс на новое, формируется отрицательная обратная связь. Вспомним судьбу фирмы "Факел" — а ведь это было робкое и единичное покушение на частные, мелкие, периферийные интересы Голема. Вспомним невыносимую, удушливую атмосферу в культуре, литературе, искусстве. Вспомним жесточайший информационный голод, воспитавший "самый читающий между строк народ". Все это и были действия Голема по сдерживанию информационного потока. Перекрывались каналы получения информации как между отдельными участками информационного поля, так и извне, из-за рубежа. Блокировались исследования, проекты и прочие потенциально возможные источники новой информации во всех областях, кроме тех, отставание в которых грозило отправлению биологических функций Голема (например, в военной науке и технике). Наконец, целенаправленно снижалась тропность информационного поля к поступающей информации путем как деинтеллектуализации общества, так и привития ему интересов, лежащих вне сферы информации: примитивные развлечения, алкоголь, доставание вещей и т. п. Так, например, перманентный дефицит в сфере потребления является неотъемлемой чертой нашей экономики не только потому, что выгоден производителю, но и потому, что позволяет утилизовать свободное время членов общества в максимальных объемах без приложения каких-либо дополнительных усилий.
Формирование Голема как интеллекта происходило по принципу формирования кибернетического "черного ящика"; никто не знал, как именно он работает — ни Пользователь, ни входящие в структуру Голема чиновники. Такое положение сохраняется до сих пор и даже усугубляется, поскольку Голем разросся, усложнился и научился хранить свои тайны. С уверенностью можно говорить только о некоторых параметрах его интеллекта. Так, например, Голем располагает всей когда-либо поступавшей в него информацией. Он не имеет какого-либо алгоритма действия; скорее, можно говорить о наличии у него алгоритма не-действия, алгоритма торможения, выработавшегося в процессе самообучения. Действия же Голема носят вероятностный характер и потому труднопредсказуемы. Поэтому же он сам не может предвидеть последствий своих действий и вынужден постоянно корректировать их, ориентируясь, разумеется, на свои фискальные интересы; на пользу или во вред обществу идут сами действия, Голема не интересует. Пользу или вред обществу Голем понимает абсолютно по-своему, поскольку рассматривает общество исключительно как среду обитания.
Именно поэтому смешно говорить об аморальности его "поведения". Само понятие морали абсолютно чуждо Голему, поскольку мораль формируется в обществе, в процессе взаимодействия равнозначимых интеллектов, а Голем — существо принципиально одинокое. Предъявлять Голему счет за десятки миллионов жизней, погубленных в процессе его самообучения, за беззакония и произвол, за нарушения прав и свобод человека, за техническую и социальную отсталость страны бессмысленно, поскольку эти категории лежат вне сферы его мыслительной деятельности — мыслительной деятельности существа, для которого человек является лишь информационной ячейкой, полужидким переключателем в информационных цепях, где в результате циркулирования разнообразнейшей информации зародился, развился и процветает его нечеловеческий разум.
Не исключено, что Голем вообще не имеет представления о том, что человек существует.
Вместе с тем нельзя рассматривать интеллект Голема как интеллект злонамеренный, сатанинский. Голем всего лишь стремится сохранить себя в непрерывно изменяющемся, а потому опасном и враждебном мире; только по этой причине он и вмешивается в дела общества в меру своих сил и способностей. Заботясь о собственном пропитании, он не имеет в виду каждого конкретного чиновника — он просто организует общественные процессы таким образом, чтобы существующие и вновь создаваемые информационные ячейки не пустовали. Наконец, заботясь о равновесии в обществе, Голем ныне стремится не к уничтожению возмущающих элементов, что неэкономно, а к их транквилизации, и в итоге — к постепенному истощению у общества стимулов и возможностей для саморазвития. Голем просто хочет жить.
Если целью партии, как представителя интересов трудящихся, является преобразование общества и построение новой общественно-экономической формации, то целью партийного аппарата, как одной из важнейших подструктур Голема, является сохранение статус-кво. На этом противоречии и основаны многие события 1956–1964 годов — времен административно-экономических реформ и контрреволюционного бюрократического переворота. Начатые достаточно решительно (хотя по сути своей и сводились к полумерам), реформы натолкнулись вскоре на мощное сопротивление; преодоление этого сопротивления путем роспуска отраслевых министерств и создания совнархозов на некоторое время выбило Голема из седла и заставило перейти к партизанским действиям: мелкому тотальному саботажу и манипулированию информацией. В результате реформы уходили в песок, Пользователь вынужден был отвлекаться на решение тактических вопросов, идеи его доводились до общества в искаженном виде — чего стоил один только посев кукурузы за Полярным кругом! Таким образом, выиграв без особого труда информационную дуэль у Пользователя, Голем добился провала реформ, недовольства в обществе и, решительно прореагировав на отчаянную попытку Пользователя подорвать единство аппарата — путем разделения парткомов на промышленные и сельскохозяйственные, — сменил Пользователя.
Результат нам хорошо известен.
Ситуация, в которой оказался Голем после апреля 1985 года, живо напомнила ему ситуацию второй половины пятидесятых. И, имея уже опыт не только игры с Пользователем, но и успешной борьбы с ним, Голем начал оказывать сопротивление преобразованиям, используя старый алгоритм. То, что сейчас прокручивается "хрущевский сценарий", сомнения не вызывает. Точно так же задачи, поставленные Пользователем, либо игнорируются, либо доводятся до абсурда — вспомним, например, антиалкогольную кампанию, не обеспеченную экономически, что привело к огромным прорехам в местных бюджетах, с одной стороны, а с другой — к росту недовольства населения и буквально взрыву преступности, дозволяемой общественной моралью (самогоноварение), — то есть возникновению ножниц между общественной моралью и правом, что подрывает авторитет Пользователя; анекдот же с созданием Общества трезвости можно привести как пример того, что Голем даже в пылу борьбы не упускает из виду свои интересы. Примеров вмешательства Голема в общественные процессы с единственной целью самосохранения можно привести множество. Все это вкупе получило название "механизм торможения". Думаем, что такое название звучит чересчур успокаивающе. Голем действует — и намерен действовать впредь, изматывая и Пользователя, и общество изощреннейшими "бюрократическими играми", чтобы потом нанести решающий контрудар.
На каком направлении его следует ожидать? Учитывая характер мышления Голема, можно с большой долей уверенности предсказать, что он попытается довести до конца начатый уже сценарий — то есть сменить Пользователя, посадив на место беспокойного Горбачева послушную себе марионетку.
Голем прилагает и будет прилагать все усилия, чтобы реформы, главным образом экономические, а из экономических — те, которые приводят в перспективе к реальной независимости предприятий, — не привели к результату — и тогда Пользователь, согласно правилам игры, потеряет возможность оставаться Пользователем. Можно представить и другие действия Голема в этом же направлении.
Есть признаки и того, что Голем пытается привести себя в состояние ультрастабильности — то есть приобрести возможность оперативно реагировать на изменение условий существования изменением собственной структуры (разумеется, не "худея" при этом). Если ему предоставить возможность научиться этому, то он станет практически неуязвимым. Предпринимаемые же сейчас фронтальные атаки на него служат, к сожалению, лишь обучению Голема (предпринимаемые под давлением Пользователя сокращения кадров, слияния министерств и т. п.). Поскольку эти мероприятия являются мероприятиями чисто аппаратными, то есть проводимыми аппаратом против самого же себя ("борьба нанайских мальчиков"), то, следовательно, они могут привести лишь к временному эффекту; позже внимание Пользователя будет привлечено к более острым проблемам (вероятно, созданным самим Големом), требующим административного реагирования, — и таким образом численность информационных ячеек будет восстановлена, а то и приумножена.
Бороться с Големом руками Голема так же бессмысленно, как вытаскивать себя из болота за волосы. И так же бессмысленно, как агитировать информационные ячейки выступить против диктатуры Голема; на наш взгляд, призывы "начать перестройку с себя" и "перестраиваться каждому на своем рабочем месте" являются не более чем современным шаманством и заклинанием духов; бунты же отдельных ячеек против системы и их попытки работать на пользу общества (сбои, с точки зрения Голема) происходили и происходят регулярно и блокируются вполне эффективно.
Главным оружием Голема в борьбе за выживание и в то же время единственным его уязвимым местом является монополия на информацию и вытекающий отсюда принцип криптократии, осуществляемый Големом на практике. Принцип этот заключается в том, что общество не должно знать, что именно стоит за тем или иным решением, принимаемым и проводимым в жизнь Големом; более того, этого не должен знать ни один отдельно взятый чиновник, который тоже является членом общества; все может знать только Голем. Это позволяет ему внедрять в общество, как в среду реализации, практически любые свои решения, предъявляя обществу лишь их "упаковку" и тем самым избегая сопротивления общества — стихийного или организованного. Примером провала принципа криптократии служит судьба проекта поворота северных рек; однако миллионы "поворотов" меньшего масштаба осуществлены и продолжают осуществляться — единственно из-за отсутствия у общества полной информации о тех или иных проектах, решениях, постановлениях. "Перекрыть кислород" Голему можно, только отняв у него монопольное право распоряжаться информацией. Сейчас — опять-таки под непрерывным давлением Пользователя — он ослабил хватку, но готов в любой момент сжать щупальца. Цензура сохранена, и печати, независимой от государства экономически, нет. Невозможно пока представить себе требование какой-либо общественной организации предоставить ей для ознакомления, скажем, всю документацию горисполкома за последний квартал. Наконец, штемпели "Для служебного пользования", "Секретно", "Совершенно секретно" ставятся на что попало просто на всякий случай. Обществу жизненно необходим действенный и чрезвычайно либеральный Закон об информации — главный внешний ограничитель действий Голема, то, чего у него сейчас нет совсем, — позволяющий обществу держать Голема под контролем и позволяющий Пользователю общаться с обществом напрямую, минуя Голема. Требуется гарантия защиты каждого отдельного человека от произвола аппарата — то есть независимый суд. Требуется, наконец, уничтожить диктатуру Голема в экономике — и здесь прямой контакт Пользователя с обществом необходим жизненно. Наконец, создание подлинно демократической системы выборов позволит обществу внедрять в систему Голема "бунтарей", способных на расшатывание ее изнутри. Вот тогда можно будет, не опасаясь контрудара, приступить к реальному свертыванию аппарата, к тому самому страшному, что убьет Голема. К сожалению, все шаги, предпринимаемые сегодня в этом направлении, компромиссны — а следовательно, у Голема остается возможность контригры.
Понимание того, что обществу у нас в стране противостоит не группа заговорщиков, не свора дураков и даже не паразитический класс, а нечеловеческий, всезнающий, абсолютно аморальный и в то же время тупой, лишенный аналитических и прогностических способностей интеллект, определяет направление дальнейших размышлений и действий. Не стоит очертя голову бросаться на очередные ветряные мельницы (услужливо подсовываемые тем же Големом) и искать врагов под кроватью. У общества общий враг. Лишенный дара предвидения, он не в силах понять, что продолжение его господства приведет к краху страны, в конечном итоге — к его собственному краху. Его нельзя приручить, его нельзя уговорить — его можно только уничтожить. Очень трудно, но можно. Пока еще не поздно.
Москва, 1987 г.