Книга: Сад бабочек
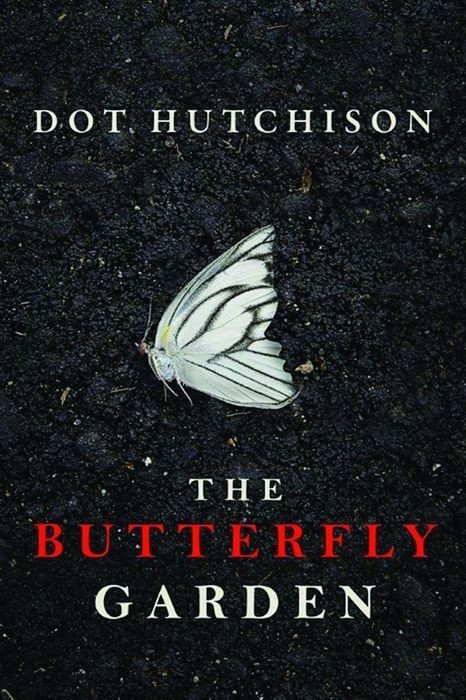
Сад бабочек
Маме и Дэбу
за то, что отвечали на вопрос и только потом вдумывались в его жуткий смысл.
И за все прочее.
Она не произнесла ни слова с той самой минуты, как ее привели сюда. На первый взгляд, в этом нет ничего удивительного, учитывая, через что ей пришлось пройти. Но теперь, глядя на нее сквозь зеркальное стекло, он понимает, что не стоит спешить с выводами. Девушка сидит ссутулившись на жестком металлическом стуле, подперев подбородок перевязанной рукой, а другой выводит бессмысленные узоры по стальной поверхности стола. Под полуприкрытыми глазами темнеют круги, черные немытые волосы собраны на затылке в небрежный пучок. Она измотана, это очевидно.
Но о психологической травме речи не идет.
Потягивая кофе, специальный агент ФБР Виктор Хановериан наблюдает за девушкой и дожидается возвращения своей группы. Или, по крайней мере, своего напарника. Третий член группы еще в больнице, пытается уточнить состояние остальных девушек и, если удастся, узнать их имена и снять отпечатки пальцев. Другие агенты и специалисты – в поместье. Сведений пока немного, однако и этого более чем достаточно: Виктор едва удерживается от того, чтобы позвонить домой и убедиться, что девочки в порядке. Но он лучше ладит с людьми, умеет найти к ним подход, особенно к детям, перенесшим психологическую травму. Поэтому разумнее будет остаться и побеседовать с потерпевшей.
По ее лицу и по одежде размазаны грязь и сажа. Вокруг носа и рта еще видны бледно-розовые следы от кислородной маски. Обе ладони и левое запястье забинтованы, под тонкой блузкой просвечивают бинты. Кроме этой блузки, в больнице кто-то дал ей зеленые медицинские брюки. Она дрожит, приподняв босые ноги над холодным полом, но еще ни разу не пожаловалась.
Виктор даже имени ее не знает.
Из всех, кого удалось спасти – или тех, кого спасать было поздно, – очень немногих он может назвать по имени. А эта девушка не говорила ни с кем, кроме других девушек. И даже тогда не проскользнуло ни одного имени, никаких сведений. Только… да уж, сложно назвать это словами утешения. «Вы или погибнете, или будете жить. Лучше расслабьтесь, и пусть врачи делают свое дело», – прозвучало не слишком обнадеживающе, но остальные девушки, похоже, прислушались к ней.
Она расправляет плечи, медленно вытягивает руки над головой и выгибается дугой. Микрофоны транслируют противный хруст позвонков. Потянувшись, девушка вновь опускается на стол, сложив ладони и прижавшись щекой к металлической поверхности. Она знает, что за зеркалом кто-то есть и отворачивается к стене. Однако теперь у Виктора есть возможность осмотреть контуры рисунка.
В больнице ему дали фотографию. Чуть выше лопатки виден лишь край пестрого узора. Бо́льшую часть рисунка разглядеть сложнее, но блузка недостаточно плотная, чтобы скрыть его полностью. Виктор вынимает из кармана фото и прикладывает его к стеклу, сравнивая снимок с тем, что видит сейчас на спине девушки. Казалось бы, ничего примечательного – не будь такого же рисунка у всех прочих девушек. Кроме одной. Расцветка и контуры разные, но суть одна.
– Как по-вашему, это его рук дело? – спрашивает кто-то из аналитиков, глядя в монитор. Одна из камер установлена в углу комнаты и направлена на лицо девушки. Глаза ее закрыты, дыхание ровное и глубокое.
– Надеюсь, скоро выясним.
Он предпочитает не строить догадок, особенно в тех случаях, когда известно еще слишком мало. А этот случай – один из немногих в его карьере, когда все оборачивалось таким кошмаром, что они и представить себе не могли. Виктор привык предполагать худшее. Если пропадает ребенок, то работаешь как проклятый, ищешь, но не рассчитываешь в конце концов обнаружить бедняжку живой. Ты, может, и надеешься. Но ждешь всегда худшего. Хановериан видел тела до того маленькие, что поневоле задумывался, существуют ли гробы таких размеров. Видел детей, изнасилованных в том возрасте, когда они и слова такого не знают. Но этот случай совершенно нетипичен, и Виктор сбит с толку.
Он даже не знает, сколько этой девушке лет. Врачи дают ей от шестнадцати до двадцати двух, но от этого не легче. Если ей шестнадцать, то рядом с ней должен находиться представитель от службы опеки. Но в больнице от них и так проходу нет. Их помощь может оказаться весьма полезной, только вот при этом они здорово путаются под ногами. Виктор пытается представить, что бы делали его дочери, будь они заперты в комнате, как эта девушка. Но ни одна из них не может похвастаться такой выдержкой. Значит ли это, что она старше? Или просто научилась сохранять непринужденный вид?
– От Эддисона и Рамирес еще что-нибудь есть? – спрашивает он, не сводя глаз с девушки.
– Эддисон возвращается. Рамирес еще в больнице, с родителями самой младшей девочки, – отвечает одна из женщин.
Ивонна старается не смотреть на девушку в комнате, даже на мониторы не взглянет. Она сегодня первый день после декрета, дома у нее маленькая дочь. Виктор думает, не отстранить ли ее от дела, но она, пожалуй, и сама скажет, если ей станет тяжело.
– Это с нее начался розыск?
– Она пропала всего несколько дней назад. Отправилась в торговый центр с друзьями и исчезла. Как говорят друзья, пошла в примерочную и не вернулась.
Что ж, одной меньше.
В больнице они сфотографировали всех девушек – даже тех, кто умер по дороге – и теперь проверяли их по базе данных. Но на это уйдет еще некоторое время. У тех, кто пострадал меньше остальных, агенты и врачи пытались узнать имена. Но они только оглядывались на эту девушку, которую явно считали своим лидером, и в большинстве своем молчали. Некоторые, казалось, что-то взвешивали, а потом принимались плакать и поднимали на уши медсестер.
Но с этой девушкой все было иначе. Когда с ней заговаривали, она просто отворачивалась. Можно подумать, ей нет никакого дела до тех, кто ее найдет.
И кое-кто из группы даже сомневается, что она жертва…
Виктор допивает кофе и со вздохом сминает стаканчик, бросает его в мусорное ведро возле двери. Он бы предпочел дождаться Рамирес. В подобных обстоятельствах при допросе всегда желательно присутствие женщины. Вот только дождется ли он ее? Неизвестно, сколько еще времени она пробудет с родителями, и не приедут ли в больницу другие, когда в СМИ опубликуют фото. Если опубликуют, поправляет сам себя Виктор и хмурится. Он терпеть этого не может. Терпеть не может, когда фотографии жертв появляются на экранах и в газетах – и не дают им забыть того, что с ними случилось. По крайней мере, можно подождать до тех пор, пока не придут данные пропавших девушек.
У него за спиной распахивается дверь и громко хлопает. Комната звуконепроницаема, но стекло вибрирует, и девушка, быстро выпрямившись, смотрит на зеркало. И на тех, кто за ним стоит.
Виктор не оборачивается. Никто не хлопает дверьми так, как Брэндон Эддисон.
– Какие новости?
– Сопоставили несколько последних заявлений о пропаже, родители едут. Пока что все с Восточного побережья.
Виктор убирает фотографию со стекла и прячет обратно в карман.
– А насчет нашей подопечной?
– Некоторые называли ее Майей, после того как ее забрали. Фамилии не слышали.
– Имя настоящее?
Эддисон фыркает.
– Сомневаюсь, – он пытается застегнуть куртку, надетую поверх футболки с принтом «Редскинз»[1]. Когда оперативная группа обнаружила выживших, у Виктора и его людей был выходной, и их вызывали в спешке. Зная повадки Эддисона, Виктор рад, что на футболке нет голых женщин. – Мы отправили группу обыскать дом. Может, ублюдок сохранил что-нибудь из личных вещей…
– Хотя мы оба понимаем, что он посягнул на самое личное, что у них было.
Эддисону, вероятно, вспомнилось увиденное в поместье. Он не спорит.
– Почему она? – спрашивает Брэндон. – Рамирес говорит, там были и другие, кто в состоянии говорить. Они напуганы, и до них, наверно, легче достучаться. А с этой, похоже, пойдет не так гладко.
– Остальные смотрят на нее. Я хочу знать почему. Им всем не терпится попасть домой, так почему же они смотрят на нее и отказываются отвечать на вопросы?
– Думаешь, она как-то причастна к этому?
– Это нам и предстоит выяснить, – взяв бутылку воды со стойки, Виктор делает глубокий вдох. – Ладно. Давай поговорим с Майей.
Они входят; девушка устраивается поудобнее на стуле, сплетает забинтованные пальцы на животе. Ее поза, вопреки ожиданиям, ничем не выдает напряжения. Судя по хмурому взгляду, Эддисон тоже озадачен. Она оглядывает обоих, очень внимательно, и невозможно прочесть по ее лицу, что она при этом думает.
– Спасибо, что согласились пойти с нами, – произносит Виктор, не упомянув, что особого выбора у нее и не было. – Это специальный агент Брэндон Эддисон, а я – руководящий специальный агент Виктор Хановериан.
Уголки ее губ чуть приподнимаются. Трудно назвать это улыбкой.
– Специальный агент Виктор Хановериан, – повторяет она хриплым от дыма голосом. – С ходу и не выговоришь.
– Зовите меня Виктором, если вам удобнее.
– Мне без разницы. Но все равно спасибо.
Виктор отвинчивает крышку и протягивает ей бутылку, а сам при этом обдумывает манеру общения. Она явно не из пугливых и довольно спокойно воспринимает все произошедшее.
– Как правило, на этом знакомство не заканчивается.
– Добавите пикантных подробностей? Вы любите плести корзинки и плаваете на длинные дистанции, а Эддисон щеголяет по улицам на каблуках и в юбке?
Брэндон бьет кулаком по столу и повышает голос:
– Ваше имя?
– Вы не очень-то учтивы.
Виктор закусывает губу и с трудом сдерживает улыбку. Вряд ли это поможет делу – и уж точно не поднимет настроение Эддисону, – но удержаться трудно.
– Не могли бы вы представиться?
– Пожалуй, нет. Не думаю, что мне бы этого хотелось.
– Некоторые зовут вас Майей.
– Так зачем же спрашивать?
Эддисон с шумом втягивает воздух, но Виктор не обращает внимания.
– Нам хотелось бы знать, кто вы и как здесь оказались. Мы помогли бы вам вернуться домой.
– А что, если я не нуждаюсь в вашей помощи?
– Тогда странно, почему вы не отправились домой раньше.
В этой полуулыбке и чуть приподнятой брови можно увидеть одобрение. Она довольно красива. Бронзовая кожа и светло-карие, почти янтарные глаза. Но с ней не все так просто. Ее улыбку придется заслужить.
– Думаю, мы оба знаем ответ. Главное, что я уже не там, верно? А домой могу вернуться и отсюда.
– А где ваш дом?
– Даже не знаю, существует ли он теперь.
– Мы тут не в игры играем, – ворчит Эддисон.
Майя мерит его холодным взглядом.
– Нет. Конечно же, нет. Погибли люди, столько жизней поломано… И уверена, вам пришлось оторваться от важного матча.
Эддисон краснеет и вздергивает повыше молнию куртки.
– Не похоже, что вы нервничаете, – замечает Виктор.
Она пожимает плечами и делает глоток, осторожно обхватив бутылку забинтованными руками.
– А должна?
– Людям, как правило, не по себе от разговоров с ФБР.
– Не вижу особой разницы с разговорами с… – она прикусывает рассеченную нижнюю губу.
– С кем? – мягко уточняет Виктор.
– С ним, – отвечает она. – С Садовником.
– Человек, который удерживал вас, вы говорили с его садовником?
Майя качает головой.
– Он был Садовником.
* * *
Только не думайте, что я называла его так из страха или почитания, или из ложного чувства приличия. И вообще не я его так назвала. Это имя, как и многое другое, появилось от нашего незнания. Если мы чего-то не знали, то просто додумывали или постепенно теряли к этому интерес. Думаю, это какая-то форма прагматизма. Люди нежные и отзывчивые, которые отчаянно нуждались в одобрении других, становились жертвами стокгольмского синдрома[2]. А остальные склонялись к прагматизму. Я насмотрелась и на тех, и на других, поэтому стою ближе к прагматикам.
Я услышала его имя в первый же день, как попала туда.
Когда я пришла в себя, голова раскалывалась как с самого страшного похмелья, какое мне только доводилось испытывать. Поначалу я даже глаза не могла открыть. Каждый вдох отдавался болью в черепе, не говоря уже о движении. Должно быть, я застонала, поскольку почувствовала вдруг на лице мокрую тряпку. И женский голос заверил меня, что это просто вода.
Не знаю, что меня встревожило больше: тот факт, что она, очевидно, проделывала это не в первый раз, или то, что это вообще была она. Среди тех, кто меня похитил, не было женщины, это я знала точно.
Чья-то рука скользнула мне под шею и осторожно приподняла. Затем к моим губам поднесли стакан.
– Просто вода, можешь мне поверить, – повторил голос.
Я глотнула. Меня не особо волновало, была ли это «просто вода» или что-то еще.
– Сможешь проглотить таблетку?
– Да, – прошептала я, и от одного этого звука голову вновь пронзила боль.
– Тогда открой рот.
Я послушалась; она положила мне на язык две таблетки и вновь поднесла стакан. Я покорно глотнула, и она вновь уложила меня на прохладную простыню. Я постаралась сдержать рвотный позыв. Потом она довольно долго молчала. Когда у меня под веками перестали плясать цветные пятна, я начала понемногу шевелиться. Тогда она сняла тряпку с моего лица и заслонила мне глаза от светильника, чтобы я проморгалась.
– Ты проделываешь это не впервые, – просипела я.
Женщина протянула мне стакан воды.
Она сидела возле кровати, ссутулившись, но и так нетрудно было заметить, какая она высокая. Высокая и жилистая. У нее были длинные ноги и крепкие мускулы, как у амазонки. А может, и львицы, потому что двигалась она мягко, как кошка. Каштановые волосы собраны в причудливую прическу и не скрывали строгих черт лица, глаза темно-карие с золотыми вкраплениями. И на ней было черное шелковое платье, застегнутое у самого горла.
Кажется, она приняла мои слова с некоторым облегчением. По-моему, лучше уж так, чем биться в истерике, а уж этим она, наверное, была сыта по горло.
– Можешь звать меня Лионеттой, – сказала она, когда я насмотрелась вдоволь и вновь переключилась на воду. – Но не нужно называть своего имени, мне все равно нельзя произносить его. Лучше забудь о нем, если сможешь.
– Где мы?
– В Саду.
– В Саду?
Она пожала плечами, и даже в этом мимолетном движении было что-то изящное, грациозное.
– Можно называть его как угодно. Хочешь взглянуть?
– И ты не знаешь, как отсюда выбраться?
Она лишь взглянула на меня.
Что ж, ладно. Я села, свесив ноги с кровати и уперев кулаки в матрас, и только тогда обратила внимание, что на мне ничего нет.
– А одежда?
– Вот, – Лионетта протянула мне обрезок черного шелка.
Это было облегающее платье. Оно доходило до колен и застегивалось вокруг шеи, и у него был вырез на спине. Глубокий вырез. Будь у меня ямочки над ягодицами, это не укрылось бы от Лионетты. Она помогла мне одеться и легонько подтолкнула к двери.
Комната была довольно скромная: лишь кровать и маленький унитаз с раковиной в углу. В другом углу помещался своего рода открытый душ. Стены были выполнены из толстого стекла с проемом вместо двери. С обеих сторон по стеклу тянулись полосы.
Лионетта заметила, как я смотрю на эти полосы, и нахмурилась.
– Это перегородки. Они опускаются, чтобы мы никуда не выходили и нас никто не видел, – пояснила она.
– Часто?
– Иногда.
В обе стороны от дверного проема тянулся узкий коридор. Правда, слева он был довольно короткий и дальше поворачивал. А прямо напротив был еще проход, с такими же линиями, как и на стеклах. За ним располагалась пещера, сырая и прохладная. В темноте была видна арка, и оттуда тянуло свежим воздухом. И перед самым выходом журчал и пенился водопад, и свет поблескивал сквозь льющуюся воду. Лионетта провела меня за водяной завесой в сад, до того красивый, что в глазах начинало рябить. Он утопал в зелени; посреди деревьев пестрели цветы всех мыслимых оттенков, и среди них тучами кружили бабочки. Над нами высилась рукотворная скала; на ее плоской вершине тоже росли деревья, и те, что росли на самом краю, едва не касались верхушкам стеклянной крыши, парящей на непостижимой высоте. Сквозь листья были видны черные стены, слишком высокие, чтобы заглянуть за них, и небольшие просветы, увитые виноградными лозами. Я решила, что там есть проходы в коридоры, подобные тому, из которого мы вышли.
Сад был просто огромным. Он поражал своими размерами, и даже буйство красок не сразу бросалось в глаза. От водопада питался тонкий ручей, впадавший в небольшой пруд с лилиями, и оттуда к дверным проемам расходились белые песчаные тропы.
Небо над стеклянной крышей было окрашено в темно-лиловый, с прожилками розового и фиолетового. Значит, был вечер. Когда меня похитили, еще не стемнело, но я сомневалась, что это произошло в тот же день. Я медленно повернулась, пытаясь охватить все это, но для меня это оказалось слишком. Я не видела и половины того, что там было, а мой мозг не воспринимал и половины того, что я видела.
– Что за черт?
Лионетта рассмеялась, довольно громко. Но смех резко оборвался, словно она испугалась, что кто-то ее услышит.
– Мы зовем его Садовником, – произнесла она сухо. – Подходящее имя, правда?
– Что это за место?
– Добро пожаловать в Сад Бабочек.
Я обернулась, чтобы переспросить, но потом сама все увидела.
* * *
Майя делает большой глоток и перекатывает бутылку между ладонями. Не похоже, что она собирается продолжать. Виктор негромко постукивает по столу, чтобы привлечь ее внимание.
– Увидели что? – напоминает он.
Она не отвечает.
Виктор вынимает из кармана фотографию и кладет на стол перед ней.
– Это? – спрашивает он.
– Знаете, если будете задавать мне вопросы, на которые уже знаете ответ, вряд ли я проникнусь к вам доверием. – Она сидит, расслабленная, в уже привычной позе, откинувшись на спинку стула.
– Мы – агенты ФБР. Люди привыкли считать нас хорошими парнями.
– А разве Гитлер считал себя плохим?
Эддисон резко подается вперед.
– Хотите сказать, ФБР и Гитлер – это одно и то же?
– Хочу сказать, что все зависит от точки зрения и моральных ценностей.
Когда им позвонили, Рамирес отправилась прямиком в больницу, а Виктор поехал сюда, чтобы координировать потоки поступающей информации. Эддисону выпало осмотреть поместье. Он всегда бурно реагирует на подобные зрелища. С этими мыслями Виктор вновь переводит взгляд на девушку.
– Это больно?
– Ужасно, – отвечает она, обводя пальцем линии на фото.
– В больнице сказали, что ей несколько лет.
– Звучит как вопрос.
– Утверждение, которое нуждается в подтверждении, – поясняет Виктор и в этот раз не сдерживает улыбки.
Эддисон бросает на него хмурый взгляд.
– О врачах можно многое сказать, но и совсем уж бестолковыми их не назовешь.
– И что это, черт возьми, значит? – ворчит Эддисон.
– Да, ей несколько лет.
Эта модель поведения ему знакома – вспоминаются продолжительные разговоры с дочерьми об оценках, экзаменах, друзьях. Он хранит молчание – минуту, потом еще одну. Смотрит, как Майя осторожно переворачивает фотографию. У психологов, наверное, нашлось бы что сказать по этому поводу.
– Он кого-то нанял для этого?
– Единственного, кому он может доверять безоговорочно.
– Таланта ему не занимать.
– Вик…
Виктор, не глядя, толкает ножку стула, на котором сидит Эддисон. Тот вздрагивает. Майя приподнимает уголки губ. Это не совсем улыбка, даже отдаленно ее не напоминает, но хотя бы намек на нее.
Она приподнимает краешек бинта, намотанного на пальцы.
– От иголок такой мерзкий звук, вам не кажется? Особенно если все решили за тебя. Но в том-то и дело, что выбор был, и была альтернатива.
– Смерть, – догадывается Виктор.
– Хуже.
– Хуже, чем смерть?
Эддисон бледнеет. Она замечает это, но вместо того, чтобы поддеть его, кивает с серьезным видом.
– Он знает. Но вы там не были, верно? На бумаге все совсем нет так, как вживую.
– Что может быть хуже смерти, Майя?
Она поддевает и сковыривает свежую корку на указательном пальце. Пятно крови просачивается сквозь бинт.
– Просто удивительно, до чего легко купить аппаратуру для татуирования.
* * *
В первую неделю мне каждый вечер что-то добавляли в еду, чтобы я стала послушной. Лионетта все эти дни была рядом, но остальные девушки – а их там было немало – сторонились меня. Когда я спросила об этом за ужином, Лионетта сказала, что это нормально.
– Если кто-то плачет, это нервирует, – объяснила она с набитым ртом. Что бы я ни думала об этом загадочном садовнике, еда у него была превосходная. – Пока новенькая не освоится, все держатся от нее подальше.
– Все, кроме тебя.
– Кто-то должен этим заниматься. И я могу успокоить, если придется.
– Должно быть, очень мило с моей стороны, что я так и не заплакала.
– Вроде того, – Лионетта наколола на вилку кусок жареной курицы. – Ты что, вообще не плакала?
– А что это изменило бы?
– То ли мы подружимся, то ли я тебя возненавижу.
– Только дай знать, я постараюсь вести себя соответствующе.
Она улыбнулась во весь рот.
– Продолжай в том же духе, только не при нем.
– Почему я непременно должна спать ночью?
– Мера предосторожности. Над нами все-таки утес.
И тогда я задумалась, сколько же девушек бросились с этой скалы, пока он не принял меры предосторожности. Я попыталась представить высоту этого рукотворного монстра. Метров восемь или, может, десять? Достаточно ли этого, чтобы убить?
Я привыкла просыпаться в этой пустой комнате, когда наркотик прекращал свое действие. Лионетта сидела на стуле возле кровати. Но в конце первой недели я проснулась, лежа на животе, на жесткой кушетке. В воздухе стоял едкий запах антисептика. Комната была больше моей, с металлическими стенками вместо стеклянных.
И там был кто-то еще.
Поначалу я ничего не видела – веки были еще тяжелыми после снотворного. Однако я чувствовала, что рядом кто-то есть. Я постаралась дышать спокойнее и напрягла слух. Но чья-то ладонь легла мне на голую икру.
– Я знаю, что ты проснулась.
Это был мужской голос, не очень громкий, со среднеатлантическим выговором. Приятный голос. Ладонь скользнула выше по ноге, по ягодицам и вдоль спины. И хотя в комнате было тепло, от прикосновения у меня мурашки побежали по коже.
– Постарайся не шевелиться, иначе нам обоим придется пожалеть об этом.
Я повернулась было на голос, но он положил ладонь мне на затылок.
– Мне не хотелось бы тебя связывать, это может исказить контур рисунка. Если ты чувствуешь, что не сможешь лежать неподвижно, у меня есть средство, которое обеспечит это. Но, повторяю, мне бы этого не хотелось. Ты сможешь лежать неподвижно?
– Для чего?
Он вложил мне в руку глянцевый листок.
Я попыталась открыть глаза, но из-за снотворного это давалось тяжелее обычного.
– Если вы пока не собираетесь приступать, можно мне сесть?
Он провел ладонью по моим волосам, легонько царапнув кожу.
– Можно, – в голосе его звучало удивление.
Тем не менее он помог мне сесть. Я протерла глаза и взглянула на рисунок. При этом он продолжал гладить мои волосы. Мне вспомнилась Лионетта, и другие девушки, которых я видела только издали. И я бы не сказала, что была сильно удивлена.
Напугана, да. Но не удивлена.
Он стоял позади меня. От него приятно пахло одеколоном. Аромат не такой выраженный, но, наверное, дорогой. Передо мной лежала аппаратура для татуировки, на подносе стояли в ряд чернила.
– Сегодня мы только начнем.
– Для чего вы это делаете?
– Потому что в саду нужны Бабочки.
– Может, не стоит воспринимать это так буквально?
Это его рассмешило. У него был чистый, непринужденный смех, и ему нравилось смеяться. Только повод возникал не так часто, как ему хотелось бы, и потому он старался не упускать случая. Со временем изучаешь человека, и это было главное, что я узнала о нем. Ему хотелось в полной мере ощутить радость жизни.
– Неудивительно, что ты понравилась моей Лионетте. У тебя такой же крутой нрав.
На это мне нечего было сказать. Ничего такого, что стоило бы говорить.
Он ладонью расправил мне волосы, так что они рассыпались по плечам, и взял расческу. И расчесывал их, пока не осталось ни одной спутанной пряди, и даже после этого не останавливался. Думаю, это доставляло ему такое же удовольствие, как и все прочее. Приятно расчесывать чьи-то волосы, пользоваться этой привилегией. Потом он собрал мои волосы в хвост, стянул резинкой и скрутил в тугой пучок, закрепив его шпильками.
– Теперь ляг на живот, пожалуйста.
Я подчинилась. Когда он отступил на шаг, я заметила краем глаза брюки цвета хаки и рубашку-поло. Он повернул мне голову, так что я смотрела теперь в другую сторону. Я прижалась щекой к черной коже и вытянула руки вдоль туловища. Не очень удобно так лежать, но и особого дискомфорта я не ощущала. Я напряглась, чтобы не подскочить и не вздрогнуть, и он легонько шлепнул меня.
– Расслабься, – посоветовал он. – Иначе будет больнее, и дольше будет заживать.
Я сделала глубокий вдох и постаралась расслабиться. Я сжимала и разжимала кулаки, и постепенно напряжение в мышцах спины спадало. Этому нас научила София, в основном чтобы уберечь Уитни от периодических срывов, и…
* * *
– София? Уитни? Это кто-то из девушек? – перебивает Эддисон.
– Да, это девушки. Хотя нет, София скорее женщина, – она делает еще глоток и смотрит, много ли осталось в бутылке. – Уитни, в общем-то, тоже. Получается, это женщины.
– Как они выглядят? Мы можем сопоставить их имена…
– Они не из Сада, – сложно истолковать ее взгляд, она смотрит в равной степени насмешливо и с сожалением. – У меня была жизнь и прежде. Я же не в Саду родилась. Во всяком случае, не в том Саду.
Виктор переворачивает фотографию, пытается прикинуть, сколько времени это могло занять. Такие масштабы, такая детализация…
– В первый день он только начал, – говорит Майя, проследив за его взглядом. – Сначала нанес внешние линии. А потом в течение двух недель занимался расцветкой и узором. А когда все было готово, в саду появилась еще одна Бабочка. Он, как Бог, создавал свой собственный маленький мир.
– Расскажи нам о Софии и Уитни, – просит Виктор и решает на время оставить татуировку. Он догадывается, что происходило после, но готов даже признаться в собственной трусости, лишь бы не слушать об этом сейчас.
– Я жила с ними.
Эддисон достает блокнот из кармана.
– Где?
– В квартире.
– Нужно…
– Расскажи нам о квартире, – перебивает Виктор.
– Вик, – возражает Эддисон. – Ничего она нам не расскажет.
– Расскажет, – отвечает Виктор. – Когда будет готова.
Майя молча наблюдает за ними, гоняя бутылку по столу, как хоккейную шайбу.
– Расскажи нам о квартире, – повторяет Виктор.
* * *
Нас было восемь человек. Мы все работали в одном ресторане и жили в гигантской студии. Все в одной комнате, и кровати с тумбочками расставлены как в казарме. У каждой кровати сбоку стояла стойка для вешалок, а с другой стороны можно было закрыться шторкой. Ни намека на личное пространство, но никто не жаловался. В обычных условиях арендная плата оказалась бы непосильной. Но район был паршивый, а в квартире нас жило столько, что свою часть можно было заработать за одну или две смены, а остаток месяца транжирить деньги.
Некоторые так и поступали.
Компания была довольно странная: студентки, бывшая проститутка, разные оторвы… Кому-то хотелось свободы и жить так, как им хочется; другие хотели, чтобы их оставили в покое. Единственное, что нас объединяло, – работа в ресторане и эта квартира.
И знаете… Это была райская жизнь.
Конечно, нам случалось и ссориться, хватало поводов для ругани, но, как правило, все быстро забывалось. Тебе всегда могли одолжить платье, пару туфель или книгу. Да, мы работали, кто-то еще и занятия посещал, но в свободное время мы были при деньгах, – и имели в своем распоряжении весь город. Даже мне, росшей без особого контроля, эта свобода кружила голову.
В холодильнике было полно закусок, выпивки и воды, а в шкафчиках всегда лежали презервативы и аспирин. Иногда в холодильник попадали остатки из ресторана, и всякий раз, когда к Софии шли с проверкой представители социальных служб, мы успевали накупить продуктов и спрятать выпивку и презервативы. Если мы и ели дома, то просто заказывали что-нибудь. Вся наша работа строилась вокруг еды, и на нашу кухню мы старались лишний раз не заглядывать.
Да, и этот пьяный тип… Мы не знали, жил он в том же доме или нет, но каждый вечер видели его на улице. Он пил, а потом всю ночь поджидал перед дверью. Перед нашей дверью. Ко всему прочему, он был извращенец. Поэтому, если мы возвращались поздно ночью – а это происходило практически всегда, – то поднимались на крышу, а потом спускались на один этаж по пожарной лестнице и домой входили через окно. Наш домовладелец поставил туда специальный замок, потому что София жалела этого пьяного извращенца и не хотела сдавать его копам. Учитывая ее ситуацию, мы не настаивали. В прошлом проститутка, она пыталась покончить с наркотиками и вернуть себе детей.
Они стали первыми моими друзьями. Думаю, мне и раньше попадались люди вроде них, но в этот раз было иначе. Обычно я сторонилась людей, если могла. Но с девочками я работала, и жила с ними, и это было как-то… иначе.
София ко всем питала материнскую любовь. К тому моменту как мы познакомились, она продержалась больше года, и это после двух лет безуспешных попыток. У нее были две прекрасные дочки, они вместе жили в приемной семье. И более того, приемные родители всецело поддерживали Софию в ее стремлении вернуть девочек. Они разрешали им видеться в любое время. И всякий раз, когда ее цепляло и она готова была сорваться, мы сажали ее в такси, везли в девочкам и напоминали, ради чего она так старалась.
Еще с нами жила Хоуп, и Джессика вечно была у нее на побегушках. Хоуп была полна энергии, и ее переполняли всякие идеи, а Джессика соглашалась на все, что ей говорили. С Хоуп жизнь в квартире была полна веселья и секса. И если для Джессики секс был лишь способом самоутвердиться, то Хоуп по крайней мере научила ее получать от этого удовольствие. Когда я подселилась, им было по шестнадцать и семнадцать, совсем еще дети.
Эмбер тоже было семнадцать, но, в отличие от тех двоих, у нее было что-то вроде плана. Она была эмансипированной особой, и это позволило ей порвать с системой опеки. Эмбер получила аттестат средней школы и посещала курсы в двухгодичном колледже, пока не определилась со специализацией. Катрин была на пару лет старше и никогда не рассказывала о своей жизни до заселения в квартиру. Она вообще мало чего рассказывала. Иногда нам удавалось куда-нибудь вытащить ее, но самостоятельно она ничего не предпринимала. Из нас восьмерых если кто и пытался сбежать от кого-то или чего-то, то это явно была Катрин. Но мы не задавали вопросов. В квартире утвердилось правило: твоей личной историей никто не интересовался. Мы все тянули за собой багаж прошлого.
Про Уитни я уже говорила, у нее случались периодические срывы. Она готовилась стать магистром по психологии, и сама при этом была жутко дерганой. Не то чтобы психованной, просто «не умела справляться со стрессом». Во время каникул все было здорово. Но в течение семестра нам по очереди приходилось ее успокаивать. Ноэми тоже была студенткой, по самой бесполезной специальности, какую только можно придумать. Английский язык. Серьезно. По-моему, она училась в колледже только из-за стипендии. И тогда у нее была причина, чтобы много читать. К счастью, она всегда делилась книгами.
Ноэми первой заговорила о квартире, во вторую неделю моей работы в ресторане. Я жила в городе третью неделю, по-прежнему обитала в хостеле и каждый день таскала на работу все свои вещи. Мы переодевались в крошечной комнате для персонала. Я оставляла свою форму в ресторане, и если б меня обокрали, то я, по крайней мере, могла бы работать дальше. Остальные переодевались, потому что не хотели щеголять по городу в длинном платье и на каблуках.
– Что ж… тебе, вроде бы, можно доверять, так? – начала Ноэми без лишних предисловий. – В смысле, ты не обсчитывала помощников или хозяек, не копалась ни в чьих вещах. И не похоже, чтобы ты что-то употребляла.
– Ну, и что дальше?
Я застегнула лифчик и поправила груди. Жизнь в хостеле в определенной мере раскрепощала. И потом еще работа в женском коллективе, и всем приходилось переодеваться в этой тесной каморке…
– Ребекка говорит, что ты живешь чуть ли не на улице. Ты, наверное, знаешь, что мы живем в одной квартире? Так вот, есть одна свободная кровать.
– Она серьезно, – добавила Уитни и распустила золотистые волосы. – Есть кровать.
– И шкафчик, – хихикнула Хоуп.
– Мы тут поговорили и решили, что ты, может, захочешь подселиться… Платишь три сотни в месяц, включая коммуналку.
Я провела в городе не так много времени, но понимала, что это бред.
– Три сотни? Что за сарай вы снимаете?
– Аренда стоит две тысячи, – поправила София. – Если поделить на всех, получается три сотни. Остальное идет на коммунальные платежи.
Это было ближе к истине. Разве только…
– И сколько вас там живет?
– С тобой будет восемь.
В сравнении с хостелом разница получалась не особая.
– Давайте я останусь сегодня у вас, осмотрюсь и завтра приму решение.
– Отлично! – Хоуп протянула мне джинсовую юбку, такую, что едва хватало прикрыть трусики.
– Это не моя.
– Знаю. Но думаю, тебе будет клево.
Она уже влезала в мои мешковатые брюки, так что я не стала спорить и натянула юбку. Лишний раз в ней наклоняться не стоило. У Хоуп были округлые, даже немного пышные формы, поэтому я приспустила юбку на бедра, чтобы добавить длины.
Хозяин просиял, когда увидел, что я ухожу вместе с остальными.
– Так ты теперь жить с ним, так? Ты уверенный?
– Джулиан, гости давно разошлись.
Он отбросил итальянский акцент и хлопнул меня по плечу.
– Они славные. Я рад, что ты теперь с ними.
Его словам я готова была поверить даже до того, как увидела квартиру. По первому впечатлению, Джулиан был человеком жестким, но справедливым. И я убедилась в этом, когда явилась на собеседование, со всеми вещами, и он предложил мне пробную неделю. Джулиан прикидывался урожденным итальянцем: посетители почему-то думали, что еда от этого становится лучше. При этом он был крупным и довольно толстым, с редеющими рыжими волосами, и усы полностью скрывали верхнюю губу. Он считал, что работа говорит о человеке больше, чем слова, и судил людей соответствующе. Под конец испытательного срока Джулиан просто протянул мне план на следующую неделю, и там стояло мое имя.
Мы ушли в три часа утра. Я старалась запомнить дорогу, улицы и поезда, и, когда мы добрались до квартала, не ощущала особого беспокойства. Ноги изнывали после беготни на высоких каблуках. Преодолев немало лестничных пролетов, мы поднялись на последний этаж и выбрались на крышу. Там все было заставлено садовой мебелью и крытыми грилями, а в одном углу было что-то вроде грядок с марихуаной. Далее мы спустились на один пролет по пожарной лестнице и пошли вдоль длинной вереницы окон. Пока София возилась с замком, Хоуп хихикала, рассказывая мне про извращенца у дверей. В хостеле таких было несколько.
В квартире было светло и очень просторно. У стен по двум сторонам стояли по четыре кровати, а в центре несколько диванов были расставлены квадратом. Островная тумба отделяла кухню от жилой зоны. И в ванной был просторный душ с десятком леек, направленных в разные стороны.
– Мы не интересовались, кто жил здесь до нас, – тактично объяснила Ноэми. – Это просто душ, оргий мы там не устраиваем.
– И убеждаете в этом рабочих из сервисной службы?
– Нет, пусть пофантазируют.
Я невольно улыбнулась. Мне нравилось с ними работать. На кухне постоянно шутили или переругивались, жаловались на придирчивых клиентов или флиртовали с поварами и мойщиками. Я уж и забыла, когда в последний раз столько улыбалась.
Они побросали сумки и переоделись, в пижамы или кому что удобнее. Но спать никто не собирался. Уитни достала учебник по психологии, а Эмбер между тем расставила двадцать стопок и разлила по ним текилу. Я потянулась за одной, но Ноэми вручила мне стакан водки.
– Текила для занятий.
Я устроилась на одном из диванов и следила, как Катрин проверяет Эмбер. Каждый вопрос стоил одну стопку. Если Эмбер ошибалась, то выпивала, если отвечала верно – выпивал кто-нибудь из нас по ее выбору. Первую стопку она протянула мне. На вкус смесь водки и текилы была омерзительной.
Мы просидели до самого утра. Ноэми, Эмбер и Уитни отправились на занятия, а мы наконец отключились. После обеда, когда мы проснулись, я поставила свою подпись в договоре аренды и впервые внесла оплату, с чаевых за две ночи. Теперь у меня был дом, примерно так.
* * *
– Вы сказали, что жили третью неделю в городе? – спрашивает Виктор, перебирая в уме возможные города. В речи Майи не слышно характерных признаков, по которым удалось бы определить ее происхождение. Он почти уверен, что она делает это намеренно.
– Верно.
– Где вы жили раньше?
Вместо ответа она допивает воду. Потом аккуратно ставит бутылку на угол стола и прислоняется к спинке. Медленно потирает плечи забинтованными руками.
Виктор встает и снимает пиджак. Потом обходит вокруг стола и укрывает ей плечи. Майя напрягается, но Виктор делает все аккуратно, чтобы не прикоснуться к ней. Он возвращается к своему месту, и напряжение проходит. Она продевает руки в рукава. Пиджак ей велик и собирается в складки, но ей, похоже, вполне комфортно.
Нью-Йорк, предполагает Виктор. Большая квартира-студия, рестораны открываются едва ли не под вечер. К тому же она говорит «поезда» вместо «метро» или «подземки», и это неспроста. Он отмечает про себя, что нужно связаться с нью-йоркским отделом: может, у них что-нибудь есть на нее.
– Вы где-нибудь учились?
– Нет. Только работала.
Кто-то стучит по стеклу, и Эддисон выходит. Майя с некоторым удовлетворением смотрит ему вслед, потом вновь переводит взгляд на Виктора.
– Что заставило вас отправиться в город? – спрашивает он. – Насколько я понял, вы никого там не знали и у вас не было определенной цели. Так почему?
– А почему нет? Почему бы не попробовать что-то новое? Не сменить обстановку?
– Или не сбежать подальше?
Она лишь приподнимает брови.
– Как вас зовут?
– Садовник звал меня Майей.
– Но прежде вас звали иначе.
– Иногда проще было забыть, – девушка теребит край рукава, скатывает его и снова расправляет. Такими же ловкими движениями она, должно быть, заворачивала приборы в салфетки. – Ты там взаперти, и никаких шансов выбраться или вернуться к прежней жизни. Так зачем цепляться за нее? Зачем лишний раз причинять себе боль воспоминаниями о том, чего уже не вернуть?
– Иными словами, вы забыли?
– Иными словами, он звал меня Майей.
* * *
Пока рисунок был еще не готов, я жила в изоляции от остальных девушек. За исключением Лионетты. Она по-прежнему приходила каждый день, мы разговаривали, она натирала мне спину мазью и показывала мне свою татуировку – без тени стыда или отвращения. Этот узор стал ее частью, как дыхание или естественная грация. Точность прорисовки была поразительная, и мне стало интересно, насколько искажались детали, когда приходило время обновлять краски. Но спрашивать об этом меня как-то не тянуло. Хорошая татуировка может продержаться много лет, прежде чем придется ее освежать. Я старалась не думать о том, каково это, провести в саду столько лет.
Или о другом, худшем из возможных исходов.
Мне по-прежнему добавляли снотворное в еду. Лионетта приносила поднос в комнату, и мы ели вместе. Периодически я просыпалась не у себя в кровати, а на жесткой кушетке, и Садовник поглаживал готовые участки рисунка, проверяя, как заживает кожа. Он так и не позволил мне взглянуть на себя, а металлические стены, в отличие от стеклянных в моей комнате, не давали отражения.
Он напевал за работой. Сам по себе голос был приятный, но одновременно с механическим треском иголок контраст получался жуткий. В основном это были хиты прошлых лет: Элвис, Синатра, Мартин, Кросби, порой даже сестры Эндрюс. Странное было чувство, лежать там против своей воли и терпеть, пока он ставил на мне свое клеймо. Хотя альтернативы я тогда не видела. Лионетта говорила, что она опекала всех девушек до тех пор, пока их крылья не были готовы. У меня еще не было возможности исследовать Сад, поискать выход. Лионетта то ли знала, что выхода нет, то ли ее это не волновало – я еще не могла сказать с уверенностью. Поэтому я просто позволила ему закончить этот чертов рисунок. Я не спрашивала, что произойдет, если не подчиниться ему, как-то помешать… Только однажды заикнулась, но Лионетта вдруг побледнела, и я сменила тему.
Она никогда не водила меня по коридору, только в Сад – через пещеру за водопадом. И мне казалось, что это неспроста. Или она не хотела мне показывать что-то, или не желала, чтобы я увидела, а это не одно и то же. Неважно, я могла подождать. Может, это из страха. Или из прагматизма.
Примерно под конец третьей недели Садовник закончил с рисунком.
Все утро он усердно трудился, был крайне сосредоточен и почти не делал перерывов. В первый день прошелся вдоль позвоночника, нанес внешние контуры крыльев, прожилки и обозначил крупные узоры. Потом начал от кончиков крыльев, двигаясь к позвоночнику и чередуя участки, чтобы кожа успевала заживать. Он был очень скрупулезен.
Потом жужжание стихло. Он стер кровь и лишнюю краску, при этом руки у него дрожали, хотя прежде такого не было. Затем задышал часто и прерывисто, осторожно втирая мне в кожу холодную и склизкую мазь.
– Ты великолепна, – произнес он хрипло. – Просто безупречна. Бесценное пополнение для моего Сада. А теперь… теперь нужно дать тебе имя.
Он провел большими пальцами по позвоночнику, там кожа заживала быстрее всего. Затем пальцы скользнули к шее и коснулись затылка. К его рукам пристала жирная мазь, и волосы у меня слиплись, потяжелели. Потом он без предупреждения стянул меня с кушетки, так что ноги мои коснулись пола, а туловище осталось лежать. Я слышала, как он расстегивает ремень и ширинку, и крепко зажмурилась.
– Майя, – прохрипел он, обхватив меня за талию. – Теперь ты Майя. Моя.
* * *
Ее прерывает громкий стук в дверь. Она вздрагивает, но при этом не скрывает облегчения.
Виктор ругается про себя, подходит к двери и резко ее распахивает. Эддисон жестом просит его выйти.
– Что, черт возьми, стряслось? – шипит Виктор. – Она как раз начала говорить.
– В кабинете подозреваемого кое-что обнаружили, – Брэндон протягивает ему прозрачный пакет с кучей водительских прав и удостоверений. – Похоже, тут все, кого он держал.
– Во всяком случае, те, у кого были документы, – Хановериан берет пакет – черт, сколько же в нем карточек – и слегка встряхивает, чтобы прочесть некоторые из имен. – Ее документы тоже нашлись?
Эддисон протягивает ему второй пакет, совсем небольшой, с одной карточкой. Это нью-йоркское удостоверение, и Виктор узнает ее с первого взгляда. Она чуть моложе, черты лица мягче, хотя выражение то же.
– Инара Моррисси, – читает он вслух, но Эддисон качает головой.
– Специалисты все просканировали и теперь сопоставляют. Но эту проверили первой. Еще четыре года назад никакой Инары Моррисси не существовало. Номер страхового свидетельства принадлежит двухлетней девочке, умершей в семидесятых. Отдел в Нью-Йорке отправил человека к последнему указанному работодателю, это ресторан «Вечерняя звезда». По адресу в удостоверении находится заброшенное здание, но мы позвонили в ресторан и узнали адрес квартиры. Агент, с которым я говорил, даже присвистнул. Район, должно быть, не из лучших.
– Да, она говорила.
– Да уж, она заслуживает доверия.
Виктор не отвечает, поглощенный изучением карточки. Эддисон прав, это подделка – но какая, черт возьми… Он вынужден признать, что в обычных обстоятельствах купился бы на нее.
– Когда она перестала появляться на работе?
– Два года назад, по словам ее босса. Судя по налоговым выплатам, это так.
– Два года… – Виктор возвращает большой пакет, а маленький, с одной карточкой, складывает так, чтобы тот поместился в карман. – Пусть проверят остальные как можно скорее. Привлеки людей из другой группы, если получится. Опознание девушек в больнице имеет первостепенное значение. Потом раздобудь нам пару наушников, чтобы оперативно получать новости из Нью-Йорка.
– Будет сделано, – Эддисон бросает хмурый взгляд на дверь. – Она и в самом деле говорила?
– Разговорить ее было не так уж сложно, – Виктор усмехается. – Тебе надо жениться, Эддисон, а еще лучше воспитать пару дочерей. Она лучше многих, но моделей поведения никто не отменял. Нужно только слушать и подмечать важное. Слышать то, что не сказано словами.
– Вот поэтому я предпочитаю беседовать с подозреваемыми, а не с жертвами, – и, не дожидаясь ответа, Брэндон уходит обратно к аналитикам.
Раз уж пришлось выйти, можно воспользоваться паузой. Виктор быстро проходит по коридору в основной офис подразделения. Лавируя между столами, направляется в угол, используемый в качестве кухни и зоны отдыха. Берет кофейник с подставки и придирчиво нюхает. Кофе остыл, но еще не застоялся. Виктор наполняет две кружки, более-менее чистые, и ставит их в микроволновку. Пока они греются, он роется в холодильнике в поисках чего-нибудь съедобного.
Торт со дня рождения – не совсем то, что он ищет, но сгодится. Виктор кладет на бумажные тарелки два больших куска, набирает несколько пакетиков с сахаром и сухими сливками. Потом пальцами подхватывает обе кружки и направляется в комнату техперсонала.
Эддисон хмурится, но придерживает тарелки, чтобы Виктор смог установить наушник. Он не пытается скрыть его – девушка слишком умна для этого. Установив наушник в нужном положении, Хановериан берет тарелки и возвращается в комнату.
Она с удивлением смотрит на торт. Виктор сдерживает улыбку, пододвигая к ней одну из тарелок и кружку.
– Я думал, вы, возможно, проголодались. Не знаю, пьете ли вы кофе.
– Не пью, но все равно спасибо, – она делает глоток, морщится, но проглатывает и делает еще один.
Виктор ждет, пока она не откусит от своего куска.
– Расскажите мне о «Вечерней звезде», Инара.
Нет, она не вздрагивает и не давится. Только замирает на краткий миг. Виктор и не заметил бы этого, если б не смотрел на нее. Она проглатывает и слизывает крем с губ, оставляя ярко-красные следы.
– Такой ресторан, но это вам уже известно.
Виктор достает из кармана пакет с удостоверением и кладет на стол. Майя касается пальцем карточки и на секунду прикрывает лицо.
– Он сохранил их? – спрашивает она с недоверием. – Это как-то…
– Глупо?
– Ну да, – девушка задумчиво морщит лоб, потом накрывает карточку ладонью, словно хочет спрятать. – Всё?
– Насколько мы можем судить.
Она мешает кофе в кружке и смотрит на маленький водоворот.
– Но Инара не более реальна, чем Майя, верно? – осторожно спрашивает Виктор. – И ваше имя, и ваш возраст – они же вымышлены.
– Для своих целей они вполне реальны, – мягко возражает девушка.
– Да, чтобы найти работу и крышу над головой. Но что было прежде?
* * *
Нью-Йорк славен тем, что никто и никогда не задает тебе вопросов. Понимаете, это одно из тех мест, куда едут все. Это мечта, это цель. Место, где можно скрыться среди миллионов людей, желающих того же. Никого не волнует, откуда ты и почему уехал, потому что все сосредоточены на себе и на своих желаниях. У Нью-Йорка такая богатая история, но все, кто там живет, думают лишь о будущем. Даже если ты из Нью-Йорка, то все равно можешь где-нибудь исчезнуть, и никто тебя не найдет.
Я сложила все, что у меня было, в вещевой мешок и чемодан, и села в автобус до Нью-Йорка. Там я разыскала столовую для бездомных, и мне разрешали спать там, если я помогала на кухне. Кое-кто из таких же добровольцев рассказал мне про парня, который сделал документы его жене, нелегально приехавшей из Венесуэлы. Я набрала номер этого парня, и уже на следующий день ждала его возле библиотеки, сидя у статуи льва.
Он опоздал на полтора часа. Это был странный тип среднего роста и худой, и вид его не внушал особого доверия. Вся его одежда была жесткой от соли и покрыта пятнами, о происхождении которых я старалась не думать. Прямые волосы практически свалялись в дреды. Он постоянно шмыгал и то и дело оглядывался, а потом подносил рукав к лицу и вытирал красный нос. Не исключено, что это был гений своего дела, но непонятно, на что уходил его заработок.
Он не спрашивал моего имени – только имя, которое мне нужно. Дату рождения, адрес, нужны ли мне водительские права или только удостоверение, нужна ли пометка о том, что я донор… Разговаривая, мы вошли в библиотеку, где наша тихая речь не вызывала подозрений. Когда мы проходили мимо баннера с участком белого цвета, я встала на его фоне, и он сфотографировал меня. Я подготовилась к встрече и даже купила немного косметики, так что могла сойти за девятнадцатилетнюю. Все дело в глазах. Если повидал достаточно, то выглядишь старше, и неважно, какое у тебя лицо.
Он сказал ждать его вечером у одного ларька с хот-догами, и тогда он принесет все, что мне нужно. Когда мы снова встретились – парень опять опоздал, – он протянул мне конверт. Такая мелочь, но при этом способна изменить жизнь. Он запросил с меня тысячу, но предложил переспать с ним, и тогда скинул бы до пятисот.
Я заплатила тысячу.
Мы разошлись в разные стороны, и я вернулась к хостелу, где планировала остаться на ночь – подальше от столовой и тех, кто мог припомнить девушку, спрашивавшую о поддельных документах. Там я открыла конверт и впервые взглянула на Инару Моррисси.
* * *
– Вы не хотели, чтобы вас нашли; почему? – спрашивает Виктор, ручкой размешивая кофе.
– Нет, мне не было до этого дела. Ведь для этого нужно, чтобы кто-то меня искал.
– Так почему же вас никто не искал?
– Скучаю по Нью-Йорку. Там подобных вопросов никто не задает.
В наушнике слышно шипение, кто-то из специалистов выходит на связь.
– Из Нью-Йорка сообщили, что она получила аттестат три года назад. Показала блестящие результаты, но так и не сдала экзамены средней школы и не запросила табель успеваемости, чтобы пройти в колледж или устроиться на работу.
– Вы бросили школу? – спрашивает Виктор. – Или не пошли в старшие классы, чтобы потом не пришлось предъявлять диплом?
– Теперь, когда вы знаете имя, легче копаться в моей жизни, верно?
Она доедает торт и аккуратно кладет пластиковую вилку поперек тарелки, зубьями вниз. Потом надрывает один из пакетиков с сахаром и высыпает горсткой на тарелку. Облизывает незабинтованный палец, обмакивает в сахар и кладет в рот.
– Но вы знаете только о моей жизни в Нью-Йорке.
– Вот поэтому и хочу услышать о том, что было прежде.
– Мне нравилось быть Инарой.
– Но это не ваше имя, – настаивает он мягко.
Глаза ее вспыхивают злостью. Это столь же мимолетно, как и ее полуулыбки или удивление, но оно имеет место.
– Если розу назвать как-то иначе, перестанет она от этого быть розой?
– Это лишь форма. Человека делает не имя, а его история. И я хочу знать вашу.
– Для чего? Из моей истории вы не узнаете про Сад, а вам ведь это нужно? Садовник и его Сад? И его Бабочки?
– И если он выживет, чтобы предстать перед судом, нам потребуются свидетели. Девушка, которая не желает назвать своего настоящего имени, вряд ли заслуживает доверия.
– Это всего лишь имя.
– Нет, если оно ваше.
Она приподнимает уголки рта.
– Блисс так говорила.
– Блисс?
* * *
Лионетта, как всегда, дожидалась у двери. Она тактично отвела глаза, пока я надевала черное облегающее платье, ставшее для меня единственным предметом одежды.
– Закрой глаза, – велела она. – Лучше узнавать все поэтапно.
Я столько времени пролежала там с закрытыми глазами, что перспектива вновь добровольно ослепнуть ввергала меня в ужас. Но Лионетта явно хотела как лучше, и я, конечно же, была не первой, кого она выхаживала. Я закрыла глаза, она взяла меня за руку и повела по коридору. В этот раз мы пошли в противоположном направлении. Коридор был длинный, и в самом конце его мы повернули налево. Я вела правой рукой вдоль стеклянной стены, и ладонь проваливалась в пустоту всякий раз, когда мы проходили мимо дверного проема.
Лионетта направила меня в один из проходов и остановила мягким прикосновением. Я почувствовала, как она отступила на шаг.
– Можешь открыть глаза.
Она стояла передо мной, в центре комнаты, почти идентичной моей. Но эта казалась более обжитой: на полке над кроватью стояли фигурки оригами, на кровати были одеяла и подушки, и туалет с душем и раковиной был завешен оранжевой шторкой. Из-под самой большой подушки торчал уголок книги, и под кроватью имелись выдвижные ящики.
– Как он тебя назвал?
– Майя, – меня передернуло, когда я впервые произнесла имя вслух. Вспомнилось, как он повторял его раз за разом, пока…
– Майя, – повторила Лионетта, придав имени новое звучание. – Теперь взгляни на себя, Майя.
Она взяла в руки зеркало, расположив его таким образом, чтобы я увидела отражение в зеркале позади себя.
Кожа на спине была еще розовая, с припухлостями в тех местах, куда краску нанесли недавно. Я знала, что рисунок станет светлее, когда сойдут струпья. По бокам, где платье имело вырезы, были видны отпечатки пальцев. Но ничто не мешало рассмотреть узор. Он был ужасен. Он был противен мне.
И он был прекрасен.
Верхние крылья были золотисто-коричневые, как волосы и глаза у Лионетты, с вкраплениями белого, черного и бронзового. Нижние – розовых и пурпурных полутонов с белыми и черными точками. Точность потрясающая, переход оттенков создавал эффект отдельных чешуек. Цвета насыщенные, сочные. Рисунок покрывал почти всю спину, от плеч и до самой талии. Крылья были узкие и вытянутые, их края слегка заходили мне на бока.
Мастерство исполнения было очевидным. Можно было как угодно относиться к Садовнику, но его талант не вызывал сомнений.
Я ненавидела этот рисунок, но он был великолепен.
В дверном проеме появилась еще одна девушка, очень миниатюрная. Но, судя по ее формам, это была далеко не девочка. Кожа белоснежная, без единого изъяна; черные вьющиеся волосы беспорядочно заколоты шпильками. Чуть вздернутый нос выглядел скорее мило, чем красиво. Внешность ее была не столь однозначна, но, как и все девушки, которых я видела в Саду, она была просто очаровательна.
Красота теряет смысл, если окружает тебя в избытке.
– Так это и есть новенькая? – Она плюхнулась на кровать и взяла маленькую подушку. – Ну, и как этот ублюдок назвал тебя?
– Он может услышать, – предостерегла Лионетта, но девушка лишь пожала плечами.
– Ну и ладно. Он не требует от нас любви. Ну, так как он назвал тебя?
– Майя, – ответили мы одновременно с Лионеттой, и имя это уже не так резало слух. Я подумала, что со временем, возможно, станет легче произносить его. А может, оно так и будет причинять мне страдания, как мелкий осколок, который нельзя просто вынуть пинцетом.
– Хм, нет так уж и плохо. Меня он назвал Блисс[3], – она закатила глаза и фыркнула. – Блисс! Как ему только в голову пришло?.. Ох, дай-ка посмотреть.
Она покрутила пальцем и в этот момент чем-то напомнила мне Хоуп. С этой мыслью я медленно повернулась к ней спиной.
– Неплохо. Во всяком случае, расцветка тебе идет. Надо посмотреть, что это за вид.
– Это Древесница западная[4], – вздохнула Лионетта. Я покосилась на нее, и она в ответ пожала плечами. – Надо же чем-то занять себя. Может, тогда это выглядит не так ужасно. Я – Червонец пятнистый.
– А я – Голубянка мексиканская, – добавила Блисс. – Выглядит довольно мило. Жутко, конечно, но смотреть меня ведь никто не заставляет. В любом случае, это просто имя. Он может звать нас А и Б, или по порядковым номерам, без разницы. Откликайся, но не делай вид, что оно стало частью тебя. Так будет легче.
– Легче?
– Ну да! Помни, кто ты на самом деле, и думай, будто играешь роль. Если начнешь воспринимать это как нечто свое, тебе грозит кризис идентичности. А кризис идентичности, как правило, ведет к нервному срыву. А нервный срыв в наших условиях ведет…
– Блисс.
– Что?.. Думаю, ей хватит духу. Она до сих пор не заплакала, а все мы знаем, что он делает, когда заканчивает рисунок.
Точно как Хоуп, только гораздо смышленее.
– Так к чему ведет нервный срыв?
– Пройдись по коридорам. Только не на полный желудок.
* * *
– Вы только что прошли по коридору, – напоминает Виктор.
– С закрытыми глазами.
– Так что же было в коридорах?
Вместо ответа Инара допивает остатки кофе и смотрит на него так, словно намекает, что ему следует знать, что к чему.
В наушнике снова раздается треск.
– Рамирес только что звонила из больницы, – говорит Эддисон. – Она отправит снимки тех, кого врачи позволят сфотографировать. Есть совпадения по спискам пропавших. Если считать тех, кто в морге, идентифицированы около половины девушек. Но у нас проблема.
– Что за проблема?
Инара внимательно смотрит на него.
– Одна из девушек из влиятельной семьи. Она называет себя Равенной, но отпечатки пальцев принадлежат Патрис Кингсли.
– Пропавшая дочь сенатора Кингсли?
Инара откидывается на спинку стула. Все это явно ее забавляет. Непонятно только, что тут может быть веселого. Ситуация грозит обернуться настоящим кошмаром.
– Сенатора уже поставили в известность? – спрашивает Виктор.
– Еще нет, – отвечает Эддисон. – Рамирес хотела сначала предупредить нас. Представь себе, Вик, с каким отчаянием сенатор Кингсли разыскивала свою дочь. Глупо рассчитывать, что она не вмешается в расследование.
А если это произойдет, о той конфиденциальности, какую они могли обеспечить этим девушкам, придется забыть. Их лица появятся во всех газетах от Восточного до Западного побережья. А Инара… Виктор устало трет глаза. Если сенатор узнает, что у них есть малейшие подозрения насчет этой девушки, она не успокоится, пока не будет выдвинуто обвинение.
– Передай Рамирес, чтобы молчала до последнего, – говорит он Эддисону. – Нам нужно время.
– Принял.
– Напомни, когда она пропала?
– Четыре с половиной года назад.
– Четыре с половиной года?
– Равенна, – произносит Инара, и Виктор переводит на нее взгляд. – Никто не забывает, сколько времени провел там.
– Почему?
– Это все меняет, верно? Если сенатор вмешается.
– Вас это тоже коснется.
– Конечно, коснется. Как же иначе?
Она все знает. Виктору неприятно думать об этом. О деталях она, скорее всего, не догадывается, но знает, что они подозревают ее в некоей причастности. Хановериан старается истолковать этот насмешливый взгляд, чуть вздернутые уголки губ. Как-то спокойно она воспринимает эти новые сведения.
Значит, пора сменить тему разговора, иначе можно и вовсе лишиться влияния.
– Вы говорили, что девушки в квартире стали вашими первыми друзьями.
Инара садится чуть ровнее.
– Ну да, – отвечает она осторожно.
– Почему?
– Потому что прежде у меня не было друзей.
– Инара.
Девушка интуитивно реагирует на интонацию в его голосе и в этот момент чем-то напоминает его дочерей. Она слишком поздно осознает свою реакцию и теперь выглядит недовольной.
– Вы свое дело знаете… У вас есть дети?
– Три дочери.
– И тем не менее посвятили себя покалеченным детям.
– Я посвятил себя спасению покалеченных детей, – поправляет Виктор. – Добиваюсь правосудия для них.
– Вы действительно считаете, что им есть дело до правосудия?
– А вы так не считаете?
– Нет, не считаю. От правосудия в лучшем случае нет толку. И этим ничего не исправить.
– Вы бы повторили это, если б в детстве добились справедливости?
Вновь эта полуулыбка – исполненная горечи, мимолетная.
– И в чем же мне следовало добиваться справедливости?
– Я живу своей работой. Вы же не думаете, что я не опознаю покалеченного ребенка, если посадить его передо мной?
Она склоняет голову, признавая его правоту, потом закусывает губу и вздрагивает.
– Не совсем так. Я скорее безнадзорное дитя, а не покалеченное. Я – плюшевый мишка, собирающий пыль под кроватью, но не одноногий солдатик.
Он улыбается и отпивает из кружки; кофе быстро остывает. Она готова продолжать. Каким бы сложным это ни казалось Эддисону, Виктор в своей стихии.
– В каком смысле?
* * *
Иногда смотришь, как люди женятся, и с каким-то безразличием понимаешь, что детей, рожденных в этом браке, ждет жизнь, полная дерьма. Это факт. Не дурное предчувствие, а мрачная уверенность, что этим двоим лучше не заводить детей. И они, конечно же, заведут.
Как мои родители.
Моей маме было двадцать два, когда она вышла за моего отца. Это был ее третий брак. В первый раз она вышла за брата бывшего мужа ее матери, в семнадцать. Они и года не прожили вместе, как он умер от инфаркта во время секса – но оставил ей неплохое состояние. Через несколько месяцев она вышла за мужчину всего на пятнадцать лет старше ее, и когда они развелись годом позже, мама вновь оказалась в выигрыше. Потом пришла очередь моего отца. Если б он не обрюхатил ее, она вряд ли вышла бы за него. Отец был хорош собой, но не мог похвастаться большим состоянием и был старше всего на два года, что сулило маме ряд непреодолимых осложнений.
За это следует поблагодарить ее маму, у которой было девять мужей, пока не наступила менопауза. Тогда она решила, что слишком истощена, чтобы вновь выходить замуж. И все они умирали, каждый раньше предыдущего. Это происходило непредумышленно, они просто… умирали. Конечно, большинство из них были старыми, и каждый оставлял ей приличное состояние. Поэтому моя мама выросла с определенными ожиданиями. Но ее третий муж не оправдывал ни одного.
Впрочем, в их оправдание могу сказать, что родители все же пытались как-то жить. Первые несколько лет мы провели рядом с родными отца – дядями, тетями, кузинами. Я даже припоминаю, как играла с другими детьми. Потом мы переехали, и связи оборвались. Остались только я и мои родители с их многочисленными интрижками. Они постоянно пропадали или со своими любовниками, или у себя в спальне, поэтому я росла самостоятельно. Научилась пользоваться микроволновкой, выучила расписание автобусов, чтобы добираться до магазинов, запомнила, по каким дням у кого-то из родителей в бумажнике были наличные, и могла расплачиваться за продукты.
По-вашему, это выглядело довольно странно, да? Но если в магазине меня спрашивали – кассир или какая-нибудь женщина, – я говорила, что мама осталась в машине с маленьким ребенком, чтобы не выключать кондиционер. Они верили, даже зимой, улыбались и говорили, какая я замечательная дочь и сестра.
Уже тогда я была невысокого мнения об умственных способностях большинства людей.
Мне было шесть, когда они решили обратиться к семейному психологу. Не то чтобы всерьез рассчитывали на это, просто решили попробовать. На работе папе кто-то сказал, что страховка покроет консультацию, и это произведет благоприятное впечатление на суде и ускорит развод. Психолог посоветовал нам выбраться куда-нибудь втроем, повеселиться. В какое-то особенное место – например, в парк развлечений.
Мы приехали в парк около десяти, и пару часов все шло нормально. А потом была карусель. Терпеть не могу эти чертовы карусели. Папа стоял у выхода и ждал меня, а мама у входа помогла мне забраться на деревянную лошадь. И они просто стояли с противоположных сторон и смотрели, как я нарезаю круг за кругом. Я не доставала до железных стремян, и лошадь подо мной была слишком широкой, и у меня болели бедра, но я продолжала сидеть, круг за кругом, круг за кругом. Потом я увидела, как папа ушел со стройной латиной. Потом еще один круг – и мама ушла с высоким рыжим парнем в килте.
Кто-то из ребят постарше снял с лошади свою маленькую сестренку и заодно помог мне слезть. Он держал меня за руку, пока мы шли к выходу, и мне хотелось остаться в его семье. Хотелось стать сестрой тому мальчику, кто катался бы со мной на карусели и держал за руку, кто смотрел бы на меня с улыбкой и спрашивал, весело ли мне. Но мы вышли, я поблагодарила его и помахала женщине, уткнувшейся в свой телефон, и мальчик решил, что я разыскала маму. Я смотрела, как они с сестрой вернулись к родителям, и те обрадовались их возвращению.
Остаток дня я бродила по парку, стараясь не попасться на глаза охране, но наступил вечер, а я так и не разыскала никого из родителей. Охранники заметили меня и отвели в Комнату позора. Ну, они называли это пунктом потерявшихся. И несколько раз объявляли имена по громкой связи с просьбой к родителям, чтобы те пришли за своими детьми. Там были и другие дети: кого-то могли забыть, а кто-то просто убежал или спрятался.
Потом кто-то из взрослых упомянул службу опеки. Какая-то женщина сказала, что детей, которых не забрали до десяти часов, передадут органам опеки. С нами по соседству жила семья, и у них были приемные дети. При одной мысли о подобной жизни я приходила в ужас. К счастью, кто-то из малышей описался и закатил такую истерику, что все взрослые столпились вокруг него и пытались утешить. Мне удалось выскользнуть за дверь и вернуться в парк.
Пришлось немного побродить, но в итоге я разыскала выход и вышла незамеченной, пристроившись за группой школьников, которые задержались у карусели. Потом я около часа шагала через всю парковку к заправочной станции, где еще горел свет для уезжающих людей. У меня оставались деньги, которые папа дал мне перед каруселью, и я позвонила им на мобильники, потом позвонила домой, а после не придумала ничего другого, кроме как позвонить соседям.
Было почти десять, но сосед сел в машину и ехал два часа, чтобы забрать меня, а потом еще два часа обратно. В нашем доме не горел свет.
* * *
– Это был сосед из той семьи с приемными детьми? – спрашивает Виктор, когда она замолкает и проводит языком по рассеченной губе. Он берет пустую бутылку и протягивает к стеклу, и держит так, пока ему не сообщают, что Эддисон сейчас придет.
– Да.
– Но он доставил вас домой в целости и сохранности. Почему же мысль о жизни с ним приводила вас в ужас?
– Когда мы подъехали к его дому, он сказал, что в благодарность я должна полизать ему леденчик.
Бутылка с треском мнется у него в ладони.
– Господи…
– Когда он пригнул мою голову к своей промежности, я сунула два пальца в глотку и облевала его. И заодно нажала на клаксон, чтобы вышла его жена, – Инара открывает второй пакетик с сахаром и высыпает в рот половину. – Его потом арестовали на месяц или около того за грубое обращение с детьми, а она переехала.
Распахивается дверь, и Эддисон ставит перед Инарой бутылку с водой. Согласно протоколам, им следовало заранее свинтить крышку – опасность удушения, – но в другой руке у него стопка фотографий и пакет с удостоверениями. Он сваливает все это на стол.
– Укрывая от нас правду, – ворчит он, – вы защищаете человека, который сделал это.
Инара была права. На словах все представляется совсем не так. Виктор делает медленный вдох, чтобы побороть отвращение. Он берет из стопки первую фотографию, потом вторую, третью, четвертую. На всех запечатлены участки разрушенных коридоров.
Инара останавливает его на седьмой. Поворачивает снимок, чтобы рассмотреть внимательнее. Потом кладет обратно в стопку и проводит пальцем по узору в центре изображения.
– Это Лионетта.
– Ваша подруга?
Ее забинтованный палец скользит вдоль линии стекла по снимку.
– Да, – шепчет она. – Была ею.
* * *
Дни рождения в Саду забывались, как и имена. Когда я познакомилась с другими девушками, то заметила, что все они очень молоды. Но никто никого не спрашивал о возрасте. В этом просто не было необходимости. Рано или поздно мы умирали, и коридоры ежедневно напоминали нам об этом. Так к чему усугублять?
Но Лионетта…
За полгода я подружилась со многими девушками, но Лионетта и Блисс стали мне ближе всех. Во многом они были как я. Терпеть не могли нытья и жалоб на нашу трагическую участь. Мы не пресмыкались перед Садовником и не подлизывались, чтобы как-то облегчить себе жизнь. Мы просто мирились с неизбежным и в остальное время занимались своими делами.
Садовник нас обожал.
В основном мы могли свободно передвигаться и только ели в определенное время, поэтому девушки постоянно переходили из одной комнаты в другую. Если Садовник хотел кого-то, он просто проверял камеры и приходил. Когда Лионетта попросила меня и Блисс остаться у нее на ночь, я не подумала ничего такого. Мы постоянно так делали. Мне следовало бы обратить внимание на отчаяние в ее голосе. Но в Саду становишься глух к подобным вещам. Как и красота, отчаяние и страх стали для нас чем-то привычным.
Днем мы всегда носили черные платья с вырезом на спине, чтобы видны были крылья. Но на ночь нам ничего не давали, и многие спали в нижнем белье, мечтая о бюстгальтере. Жизнь в хостеле и в студии стала для меня полезным опытом. Все это смущало меня куда меньше, чем других девушек, которые попадали в Сад. Одним унижением меньше, и меня труднее было сломить.
Мы втроем лежали в ее кровати и ждали, когда погаснет свет. Мы с Блисс стали замечать, как Лионетту трясет. Это был не приступ – она лишь вздрагивала, и дрожь разбегалась по всему телу. Я села и нашарила ее руку, и наши пальцы сплелись.
– Что с тобой?
В ее золотистых глазах блестели слезы, и мне вдруг стало не по себе. Прежде я ни разу не видела, чтобы Лионетта плакала. Она терпеть не могла слез, особенно своих.
– Завтра мне будет двадцать один, – прошептала она.
Блисс вскрикнула, заключила подругу в объятия и уткнулась лицом ей в плечо.
– Черт, Лионетта, мне так жаль…
– В двадцать один у нас истекает срок годности? – спросила я тихо.
Лионетта крепко обняла меня и Блисс.
– Я… никак не могу решить, стоит ли сопротивляться. Я умру, так или иначе, и не хочу отдавать свою жизнь даром. Но не будет ли от этого больнее? Чувствую себя такой трусихой, но если меня ждет смерть, я не хочу, чтобы было больно!
Она всхлипывала, а мне хотелось, чтобы стены в этот раз были опущены, и мы бы сидели, запертые в этой тесной комнатке. Тогда остальные не слышали бы ее плача. Другие девушки уважали Лионетту за ее сдержанность, и мне не хотелось, чтобы ее считали слабой, когда ее не станет. Но, как правило, стены опускались только дважды в неделю. В эти дни – мы называли их выходными – приходили обычные садовники и наводили порядок в нашей прекрасной тюрьме. Они никогда нас не видели, и слышать тоже не могли – это обеспечивала система перегородок.
Нет, не так. Еще стены опускались, когда появлялась новая девушка. Или умирала.
Мы не любили, когда стены опускались, и лишь в исключительных случаях нам этого хотелось.
Мы оставались с Лионеттой всю ночь. Она плакала, пока не уснула, совершенно обессиленная, и проснулась только затем, чтобы вновь расплакаться. Ближе к четырем она нашла в себе силы, чтобы встать и принять душ. Мы помогли ей вымыть волосы, расчесали и заплели в изящный венец. У нее в шкафу висело новое платье. Янтарного цвета, прошитое золотой нитью, оно пылало огнем среди всего черного. В этом платье крылья стали еще ярче на фоне загорелой кожи: насыщенный оранжевый с черными пятнами, и вокруг них вкрапления золотого и желтого, черные у самых кончиков, с белыми прожилками. Расправленные крылья Червонца пятнистого.
Садовник явился за ней перед самым рассветом.
Это был человек приятной наружности, ростом чуть выше среднего и хорошо сложенный. Из тех людей, которые всегда выглядят лет на десять-пятнадцать моложе, чем им есть на самом деле. Русые волосы всегда уложены и подстрижены, глаза цвета моря, бледно-серые. Он был хорош собой, с этим не поспоришь, но у меня внутри все сжималось от одного его вида. Я еще ни разу не видела его в черном. Он стоял в дверном проеме, заложив большие пальцы в карманы, и просто смотрел на нас.
Лионетта тяжело вздохнула, крепко обняла Блисс и что-то шепнула ей на ухо, после чего поцеловала на прощание. Потом она повернулась ко мне и до боли сжала в объятиях.
– Меня зовут Кэссиди Лоуренс, – прошептала она так тихо, что я едва могла разобрать. – Пожалуйста, не забывай меня. Не позволяй ему быть единственным, кто меня запомнит.
Она поцеловала меня, закрыла глаза, и Садовник увел ее за собой.
Все утро мы с Блисс провели в комнате Лионетты, перебирая ее личные вещи, которые она скопила за пять лет. Она провела там пять лет. Мы сняли занавески и сложили их вместе с постельным бельем на голом матрасе. Книга, которую она держала под подушкой, оказалась Библией. На полях отмечены были все пять лет отчаяния, ненависти и надежды. Бумажных фигурок было столько, что хватило бы всем девушкам в саду, поэтому вечером мы раздали их, вместе с черными платьями. Когда мы отправились на ужин, ничто в комнате не напоминало о Лионетте.
На следующую ночь стены опустились. Мы вместе с Блисс лежали на моей кровати, застеленной уже нормальной простыней. Мы получали кое-какие вещи за то, что были послушными и не пытались покончить с собой. Так что теперь у меня были простыни и одеяла, тех же лиловых оттенков, что и нижние крылья у меня на спине. Когда стены опустились и мы оказались взаперти, Блисс принялась плакать и ругаться. Стены поднялись через несколько часов. Как только они пришли в движение, Блисс схватила меня за руку, и мы протиснулись наружу, чтобы обследовать коридор.
Но далеко идти не пришлось.
Он стоял там, прислонившись к стене, и рассматривал девушку под стеклом. Ее голова клонилась на грудь, небольшие скобы удерживали тело. Прозрачная смола заполняла оставшееся пространство, и платье застыло так, словно она находилась под водой. Можно было во всех подробностях разглядеть прижатые к стеклу крылья. Все, что отличало Лионетту – ее мрачная улыбка, ее глаза, – теперь было скрыто. На виду остались только крылья.
Он повернулся к нам и провел рукой по моим спутанным волосам, осторожно их расправляя.
– Ты забыла собрать волосы, Майя. Мне не видно твоих крыльев.
Я принялась собирать волосы в узел, но он перехватил мое запястье и повел за собой.
В мою комнату.
Блисс выругалась и побежала по коридору, но я успела заметить ее слезы.
Садовник сел рядом со мной на кровати и стал расчесывать мне волосы, пока они не заблестели, как шелк. Потом долго гладил их, а после его руки скользнули дальше, а за ними – и губы. Я закрыла глаза и стала про себя декламировать «Беспокойную долину».
* * *
– Что, простите? – перебивает ее Эддисон с таким выражением, словно ему плохо.
Инара отрывается от фотографии и поднимает на него задумчивый взгляд.
– «Беспокойная долина», – повторяет она. – Поэма Эдгара Алана По. «Люди на войну ушли, звездам вверив волю пашен, чтоб в ночи, с лазурных башен, тайну трав те стерегли…»[5] Мне нравится По. Он подкупает своей откровенной замкнутостью.
– Но какое…
– Я делала так всякий раз, когда Садовник приходил ко мне, – отвечает она прямо. – Я не пыталась сопротивляться, потому что не хотела умирать, но и участвовать не собиралась. Я ждала, пока он закончит, и, чтобы абстрагироваться, читала про себя стихи По.
– В тот день, когда он закончил татуировку, вы в первый раз, хм… в первый раз…
– Читала По? – заканчивает она за него, насмешливо приподняв брови. Виктор краснеет, но кивает. – К счастью, нет. За несколько месяцев до этого я заинтересовалась сексом, и Хоуп одолжила мне одного из своих парней. Ну, в каком-то смысле.
Эддисон начинает кашлять, и Виктор рад, что на такие темы с дочерьми разговаривает жена.
* * *
При других обстоятельствах Хоуп, наверное, можно было бы назвать шлюхой. Но София была проституткой, пока полиция не забрала у нее дочерей, и болезненно реагировала на такие слова. Кроме того, Хоуп занималась этим не ради денег, это ее забавляло. Хотя могла сделать на этом состояние. Мужчины, женщины, парочки или группы – Хоуп на все была готова.
В квартире не было и намека на личное пространство. Если не считать ванную, она представляла собой одну большую комнату, и шторки между кроватями мало что скрывали. Про звукоизоляцию, конечно, и говорить нечего. Хоуп и Джессика были не единственные, кто приводил гостей, но они делали это чаще других, иногда по несколько раз на дню.
Мне довольно рано пришлось столкнуться с педофилом, и сексом я практически не интересовалась. Плюс мои родители. Я считала секс чем-то ужасным и не хотела иметь с этим дела. Но жизнь в квартире постепенно все меняла. Если девочки не занимались сексом, то постоянно говорили о нем. Они хоть и смеялись надо мной, но отвечали, когда я задавала вопросы, а Хоуп еще и показала мне, как нужно мастурбировать. Постепенно любопытство пересилило неприязнь, и я решила попробовать. Вернее, стала об этом подумывать. Но поначалу я еще сомневалась и несколько раз упускала случай.
Как-то вечером, когда мне не нужно было идти на работу, Хоуп привела двух парней. Джейсон, он тоже работал в ресторане, один из немногочисленных парней в нашем коллективе, – и Тофер, его приятель. Без них уже трудно было представить нашу квартиру. Они часто приходили, и неважно, была ли Хоуп дома или нет. С ними было весело, иногда они приносили что-нибудь перекусить. Едва они переступили порог, Хоуп со смехом принялась стягивать с Джейсона одежду, и до постели они добрались уже голыми.
Тофер, по крайней мере, покраснел и удосужился спихнуть их одежду поближе к кровати.
Я сидела с книжкой на одном из диванов. Как только у меня появился нормальный адрес, я первым делом завела абонемент в библиотеке и заглядывала туда пару раз в неделю. Прежде чтение помогало мне сбежать от действительности. Потом нужда в этом отпала, но я по-прежнему любила читать. Собрав одежду в кучу, Тофер налил два стакана апельсинового сока – пару дней назад приходили из социальной службы, и холодильник был набит под завязку, – протянул мне один и уселся рядом на диван.
– Не присоединишься к ним? – поддразнила я его, и парень покраснел еще больше.
– Ни для кого не секрет, что Хоуп как машина напрокат. Только вот мне не нравится ездить с кем-то на пару, – пробормотал он, и я рассмеялась. С Хоуп все обстояло именно так, и она гордилась этим.
Тоферу было около девятнадцати. Он работал моделью и временами помогал Джулиану с доставкой, чтобы подзаработать. Внешность у него была приятная и вполне типичная для модели – знаете, когда настолько к этому привыкаешь, что твоя красота кажется чем-то обыденным. Но он был довольно милым. Мы поговорили о дневном представлении, куда ходили всей компанией неделю назад. Потом – про его подработку на выставке, где он был живым манекеном, и про общего знакомого, который собирался жениться, и спорили, продержится ли его брак. И все это время рядом хихикали и визжали Хоуп с Джейсоном.
В общем, обычный вечер.
Но развлечение в конце концов пришлось прервать.
– Четыре доходит! – перекричала я их стоны. – Вам на работу скоро!
– Ладно, сейчас добью его!
И действительно, не прошло и полминуты, как Джейсон застонал. А еще через десять минут они вместе приняли душ и отправились на работу. В тот вечер работали почти все девочки, кроме Ноэми и Эмбер – по средам у них были занятия, и они возвращались не раньше десяти. Тофер ненадолго отлучился, но потом вернулся с пакетом из закусочной на углу.
У Хоуп приглашение к сексу сводилось к тому, чтобы поцеловать тебя и запустить руку в штаны. Но я была не Хоуп.
– Тофер?
– Да?
– Не хочешь просветить меня по части секса?
Я тоже была прямолинейна, но несколько иначе.
Другой на его месте покраснел бы, но Тофер дружил с Хоуп, кроме того, не раз участвовал в наших разговорах. Он только улыбнулся, и я отметила с облегчением, что это не ухмылка.
– Конечно. Если считаешь, что готова.
– Вроде как да. Мы же в любой момент можем остановиться.
– Да. Скажи, если вдруг станет некомфортно.
– Ладно.
Тофер собрал остатки еды и запихнул в переполненное мусорное ведро у двери – Хоуп должна была захватить его по пути. Потом вернулся, устроился на подушках и мягко привлек меня к себе.
– Начнем без спешки, – сказал он и поцеловал меня.
В ту ночь секса как такового у нас не было. Тофер называл это «все, что кроме». Но я чувствовала себя вполне комфортно, было весело, и мы много смеялись. Еще год назад, когда я только переехала, все это показалось бы странным. Когда вернулись Ноэми и Эмбер, мы оделись, но Тофер остался на ночь. Мы лежали под простыней в моей тесной постели и продолжали наши игры, пока Ноэми – ее кровать была по соседству – не рассмеялась и не сказала, что присоединится к нам, если мы не заткнемся. Еще через несколько дней мы остались наедине и смогли продолжить. В первый раз я толком не поняла, что же в этом такого превосходного.
Потом мы повторили. И в этот раз я поняла.
Так продолжалось несколько недель, пока Тофер не встретил в церкви девушку, с которой захотел серьезных отношений. Но мы вновь стали просто друзьями, так же непринужденно, как стали партнерами. Никто не обижался и не ощущал неловкости. Между нами не возникло привязанности или каких-то чувств. Тофер заглядывал и после того, как начал встречаться с этой девушкой. Мне нравилось, когда он приходил, но не потому, что я хотела секса. Просто Тофер был славным парнем и нравился нам.
И все равно я не могла понять, почему для родителей секс был важнее всего на свете.
* * *
Она отвинчивает крышку и делает большой глоток, потирая при этом саднящее горло. Виктор рад этой паузе. Эддисон, вероятно, тоже. Глаза у обоих опущены. Это и есть психологическая травма. Виктор и не припомнит случая, чтобы жертва так спокойно говорила о сексе.
Он откашливается и переворачивает фотографии, чтобы не видеть коридоров и мертвых девушек.
– Вы говорили, что ваш сосед был первым педофилом, с которым вам пришлось столкнуться. Были и другие?
– Бабушкин газонокосильщик, – Инара замолкает и хмуро смотрит на бутылку. Виктор догадывается, что она не собиралась говорить этого. Возможно, сказывается усталость. Он временно отбрасывает эту мысль, но найдет случай вернуться к этому.
– Вы часто виделись с бабушкой?
Инара вздыхает и сдирает засохшую корочку с пальца.
– Я жила с ней, – отвечает она нехотя.
– С какого времени?
* * *
Мне было восемь, когда родители решили наконец развестись. Все вопросы по поводу денег, дома, машин и прочего были улажены за один день. Следующие восемь месяцев прошли в спорах о том, у кого я должна остаться. Разве это не чудесно – на протяжении восьми месяцев выслушивать доводы от родителей, которым ты, в сущности, не нужна…
В конце концов они решили отправить меня к бабушке по маминой линии, и платить ей за мое содержание. В тот день, когда пришло время уезжать, я сидела на ступеньках с тремя чемоданами, двумя коробками и плюшевым мишкой – все мое имущество. Никого из родителей не было дома.
Годом ранее у нас через улицу поселились новые соседи. Молодая пара, у них только-только родился ребенок. Я часто бегала к ним посмотреть на малыша: это был славный мальчуган, который пока не знал обмана и жестокости. С такими родителями, возможно, и не узнал вовсе. Его мама всегда угощала меня печеньем с молоком, а папа научил играть в покер и блэкджек. Это они отвезли меня на вокзал и помогли купить билет на деньги, оставленные родителями на прикроватной тумбочке. Они погрузили весь мой багаж, представили водителю и помогли найти свое место. Она даже завернула мне обед в дорогу и кексы, еще теплые. Это была еще одна семья, в которой мне захотелось остаться. Но я лишь помахала им, когда автобус тронулся, и они стояли на краю тротуара – малыш был между ними – и тоже махали, пока не пропали из виду.
Когда я приехала в город, где жила бабушка, мне пришлось взять такси, чтобы добраться до ее дома. Водитель всю дорогу материл родителей, которым нельзя заводить детей. Когда я спросила его о значении некоторых слов, он даже объяснил, как использовать их в речи. Район, где в большом потрепанном доме жила бабушка, считался престижным шестьдесят лет назад, но быстро пришел в упадок. Таксист помог мне выгрузить вещи, я заплатила ему и пожелала охеренного дня. Он рассмеялся, потрепал меня по волосам и сказал, чтобы я берегла себя.
В менопаузу с бабушкой творилось нечто странное. В молодости она становилась поочередно то женой, то вдовой – но теперь была убеждена, что выдохлась и стояла одной ногой в могиле. Поэтому она не выходила из дома и забивала комнаты всякой мертвечиной.
Серьезно, мертвечиной. Даже таксидермистам было не по себе от ее мании, а для этого надо действительно постараться. Бабушка закупала чучела животных, всякой экзотической дичи. Медведей или пум, которых в городе просто так не увидишь. Были еще разные птицы и броненосцы. Но больше всего я ненавидела коллекцию местных кошек и собак, которых убивали на протяжении многих лет, и бабушка заказывала из них чучела. Они были повсюду, даже в ванных и на кухне, каждая комната была заставлена ими.
Когда я вошла и втащила в коридор все свое имущество, бабушки нигде не было видно. Зато я ее услышала.
– Если ты маньяк, то не трать время на старуху; если вор, то у меня нет ничего ценного; а если убийца – побойся Бога!
Я двинулась на голос и разыскала ее в небольшой гостиной, сплошь заставленной чучелами животных. Бабушка сидела в мягком кресле, в юнитарде[6] тигровой расцветки и в коричневой шубе. Она курила сигареты одну за другой и смотрела «Цену удачи»[7] по семидюймовому телевизору. Картинка рябила, и цвет все время пропадал.
Она даже не взглянула на меня, пока не началась реклама.
– А, это ты… Вверх по лестнице, третья дверь направо. Пока не ушла, будь хорошей девочкой, подай бутылку виски со стойки.
Я передала ей бутылку – почему бы и нет – и смотрела, как она разливает виски по блюдцам и расставляет их перед кошками и собаками на диване, который иначе как безобразным нельзя было назвать.
– Пейте, мои хорошие, вы это заслужили, быть мертвым не так уж приятно.
Алкогольные пары мгновенно заполнили комнату, смешавшись с запахом затхлой шерсти и сигаретных бычков.
Комната, которую указала бабушка, до того была забита чучелами, что они вывалились в коридор, едва я открыла дверь. Остаток дня и всю ночь я занималась тем, что выгребала чучела из комнаты и искала для них место, чтобы занести свои вещи. Я спала, свернувшись на самом большом из своих чемоданов, потому что простыни были слишком грязные. На следующий день я драила комнату, выбивала из матраса пыль и мышиный помет – и мышиные трупы – и застелила кровать своей простыней, взятой из дома. Когда комната стала более-менее похожа на мою прежнюю, я спустилась на первый этаж.
На бабушке был новый костюм, в этот раз ярко-фиолетовый. Только это и указывало на то, что она вообще двигалась с места.
Я дождалась рекламы и прокашлялась.
– Я убралась в комнате, – сообщила я. – Если там окажется хоть одно чучело, я спалю дом.
Она рассмеялась и шлепнула меня.
– Хорошая девочка. Мне нравится твоя решимость.
Так я перебралась к бабушке.
Обстановка переменилась, но жизнь протекала по-прежнему. Раз в неделю один дерганый парень доставлял бабушке продукты. Она давала ему чаевых почти на сумму заказа, поскольку это была единственная причина, почему он приезжал в наш район. Можно было просто позвонить в магазин и включить в заказ что-то еще. В школе, куда меня определили, я практически ничему не научилась. Учителя даже не отмечали отсутствующих, потому что не хотели, чтобы те остались еще и на второй год за прогулы. Не сомневаюсь, что там работали и хорошие учителя, но таких было слишком мало, и мне они не попадались. Остальным не было до нас никакого дела – лишь бы платили зарплату.
Ученики всецело поддерживали такое положение вещей. Наркотики продавали прямо в классах, даже в младшей школе – по указанию взрослых братьев или сестер. Когда я перешла в среднюю школу, там всюду стояли металлодетекторы. Но никто и пальцем не шевелил, если они срабатывали, а происходило такое регулярно. На пропуски никто не обращал внимания, и даже если тебя не было несколько дней подряд, никто не звонил тебе домой.
Как-то раз я из любопытства просидела дома целую неделю. Мне даже штрафного задания не дали, когда я объявилась. Я вернулась только потому, что стало скучно. Это было печально. Я ни к кому не лезла, и меня никто не трогал. С наступлением темноты я не высовывалась из дома и каждую ночь засыпала под звуки выстрелов и сирен. А когда приходил газонокосильщик, дважды в месяц, я пряталась под кровать на тот случай, если он войдет в дом.
Ему было под тридцать, может, чуть больше. Джинсы на нем всегда были слишком тесные и узкие. Так он пытался обратить внимание на свое достоинство – но даже в том возрасте я не видела в нем ничего выдающегося. Он называл меня своей милой девочкой. Если мы пересекались, когда я возвращалась из школы, он трогал меня и просил передернуть ему. Однажды я пнула его, точно по яйцам. Он матерился и гнался за мной до самого дома, но в прихожей налетел на оленя, и бабушка наподдала ему за то, что он отвлек ее от сериала.
После этого я всегда ждала у заправки в паре кварталов, пока он не проезжал на своем грузовике.
* * *
– И родители ни разу не поинтересовались, как у вас дела? – Виктор понимает, что вопрос довольно глупый, но сказанного не изменишь. Он кивает, едва у нее кривятся губы.
– Родители ни разу не приехали проведать меня, ни разу не позвонили, не отправили открытки или подарка. Мама присылала чеки первые три месяца, папа – первые пять, но потом это прекратилось. Я ничего о них и не слышала с тех пор, как поселилась у бабушки. Честно говоря, я даже не знаю, живы ли они еще.
Агенты мотались целый день. Виктор ничего не ел со вчерашнего вечера, кроме этого куска торта. Он чувствует, как бунтует желудок. Она, должно быть, голодна не меньше. Прошло почти двадцать четыре часа с тех пор, как сотрудники ФБР прибыли в Сад. А на ногах они еще дольше.
– Инара, я не против, чтобы вы рассказывали всё в удобном для вас порядке. Но хочу услышать от вас прямой ответ на один вопрос: не следует ли нам пригласить представителя из службы опеки?
– Нет, – она отвечает моментально. – И это правда.
– Насколько эта правда далека от лжи?
В этот раз она действительно улыбается. Криво и насмешливо, но даже так лицо ее становится мягче.
– Вчера мне исполнилось восемнадцать. С днем рожденья меня.
– То есть, когда вы приехали в Нью-Йорк, вам было четырнадцать? – спрашивает Эддисон.
– Ага.
– И на кой черт?
– Бабушка умерла, – Инара пожимает плечами и тянется за бутылкой. – Я пришла из школы, а она сидит мертвая в своем кресле, и пальцы обожжены истлевшей сигаретой. Я даже удивилась, как все не загорелось от алкогольных паров. Должно быть, у нее случился сердечный приступ или вроде того.
– Вы сообщили об этом?
– Нет. Газонокосильщик или парень с доставки обнаружили бы ее, а мне не хотелось, чтобы кто-то решал, как быть со мной. Возможно, разыскали бы кого-то из моих родителей, и мне пришлось бы ехать с ними. Или просто пристроили бы меня в системе опеки. А может, разыскали бы какого-нибудь дядю или тетю с папиной стороны и отправили бы меня к очередным родственникам, которым я не нужна… Ничего такого мне не хотелось.
– И как же вы поступили?
– Собрала вещи в чемодан и мешок и вычистила бабушкину заначку.
Виктор не уверен, обрадует ли его ответ, но вынужден спросить:
– Заначку?
– Наличность. Бабушка не доверяла банкам и всякий раз, когда получала чек, обналичивала его и прятала половину в заднице у чучела немецкой овчарки. Хвост был на шарнире, так что можно было залезть под него и достать деньги.
Она делает глоток, потом собирает губы в кучку и прижимает к горлышку так, чтобы вода касалась трещин.
– Там было почти десять тысяч, – продолжает она, отодвинув бутылку. – Я спрятала их в мешке и в чемодане, переночевала в своей комнате, а утром вместо школы отправилась на вокзал и купила билет до Нью-Йорка.
– Вы провели ночь в доме с мертвой бабушкой.
– Но ведь не с ее чучелом. Да и чем эта ночь отличалась от других?
Снова статический треск в наушниках.
– Мы заказали вам перекусить, – сообщает Ивонна. – Будет через минуту-другую. И еще, звонила Рамирес. Некоторые из девушек понемногу разговариваются, но пока ничего особенного. Похоже, о мертвых они думают больше, чем о себе. Сенатор Кингсли вылетела из Массачусетса.
Что ж, все не так плохо. Наверное, глупо надеяться, что самолет совершит где-нибудь вынужденную посадку из-за плохой погоды.
Виктор качает головой и окидывается на спинку стула. Сенатора пока нет. Ею можно будет заняться, когда она прибудет.
– Сделаем небольшой перерыв и перекусим. Но сначала еще один вопрос.
– Всего один?
– Расскажите, как вы попали в Сад.
– Это не вопрос.
Эддисон нетерпеливо похлопывает себя по бедру, но Виктор продолжает:
– Как вы попали в Сад?
– Меня похитили.
Три дочери ее возраста – ей остается только добавить «дурак» в конце.
– Инара.
– У вас в самом деле талант.
– Я прошу.
Она вздыхает, подтягивает ноги и обхватывает колени забинтованными руками.
* * *
«Вечерняя звезда» была довольно приличным заведением. Столики лишь по предварительной брони, и цены достаточно высокие, так что просто перекусить практически никто не заходил. В обычные дни официанты носили смокинги, а официантки – черные платья без бретелек и воротнички с манжетами, как у смокингов. У нас были даже черные бабочки, вечно приходилось их поправлять. Серьги носить запрещалось.
Но Джулиан знал, как угодить богатеям. По особому случаю можно было арендовать весь ресторан и нарядить официантов в костюмы. Существовало несколько основных правил, и Джулиан следил, чтобы все было в рамках приличия. Но, в пределах дозволенного, можно было предложить любые наряды, и мы носили их весь вечер. После мы могли оставить их себе. Джулиан всегда предупреждал нас заранее о подобных мероприятиях, и если кому-то не нравилось, те могли поменяться сменами.
За две недели до моего шестнадцатого дня рождения – или двадцать первого, как считали девочки – ресторан арендовал один тип, который собирал средства для театров. Их первое представление называлось «Мадам Баттерфляй», и наряды были соответствующие. В тот вечер работали только девушки, по желанию клиента. Нам всем дали черные платья и огромные крылья из шелка и проволоки. Они крепились специальным клеем и латексом… до чего же это было мерзко! А волосы нам велели собрать на затылке.
Мы решили, что это все-таки лучше, чем извращенческие наряды пастушек или кринолиновые платья времен Гражданской войны в предсвадебный ужин. Они занимали кучу места в квартире и когда в конце концов надоели нам, мы обменяли их на рождественские подсвечники. Все было не так плохо, хоть нам и пришлось прийти на работу намного раньше, чтобы надеть проклятые крылья. К тому же мы могли оставить себе платья. Обслуживать столики с огромными крыльями за спиной оказалось адски сложно. Когда мы покончили с сервировкой основных блюд и собрались на кухне, пока в зале представляли спонсоров, никто не знал, плакать нам или смеяться. Некоторые смеялись сквозь слезы.
Ребекка, старшая официантка, со вздохом опустилась на стул и положила ноги на ящик. Она была беременна и уже не могла подолгу ходить на каблуках. Но это избавило ее от чертовых крыльев.
– Я этого не вынесу, – простонала она.
Я встала позади стула, насколько позволяли крылья, и принялась массировать ей плечи и спину.
Хоуп посмотрела в щель между дверьми.
– Мне одной кажется, что для старикана наш клиент еще неплохо управляется с хером?
– Он не так уж стар. И следи за выражениями, – одернула ее Уитни. Были такие слова, которых Джулиан не желал слышать от нас во время работы, даже на кухне. И «хер» входило в их число.
– Его сынок старше меня. Значит, он старый.
– Тогда пофлиртуй с его сыном.
– Нет уж, спасибо. Так-то он ничего, но с ним что-то не так.
– Он не глазеет на тебя?
– Он слишком много глазеет, на всех нас. Что-то с ним не то. Уж лучше я поглазею на старикана.
Мы стояли на кухне и болтали, обсуждая гостей. Потом презентацию прервали, и вновь началась беготня по залу. Я оказалась рядом со столиком нашего клиента и смогла поближе взглянуть на того самого старика и его сына. Ясно было, что имела в виду Хоуп, когда говорила про сына. Он действительно был хорош собой и неплохо сложен. Темные глаза и русые волосы, как у отца, хорошо сочетались с загаром.
Хоть загар и казался искусственным.
Но было в нем что-то еще, в его взгляде, как он смотрел на нас. За пленительной улыбкой скрывалась откровенная жестокость. Его отец был просто обаятелен и молчаливой улыбкой благодарил нас за наши усилия. Он остановил меня, коснувшись бедра двумя пальцами, и это не казалось чем-то бесцеремонным или зловещим.
– Прелестная татуировка, моя милая.
Я проследила за его взглядом. За пару месяцев до этого все мы, даже Катрин, сделали себе татуировки. Потом это казалось нам чем-то нелепым, мы даже не понимали, как вообще решились на это. Мы тогда были немного навеселе, Хоуп доставала нас, пока мы не сдались. Татуировка была на правой щиколотке, с внешней стороны: изящный узор из переплетающихся черных линий. Это Хоуп такой выбрала. София, самая здравомыслящая из всех, была против бабочки: это слишком вычурно и банально. Но Хоуп стояла на своем. Если ей что-то взбредало в голову, она была невыносима. Как правило, на время работы мы прикрывали татуировку одеждой или косметикой. Но, учитывая тематику вечера, Джулиан сказал, что рисунок можно не прикрывать.
– Спасибо, – я налила ему вина в бокал.
– Вам нравятся бабочки?
В общем-то нет, но такой ответ ему вряд ли понравился бы.
– Они красивые.
– Да. Но, как и всякое красивое создание, живут очень мало, – он оглядел меня снизу доверху и улыбнулся, глаза у него были бледно-зеленые. – Прелестна не только татуировка.
Я отметила про себя, что отец внушает страх в той же мере, что и сын, и следовало сказать об этом Хоуп.
– Благодарю, сэр.
– Мне кажется, вы слишком молоды для работы в таком ресторане.
Впервые кто-то говорил мне, что я слишком молодо выгляжу. Я уставилась на него, заметила в его взгляде какое-то удовлетворение.
– Некоторые выглядят старше своих лет, – произнесла я и тут же пожалела об этом. Не хватало еще, чтобы состоятельный клиент заявил Джулиану, что я солгала насчет своего возраста.
Я направилась к следующему столику. Он ничего не сказал, но я чувствовала на себе его взгляд, пока шла на кухню.
Во вторую часть презентации я пробралась в раздевалку за тампоном и направилась было в туалет. В дверях стоял сын клиента. Ему было двадцать пять или около того, но мы были одни в тесной комнате, и мне стало не по себе. Обычно Хоуп слабо разбиралась в людях, но в этот раз она оказалась права: с этим парнем в самом деле что-то было не так.
– Простите, но это комната только для персонала.
Он проигнорировал мои слова и, по-прежнему стоя в дверях, потрепал край моего крыла.
– У моего отца превосходный вкус, тебе не кажется?
– Вы должны уйти, сэр. Клиентам запрещено здесь находиться.
– Знал, что ты так скажешь.
– А я повторю, если надо. – Кегс, помощник официанта, грубо оттащил его от двери. – Очень жаль, но если вы не вернетесь в зал, вам придется покинуть ресторан.
Незнакомец оглядел его с ног до головы. Кегс был высокий и крепкий, и вполне был способен швырнуть человека, как пивной бочонок, – отсюда и прозвище. Незнакомец хмуро кивнул и удалился.
Кегс смотрел ему вслед, пока тот не повернул за угол.
– Ты в порядке, дорогуша?
– Да, спасибо.
Мы называли его «своим» помощником, в основном потому, что Джулиан всегда назначал его в наши смены и он считал нас своими девочками. Независимо от того, работал он в ту ночь или нет, Кегс всегда провожал нас до метро и ждал, пока мы не сядем в поезд. Он единственный игнорировал правила Джулиана насчет татуировок и пирсинга – неизвестно почему. Да, он был только помощником и не общался с клиентами, но все равно был на виду. Джулиан ничего не говорил по поводу его проколотых ушей, бровей, губ и языка. Или рук, сплошь покрытых переплетением черных линий, которые просвечивали сквозь белую рубашку и выглядывали из-под манжет и воротника, если их не скрывали длинные волосы. Иногда Кегс собирал волосы, и было видно, что татуировка тянется по шее до самого затылка.
Он чмокнул меня в щеку и проводил до туалета, и стоял у двери, пока я не закончила свои дела, а потом проводил до кухни.
– Повнимательнее с сыном клиента, – предупредил он остальных.
– Я же говорила, – хихикнула Хоуп.
В ту ночь Кегс проводил нас до самого дома. На следующий день Джулиан с тревогой выслушал об инциденте, но сказал, чтобы мы не беспокоились, поскольку клиенты уехали обратно в Мэриленд. Вернее, мы так думали.
Несколько недель спустя мы с Ноэми возвращались из библиотеки, и она повстречала кого-то из своей группы. Я оставила их и сказала, что сама доберусь до дома.
Я прошла три квартала, и меня что-то укололо. Я даже вскрикнуть не успела, ноги подкосились, и в глазах потемнело.
* * *
– Вечером, посреди улицы, в Нью-Йорке? – недоверчиво спрашивает Эддисон.
– Как я уже сказала, в Нью-Йорке, как правило, не задают вопросов, а отец с сыном при необходимости могли быть очень обаятельными. Думаю, они сумели убедить людей вокруг.
– И вы очнулись в Саду?
– Да.
Ивонна приоткрывает дверь бедром. В руках у нее упаковки с едой и напитки. Она едва не роняет все на стол и благодарит Виктора, когда тот помогает ей все расставить.
– Тут хот-доги, гамбургеры, картошка, – говорит Ивонна. – Не знала, что вы любите, поэтому попросила, чтобы соусы положили в коробку.
До Инары не сразу доходит, что Ивонна обращается к ней. Она ограничивается простым «спасибо».
– От Рамирес есть что-нибудь? – спрашивает Эддисон.
Ивонна пожимает плечами.
– Ничего особенного. Идентифицировали еще пару девушек, и некоторые назвали свои имена и адреса. Или только адреса. У одной родители переехали в Париж. Бедняжка.
Виктор распаковывает еду и следит за Инарой. Та вопросительно смотрит на Ивонну, но никак не выдает своих мыслей. Потом качает головой и берет пакетик с кетчупом.
– А сенатор? – спрашивает Эддисон.
– Еще в воздухе. Им пришлось отклониться от курса из-за грозового фронта.
Что ж, это тоже весьма неплохо.
– Спасибо, Ивонна.
Она подносит руку к уху:
– Я дам знать, если будет что-нибудь интересное.
Кивает Инаре и выходит. Еще через несколько секунд зеркальное стекло вздрагивает: хлопнула дверь в наблюдательной комнате.
Виктор выдавливает горчицу на хот-дог и наблюдает за Инарой. У него еще ни разу не возникало сомнений относительно расстановки ролей в разговоре с жертвой. Но ведь и она не совсем обычная жертва, ведь так? Это, по меньшей мере, половина проблемы. Он хмурится и смотрит на еду, чтобы Инара не приняла это на свой счет.
Это прерогатива Эддисона.
Но он должен знать.
– Вы не очень-то удивились, когда услышали про сенатора Кингсли.
– А должна была?
– Все-таки вы знаете друг друга по имени.
– Нет.
Она выдавливает кетчуп на котлету и жареную картошку, после чего набивает рот.
– Тогда как…
– Некоторые без конца говорили о своей семье. Наверное, боялись забыть. Но имен никто не называл. Равенна говорила, что ее мама была сенатором. Это все, что я знаю.
– Ее настоящее имя Патрис, – замечает Эддисон.
Инара лишь пожимает плечами.
– Как, по-вашему, назвать Бабочку из Сада, если от внешнего мира ее отделяет всего один шаг?
– Ну? И как же ее назвать?
– Думаю, все зависит от матери, сенатор она или нет. Насколько болезненным будет переход от Равенны к Патрис, если мама будет слишком настаивать?
Она откусывает от гамбургера и медленно жует, закрыв глаза. У нее вырывается тихий стон, и лицо смягчается от удовольствия.
– Давно не ели фастфуд? – Эддисон невольно улыбается.
Инара кивает.
– Лоррейн готовила только здоровую пищу, с этим было строго.
– Лоррейн? – Эддисон достает блокнот и перелистывает несколько страниц. – Врачи приняли женщину по имени Лоррейн. Она сказала, что работала там. Выходит, она знала про Сад?
– Она жила там.
Виктор смотрит на нее в изумлении, краем глаза замечая, как соус с хот-дога капает на фольгу. Инара не торопится, доедает все до последнего кусочка и только потом продолжает.
– Я, кажется, говорила, что некоторые девушки пытались выслужиться?
* * *
Лоррейн в свое время тоже пыталась. Она так хотела понравиться Садовнику, что готова была помогать ему во всем, что бы тот ни задумал, лишь бы он любил ее. Наверное, она была психически сломлена еще до того, как попала в Сад. Обычно девушкам вроде нее делали вторую татуировку – еще одну бабочку, но теперь уже на лице, чтобы все видели, как им нравится в Саду. Однако на Лоррейн у Садовника были другие планы. Он выпускал ее из Сада.
Он отправил ее в школу медсестер и на кулинарные курсы. Лоррейн была до того покорна и так его любила, что даже не пыталась сбежать или рассказать кому-нибудь про Сад, или мертвых Бабочек, или про живых, которые еще могли на что-то надеяться. Она ходила на занятия, а когда вернулась в Сад, стала набираться опыта. Когда ей стукнул двадцать один год, Садовник забрал у нее все черные платья и выдал простую серую униформу, которая закрывала спину. Так Лоррейн стала нашей медсестрой и кухаркой.
С того дня он ни разу к ней не прикоснулся и не разговаривал с ней, если дело не касалось ее обязанностей. Тогда она возненавидела его.
Но, видимо, не настолько, чтобы рассказать про Сад.
В хорошие дни, каких выпадало не так уж много, я даже чувствовала что-то вроде жалости к ней. Сколько ей, около сорока, так? Она была одной из первых Бабочек и провела в Саду большую часть жизни. Если подумать, то психологический перелом, наверное, неизбежен. Во всяком случае, она не оказалась под стеклом, о чем горько сожалела.
Мы ее ненавидели. Даже те, которые выслуживались перед Садовником, презирали ее, потому как даже они сбежали бы при первой же возможности, позвонили бы в полицию, чтобы вызволить остальных. Или, по крайней мере, убеждали себя в этом. Но если б представился случай… Не знаю. Были слухи про девушку, которой удалось сбежать.
* * *
– Кому-то удалось сбежать? – переспрашивает Эддисон.
Инара криво усмехается.
– Ходили слухи, но точно никто не знал. Ни в нашем поколении, ни в предыдущем. Это казалось чем-то несбыточным, но многие из нас верили просто потому, что нуждались в этом. Мы верили, но не думали, что это осуществимо. Сложно верить в возможность побега, глядя на Лоррейн, которая предпочла остаться.
– Вы бы попытались? – спрашивает Виктор. – Сбежать?
Она переводит на него задумчивый взгляд.
* * *
Наверное, мы были другими, не то что тридцать лет назад. Блисс в особенности любила досаждать Лоррейн в основном потому, что та не могла ответить. Садовник приходил в ярость, если Лоррейн в чем-то нас ущемляла. Она не могла даже оскорбить нас, поскольку и слова могли ранить.
Наемные садовники, скорее всего, не знали про Бабочек. Мы никогда не попадались им на глаза, и, пока они работали в Саду, нам запрещено было покидать свои комнаты. Стены были плотные и звуконепроницаемые, поэтому мы не могли слышать их, как и они нас. Лоррейн единственная знала про нас, но бесполезно было просить ее что-то сделать или передать кому-нибудь сообщение. Она бы не только отказала, но и доложила бы все Садовнику.
И тогда еще одна Бабочка отправилась бы в коридор, под стекло.
Иногда Лоррейн глядела на этих девушек под стеклом с такой откровенной завистью, что больно было смотреть. Это все, конечно, трогательно, но жутко бесило. Ведь она, черт возьми, ревновала к убитым девушкам. Однако Садовник любил этих девушек. Он приветствовал их, когда проходил мимо, или приходил, чтобы просто посмотреть на них. Он помнил их по именам и называл своими. Мне кажется, Лоррейн надеялась однажды присоединиться к ним. Ей хотелось, чтобы Садовник любил ее так же, как любил нас.
Думаю, она не понимала, что этого никогда не случится. Девушки попадали под стекло в самом расцвете, их крылья сияли на молодой, безупречной коже. Садовник и не подумал бы помещать под стекло сорокалетнюю женщину – или сколько ей там стукнуло бы, – чья красота давно поблекла.
«Красота долго не живет», – так он сказал мне в нашу первую встречу.
Он наслаждался этой красотой, а потом наделял своих Бабочек своего рода бессмертием.
* * *
Ни Виктору, ни Эддисону нечего сказать на это.
Никто просто так не просится в группу по расследованию преступлений против детей. У всех есть свои причины. Виктору всегда важно знать мотивы тех, кто работает в его группе. Эддисон смотрит на свои стиснутые кулаки, и Виктор знает, что сейчас он думает о своей младшей сестре: она пропала, когда ей было восемь лет, и до сих пор о ней ничего не известно. Нераскрытые дела всегда были для Брэндона тяжким грузом: те случаи, когда родные ждали ответов, которых, возможно, никогда не получат.
Виктор думает про своих дочерей. С ними ничего такого не случалось. Но если когда-нибудь случится, он, наверное, сойдет с ума.
Однако именно потому, что это касается их лично, потому что они пристрастны, эти агенты выгорают и ломаются первыми. Виктор тридцать лет в ФБР и не раз наблюдал, как это происходит – с хорошими агентами или плохими, неважно. Он и сам был близок к этому после одного скверного дела. Слишком много смертей, слишком маленькие гробы для детей, которых они не смогли спасти. Дочери убедили его остаться. Они звали его своим супергероем.
У этой девушки никогда не было супергероя. И Виктор сомневается, нужен ли он ей.
Она смотрит на них, лицо ее не выдает никаких мыслей. У Виктора такое чувство, будто она понимает их гораздо лучше, чем они ее, и от этого неприятно.
– Когда Садовник приходил к вам, он приводил сына? – спрашивает он, чтобы вернуть себе инициативу.
– Приводил? Нет. Эвери приходил сам, когда ему вздумается.
– Он с вами когда-нибудь…
Инара пожимает плечами.
– Мне доводилось читать Эдгара По в его визиты. Но Эвери со мной не нравилось. Во мне не было того, чего он хотел.
– И чего же?
– Страха.
* * *
Садовник убивал лишь по трем причинам.
Во-первых, возраст. Срок годности истекал в двадцать один, после чего… Да, красота преходяща, и он хотел сохранить ее, пока была возможность.
Во-вторых, состояние здоровья – если девушка покалечена, слишком больна или слишком беременна. Ну, просто беременна. Слишком беременная – это как слишком мертвая, статичное состояние. Такие новости всегда злили Садовника. Лоррейн раз в квартал колола нам препараты, призванные избавить нас от подобных казусов. Но каким же надо быть идиотом, чтобы не предохраняться?
Ну, и в-третьих, если девушка была неспособна ужиться в Саду. Если по прошествии нескольких недель она продолжала плакать, голодала или неоднократно пыталась покончить с собой. Если она слишком упрямились или ломалась.
Эвери убивал девушек ради удовольствия – или по неосторожности. В таких случаях отец на какое-то время запрещал ему появляться в саду. Но потом Эвери возвращался.
Я провела там почти два месяца, когда он пришел взглянуть на меня. Лионетта была с новой девушкой, которой еще не дали имени, Блисс – с Садовником, так что я лежала на вершине скалы, над водопадом, и пыталась выучить «Страну фей» По. Девушки в большинстве своем не могли подниматься на вершину без мыслей о самоубийстве, и я, как правило, бывала там одна. Там было так спокойно… Хотя в саду всегда было тихо. Даже если мы играли в салки или прятки, никто не шумел. Все звуки выходили приглушенными, и никто не знал, то ли так хотел Садовник, то ли это просто инстинкт. Все привычки мы перенимали от других Бабочек, которые в свою очередь перенимали их от своих предшественниц. Садовник содержал свой Сад проклятых тридцать лет.
Он не брал девушек младше шестнадцати. Хоть иногда и ошибался, но в бо́льшую сторону. Так что максимальная продолжительность жизни в Саду составляла пять лет. Если не учитывать погрешностей, там жили шесть поколений Бабочек.
Когда я встретила Эвери в ресторане, он был в смокинге, как и отец. Я сидела, прислонившись к скале, с книгой на коленях, и грелась в солнечных лучах. На меня упала его тень, и я подняла глаза. В этот раз он был в джинсах и расстегнутой рубашке. На груди у него были видны царапины, а на шее – след от укуса.
– Отец не желает тобой делиться, – заявил он. – Ничего не сказал про тебя, даже имени твоего не назвал. Не хочет, чтобы я запомнил тебя.
Я перевернула страницу и вновь уставилась в книгу.
Он одной рукой схватил меня за волосы, повернул к себе, а другой больно ударил по лицу.
– В этот раз тебе никто не поможет. В этот раз ты получишь, чего просишь.
Я вцепилась в книгу и не отвечала.
Эвери снова меня ударил, из рассеченной губы потекла кровь, и перед глазами заплясали огни. Он вырвал у меня книгу и швырнул в воду. Я посмотрела, как она исчезла за краем скалы, чтобы не глядеть на него.
– Пойдешь со мной.
Он потащил меня за волосы. Блисс заплела их в красивый пучок, и теперь они растрепались. Всякий раз, когда я замедляла шаг, Эвери разворачивался и снова бил меня. Другие девушки провожали нас взглядами. Одна даже всхлипнула, но остальные быстро ее успокоили, иначе Эвери мог решить, что с плаксой будет веселее.
Он привел меня в комнату, рядом с той, где находилось оборудование для татуирования, у самой границы Сада. Мне еще не приходилось бывать там. Она всегда была заперта, и открывалась только когда Эвери решал поиграть. Там находилась еще одна девушка, прикованная к стене за запястья. Густая кровь покрывала ее бедра и лицо, стекала с прокушенной груди. Голова клонилась вперед под неестественным углом. Она не никак отреагировала, даже когда я ударилась об пол.
Она не дышала.
Эвери провел рукой по огненно-рыжим волосам, запустил в них пальцы и откинул назад голову. На шее были видны отпечатки ладоней, сбоку из кожи торчала кость.
– Она оказалась слабой, не то что ты.
Он двинулся на меня – явно ждал, что я стану сопротивляться. Но я не стала. Вообще ничего не предпринимала.
Нет, не совсем.
Я читала По, и когда перебрала все стихи, которые знала, начала по новому кругу. И так круг за кругом, пока он с негодованием не отшвырнул меня к стене и не вышел в расстегнутых джинсах. Вы, наверное, скажете, что я победила.
Но в тот момент я не ощущала особого триумфа.
Когда комната перестала наконец вращаться, я поднялась и огляделась в поисках ключа или рычага, чтобы освободить прикованную девушку. Ничего не нашла – только запертый шкаф. Я приоткрыла дверь, насколько позволял замок, и увидела плети и розги. Там были наручники и зажимы, и всякое другое, от чего мороз пробегал по коже. Чего там только не было… Но я так и не нашла способа вернуть бедняжке более-менее приличный вид.
В конце концов я отыскала остатки своего платья и, как могла, прикрыла самое важное. Потом поцеловала ее в щеку и заговорила, вкладывая всю душу в слова утешения.
– Больше он тебя не тронет, Жизель, – шептала я, прижавшись к окровавленному лицу.
После чего голой пошла по коридору.
По всему телу растекалась боль. Кода я проходила мимо других девушек, они сочувственно вздыхали, но не пытались помочь. В таких случаях нам следовало идти к Лоррейн, чтобы та зафиксировала каждый ушиб и доложила об этом Садовнику. Но мне не хотелось смотреть, как она с каменным лицом ощупывает нарастающие синяки и надавливает при этом сильнее, чем нужно. Я достала останки книги из пруда, вернулась в свою комнату и села в тесной душевой кабине. Вода у меня бывала только вечером – для каждой из нас было определено свое время. За исключением тех, к кому приходил Садовник. Те девушки, которые пробыли в Саду достаточно долго, могли сами включать воду. Еще одна привилегия, которую следовало заслужить, и для меня она оставалась недоступной еще несколько месяцев.
Мне хотелось заплакать. Я видела, как некоторые девушки плакали время от времени – и после, казалось, чувствовали себя лучше. Я не плакала с шести лет, после той чертовой карусели, когда нарезала круги на раскрашенной лошади, а родители ушли и забыли про меня. Как оказалось, несколько часов, сидя в душевой кабине в ожидании воды, не могли этого изменить.
Меня разыскала Блисс. С нее еще капала вода после душа, волосы были замотаны в ярко-синее полотенце, в цвет крыльев.
– Майя, что… – Она застыла, уставившись на меня. – Какого черта, что случилось?
Даже говорить было больно. Губы распухли, челюсть болела после множества ударов.
– Эвери.
– Подожди здесь.
Как будто мне было куда идти.
Но Блисс вернулась и привела с собой Садовника. Непривычно было видеть его растрепанным. Она ничего не сказала, просто ввела его в комнату, отпустила руку и ушла.
У него дрожали руки.
Он медленно пересек комнату, опустился на колени рядом со мной и с возрастающим ужасом стал осматривать мои синяки, царапины и следы от укусов. Главная его странность – а их у него хватало – состояла в том, что он действительно заботился о нас. Или, по крайней мере, о тех, кем нас считал.
– Майя, мне… мне так жаль. Правда, жаль.
– Жизель мертва, – прошептала я. – Я не смогла высвободить ее.
Садовник закрыл глаза, на лице его отразилась искренняя боль.
– Она может подождать. Надо позаботиться о тебе.
До того момента я не знала, что у него была в Саду своя комната. Когда мы проходили мимо тату-кабинета, он громко позвал Лоррейн. Я слышала, как она выходит из соседней комнаты, где располагался медпункт. Ее каштановые с проседью волосы выбились из прически и упали на лицо.
– Принеси мне бинт и антисептик. И что-нибудь от отеков.
– Что слу…
– Просто принеси, – оборвал Садовник.
Он свирепо взглянул на Лоррейн, и она исчезла. А когда вновь появилась, держала в руках сетчатую сумку, куда наспех сложила все необходимое.
Садовник ввел код на стенной панели, и одна из секций отъехала в сторону. Мы оказались в комнате, отделанной красным деревом, в золотых и бордовых цветах. Я успела разглядеть удобный диван и кресло под высокой лампой, вмонтированный в стену телевизор. Потом он провел меня в ванную с джакузи больше, чем моя кровать. Помог мне сесть на край и открыл воду, после чего намочил платок и стал стирать с меня кровь.
– Я больше не позволю ему такого, – шептал он. – Мой сын, он… ему не хватает контроля.
Помимо всего прочего.
Я, как и прежде, не сопротивлялась, пока он хлопотал надо мной, после чего уложил в свою постель и сходил к Лоррейн за подносом. Я и не думала, что смогу уснуть, но уснула. И он всю ночь лежал позади меня, гладил мне волосы и спину.
На следующий день, когда я отдыхала в собственной постели, а рядом сидела Блисс, вошла Лоррейн и бросила мне сверток. Блисс пробормотала что-то насчет ворчливых сук, а я тем временем развернула бумагу – и рассмеялась.
Это был сборник стихов По.
* * *
– Значит, Садовник не одобрил того, что сделал его сын?
– Он любил нас и искренне сожалел, когда приходилось убивать нас. Эвери просто… – Она качает головой и подгибает под себя ноги. Потом вздрагивает и прижимает руку к животу. – Прошу прощения, но мне действительно нужно в уборную.
Через минуту Ивонна открывает дверь. Инара встает и подходит к ней. Оглядывается на Виктора, словно спрашивает разрешения. Тот кивает, и они уходят, закрыв за собой дверь.
Виктор перебирает фотографии и пытается сосчитать каждую пару крыльев.
– Думаешь, тут все, кого он держал? – спрашивает Эддисон.
– Нет, – вздыхает Виктор. – Я бы и рад ответить «да». Но что если из-за увечья искажался рисунок на спине? Не думаю, чтобы он помещал таких под стекло. Все, кто на снимках, – в превосходном состоянии.
– Они мертвы.
– Но превосходно сохранились, – он берет один из снимков. – Она говорила что-то про смолу. Специалисты подтвердили?
– Сейчас узнаю.
Эддисон встает из-за стола и вынимает телефон. За все время, что они работают вместе, Виктор еще ни разу не видел, чтобы Брэндон спокойно разговаривал по телефону. Как только раздаются гудки, он начинает шагать из угла в угол, точно хищник в клетке.
Виктор берет ручку, прицепленную к блокноту Эддисона и ставит свои инициалы на пакете с удостоверениями. Вскрывает его и вытряхивает карточки на стол. Брэндон с любопытством наблюдает за его действиями, но Хановериан не обращает на него внимания. Он перебирает удостоверения, пока не находит нужное имя. Кэссиди Лоуренс.
Лионетта.
Когда ее похитили, этим правам было всего три дня. Девушка на фото сияет от счастья. Такое лицо создано для улыбок и радости. Виктор пытается представить хмурую девушку, которая встретила Инару в Саду. Это довольно трудно. Он прикладывает удостоверение к снимку с оранжевыми крыльями, но уловить сходство все равно не получается.
– Как думаешь, которая из них Жизель? – спрашивает Эддисон и убирает телефон в карман.
– Слишком много рыжих, не угадать. Если только Инара скажет, какая на ней была бабочка.
– Это продолжалось тридцать лет, и никто ничего не заметил?
– И сколько бы это продолжалось, если бы не тот звонок в полицию… Если б они не обратили внимания на наши запросы по некоторым именам…
– Страшно подумать.
– Что говорят специалисты?
– Они опечатывают место преступления и проводят инструктаж с патрульными. Сказали, что завтра попытаются вскрыть капсулы.
– Опечатывают? – Виктор задирает рукав, смотрит на часы. Почти десять. – Дьявол.
– Вик… мы не можем ее отпустить. Вполне возможно, что она опять скроется. И нет гарантии, что она не причастна к этому.
– Знаю.
– Так почему ж ты не надавишь на нее?
– Потому что она достаточно умна, чтобы обернуть это против нас и… – он отрывисто смеется, – ей хватит наглости, чтобы этим развлечься. Пусть рассказывает, как ей на душу ляжет. Оно потребует времени, но этот случай один из немногих, когда время у нас есть. – Он подается вперед, опершись о край стола. – Подозреваемые в плохом состоянии. Неизвестно, переживут ли они эту ночь. Возможно, это наш единственный шанс получить представление о произошедшем.
– Если она говорит правду.
– В общем-то, пока не лгала.
– Откуда нам знать. Люди с поддельными документами не внушают мне доверия.
– Она объяснила причину. Возможно, это правда.
– Тем не менее это незаконно. Я ей не доверяю.
– Дай ей время. И это даст время нам. Остальные девушки оправятся настолько, что смогут ответить на вопросы. Чем дольше мы держим ее здесь, тем выше шансы, что заговорят другие.
Эддисон хмурится, но кивает.
– С ней непросто.
– Кто-то ломается и живет с этим. А кто-то вновь собирает себя по кусочкам и при этом не скрывает шрамов.
Эддисон закатывает глаза и сгребает удостоверения обратно в пакет. Потом аккуратно собирает все в стопку и кладет вровень с краем стола.
– Мы тридцать шесть часов на ногах. Нам нужно поспать.
– Да…
– Так что же с ней делать? Нельзя допустить, чтобы она снова скрылась. А если мы вернем ее в больницу и сенатор узнает про нее…
– Останется здесь. Раздобудем пару одеял, может, найдется раскладушка. А утром продолжим.
– По-твоему, это хорошая идея?
– Все лучше, чем позволить ей уйти. Если оставить ее здесь, а не помещать в камеру, допрос не будет прерван. Даже сенатор Кингсли не сможет вмешаться.
– Думаешь, на это можно рассчитывать? – Эддисон собирает контейнеры от еды и запихивает все в бумажный пакет, пока бумага не рвется, после чего направляется к двери. – Раздобуду раскладушку.
Эддисон распахивает дверь, и навстречу ему входят Инара с Ивонной. Он хмурится и уходит. Ивонна кивает Виктору и возвращается в наблюдательную.
– До чего же он милый, – сухо подмечает Инара и садится на свое место. Она смыла с лица копоть и грязь и собрала волосы в опрятный пучок.
– У него свои сильные стороны.
– Только не говорите, что умение ладить с пострадавшими из их числа.
– Ему ближе работа с подозреваемыми, – добавляет Виктор и заставляет ее улыбнуться. Он ищет, чем бы занять руки, но Эддисон в своей дотошности убрал все со стола. – Расскажите о жизни в Саду.
– То есть?
– Повседневная жизнь, когда не происходило ничего необычного. Как это было?
– Тоска смертная.
Виктор потирает переносицу.
* * *
Серьезно, было чертовски скучно.
Как правило, в Саду насчитывалось от двадцати до двадцати пяти девушек. Не считая Лоррейн. С какой стати нам считать ее одной из нас? Если Садовник был в городе, то «навещал» по меньшей мере одну из нас. Иногда двоих или троих, если не работал и не проводил время с семьей. То есть, он не мог в одну неделю провести время со всеми. После того, что Эвери сделал со мной и Жизель, ему разрешалось приходить в Сад лишь раз в неделю, и только под надзором отца. Хотя Эвери при любой возможности нарушал запрет, да и продлилось это недолго.
Завтрак накрывали в половине восьмого, и мы должны были поесть до восьми, чтобы Лоррейн успела убрать за нами. Отказаться от еды мы не могли, Лоррейн наблюдала за нами и докладывала Садовнику. Раз в день можно было сослаться на отсутствие аппетита, но если это повторялось, она приходила к тебе в комнату, чтобы осмотреть тебя.
После завтрака и до двенадцати мы делали что хотели. Это не считая тех дней, когда приходили работники и мы сидели взаперти. Потом еще полчаса отводилось на обед, и половина девушек ложились вздремнуть. Наверное, думали, что время пролетит быстрее, если спать целым днями. Я же брала пример с Лионетты и утренние часы отводила разговорам. Некоторым из девушек нужно было выговориться, и пещера под водопадом стала для нас чем-то вроде приемной. Камеры и микрофоны стояли повсюду, но водопад, даже такой маленький, приглушал звуки, и речь становилась неразборчивой.
* * *
– И он разрешал вам? – недоверчиво спрашивает Виктор.
– Конечно. Когда я объяснила ему.
– Объяснили ему?
– Да. Как-то вечером он привел меня на ужин в свои покои и спросил об этом. Наверное, хотел убедиться, что мы не замышляем бунт или что-то еще.
– И что вы ему сказали?
– Сказала, что девушкам важно побыть в уединении, что это полезно для их душевного равновесия. А если эти разговоры идут им на пользу, то какая, к черту, разница? Конечно, тогда я выражалась куда изящнее. Садовник любил изысканность во всем.
– Эти разговоры с девушками, как это происходило?
* * *
Некоторым нужно было просто облегчить душу. Они были в отчаянии, напуганы, не находили себе места; им нужен был кто-то, кто выслушал бы их. Они расхаживали по пещере, кричали и колотили по стенам. Но под конец выдыхались, и кризис на какое-то время уходил. Это были девушки вроде Блисс, только им недоставало ее дерзости.
Блисс говорила что хотела, когда хотела и где хотела. Как она сказала еще в первую нашу встречу, Садовник не требовал от нас любви. Мне кажется, он хотел этого, но никогда не просил. Думаю, он ценил ее честность, как ценил мою прямоту.
Некоторые девушки нуждались в утешении, и тут я часто пасовала. Нет, если они плакали время от времени, это я еще могла вытерпеть. Или, скажем, в первый месяц в Саду. Но если это продолжалось недели, месяцы или даже годы… Тогда я, как правило, теряла терпение и просто советовала им смириться.
Но иногда могла проявить великодушие и отправляла их к Эвите.
Эвита была Американской леди: крылья у нее были оранжевых и темно-желтых оттенков с замысловатым черным узором по краям. Она была славная, только сообразительностью не отличалась. Не хочу ее обидеть, это просто факт. По уровню развития она так и осталась шестилетней девочкой, и была в восторге от Сада. Садовник посещал ее от силы пару раз в месяц, поскольку его желания всегда пугали ее и приводили в замешательство. Эвери вообще было запрещено к ней приближаться. Всякий раз, когда Садовник приходил к ней, мы с ужасом ждали, что она окажется под стеклом. Но его, похоже, просто умиляла эта детская непосредственность.
Эти девушки могли прийти к ней и лить слезы в три ручья, а она обнимала их, гладила и несла всякую чушь, пока те не успокаивались. Они изливали ей душу, а она слушала и не произносила ни слова. Общество Эвиты всегда оказывало на них благотворное действие.
Лично меня общество Эвиты приводило в уныние. Но если к ней приходил Садовник, она потом приходила ко мне. Она была единственной, кому я прощала слезы.
* * *
– Тогда в больнице ей нужен особый представитель?
Инара качает головой.
– Она умерла полгода назад. Несчастный случай.
* * *
В начале двенадцатого наша «приемная» закрывалась, и некоторые из девушек пускались бегом по коридору. Лоррейн, если была на месте, смотрела на нас, но ничего не говорила, потому что для нас это была единственная возможность поддержать форму. Садовник не давал нам гантелей или беговых дорожек, поскольку опасался, что мы намеренно себя покалечим.
После обеда и до восьми часов мы были совершенно свободны. Вот тогда становилось по-настоящему скучно.
На вершине скалы мне нравилось даже больше, чем в пещере за водопадом. Я была одной из немногих, кто любил забираться туда и сидеть под самым куполом, который отделял нас от внешнего мира. Многие девушки делали вид, что до неба еще высоко, что их мир куда больше, и снаружи нас ничто не ждет. Если им было легче от этого, я не спорила. Но мне нравилось наверху. Иногда я даже забиралась на деревья, вытягивала руку и дотрагивалась до стекла. Я любила напоминать себе, что за пределами моей клетки – большой мир. Хоть мне и не доведется увидеть его снова.
Поначалу мы с Лионеттой и Блисс лежали там вечерами и разговаривали или читали. Иногда Лионетта складывала фигурки из бумаги, Блисс лепила что-нибудь из полимерной глины, которую покупал ей Садовник, а я читала вслух.
Бывало и так, что мы спускались к ручью, что бежал среди буйных зарослей, как в джунглях, и проводили время с другими девушками. Иногда мы просто читали вместе или говорили о чем-то отвлеченном. А если становилось совсем скучно – играли.
В такие дни Садовник казался особенно счастливым. Мы знали, что там повсюду стояли камеры, и ночью можно было заметить красные мигающие огоньки. Но в те дни, когда мы играли, он приходил в Сад и наблюдал за нами, стоя у водопада. И улыбался так, словно это было пределом его мечтаний.
Думаю, в такие минуты мы не расходились по своим комнатам только потому, что действительно умирали со скуки.
Полгода назад мы вдесятером играли в прятки, и Данелли водила. Она стояла рядом с Садовником и считала до ста: это было единственное место, где никому не хотелось прятаться. Кроме того, там она не слышала, как мы прячемся. Не знаю, догадывался ли Садовник о причинах, но он, казалось, был рад участвовать в игре, хоть и опосредованно.
Я практически всегда залезала на деревья, потому что два года лазала в квартиру по пожарной лестнице и могла вскарабкаться выше остальных. Найти меня не составляло труда, а вот залезть и осалить меня никто не мог.
Эвита до смерти боялась высоты. Как и замкнутого пространства. Кто-нибудь всегда оставался с ней на ночь: на случай, если стены вдруг опустятся, чтобы она не осталась одна взаперти. Эвита никогда не лазала по деревьям. Но тот день стал исключением. Не знаю, с чего она вдруг решила. Тем более что мы видели, в каком она была ужасе, когда оказалась в шести футах над землей. Мы пытались отговорить ее, предлагали другие места, но Эвита была настроена решительно.
– Я храбрая, – повторяла она. – Я храбрая, как Майя.
Садовник наблюдал за всем этим с тревогой. Он всегда беспокоился, если кто-то из нас изменял своим привычкам.
Данелли досчитала до девяноста девяти и просто остановилась, чтобы дать время Эвите. Мы все так поступали время от времени, если она не успевала спрятаться. Данелли стояла к нам спиной, прикрыв ладонями татуированное лицо, и ждала, пока не утихнет шорох.
Это заняло минут десять, но Эвита карабкалась дюйм за дюймом, пока не забралась футов на пятнадцать. Наконец она села на ветке. По щекам ее текли слезы, но она посмотрела на меня и робко улыбнулась.
– Я храбрая, – сказала она.
– Ты храбрая, Эвита, – ответила я с соседнего дерева. – Храбрее всех нас.
Она кивнула и посмотрела на землю, такую далекую.
– Мне тут не нравится.
– Помочь тебе спуститься?
Она снова кивнула.
Я осторожно приподнялась на ветке и начала спускаться, но тут услышала голос Равенны.
– Эвита, стой! Дождись Майю!
Я оглянулась через плечо и увидела, как Эвита перебирает руками и сползает по ветке, пока та не стала слишком тонкой, чтобы выдержать ее вес. Ветка обломилась, и Эвита с воплем полетела вниз. Все бросились из своих укрытий ей на помощь, но она ударилась головой о нижнюю ветку. Раздался мерзкий хруст, и крик резко оборвался.
Эвита с плеском упала в пруд и замерла.
Я слезла с дерева так быстро, как только могла, содрав кожу о кору. Все остальные застыли на месте, даже Садовник. Они стояли и смотрели на девушку в пруду, как кровь растекалась по ее пепельным волосам. Я полезла в воду, схватила Эвиту за локоть и подтянула к себе.
Наконец к нам подбежал Садовник и, не боясь испачкаться, помог мне вытащить Эвиту на берег. Глаза у нее были широко открыты, но проверять пульс не имело смысла.
Хруст, который мы слышали… Эвита сломала шею.
Смерть в Саду была странным явлением. Мы постоянно чувствовали ее присутствие, но никогда это не происходило у нас на глазах. Кого-то из нас просто уводили, и в коридоре появлялась еще одна пара крыльев. Многие из нас впервые увидели смерть своими глазами.
Садовник дрожащей рукой убрал мокрые волосы с ее лица и коснулся головы в том месте, куда пришелся удар. И на Эвиту уже никто не смотрел – все уставились на Садовника, потому что он плакал. Всхлипывал, не в силах перенести внезапной утраты, и все тело его сотрясалось. Он качался взад-вперед, прижав к груди мертвое тело; кровь залила ему манжеты, вода замочила брюки и рубашку.
Он, казалось, плакал за всех разом. На крики сбежались остальные девушки, и все мы стояли молча, и никто даже не всхлипнул. В то время как наш похититель оплакивал смерть девушки, которую он не убивал.
* * *
Инара берет стопку фотографий и перебирает их, пока не находит нужную.
– Он уложил ее волосы таким образом, чтобы не было видно ушибленного места, – она кладет фотографию перед Виктором. – Остаток дня и всю ночь он проводил с ней какие-то манипуляции, хотя мы его не видели. А на следующий день она стояла в коридоре, за стеклом, и он спал рядом с ней. Глаза у него были красные и опухшие. Он провел там целый день, прямо перед ней. И вплоть до последних событий касался стекла всякий раз, когда проходил мимо. Казалось, он делал это неосознанно – даже когда стекла были прикрыты, он касался стены.
– Но это был не единственный несчастный случай, так?
Она мотает головой.
– Нет, далеко не единственный. Но Эвита была… она была славной, такой невинной. И просто не способна была принять плохого. А если с ней что-то и происходило, то едва касалось и не оставляло следа. Думаю, она в некотором роде была самой счастливой среди нас. Просто потому, что иное было ей неведомо.
Эддисон вваливается под металлический скрип: он тащит за собой раскладушку, другой рукой обхватив одеяла и подушки. Сваливает все это в дальнем углу и, отдышавшись, поворачивается к Виктору.
– Только что звонила Рамирес. Сын мертв.
– Какой из?..
Она произносит это так тихо и с таким выражением, что невозможно распознать ее чувств. Виктор даже не уверен, верно ли ее расслышал. Он смотрит на нее, но Инара не сводит глаз с Эддисона. Вновь запускает ноготь под повязку, и кровь проступает сквозь бинт.
Брэндон тоже озадачен. Он смотрит на Виктора, и тот пожимает плечами.
– Эвери, – растерянно отвечает Эддисон.
Инара сжимается, прячет лицо в ладонях. Можно подумать, что она плачет. Но через минуту, когда девушка вновь поднимает голову, глаза у нее сухие. Хотя видно, что новость странным, непостижимым образом мучительна для нее.
Эддисон бросает на Виктора многозначительный взгляд, но тот даже не представляет, о чем она сейчас думает. Казалось бы, известие о смерти истязателя должно ее обрадовать. Или, по крайней мере, принести облегчение. Возможно, в глубине души она и рада, но лицо ее выражает лишь смирение.
– Инара?
Она переводит взгляд на раскладушку, поддевает пальцами повязки уже на обеих руках и отрешенно спрашивает:
– Так что, я могу лечь спать?
Виктор встает и знаком просит Эддисона оставить их. Тот без лишних слов берет со стола фотографии и пакет с удостоверениями. Хановериан остается наедине с этим покалеченным ребенком, которого вряд ли поймет до конца. Он молча устанавливает раскладушку в дальнем углу, так, чтобы стол оказался между Инарой и дверью. Потом расстилает одно одеяло вместо простыни, а второе складывает в ногах и кладет подушки с другой стороны. Покончив с этим, опускается на колено рядом с ее стулом и кладет руку ей на спину.
– Инара, я знаю, как вы устали. Ложитесь, отдохните. Завтра мы вернемся и продолжим, у нас еще много вопросов. Надеюсь, будут какие-то новости для вас и для остальных. Но… прежде чем я уйду…
– До завтра никак?
– Младшему сыну было известно про Сад?
Она закусывает губу так, что кровь стекает по подбородку.
Виктор со вздохом протягивает ей платок и направляется к выходу.
– Дес.
Виктор, уже в дверях, оборачивается. Но Инара сидит с закрытыми глазами, и Хановериан видит по ее лицу, как ей больно, но не может понять причину.
– Что, простите?
– Его зовут Дес. Десмонд. Да, он знал про Сад. И про нас.
Голос ее выдает. Виктор понимает, что она дала слабину, и, как агент, он должен бы воспользоваться такой возможностью. Но представляет своих дочерей, сидящих вот так, с болью в глазах – и просто не может этого сделать.
– В соседней комнате будет дежурный, – мягко произносит Виктор. – Если вам что-нибудь понадобится, просто попросите. Спокойной ночи.
Этот хриплый звук можно принять за смех, но ему не хотелось бы услышать его вновь.
Он тихо прикрывает за собой дверь.
Виктор заглядывает к сонному дежурному; Инара – нелепо называть ее так, зная, что это не настоящее имя – еще спит, зарыв лицо в рукавах его пиджака. Один из агентов передает ему стопку отчетов: сообщения из больницы, доклады от агентов с места преступления, информация обо всех причастных. Виктор просматривает их за кофе из кафетерия – ненамного лучше пойла с их кухни – и пытается сопоставить фотографии с именами девушек в личных делах.
Еще нет и шести, как входит Ивонна. Веки у нее опухшие от недосыпа.
– Доброе утро, агент Хановериан.
– Твоя смена начинается только в восемь. Почему бы не поспать?
Ивонна лишь качает головой.
– Не могла уснуть. Всю ночь просидела в кресле рядом с дочкой и смотрела на нее. Если кто-нибудь однажды… – Она вновь качает головой, в этот раз резче, словно пытается отогнать дурные мысли. – Уехала, как только свекровь проснулась.
Виктор предложил бы ей вздремнуть в кабинете, но понимает, что этой ночью вряд ли кто-то из них нормально выспался. Он и сам толком не спал. Перед глазами то и дело возникали фотографии из коридора, и в голову лезли воспоминания, как дочери бегают по двору с привязанными за спиной крыльями. В минуты бездействия проще всего поддаться страху.
Виктор приподнимает с пола матерчатую сумку.
– У меня тут для тебя булочки с корицей, если ты не против, – говорит он, и Ивонна заметно оживляется. – Холи передала кое-что из одежды для Инары. Можешь проводить ее в душ, чтобы она потом переоделась?
– Твоя девочка просто ангел, – она смотрит сквозь стекло на спящую девушку. – Так жалко будить ее…
– Лучше ты, чем Эддисон.
Ивонна молча выходит, и через мгновение дверь в комнату для допросов открывается с едва слышным скрипом.
Этого достаточно. Инара выпутывается из одеяла и садится, прислонившись к стене. Замечает Ивонну в дверях. Они смотрят друг на друга, потом Ивонна разводит руками и нерешительно улыбается.
– Отличная реакция.
– Он, бывало, стоял вот так в дверях. И кажется, расстраивался, если мы не замечали его.
Она зевает и потягивается, суставы хрустят после ночи на неудобной раскладушке.
– Мы подумали, что вам, возможно, захочется принять душ, – Ивонна приподнимает сумку. – Тут есть одежда вашего размера и мыло.
– Я расцеловать вас готова, – шагая к двери, Инара стучит по стеклу. – Спасибо, специальный агент Виктор Хановериан.
Он смеется, но ничего не говорит.
Пока их нет, Виктор входит в комнату и вновь берется за отчеты. За ночь в больнице умерла еще одна девушка, но остальным, кажется, ничто не угрожает. Всего, включая Инару, получается тринадцать. Тринадцать выживших. Может быть, четырнадцать, в зависимости от того, что она расскажет о парне. Если это сын Садовника, причастен ли он к тому, что совершали его отец и брат?
Инара еще в душе, когда входит Эддисон, чисто выбритый и на этот раз в пиджаке, и кладет на стол упаковку слоеных булочек.
– Где она?
– Ивонна отвела ее в душ.
– Думаешь, сегодня она расскажет что-нибудь?
– Если захочет.
По хмурому взгляду ясно, как его напарник относится к этой идее.
– Что ж, ладно, – Виктор протягивает Эддисону часть бумаг, которые уже просмотрел.
Некоторое время слышен лишь шелест страниц, да временами кто-нибудь прихлебывает кофе.
– Рамирес говорит, сенатор Кингсли устроила лагерь в фойе больницы, – говорит Эддисон через несколько минут.
– Знаю.
– И говорит, что Патрис не хочет видеть мать. Якобы не готова к этому.
– И это знаю, – Виктор кладет бумаги на стол и трет глаза. – Разве можно ее винить? Она выросла перед камерами, и что бы она ни сделала, все проецировалось на ее мать. Она знает – возможно, лучше нас, – что СМИ готовы на нее наброситься. Встреча с мамой положит этому начало.
– Ты когда-нибудь задумывался, действительно ли мы хорошие парни?
– Смотри, чтобы она не перетянула тебя на свою сторону. – Растерянный взгляд напарника вызывает у него усмешку. – По-твоему, у нас такая уж отличная работа? Нет. Или мы отлично делаем свое дело? Нет. Это невозможно. Но мы делаем свое дело, и в конце дня получается, что хорошего мы сделали куда больше, чем напортачили. Инара превосходно уклоняется от ответа. Не давай ей сбить себя с толку.
Эддисон вновь погружается в чтение. Потом говорит:
– Патрис Кингсли – Равенна – сказала Рамирес, что хочет поговорить с Майей, прежде чем решит насчет матери.
– Хочет спросить совета? Или хочет, чтобы за нее решили другие?
– Не сказала. Вик…
Виктор ждет продолжения.
– Откуда нам знать, что Инара не как Лоррейн? Она заботится об этих девушках. Кто знает, может, она делает это, чтобы понравиться Садовнику?
– Мы этого не знаем, – соглашается Виктор. – Пока не знаем. Но выясним, так или иначе.
– Скорее помрем от старости.
Виктор закатывает глаза и возвращается к бумагам.
С Ивонной возвращается совершенно другая девушка. Ее волосы гладко расчесаны и рассыпались по спине. Джинсы не совсем по размеру, и верхние пуговицы расстегнуты, чтобы были посвободнее, но нижний край майки прикрывает их, и зеленая кофта мягко облегает ее формы. Сланцы тихо шлепают, пока девушка идет к своему месту. Она сняла бинты, и Виктор вздрагивает при виде розовых ожогов на ее руках и порезов от стекла.
Инара замечает его взгляд и поднимает руки, чтобы он лучше мог разглядеть. Потом садится на стул по ту сторону стола.
– По ощущениям даже хуже, чем на вид. Но врачи говорят, если буду умницей, подвижность восстановится.
– А вообще как себя чувствуете?
– Несколько чудесных синяков, швы по краям розовые и побаливают, но не опухли. Доктору, наверное, надо будет взглянуть при случае. Но я, знаете ли, жива. Чего не скажешь о многих других, кого я знала.
Она ждет, что Виктор заговорит о Десмонде. Он видит это по ее лицу, по напряженным плечам и по тому, как она переминает пальцами корочки на другой руке. Она готова к этому. Но вместо этого Виктор пододвигает к ней кружку – горячий шоколад, а не кофе, который так не понравился ей вчера, – и разворачивает булочки. Протягивает одну Ивонне, та благодарит и скрывается за дверью.
Инара сводит брови, по-птичьи вытягивает голову, изучая содержимое.
– В булочной заворачивают выпечку в фольгу?
– Булочная в лице моей мамы.
– Мама заворачивает вам завтраки? – Ее губы растягиваются в недоверчивой улыбке. – Может, она вам и обеды в контейнерах дает?
– Даже кладет записку с пожеланиями верных решений, – Виктор лжет, не моргнув и глазом, и Инара собирает губы, чтобы улыбка не стала еще шире. – Но вам такое незнакомо, ведь так? – продолжает он чуть мягче.
– Было один раз, – поправляет она, и в этот раз нет и намека на улыбку. – Парочка из дома напротив проводила меня на вокзал, помните? Жена завернула мне обед, и в пакете была записка. Писали, как рады были познакомиться со мной, как будут скучать. Там был их номер, и они просили позвонить, когда я доберусь, чтобы они знали, что со мной все хорошо. Чтобы звонила, когда захочу, просто поговорить. И на прощание крепко обнимали меня. И даже малыш что-то накарябал карандашом.
– Но вы так и не позвонили?
– Один раз, – отвечает Инара чуть ли не шепотом, водя пальцем вдоль порезов и швов. – Когда приехала на вокзал, позвонила сказать, что добралась. Они попросили к телефону бабушку, но я сказала, что она расплачивается с таксистом. Они повторили, чтобы я звонила, когда бы мне ни захотелось. Я стояла у вокзала, дожидаясь такси, и смотрела на этот клочок бумаги. А потом выбросила его.
– Почему?
– Потому что, сохранив его, призналась бы в собственной слабости, – Инара выпрямляется, скрещивает ноги и облокачивается о стол. – У вас складывается обо мне странное впечатление, как о потерянном ребенке. Словно меня швырнули на обочину, как пакет с мусором или сбитую собаку. Но дети вроде меня… ошибочно считать их потерянными. Возможно, нас единственных это никогда не коснется. Мы всегда точно знаем, где мы и куда можем двинуться. И куда не можем.
Виктор качает головой. У него нет желания спорить, но и согласиться он не может.
– Почему подруги в Нью-Йорке не сообщили о вашем исчезновении?
Инара закатывает глаза.
– Мы были не настолько близки.
– Но они ваши подруги.
– Да, подруги. И все они от чего-то бежали. В квартире до меня жила девушка; в один прекрасный день она внезапно собрала вещи и ушла. Ее преследовал родной дядя: хотел знать, что она сделала с ребенком, которого он заделал ей три года назад. Как бы ты ни старался, где бы ни скрывался, кто-нибудь все равно найдет тебя.
– При условии, что тебя ищут.
– Или тебе просто не повезет.
– В каком смысле? – спрашивает Эддисон.
– По-вашему, мне хотелось, чтобы Садовник похитил меня? Я могла затеряться в огромном городе, и все-таки он разыскал меня.
– Это не объясняет…
– Еще как объясняет, – она пожимает плечами. – Для людей определенного типа.
Виктор пьет кофе и раздумывает, направить ли беседу в нужное русло или продолжать в надежде извлечь что-то ценное.
– Какого типа людей, Инара? – спрашивает он в итоге.
– Когда привыкаешь, что тебя практически никто не замечает, и вдруг выясняется, что кто-то помнит тебя, это по меньшей мере удивляет. Ни за что не поймешь этих чудаков, которые ждут, что их вспомнят и вернутся.
Инара неторопливо жует булочку, но Виктор видит, что девушка еще не закончила. Возможно, она не до конца сформулировала свою мысль. Его младшая дочь ведет себя сходным образом: просто замолкает, пока не подберет нужные слова. Хотя Виктор не уверен, что Инара молчит по той же причине, но модель поведения ему знакома. Поэтому он пихает Эддисона под столом, когда тот раскрывает рот.
Брэндон бросает на него хмурый взгляд и немного отодвигается, но ничего не говорит.
– От Софии ее девочки ждали, что она вернется, – продолжает Инара тихим голосом, слизывает сахарную пудру с пальцев и вздрагивает. – Они провели в приемной семье… что-то около четырех лет на тот момент, когда меня похитили. Никто не винил бы их, если б они потеряли надежду. Но они не теряли. Что бы ни случилось, как бы ни было плохо, они знали, что она борется за них. Знали, что она обязательно, непременно за ними вернется. Никогда этого не понимала. И вряд ли когда-нибудь пойму. Но ведь в моей жизни не было такой вот Софии.
– У вас есть София.
– Была, – поправляет она. – И это не одно и тоже. Я не была ей дочерью.
– Но вы были ее семьей, разве нет?
– Подругой. Это разные вещи.
Виктору с трудом в это верится. Инаре, вероятно, тоже. Возможно, ей легче делать вид, что она верит.
– Ваши девочки твердо знают, что вы вернетесь домой, верно, агент Хановериан? – Она поглаживает мягкий рукав кофты. – Им страшно, что в один прекрасный день вы можете погибнуть при исполнении долга. Но, пока вы живы, они не верят, что вас может что-то разлучить.
– Его дочери здесь ни при чем, – резко обрывает Эддисон, но Инара лишь усмехается.
– Он видит их перед собой всякий раз, когда смотрит на меня или на какую-нибудь из фотографий. Потому он всем этим и занимается.
– Да, все дело в них, – Виктор допивает кофе. – И одна из них просила передать вам кое-что, – он достает из кармана темно-розовый блеск для губ. – От старшей дочери. Одежда, кстати, тоже от нее.
Улыбка, в этот раз настоящая, на несколько секунд озаряет ее лицо, по уголкам янтарных глаз появляются морщинки.
– Блеск для губ.
– Она сказала, что это ваши, женские дела.
– Надеюсь. Иначе вы выставили бы себя в невыгодном свете. – Она отворачивает колпачок и осторожно выдавливает из тюбика переливающуюся каплю, красит нижнюю губу, затем несколько раз проводит по ней верхней, ни разу не взглянув при этом в зеркало, и получается идеально ровно. – Мы привыкли краситься по дороге на работу. Некоторые могли полностью накраситься, вообще не глядя в зеркало.
– Должен признать, такого мне пробовать не приходилось, – произносит Брэндон сухим тоном.
Виктор наблюдает за ним. Он привык к странностям напарника, но это по-прежнему его забавляет. Эддисон замечает его взгляд и хмурится.
– Инара, – произносит наконец Виктор, и она неохотно открывает глаза. – Надо начинать.
– Дес, – вздыхает она.
Он кивает.
– Расскажите нам о Десмонде.
* * *
Я единственная любила забраться куда-нибудь повыше, а потому единственная видела другой сад. На вершине скалы росли несколько деревьев – пять, если хотите, – которые доставали до самой крыши. Я забиралась на какое-нибудь из них по меньшей мере дважды в неделю, устраивалась на самой высокой ветке, способной меня выдержать, и прижималась щекой к стеклу. Иногда я закрывала глаза и представляла себя на нашей пожарной лестнице, возле окна, слушала, как София рассказывает про своих девочек, или парень в доме напротив играет на скрипке, и Катрин сидит рядом. Перед собой и по левую руку я видела Сад почти целиком, за исключением коридоров, которые тянулись вокруг сада и были не видны за краем скалы. Видела, как девушки играют у ручья в салки или прятки, как двое или трое плавают в маленьком пруду, или сидят у скалы или среди зарослей с книжками или кроссвордами.
Но я могла заглянуть и за пределы Сада, совсем немного. Насколько я поняла, оранжерея, которую мы назвали Садом, состояла из двух частей – одна в другой, как матрешка. Наш Сад помещался в центре, непомерно высокий, и коридоры окружали его по периметру. Потолки у нас в комнатах были не очень высокие, но стены – вровень с деревьями на скале, темные и с плоскими торцами, и от них отлого спускалась крыша над внешним садом. Хотя это больше походило на границу: просто широкая тропа среди зарослей – во всяком случае, так мне было видно. А видно было не так много, даже с деревьев. Кусочек здесь, кусочек там, насколько позволял угол обзора. И в этом саду начинался реальный мир, с садовниками, от которых не нужно было скрываться, с выходом наружу, где сменялись времена года, и жизнь не оканчивалась с двадцать первым днем рождения.
В том мире не было никакого Садовника. Это был человек, каким его знали другие. Человек, занятый благотворительностью и бизнесом – это не раз проскальзывало в разговорах. У него был дом где-то поблизости; правда, я не видела его даже с деревьев. У него была семья.
Ну да, Эвери был его сыном, и понятно, что он ублюдок, но тем не менее…
У него была жена.
Они вместе гуляли по внешнему саду, почти каждый день с двух до трех. Она была безупречно одета, с темными волосами, но отличалась болезненной худобой. Это все, что я видела с такого расстояния. Они неторопливо шли под руку и время от времени останавливались рассмотреть поближе какой-нибудь цветок, а потом шли дальше, пока не скрывались из виду. Так они проходили два или три раз за прогулку. Он подстраивался под ее шаг, и если она отставала, любезно оборачивался и смотрел на нее с той же нежностью, с какой смотрел на своих Бабочек. Мягко и проникновенно, и от этого мороз пробегал по коже.
С той же нежностью он касался стекол в коридорах и оплакивал Эвиту. Поэтому у него так дрожали руки, когда он увидел, что сотворил со мной Эвери.
Это была любовь в его понимании.
Два или три раза в неделю их сопровождал Эвери – плелся позади и редко оставался на целый час. Обычно он проходил один круг и сворачивал в Сад в поисках какой-нибудь Бабочки, доброй и невинной, чтобы насладиться ее страхом.
Дважды в неделю, два дня подряд – обычно они совпадали с приходом садовников, – с ними бывал младший сын. Он был похож на маму, такие же темные волосы и телосложение. Хотя расстояние сглаживало детали, было видно, что мать души в нем не чает. Когда они гуляли втроем, она шла между мужем и младшим сыном.
Несколько месяцев я наблюдала за ними незамеченной, пока однажды Садовник не посмотрел вверх.
Прямо на меня.
Я прижалась щекой к стеклу и замерла среди листьев.
Прошло еще три дня, прежде чем он заговорил со мной об этом. При этом мы сидели на кровати новенькой, которая и Бабочкой-то еще не стала.
* * *
Виктор с шумом втягивает воздух, отбросив все представления о нормах. Большинство психов, которых они брали, внешне казались вполне нормальными.
– Он похитил еще одну девушку?
– Он похищал их по несколько в год. Но ждал, пока новенькая не освоится, и только потом приводил следующую.
– Почему?
– Почему похищал их по несколько в год? Или почему выжидал какое-то время?
– Да, – отвечает Виктор, и она усмехается.
– Ответ первый – издержки. Он никогда не похищал больше, чем могло поместиться в Саду. И поэтому обычно выходил на охоту, когда умирала одна из Бабочек. Это была не единственная причина, но основная. Что же до второго… – Она пожимает плечами и кладет ладони на стол, изучает ожоги на их тыльной стороне. – Появление новой Бабочки для всех было стрессом. Все вспоминали, как сами здесь оказались, как очнулись здесь в первый раз. Новенькая неизбежно плакала, и от этого было только хуже. Когда она осваивалась, все возвращалось в прежнее русло. А потом снова смерть, еще одна пара крыльев в коридоре и новая девушка. Садовник всегда – или почти всегда – четко улавливал настроения в Саду.
– Поэтому он позволил Лионетте курировать новеньких?
– Да, и это помогало.
– И потом вы заняли ее место?
– Кто-то должен был этим заниматься. Блисс была слишком вспыльчива, а остальные – непредсказуемы.
* * *
Впервые это произошло, когда Эвери приволок в Сад грипп, и инфекция скосила почти всех Бабочек.
На Лионетту жалко было смотреть. Она была бледная, вся в поту, волосы липли к шее и лицу, а унитаз стал для нее лучшим другом, и я даже не мечтала с ним сравниться. Мы с Блисс уговаривали ее остаться в постели, позволить Садовнику самому все уладить. Но, как только поднялись стены, она оделась и, пошатываясь, поплелась в коридор.
Я выругалась, надела платье и, догнав ее, подставила ей плечо. Лионетта до того ослабла, что могла идти лишь опираясь о стену. Она даже не отшатнулась от витрин, как обычно делала, даже после пяти лет в Саду.
– На что тебе все это?
– Потому что кто-то должен это делать, – прошептала она и остановилась, стараясь подавить рвотный рефлекс.
Заезженная песня. При этом за последние восемнадцать часов бо́льшую часть времени она провела перед унитазом.
Я не могла с ней согласиться.
Никогда не смогла бы.
Садовник безошибочно угадывал возраст, лучше любой цыганки. Несколько девушек попали к нему в семнадцать, но остальным было на тот момент по шестнадцать. Если он сомневался, что девушке меньше шестнадцати, то не трогал ее и выбирал другую. При этом он избегал девушек старшего возраста. Думаю, ему хотелось продержать их в Саду полные пять лет.
Он любил говорить на такие темы со своими Бабочками… а может, только со мной.
Новая девушка лежала в комнате, такой же голой, в какой однажды очнулась и я. Моя комната постепенно приобретала обжитый вид, но у новенькой не было ничего, кроме простой серой простыни. Смуглая кожа и черты лица указывали на смешанное происхождение. В ней было пополам мексиканской и африканской крови, как выяснилось позже. Она была ненамного выше Блисс и – если не считать внушительной груди, словно подаренной в честь пятнадцатилетия, – стройной, как тростинка. Уши у нее все были в мелких отверстиях, ноздря и пупок тоже были проколоты.
– Почему он все вынул?
– Может, они показались ему безвкусными, – слабо проговорила Лионетта, опускаясь перед унитазом, еще неприкрытым занавеской.
– Когда я попала сюда, у меня в каждом ухе было по две сережки. До сих пор все на месте.
– Может, твои ему понравились.
– И справа кольцо в хряще.
– Майя, прекрати, прошу тебя.
Как ни странно, но этого оказалось достаточно, и я заткнулась. И дело не только в том, что тогда ей действительно было не до разговоров, но и в том, как она произнесла это. Бесполезно и совершенно излишне разбираться в поступках Садовника. Нам не нужно было знать причины его поступков. Достаточно было знать результат.
– Не то чтобы ты в состоянии, но никуда не уходи.
Лионетта махнула рукой и закрыла глаза.
На кухне у нас было два холодильника. В одном хранились продукты для приготовления, и ключ имелся только у Лоррейн. В другом были напитки и разные снэки, если кому-то захочется перекусить. Я взяла пару бутылок воды для Лионетты и пачку сока для себя. Потом захватила книжку из библиотеки, чтобы читать вслух, пока новенькая не очнется.
* * *
– Там была библиотека? – недоверчиво спрашивает Эддисон.
– Ну да. Он хотел, чтобы мы были счастливы. Поэтому нужно было как-то занять нас.
– И какие книги он вам давал?
– Любые, какие мы просили, – она пожимает плечами и вновь откидывается на спинку, скрещивает руки на груди. – В основном классика поначалу. Потом те из нас, которые действительно любили читать, повесили у входа листок и записывали туда свои пожелания. И время от времени он добавлял с десяток экземпляров. А у некоторых были собственные книги, подарки от него, и мы держали их у себя в комнатах.
– И вы, значит, были из тех, которые любили читать.
Инара смотрит на Эддисона сначала с досадой, но потом что-то вспоминает.
– Ах, да, вы же это прослушали.
– Что прослушал?
– Прослушали, когда я объясняла, почему в Саду было чертовски скучно.
– Если это по-вашему скучно, то с вами явно что-то не так, – ворчит Эддисон и этим вызывает у нее улыбку.
– Мне бы не было скучно, будь это мой выбор, – соглашается Инара. – Но это было до Сада.
Виктор понимает, что необходимо вернуть разговор в прежнее русло. Но очень уж интересно наблюдать, как эти двое хоть в чем-то находят общий язык. Поэтому он молчит, хоть и видит, что Инара не совсем откровенна.
– И, полагаю, вашим любимым автором был По?
– Нет, По служил одной цели – отвлечь меня. Я любила сказки. Только не эту выхолощенную дрянь от Диснея и не подчищенные версии Шарля Перро. Мне нравились такие, где несчастье может обрушиться на кого угодно. Когда понимаешь, что детям такого давать нельзя.
– Чтобы без обмана? – спрашивает Виктор, и она кивает.
– Точно.
* * *
Новенькая довольно долго не приходила в себя. Лионетта хотела уже позвать Лоррейн, но я ее отговорила: если снотворное убьет девушку, вряд ли медсестра сможет это предотвратить. И лично я была бы не в восторге, будь эта поганка первой, кого мне пришлось бы увидеть, открыв глаза. Лионетта воспользовалась этим и настояла, чтобы я была первой, кого увидит новенькая.
Учитывая, что выглядела она, мягко говоря, не очень, я не спорила… почти.
Лишь ближе к вечеру девушка наконец шевельнулась. Я закрыла «Оливера Твиста», заложив пальцем, и взглянула на нее. Прошло еще два часа, прежде чем девушка начала реагировать на происходящее. Под руководством Лионетты я налила стакан воды, чтобы стоял наготове, и намочила несколько полотенец. Когда я подложила одно из них под шею девушки, она ударила меня по руке и обругала по-испански.
Хорошее начало.
В конце концов она пришла в себя настолько, что смогла сорвать с лица полотенце и попыталась сесть. Но ее все еще качало из стороны в сторону.
– Аккуратнее, – сказала я тихо. – Вот, выпей немного, станет лучше.
– Убери руки, сучка драная!
– Я не из тех, кто похитил тебя, так что попридержи язык. Или выпьешь воды и примешь таблетку, или иди к черту.
– Майя, – простонала Лионетта.
Девушка взглянула на меня, потом послушно взяла таблетку и стакан.
– Так-то лучше. Ты теперь во власти человека, известного как Садовник. Он дает нам новые имена, так что не представляйся. Помни, как тебя зовут, но не произноси вслух. Я – Майя, а эта гриппозная красотка – Лионетта.
– Я…
– Никто, – напомнила я строго. – Пока он не даст тебе имени. Не усложняй.
– Майя!
Я взглянула на Лионетту. Та смотрела на меня измученно и сердито, словно спрашивала: «Какого черта ты вытворяешь?» Обычно она смотрела так на Эвиту.
– Тогда давай сама. Ты не стала первой, кого она увидела, ура! Теперь можешь взять дело в свои руки, если не нравится, как я делаю.
В обращении с детьми я брала пример с Софии. Только вот новенькая была не ребенком, и я не была Софией.
Лионетта закрыла глаза и шепотом попросила Господа, чтобы тот наделил ее терпением. Но так и не закончила, вновь склонившись над унитазом.
У новой девушки задрожали руки, и я взяла их в свои. В Саду всегда было тепло, разве что в пещере за водопадом бывало прохладно. Но я знала, что она дрожит не от холода.
– Такие дела. Да, это ужасно, это немыслимо и чертовски несправедливо, но так уж сложилось. Мы здесь гости не по собственной воле, и человек, который держит нас, будет навещать тебя, когда захочет твоего общества, а чаще – секса. Иногда к тебе будет приходить его сын. Теперь ты принадлежишь им, и они могут делать с тобой все, что захотят, в том числе пометить тебя своим клеймом. Нас тут довольно много, и мы стараемся поддержать друг друга как можем. Но единственный способ выбраться отсюда – смерть. Поэтому тебе придется решить, что лучше: жить вместе с нами или умереть.
– Самоубийство – смертный грех, – прошептала она.
– Чу́дно. Значит, вряд ли тебе захочется свести счеты с жизнью.
– Господи, Майя, почему бы сразу не дать ей веревку?
Девушка громко сглотнула, но, к счастью, сжала мои руки.
– А вы здесь долго?
– Я – четыре месяца.
Девушка взглянула на Лионетту.
– Почти пять лет, – пробормотала она.
Если б я знала тогда… хотя это не имело значения. И если б я знала, это ничего бы не изменило.
– И ты до сих пор жива. Мама говорит, пока жив, можно надеяться. Я буду надеяться.
– Только не переусердствуй, – предупредила я. – Понадеешься сверх меры – тебе же хуже.
– Майя…
– Ну что, хочешь оглядеться?
– Я без одежды.
– Здесь это не столь существенно. Привыкнешь.
– Майя!
– Ты захватила платье? – спросила я с некоторой язвительностью. У Лионетты на бледных щеках проступил румянец. – Твое я не позволю ей надеть. Ты, наверное, весь подол заблевала.
Не то чтобы она действительно запачкалась, но ее платье доходило до пола. Новая девушка в нем просто запуталась бы. Я бы одолжила ей свое, но оно было не намного короче.
– Подожди, – вздохнула я. – Возьму что-нибудь у Блисс.
Я не застала Блисс в комнате, поэтому просто взяла с вешалки платье и вернулась к новенькой. Остальные Бабочки, как всегда, старательно избегали ее. Она скривилась при виде черного шелка – следовало признать, черное было ей совершенно не к лицу. Но одежда другого цвета всегда внушала страх. Если Бабочке давали платье какого-то другого цвета, это означало, что Садовник хотел, чтобы она умерла в нем.
Я попросила ее не смотреть в коридор – даже у меня не хватило духу показать ей это в первый же день. Ее комната находилась далеко от моей, в другой части Сада – рядом с комнатой Лионетты. Одной стеной она примыкала к помещениям, куда нам запрещено было входить, и рядом с выходом, которого для нас не существовало. Отсюда можно было увидеть Сад во всем его великолепии: эти буйные заросли, яркие цветы и песчаные тропы, ручей и водопад с прудом, скалу и группы деревьев, и обыкновенных бабочек, порхающих над цветами, и стеклянную крышу, такую недосягаемую.
Она заплакала.
Лионетта подалась было к ней, но тут же остановилась, сотрясаемая ознобом. Не хватало еще заразить ее, хороший вышел бы прием. А я… мне просто не свойственна такая сентиментальность. И я уже не раз успела это доказать. Я смотрела, как она опустилась на землю и свернулась в клубок, обхватив руками живот, словно могла таким образом уберечься от этого удара.
В конце концов, когда она выдохлась и только поскуливала и судорожно вздыхала, я опустилась на колени рядом с ней и прикоснулась к ее спине, еще чистой.
– Это не самое худшее, – произнесла я так мягко, как только могла. – Но, думаю, самое сильно потрясение ты уже пережила. Теперь ты знаешь, чего ждать.
Сначала мне казалось, что она даже не услышала меня, потому что продолжала скулить. Потом перевернулась, обхватила меня за талию и положила голову мне на колени. И вновь захлебнулась в рыданиях. Я не утешала ее и не гладила, даже не пошевелилась – она еще возненавидит этот жест в исполнении Садовника. Но я не убирала руку с ее спины, чтобы она знала, что я рядом.
* * *
– Вы принесли снимки из коридоров?
Вопрос прозвучал так неожиданно, что оба агента вздрагивают. Эддисон протягивает ей стопку фотографий и сжимает кулаки на бедрах, глядя, как Инара перебирает снимки. Она находит нужную фотографию, смотрит на нее секунду-другую, потом кладет перед ними.
– Белянка южная, – она проводит пальцем по белым с черными краями крыльям. – Он назвал ее Йоханной.
Виктор хмурит лоб.
– Йоханной?
– Не знаю, по какому принципу он выбирал для нас имена и была ли у него какая-то система. Думаю, он просто просматривал различные имена, пока не находил понравившееся. Признаюсь, у меня язык не повернулся бы назвать ее Йоханной, но так уж вышло.
Виктор заставляет себя взглянуть на девушку под стеклом. Инара права, девушка довольно миниатюрная. Но по ее позе трудно определить рост.
– Что с ней произошло?
– Она была… непостоянной. Казалось, она неплохо освоилась, но потом настроение у нее резко менялось, и по всему Саду словно ураган проносился. А потом умерла Лионетта, и Садовник привел новую девушку.
Она замолкает, и Виктор прочищает горло.
– Что с ней случилось? – повторяет он вопрос, и Инара пожимает плечами.
– Чтобы забрать новую девушку на очередной сеанс татуирования, Садовник опустил стены. Но Йохане каким-то образом удалось остаться в Саду. Когда стены поднялись, мы обнаружили ее в пруду, – она плавным движением берет фотографию и кладет лицевой стороной вниз. – Взяла на душу смертный грех.
Виктор кладет перед собой другую стопку фотографий и бумаг и медленно перебирает их, пока не находит то, что ищет. Молодой человек – возможно, чуть старше, чем выглядит. Темно-коричневые, почти черные, волосы причудливо взъерошены. Лицо бледное и худое, глаза бледно-зеленые. Приятно на него смотреть, даже на этой размытой фотографии. Приведи Холи к ним домой такого, он не имел бы ничего против – если судить лишь по внешности. Надо возвращаться к этому парню.
Не сейчас. Чуть позже.
Не совсем понятно, для кого он это делает: ради нее или самого себя.
– Когда он заметил вас на дереве…
– Да, и что?
– Вы сказали, что он заговорил об этом у кровати новой девушки. Эта девушка была после Йоханны?
Судя по кривой улыбке, ей понравилась такая формулировка.
– Нет. Не совсем.
Небольшая пауза.
– Какое он дал ей имя?
Она закрывает глаза.
– Никакого.
– Почему…
– Время. Иногда все сводилось только к этому.
* * *
Кожа у нее была цвета черного дерева, почти черная на фоне серой простыни. Голова обрита, и лицо такое, что могло бы занять достойное место на стене какой-нибудь египетской гробницы. После смерти Лионетты мне нужно было чем-то себя занять, чем угодно. Но, в отличие от Лионетты или Блисс, у меня не было ни способностей, ни желания что-нибудь мастерить. Я читала, и читала много, но сама ничего не делала. Блисс целыми днями лепила свои фигурки, набивала их в печь, а потом половину из них разбивала в приступах ярости. Я же не могла дать выхода чувствам – ни в созидании, ни в разрушении.
Но через три дня Садовник привел новую девушку, и без Лионетты некому было принять ее должным образом. Остальные не хотели приближаться к ней, пока она не освоится, и я тогда задумалась, как же долго Лионетта этим занималась, в то время как другие даже думать об этом не желали.
Когда Йоханна покончила с собой, я долго думала, не было ли в этом и моей вины. Может, следовало проявить мягкость или сочувствие, осторожнее ввести в курс дела. Может, тогда она ухватилась бы за надежду, о которой толковала ее мама. А может, и нет. Может, в тот момент, когда Йоханна впервые увидела Сад, осознала, что все это реально, – возможно, уже тогда она сделала свой выбор.
Мне не выпало случая спросить ее об этом.
Вот я и сидела с новой девушкой, при этом, насколько могла, была с ней терпелива и воздерживалась от едких комментариев. Правда, она плакала чуть ли не постоянно, и зачастую мое терпение бывало на исходе. Тогда меня выручала Блисс. Нет, сама она не приходила – это была бы не лучшая идея. Но отправляла к нам Эвиту, добрую и искреннюю. Такую хорошую, какой я и не надеялась стать.
На третий день, когда ей делали татуировку, я просидела с ней до вечера, пока не подействовало снотворное, добавленное в пищу. После этого я обычно уходила. Однако в этот раз мне хотелось кое-что проверить, но так, чтобы не встревожить ее. Поэтому следовало дождаться, пока она не заснет покрепче. Она уже расслабилась и дышала ровно и глубоко, но я все ждала, пока снотворное не подействует в полную силу.
Примерно через час я отложила книгу и перевернула девушку на живот. Обычно она спала на спине, но сейчас лежала на боку, чтобы не тревожить ранки от игл. В библиотеке у нас был справочник по бабочкам, и Лионетта подписывала на полях заметки с именем Бабочки и расположением ее комнаты в коридоре. Садовник выбрал для нее Зорьку американскую: крылья почти целиком белые, только верхние кончики оранжевые. Он любил, по некоторым причинам, подбирать белый и бледно-желтые оттенки для девушек с темной кожей. Думаю, он опасался, что более темные цвета смотрелись бы не так ярко. Он уже закончил с оранжевыми кончиками и занялся белыми участками. Но с ними что-то было не так.
Теперь, когда я могла склониться над ней, не потревожив, я заметила, что кожа под краской отечная, словно в мелких чешуйках, и белые участки покрылись пузырьками. С оранжевыми кончиками обстояло ничуть не лучше. Даже черные контуры начали пузыриться. Я сняла одну из сережек – Садовник так и не забрали их у меня – и осторожно кольнула один из пузырьков. Сначала потекла прозрачная жидкость, но я легонько надавила, и показалось молочно-белое.
Я вымыла сережку под краном и вдела обратно в ухо, погруженная в раздумья. Я не знала, то ли это реакция на краску, то ли на иглы – но это точно была какая-то аллергия. Не смертельная – как, например, аллергия на арахис, – но кожа из-за нее не заживала. Инфекция так же опасна, как и гистамин. Лоррейн рассказывала нам об этом в один из тех редких дней, когда была в хорошем настроении. Конечно, в тот день она помучила Блисс, вынимая занозы у нее из ноги. Возможно, это и подняло ей настроение.
Я не придумала ничего толкового, и поэтому вернулась к девушке и попыталась оценить масштабы воспаления. Осмотрела участки с оранжевой краской и половину белого – и почувствовала перемену.
Садовник был рядом.
Он стоял в дверном проеме, заложив большие пальцы в карманы брюк. Когда девушки ложились спать, свет по всему Саду гас, и мы ждали, кому этой ночью придется развлекать Садовника. Он никогда не звал Лионетту, когда та возилась с новенькой. Но я-то была не Лионеттой.
– У тебя тревожный вид, – сказал он вместо приветствия.
Я показала на девушку.
– У нее кожа не заживает.
Садовник вошел в комнату, расстегнул пуговицы на манжетах и закатал рукава по локоть. Яркая краска отражалась в его бледных глазах. Он осторожно провел рукой по ее спине и обнаружил то же, что и я. Беспокойство на его лице сменилось сожалением.
– Все по-разному реагируют на краску.
Мне следовало бы почувствовать жалость, или злость, или смущение. Но я чувствовала лишь оцепенение.
– Как вы поступаете с девушками, которые не получают крыльев? – спросила я тихо.
Он бросил на меня задумчивый взгляд. Мне показалось, что я была первой, кто задал ему этот вопрос.
– Их хоронят на территории поместья.
* * *
Эддисон что-то ворчит и тянется за блокнотом.
– Он сказал, где именно?
– Нет. Но думаю, где-то у реки. Иногда он возвращался, и на ботинках у него была речная глина. И такая тоска во взгляде… В эти дни он приносил Блисс речные камушки для ее фигурок. С дерева я ничего такого не видела.
Эддисон сминает фольгу в шарик и бросает в стекло.
– Отправьте группу к реке, пусть разыщут могилы.
– Можно сказать «пожалуйста».
– Я отдаю распоряжение, а не прошу об одолжении, – цедит он сквозь зубы.
Инара пожимает плечами.
– Джулиан всегда говорил «пожалуйста». Ребекка – тоже, даже если просто распределяла смены. Думаю, поэтому мне нравилось работать у Джулиана. Поэтому место было очень приятное и уважаемое.
С тем же успехом она могла отвесить ему пощечину. Виктор видит, как краска заливает лицо напарника, и отворачивается, чтобы не улыбнуться. Скорее даже чтобы Эддисон этого не увидел.
– Там только те, чьи крылья так и не были закончены? – спрашивает он быстро.
– Нет. Если они умирали и страдал рисунок на спине, Садовник не помещал таких под стекло. Несколько девушек оказались в могиле по вине Эвери: тот хлестал их так, что шрамы пересекали крылья. – Она прикасается к спине. – Жизель.
– На этом ваш разговор не закончился, верно?
– Нет, но вы уже знаете, что произошло.
– Да, но хотелось бы услышать продолжение, – отвечает Виктор, как если б говорил с кем-то из дочерей.
Она приподнимает бровь.
* * *
Как и Лионетта, я брала стул из медпункта, чтобы сидеть возле кровати. Возможно, сидеть на кровати было бы удобнее, но это давало ей немного личного пространства. Пространства, которое она могла назвать своим. Садовник об этом просто не задумывался. Он сидели в изголовье, прислонившись к стене, держал голову девушки у себя на коленях и медленно гладил. Насколько я знала, он никогда не приходил к девушкам, пока не заканчивал татуировку, пока не насиловал в первый раз.
Ведь именно так он превращал нас в свою собственность.
Но он пришел не к новой девушке. Он пришел поговорить со мной.
И не было похоже, чтобы он спешил с этим.
Я подтянула ноги и села по-турецки, раскрыла книгу на коленях и стала читать, чтобы как-то заполнить пустоту. Потом Садовник протянул руку и мягко закрыл книгу. Я подняла на него глаза.
– Давно ты наблюдаешь за моей семьей?
– Примерно с тех пор, как у меня появились крылья.
– Но ничего об этом не говорила.
– Ни вам, ни кому-то еще.
Даже Лионетте с Блисс, хотя была близка к этому. Не знаю почему. Может, легче было представлять его лишь в образе маньяка? И мысль, что у него могла быть семья, казалась… какой-то извращенной. И сама мысль, что могло быть еще ненормальнее, приводила бы их в смятение.
– И о чем ты думаешь, когда наблюдаешь за нами?
– Думаю, что ваша жена больна. – Я редко лгала ему; правда была тем единственным, что всегда принадлежало мне. – Думаю, что она боится Эвери и не хочет этого показывать. Она обожает вашего младшего сына и очень ценит эти прогулки с вами, поскольку лишь в эти минуты вы все свое внимание посвящаете ей.
– И все это ты увидела с верхушки дерева?
К счастью, мой ответ скорее позабавил его. Он прислонился к изголовью кровати, заложив одну руку за голову наподобие подушки.
– Я не права?
– Права. – Садовник взглянул на девушку у себя на коленях, потом снова на меня. – У нее уже давно проблемы с сердцем. Не настолько серьезные, чтобы делать пересадку, но накладывают некоторые ограничения на образ жизни.
Значит, его жена тоже была своего рода Бабочкой.
– Это раз.
– И она действительно обожает младшего сына. Она гордится им. Он прекрасно учится, ведет себя учтиво, и одно удовольствие слушать, как он играет на скрипке или пианино.
– Это два.
– Мы оба постоянно заняты. У меня – Сад и бизнес, а у нее – свой график в благотворительных фондах. Нам бывает трудно согласовать время. Но мы стараемся выкроить часок для этих прогулок. Это полезно для ее сердца.
– Это три.
И осталось самое сложное. То, что никому из родителей не хочется признавать.
Он не стал об этом говорить. И в этом молчании заключалась правда.
– Ты многое подмечаешь, верно? В людях, в поведении, в событиях. Глубже других вникаешь в суть вещей.
– Я многое подмечаю, – согласилась я. – Но не думаю, что вникаю в самую суть.
– Ты понаблюдала, как мы гуляем по саду, и додумалась до всего этого.
– Я не додумывалась. Просто прочла по невербальным знакам.
Именно язык тела подсказал мне, что наш сосед – педофил. Задолго до того, как он сам себя выдал, до того как впервые коснулся меня и попросил дотронуться до него. Это было видно по его взгляду, когда он смотрел на меня и на других детей. Я видела это в потухших глазах его приемных детей. Я была готова к его домогательствам, так как знала, что рано или поздно это произойдет. По невербальным знакам я догадалась насчет бабушкиного газонокосильщика. По ним же я распознавала детей в школе, которые хотели поколотить меня просто потому, что могли. Язык тела был для меня лучше всякой сигнализации.
И теперь я видела, что Садовник изо всех сил пытался выглядеть расслабленным. Но у него не получалось.
– Я никому не собираюсь об этом рассказывать.
В этом все дело. Теперь он действительно расслабился, хоть не полностью. Если его не одолевало желание, он был на удивление сдержанным человеком.
– Мы не знаем про них… и они не знают про нас, ведь так?
– Именно так, – прошептал Садовник. – Некоторые вещи… – Он так и не закончил эту мысль, по крайней мере вслух. – Я не хочу причинять боль Элеоноре.
Я не знала его имени, но теперь знала имя его жены.
– А ваш сын?
– Десмонд? – На мгновение мне показалось, что он удивился. Потом покачал головой. – Десмонд совсем не такой как Эвери.
Единственной моей мыслью было: «Слава богу».
Он убрал с коленей голову девушки и уложил на кровать, после чего протянул мне руку.
– Я бы хотел задать тебе один вопрос, если ты не против.
Я не понимала, зачем было вставать, чтобы задать вопрос, но послушно отложила книгу и взяла его за руку. Девушка не проснулась бы до самого утра, так что не было необходимости сидеть у кровати. Садовник повел меня по коридору, при этом касался каждой витрины, мимо которой мы проходили. При желании я могла попросить его назвать всех по именам, и он бы всех назвал. Каждое имя, каждую Бабочку – он знал и помнил всех.
Но у меня не было желания.
Я решила, что он отведет меня в мою комнату, но в последний момент мы свернули в пещеру за водопадом. В пещере было темно, только луна светила сквозь стеклянную крышу, и ее преломленный свет пробивался сквозь водяную завесу.
И мигающий глазок камеры.
Мы молча стояли в темноте и слушали, как журчит и разбивается об искусственные скалы вода. Пия, которая попала в Сад примерно на год раньше меня, говорила, что трубы на дне пруда поддерживали постоянный уровень воды и откачивали ее, а по другой трубе вода поднималась на вершину скалы и собиралась в небольшой резервуар, который питал водопад. Возможно, она была права. Я не умела плавать, поэтому никогда не ныряла и не пыталась это проверить. Пия любила во всем копаться и разбираться, как это работает. Когда Йоханна оказалась за стеклом, Пия отправилась к пруду и сообщила, что теперь вдоль берега установлены сенсоры.
– Я думал, что приводит тебя сюда, – проговорил Садовник через некоторое время. – С вершиной скалы еще можно понять – там свободно, открытое пространство и высота дают тебе чувство безопасности. Но здесь… что дает тебе эта пещера?
Возможность говорить все, что вздумается, и не бояться наказания, потому что шум водопада заглушает слова и в микрофоны ничего не слышно.
Но он хотел услышать что-то личное, более значимое, поскольку считал, что я всему придаю значение. Пришлось с минуту подумать над ответом, который устроил бы его и был близок к правде.
– Здесь нет иллюзий, – сказала я наконец. – Кругом все растет и зеленеет, но в конечном счете умрет и истлеет. А здесь – просто камень и вода.
Здесь мы с девушками сидели наедине, и легко было представить, что не было никаких Бабочек. У тех, кто выслуживался, крылья на лицах были как карнавальные маски, но в полумраке пещеры легко было представить, что это лишь тень так причудливо падает на них. Мы распускали волосы, прислонялись к каменным стенам, и не было никаких Бабочек. Пусть и продолжалось это недолго.
Так что иллюзия, возможно, и была. Но это была наша иллюзия, не созданная им для нас.
Он выпустил мою руку и, вынимая шпильки из прически, распустил мне волосы. Они рассыпались у меня по спине и закрыли крылья. Садовник еще никогда этого не делал – если только расчесывал нас. Но он оставил все как есть и спрятал шпильки в карман.
– Ты совсем не похожа на остальных, – сказало он.
Не совсем так. Я была темпераментна, как Блисс, но контролировала себя. Была нетерпелива, как Лионетта, и не пыталась скрыть это. Я читала как Зара, бегала как Гленис, танцевала как Равенна и заплетала волосы как Хейли. Я во многом была похожа на других, не доставало только простодушия Эвиты.
Единственное, что действительно отличало меня от других, – я никогда не плакала.
Не могла.
Чертова карусель.
– Ты пишешь списки нужных тебе книг, но ничего не просишь открыто. Помогаешь другим, выслушиваешь их и утешаешь, хранишь их секреты. И, по всей видимости, мои. Но ни с кем не поделилась своими секретами.
– Секреты для меня как старые друзья. Если я поделюсь ими, получится, что я предам их.
Его тихий смех эхом разнесся по пещере, пока его не заглушил водопад.
– Я не прошу делиться ими, Майя. Твоя прежняя жизнь принадлежит тебе.
* * *
Она бросает на Эддисона многозначительный взгляд, и Виктор не в силах сдержать смех.
– Я не собираюсь просить прощения, – категорично заявляет Брэндон. – Это моя работа, и нам необходимо знать правду, чтобы собрать против Садовника веские улики. Врачи почти уверены, что он выживет и сможет предстать перед судом.
– Жаль.
– Свершится правосудие.
– Да, в некотором смысле.
– В некотором? Это…
– «Правосудие» изменит что-нибудь из того, что он сотворил? То, через что нам пришлось пройти? Оно вернет к жизни девушек под стеклом?
– Нет, зато впредь этого не повторится.
– Смерть в этом плане ничуть не хуже. Зато без сенсаций и лишних затрат.
– Вернемся к водопаду, – Виктор опережает возражения Эддисона.
– Зануда, – ворчит Инара.
* * *
– Можешь попросить меня о чем-нибудь, Майя.
В глазах его читался вызов, смягченный голосом. Он ждал, что я попрошу чего-то невозможного, вроде свободы. Или захочу стать еще одной Лоррейн, чтобы иметь возможность покидать Сад и не обретать при этом свободы.
Я была не настолько глупа. И прекрасно понимала, что не имеет смысла просить о вещах, которых я все равно не получу.
– Можно убрать отсюда камеру? – спросила я быстро и заметила удивление на его лице. – И микрофоны?
– Это всё?
– Нам бы не помешало такое место, где можно побыть действительно наедине, – я пожала плечами, и странно было чувствовать, как волосы при этом скользнули по лопаткам. – Вы видите нас всюду, куда бы мы ни пошли. Можете даже в туалете за нами наблюдать, если захотите. Было бы замечательно иметь такое место, где нет ни одной камеры. Это полезно для психического здоровья.
Он долго смотрел на меня, прежде чем ответить.
– И это всем вам пойдет на пользу?
– Да.
– Я хотел, чтобы ты попросила что-то для себя, а ты просишь о том, что пойдет на пользу всем вам.
– Это и мне пойдет на пользу.
Он рассмеялся, привлек меня к себе, поцеловал. Руки его скользнули к застежкам на моем платье, и он опустил меня на мокрые камни. Я закрыла глаза и обратилась мысли к Аннабель Ли[8] и ее могиле в королевстве у моря.
Не думаю, что ангелы мне завидовали.
* * *
Удивительно, до чего долго она может отвечать на вопрос, в сущности, не отвечая на него. Виктору хочется взять и отвести ее прямиком в зал суда, и посмотреть, как адвокаты с обеих сторон в отчаянии будут рвать на себе волосы. Если и кажется, что Инара рассказывает о чем-то, – то неизменно уходит от темы, о чем-то вспоминает и едва касается главного. Если спросить ее про парня, она начинает отвечать – или Виктору так кажется, – но под конец говорит уже совсем о другом. Да, адвокаты возненавидят ее. Виктор отбрасывает эту мысль, берет из стопки фотографию Десмонда и кладет на стол прямо перед ней.
Сначала Инара отводит глаза, смотрит в зеркало, потом на пол, на свои обожженные руки. В конце концов тяжело вздыхает и переводит взгляд на фотографию. Осторожно берет ее за краешек и рассматривает увеличенный снимок с его водительских прав. Глянцевое фото дрожит у нее в руке, но никто не придает этому значения.
– Постепенно привыкаешь к происходящему, – произносит она задумчиво. – Даже когда появляется новая девушка, это становится привычным, этого ждешь после чьей-нибудь смерти. А потом все внезапно меняется.
– Когда?
– Ровно полгода назад. Через несколько дней после того случая с Эвитой.
* * *
Может, все дело в том, что Эвита была из тех людей, которых невозможно не любить. Или потому, что это был несчастный случай и мы не были готовы к чему-то такому. А может, всему виной откровенная реакция Садовника.
Что бы там ни было, но после смерти Эвиты в Саду отовсюду веяло отчаянием. Девушки в большинстве своем сидели в своих комнатах, и Лоррейн приходилось разносить еду на подносах. Господи, как же она нервничала при этом… Конечно, настроение у нее было под стать нашему, но по другой причине. Мы оплакивали Эвиту. Она оплакивала еще одно место под стеклом, занятое другой девушкой.
Больная.
Ночью, не в силах вынести тишины и замкнутого пространства, я вышла из комнаты. До выходных еще долго, так что можно было не опасаться, что меня кто-то увидит или стены внезапно опустятся. Я могла всю ночь бродить по Саду, и ничто не могло помешать мне. Иногда иллюзия свободы и выбора тягостнее неволи.
Конечно, Садовник мог разыскать меня, если б захотел. Но в ту ночь он был с другой.
По ночам в Саду было довольно тихо. Конечно, постоянно шумел водопад, журчал ручей, гудели различные механизмы, нагнетался воздух. Иногда слышно было, как всхлипывают в своих комнатах девушки. Но, по сравнению с дневным шумом, было достаточно тихо. Я взяла книгу и фонарик, поднялась на вершину скалы и устроилась на крупном булыжнике. Я называла его Утесом для солнечных ванн.
Блисс называла ее Скалой Предков и смеялась, когда я просила ее показать льва, взирающего с вершины. Она смастерила его из полимерной глины. Когда я наконец отсмеялась и вытерла слезы, Блисс отдала его мне. Я поставила его на полку над кроватью, рядом с другими дорогими мне вещами. Думаю, он до сих пор там. Во всяком случае, был, пока…
Ближе к полуночи пришла Блисс и вручила мне новую фигурку. Я посветила на нее фонариком: свернувшийся дракон. Он был темно-синего цвета и втягивал голову в плечи. Форма бровей над огромными глазами придавала ему такой грустный взгляд, какой только возможно передать в глиняной фигурке.
– Почему он такой грустный?
Она сердито посмотрела на меня.
Точно.
Дракон занял свое место рядом с Симбой. И если лев был просто шуткой, то дракон действительно кое-что значил.
Но в ту ночь он был новый и грустный, и Блисс была сердитая и грустная. Поэтому я положила его себе на колени и, пока у Блисс не возникало желания поговорить, вновь взялась за «Антигону».
* * *
– Если моя комната не пострадала, мне можно будет забрать фигурки? И коллекцию оригами. И… в общем, все.
– Мы узнаем, – уклончиво отвечает Виктор, и она вздыхает.
– Почему «Антигона»? – спрашивает Эддисон.
– Антигона мне всегда нравилась. Она сильна, отважна и изобретательна, и ее не так просто сломить. Она хоть и умирает, но сама выбирает смерть. Ее приговаривают провести остаток жизни замурованной в гробницу, а она говорит: идите к черту, я лучше повешусь. А потом ее суженый, узнав о ее смерти, приходит в бешенство и пытается убить собственного отца. Потом он, конечно же, тоже умирает, ведь это, черт возьми, греческая трагедия. А греки и Шекспир так любили убивать персонажей… Хороший урок. Всё умирает. – Инара кладет фотографию на стол и накрывает ладонью. Виктор сомневается, что она осознает это. – Но если б я знала, что Блисс придет ко мне, то взяла бы что-нибудь другое.
– Почему?
– Антигона, казалось, воодушевила ее.
* * *
Я читала, а Блисс расхаживала вокруг, срывала листья с веток и рвала их на мелкие кусочки. В итоге ее путь можно было проследить по зеленым обрывкам. Она ворчала и ругалась на ходу, поэтому я даже не смотрела на нее, пока Блисс вдруг не затихла.
Она стояла на самом краю скалы, раскинув руки в стороны, и носки ее ног чуть выступали за край. Там, где черное платье было открыто, бледная кожа мерцала в свете луны.
– Я могла бы прыгнуть, – прошептала она.
– Но не прыгнешь.
– Могла бы, – упрямилась Блисс, и я покачала головой.
– Но не прыгнешь.
– Прыгну!
– Нет, не прыгнешь.
– Это еще почему? – Она развернулась ко мне, уперев кулаки в бедра.
– Потому что нет гарантии, что ты погибнешь, а если покалечишься, то, может быть, не настолько, чтобы он тебя убил. Тут не так уж высоко.
– Эвите хватило и меньшего.
– Эвита сломала шею о ветку. Тебе вряд ли посчастливится. Если попытаешься, у тебя ничего не выйдет, и отделаешься парой ушибов.
– Дерьмо! – Блисс опустилась рядом со мной на камень, спрятала лицо в ладонях и заплакала. Она провела в Саду на три месяца больше, чем я, – двадцать один. – Почему нет другого способа?
– Йоханна утопилась. По-твоему, это легче, чем броситься с вершины?
– Пия говорит, что не выйдет. Он установил сенсоры по краям. Если уровень воды поднимется, он получит сигнал и сможет проверить камеры. Пия говорит, что ближайшие камеры вращаются, их можно направить на тех, кто плавает в пруду.
– Если дождаться, когда он уедет, возможно, тебе хватит времени, чтобы утонуть. Если тебе действительно хочется.
– Я не хочу тонуть, – вздохнула Блисс и выпрямилась, вытирая слезы подолом платья. – Я не хочу умирать.
– Все умрут.
– Значит, я пока не хочу умирать, – проворчала она.
– Так зачем же прыгать?
– В тебе нет ни капли сочувствия.
Не совсем так, и Блисс знала это. Но в каком-то смысле она была права.
Я закрыла книгу, выключила фонарик, положила все это на камень и поставила сверху грустного дракона, после чего легла на живот рядом с Блисс.
– Как же мне тут надоело, – прошептала она.
Пещера была единственным местом, где мы действительно могли уединиться. Вот я и решила, что Блисс понизила голос, чтобы нас не могли записать микрофоны. Неизвестно было, просматривал ли Садовник записи с камер и безопасно ли было говорить, даже если мы знали, что он в ту минуту не сидел перед мониторами.
– Не тебе одной.
– Тогда почему я не могу смириться с этим, как ты?
– Ты жила в счастливой семье, верно?
– Верно.
– Вот поэтому ты и не можешь смириться.
Я была счастлива в той квартире, и она в конце концов стала для меня домом. Но, до того как поселилась там, я повидала достаточно дерьма в жизни. Иными словами, повидала немало дерьма, прежде чем попала в Сад. Блисс такой жизни не знала – по крайней мере, не в такой мере. Поэтому ей было с чем сравнивать.
– Расскажи мне что-нибудь из прошлой жизни.
– Ты знаешь, что я не стану.
– Не надо личных историй. Просто… что-нибудь.
– Один наш сосед выращивал травку на крыше, – сказала я через некоторое время. – Когда я только переехала, грядки занимали лишь один уголок. Но время шло, и никто не сообщал в полицию, поэтому плантация разрослась на полкрыши. Кое-кто из детей с нижних этажей играли там в прятки. Но в конце концов кто-то стукнул на соседа. Увидев полицейские машины, он запаниковал и подпалил все эти заросли. Мы потом целую неделю были немного под кайфом и по несколько раз отстирывали вещи, чтобы вывести запах.
Блисс покачала головой.
– Даже представить не могу.
– В этом нет ничего плохого.
– Я много чего забываю, – призналась она. – Я как-то пыталась вспомнить свой адрес – и забыла, улица это была, проспект или проезд. Никак не вспомню. Северо-западная пятьдесят восьмая… что-то там.
Так вот с чего она так суетилась. Я придвинулась ближе и положила ладонь ей на руку, потому что сказать мне было нечего.
– Каждое утро, когда просыпаюсь, и каждую ночь, перед тем как уснуть, я повторяю про себя свое имя, имена родных. Вспоминаю, как они выглядели.
Я видела ее семью, в коллекции фигурок. Она лепила их столько, что никто не придавал этому значения. Но некоторые фигурки блестели в тех местах, которых Блисс часто касалась пальцами. И расставлены были таким образом, что она видела их в первую очередь, когда просыпалась, и последними, перед тем как засыпала.
Возможно, Садовник был прав, и я действительно всему придаю значение.
– Что будет, когда этого станет недостаточно?
– Просто вспоминай, – ответила я. – Просто продолжай вспоминать, этого должно хватить.
– Тебе этого хватает?
Я так и не запомнила свой адрес в Нью-Йорке. Если нужно было заполнять какие-то документы, я просто спрашивала кого-нибудь из девочек. Они всякий раз смеялись надо мной, но никогда не заставляли меня запомнить его. Я не меняла фальшивые права, потому что не знала, пройдут ли они настоящую проверку, и ограничится ли комиссия беглым просмотром.
Но я помнила Софию, как она округлилась, когда избавилась от зависимости. Помнила огненно-рыжую Уитни; помню, как смеялась Хоуп и нервно хихикала Джессика. Помнила изумительную фигуру Ноэми, чьи родители были индейцами. Помнила, как Катрин могла осветить комнату своей редкой улыбкой. Помнила яркие наряды Эмбер: узоры были совершенно несовместимые, но хорошо смотрелись, потому что она так любила их. Мне не нужно было припоминать и напрягаться, чтобы вспомнить, – они навсегда врезались в память.
Я изгладила бы из памяти лица матери и отца, бабушкины костюмы и почти всех, кого знала, до Нью-Йорка. Но я помнила их всех. Я даже смутно припоминала, как выглядели дяди и тети, и кузены. Как играла в замысловатые игры, которых толком не понимала, как позировала для снимков, которых никогда не видела. Я просто помнила всех и все.
Хотя предпочла бы забыть.
В дальнем конце Сада отворилась дверь, и мигнул луч фонаря. Мы одновременно приподнялись на локтях.
– Какого черта? – шепнула Блисс, и я кивком высказала ту же мысль.
Садовник был у Данелли, искал утешения. Хотя вел себя так, словно сам пытался утешить ее, поскольку она вела счет в роковой для Эвиты игре. Даже если уходил, он никогда не пользовался фонарем. Как и Эвери, хотя тому было запрещено появляться в Саду за то, что он сломал руку Пие. Или Лоррейн – она в это время спала или рыдала у себя в комнате. В медпункте имелась кнопка вызова, и если Лоррейн была нужна, в ее комнате и на кухне раздавался сигнал.
Неизвестный был одет во все черное. Идея казалась недурной до тех пор, пока он не ступил на песчаную тропу. Он двигался осторожно, высвечивая каждый шаг фонарем, и по его движениям было видно, что он глазеет на все вокруг.
Не знаю, как, но я сразу догадалась, что в Сад проник мужчина. Возможно, все дело в походке. Или в идиотской мысли пробраться в Сад с включенным фонарем.
– Как по-твоему, что для нас хуже? – шепнула мне на ухо Блисс. – Выяснить, кто это, или проигнорировать его?
Я, конечно, догадывалась, кто это мог быть, но пообещала Садовнику никому не рассказывать о его семье. Не то чтобы обещание, данное серийному убийце, что-то значило, но все-таки… Я вообще старалась не давать обещаний просто потому, что потом чувствовала себя связанной.
Но какого черта младший сын Садовника забрался во внутренний сад? И что это значило – или могло значить – для нас?
Первый вопрос отпал сам по себе, едва возник у меня в голове. По той же причине я почти каждый день забиралась на деревья, чтобы взглянуть на реальный мир по ту сторону стекла. Мной, помимо всего прочего, двигало любопытство. В его случае это было просто любопытство.
Что же до второго вопроса…
Некоторым из нас неверное решение могло стоить жизни. Если он просто бродил по Саду, в этом не было ничего такого. Это частная территория, кому какое дело? Но если б он увидел коридоры…
Возможно, он увидел бы мертвых девушек и позвонил бы в полицию.
А может, и не увидел бы и не позвонил. Тогда нам с Блисс пришлось бы объясняться, почему мы увидели чужака и ничего не сделали.
Я выругалась про себя и скользнула с камня и украдкой двинулась вниз.
– Оставайся здесь и не своди с него глаз.
– И что делать, если что?..
– Кричать?
– А ты…
– Скажу Садовнику, пусть разбирается.
Блисс покачала головой, но не попыталась меня остановить. Я по ее глазам видела, что она в таком же замешательстве. Мы не могли подставлять всех под удар в надежде, что парень окажется лучше своего отца и брата. И мне уже доводилось видеть Садовника с кем-то из девушек. Как правило, он уединялся с девушкой в комнате, но иногда… ладно. Как я уже говорила, он был на удивление сдержанным, за некоторыми исключениями.
Я чуть ли не ползком спустилась по тропе с другой стороны утеса, где склон был покатый, и, когда оказалась внизу, песок заглушил мои шаги. Осторожно двигаясь, я шагнула в ручей без брызг, пробралась за водопад и двинулась по коридору к комнате Данелли.
Садовник был в брюках, но без рубашки и ботинок. Он сидел на краю кровати и расчесывал вьющиеся волосы Данелли; локоны каштановой гривой рассыпались по ее плечам. Из всех нас Данелли особенно ненавидела эту его страсть, потому что после этого волосы у нее безнадежно запутывались.
Я вошла в комнату, и они подняли на меня глаза. Данелли была в смущении, Садовник явно рассердился.
– Прошу прощения, – прошептала я, – но это важно.
Данелли вопросительно вскинула брови. Она оказалась в Саду четыре года назад и думала, что Садовник отпустит ее, если его задобрить. Чтобы добиться его расположения, Данелли украсила свое лицо крыльями – красными с фиолетовым. Правда, со временем она поумнела и теперь жила по принципу: «Пусть делает что хочет, просто не участвуй в этом». Я знала, о чем она спрашивает, но лишь пожала плечами. Рассказывать ей или нет – теперь все зависело от дальнейшего развития событий.
Садовник быстро надел ботинки, взял рубашку и вышел за мной в коридор.
– Это…
– Кто-то проник в Сад, – перебила я как можно тише. – Думаю, это ваш младший сын.
У него расширились глаза.
– Где он?
– Когда я пришла сюда, был возле пруда.
Садовник накинул рубашку и знаком велел мне застегнуть пуговицы, а сам тем временем приглаживал волосы. Но характерный запах все-таки выдавал его. Когда он двинулся по коридору, я последовала за ним. Он ведь не говорил мне оставаться на месте. Во всяком случае, до тех пор, пока мы не встали в одном из дверных проемов. Теперь он своими глазам увидел парня: тот по-прежнему светил вокруг чертовым фонарем. Садовник довольно долго наблюдал за сыном, при этом лицо его не выдавал никаких чувств. Потом он тронул меня за плечо и показал рукой вниз: то ли велел мне опуститься на пол, то ли не хотел, чтобы я шла за ним.
Я была не настолько послушна, чтобы просто сесть на пол, поэтому осталась стоять. Садовник не стал возражать.
Он решительно, не скрываясь, шагнул в Сад, и его голос, словно выстрел, прорезал тишину:
– Десмонд!
Парень резко повернул голову. Фонарь выпал у него из руки, с громким треском стукнулся о камень и покатился по песку. Свет мигнул и погас.
– Отец!
Садовник запустил руку в карман, и в следующее мгновение стены вокруг меня опустились. Остальные Бабочки теперь были заперты в своих комнатах, а крылья в коридорах закрылись панелями. Только мы с Блисс остались снаружи: она – на вершине скалы, а я – в этом проеме. И я не сказала Садовнику про нее. Черт.
Я прислонилась к стене и стала ждать.
– Какого черта ты здесь забыл? Я же говорил, что входить во внутренний сад запрещено.
– Я… я слышал, как Эвери говорил про него, и просто… просто хотел посмотреть. Прости, я ослушался тебя.
Трудно было определить по голосу его возраст: он говорил высоким тенором и поэтому казался моложе. Ему было стыдно и явно не по себе, но и страха он не чувствовал.
– Как ты вообще попал сюда?
И могла ли Бабочка выйти тем же путем?
Парень – Десмонд, как я полагала – колебался.
– Пару недель назад я видел, как Эвери сдвигал панель у двери для персонала, – ответил он. – Он задвинул ее на место, когда заметил меня, но я все-таки увидел клавиатуру.
– Нужно ввести код, чтобы открыть дверь. Как ты сюда попал?
– Эвери всюду использует три пароля. Я просто ввел их один за другим.
Что-то подсказывало мне, что в ближайшее время Эвери придется изобрести четвертый пароль. Нам не полагалось слоняться возле главного входа. Там, по обе стороны от запертой двери, находилась комната Лоррейн, в другой Эвери держал свои игрушки, пока Садовник их не изъял. Там же были кухня со столовой и медпункт. Потом – кабинет для татуирования, откуда можно было попасть в комнату Садовника, и еще несколько помещений, о предназначении которых мы не знали, но догадывались. Неизвестно, чем он в них занимался, но именно там умирали Бабочки. Нам без необходимости в этой части коридора появляться не стоило, разве что пройти на кухню. Ни Садовник, ни Эвери не выходили оттуда, если могли попасться на глаза кому-нибудь из нас.
– Но что ты хотел здесь увидеть? – спросил Садовник.
– Ну… сад… – нерешительно ответил Десмонд. – Я просто хотел посмотреть, что в нем такого особенного.
– Это мое личное пространство, – вздохнул отец, и я задумалась, не по этой ли причине он убрал камеру и микрофон из пещеры за водопадом. Потому что настолько дорожил своим личным пространством, что и нам подарил его иллюзию. – Десмонд, если ты действительно хочешь стать психологом, научись уважать право на личную жизнь.
– Бывает так, что это мешает психологическому благополучию. В таких случаях мой профессиональный долг – выведать эти секреты.
Забавно, но Уитни, когда рассказывала про свои семинары, ни разу не упоминала о таких моральных допущениях.
– И твой профессиональный долг – сохранить эти секреты, – напомнил ему Садовник. – Пойдем.
– Ты и спишь здесь?
– Иногда. Пойдем, Десмонд.
– Почему?
Я закусила губу и едва сдержала смех. Редко выпадала возможность увидеть Садовника в таком замешательстве.
– Потому что здесь спокойно, – ответил он наконец. – Подними фонарь. Я провожу тебя до дома.
– Но…
– Что?
– Почему ты делаешь из этого такую тайну? Это же просто сад.
Садовник ответил не сразу. Я понимала, что он обдумывает возможные варианты. Рассказать сыну правду в надежде, что тот поверит и сохранит это в секрете? Или солгать и ждать, когда правда все-таки вскроется? Если сын ослушался его однажды, то не исключено, что ослушается снова. А может, он пошел бы еще дальше? Может, сын значил для него не больше, чем Бабочка?
– Если я расскажу тебе, пообещай держать это в тайне, – произнес наконец Садовник. – Ни единого слова о том, что услышишь, за пределами этих стен. Даже в разговорах с братом. Ни слова, ты меня понял?
– Д-да, отец, – в голосе Десмонда по-прежнему не было страха, но чувствовалась в нем какая-то безысходность, решимость.
Он хотел, чтобы отец им гордился.
Год назад Садовник говорил, что его жена гордится младшим сыном, но себя при этом не упоминал. Теперь, судя по его голосу, я бы не сказала, что он был разочарован. Скорее всего, мать своей откровенной гордостью затмевала его собственные чувства, и распознать их было сложнее. А может, его отец снисходил до похвалы, только если считал ее заслуженной… Причин могло быть сколько угодно, но этот юноша хотел, чтобы отец им гордился, желал чувствовать себя частью чего-то большего.
Глупый, глупый мальчишка…
Потом послышались их шаги, постепенно удаляясь. Я стояла на месте, не двигаясь, пока не поднялись стены. Через минуту или две Садовник подошел с другой стороны по коридору и поманил меня за собой. Я повиновалась, как всегда. Он рассеянно провел рукой по моим волосам, теперь заплетенным в небрежный узел. Думаю, он искал успокоения.
– Прошу, идем со мной.
Садовник словно ждал моего согласия. Я кивнула, и тогда он мягко подтолкнул меня в спину. Кабинет для татуирования оказался открыт; оборудование, пока оно не использовалось, было накрыто чехлами от пыли. Садовник вынул из кармана небольшой пульт и нажал кнопку. Дверь за нами начала опускаться. Его личная комната тоже была открыта, и Десмонд стоял перед книжной полкой. Когда дверь наконец закрылась, раздался сигнал, и парень повернул голову.
И уставился на меня, раскрыв в изумлении рот.
Вблизи нетрудно было заметить, что глаза он унаследовал от отца, но во всем остальном пошел в мать. Худощавый, с длинными, изящными пальцами – пальцами музыканта, подумала я, припоминая, что рассказывал о нем Садовник. Определить его возраст я так и не смогла. Наверное, он был ненамного старше меня. В этой игре я еще сильно уступала Садовнику.
Между тем он показал на кресло под лампой.
– Садись, прошу тебя.
А сам опустился на диван и потянул меня за руку, чтобы я села рядом. При этом ни разу не дал мне повернуться к Десмонду спиной. Я подобрала ноги и устроилась на мягких подушках, сложив руки на коленях. Десмонд все стоял и глазел на меня.
– Десмонд, сядь.
У парня подогнулись колени, и он плюхнулся в кресло.
Я подумала, если сейчас поведать изумленному юноше жуткую правду, успел бы он вызвать полицию прежде, чем его отец убил бы меня? Или Садовник просто убил бы собственного сына? С социопатами вся беда состоит в том, что никогда не знаешь, чего от них ожидать.
Я не знала, стоило ли рисковать, но в конце концов отказалась от этой затеи. Я подумала обо всех остальных. Воздух в Сад поступал из централизованной системы, и Садовнику ничего не стоило убить нас, накачав под купол каких-нибудь пестицидов. Как-никак, у него была масса разных химикатов для ухода за растениями.
– Майя, это Десмонд. Он учится на предпоследнем курсе в колледже Вашингтона.
Вот почему он гулял с родителям только по выходным.
– Десмонд, это Майя. Она живет в этом саду.
– Живет?..
– Живет, – подтвердил Садовник. – Как и другие.
Он передвинулся на край дивана, соединив ладони между коленей.
– Мы с твоим братом подбираем их с улиц и приводим сюда. Им здесь хорошо живется. Мы их кормим, одеваем и всячески заботимся о них.
Лишь некоторые из нас были с улицы. И уж точно мы не приходили сюда по собственной воле. В остальном, с определенной точки зрения, Садовник говорил правду. Не думаю, чтобы он считал себя каким-нибудь чудовищем.
– Мама ничего об этом не знает и не должна знать. Столько людей, столько хлопот – это плохо скажется на ее сердце.
Он говорил так искренне, так убедительно. Было видно, что сын ему верит. Ужас от мысли, что отец содержит гарем, сменился облегчением.
Глупый, глупый мальчишка.
Ему еще предстояло обо всем узнать. Когда впервые при нем заплачет девушка, когда он впервые увидит чьи-то крылья, когда впервые поднимутся стены и он посмотрит на этих Бабочек под стеклом – тогда до него дойдет. Но сейчас Десмонд все принимал на веру. А когда до него дойдет, сможет ли он поступить по совести, или сам к тому времени увязнет во всем этом?
Мы просидели в этой комнате почти час, и Садовник на свой лад объяснял сыну происходящее. Время от времени он поглядывал на меня, и я кивала или улыбалась. При этом внутри у меня все сжималось, но я, как и Блисс, не хотела умирать. Я хоть и не питала надежд, как призывала мама Йоханны, но если мне оставалось несколько лет, то я хотела прожить их, пусть и в таком виде. Столько раз мне выпадала возможность сдаться, смириться, а я продолжала жить… Если я не была склонна к суициду, то и безропотно идти на заклание не собиралась.
В конце концов Садовник взглянул на часы.
– Почти два часа, – вздохнул он. – А у тебя занятия с девяти. Пойдем, я провожу тебя. И помни, ни слова за пределами этих стен, даже с Эвери. Я подберу для тебя пароль, когда буду уверен, что тебе можно довериться.
Я тоже начала вставать. Но стоило мне спустить ноги с дивана, Садовник сделал едва уловимый жест рукой, и я осталась на месте.
Думаю, я все-таки была послушна.
Он называл нас Бабочками, хотя на самом деле мы были дрессированными собачками.
Я так и сидела на диване, когда он ушел, даже не встала пройтись по комнате. Там не было окон или других дверей, так что я не видела в этом смысла. Конечно, все это я уже видела, но теперь не ощущала боли или потрясения. Для него это место было чем-то личным, даже в большей мере, чем Сад. Даже Бабочкам здесь не было места.
Так какого черта я там делала? Особенно в его отсутствие…
Садовник вернулся примерно через полчаса.
– Повернись, – распорядился он хриплым голосом, срывая с себя одежду и небрежно разбрасывая ее по ковру.
Я подчинилась, пока он не увидел мое лицо, повернулась к нему спиной и подобрала под себя ноги. Садовник рухнул на колени, обводя губами и дрожащими пальцами каждую линию моих крыльев. Я догадывалась, что им движет напряжение после разговора с сыном. В то же время его возбуждала мысль, что младший сын, возможно, разделит его страсть, но без жестокости, присущей Эвери. Он стал возиться с застежками на моем платье, но не сумел расстегнуть их с первых попыток и просто разорвал их, и на мне остались только лоскуты черного шелка.
Но мечта, что сном жила, днем ли, ночью ли, ушла. Как виденье ли, как свет, что мне в том – ее уж нет. Все, что зрится, мнится мне, все есть только сон во сне[9].
Но к тому времени я провела в Саду уже полтора года, и даже По стал скорее привычкой и уже не способен был отвлечь меня. В большей мере, чем хотелось, я воспринимала то, что он делал. Чувствовала, как пот стекает с его груди мне на спину, слышала, как он стонет, еще сильнее прижимая меня к себе. Чувствовала все, что он делал, чтобы добиться от меня отклика, и тело мое предательски отзывалось. Я не испытывала страха, а он был недостаточно груб, и полностью абстрагироваться не получалось.
Когда казалось уже, что он заканчивает, Садовник резко остановился и стал осторожно дуть на мои крылья, продвигаясь по внешним контурам. Потом он опять начал меня целовать, и все началось по новой. И все это время я думала, до чего же несправедливо с его стороны называть нас бабочками.
Настоящие бабочки могли улететь и остаться недосягаемыми.
Его Бабочки могли только падать, и то довольно редко.
* * *
Она достает из кармана блеск для губ и дрожащей рукой подновляет цвет. Это буквально помогает ей собрать воедино остатки гордости. Виктор наблюдает за ней и отмечает про себя, что следует поблагодарить дочь за такую предусмотрительность. Он и предположить не мог, что эта простая вещица окажет такое действие.
– Так мы познакомились с Десмондом, – произносит Инара через минуту.
Эддисон бросает хмурый взгляд на стопку фотографий и бумаг.
– Как он мог…
– Если человек непременно хочет во что-то верить, то он, скорее всего, поверит. Десмонд хотел услышать от отца убедительное объяснение – и, получив его, захотел в это поверить. И поверил. По крайней мере, на какое-то время.
– Вы сказали, что на тот момент провели в Саду полтора года, – уточняет Виктор. – Вы вели счет?
– Не с самого начала. А на первую годовщину получила неожиданный подарок.
– От Блисс?
– От Эвери.
* * *
После того первого случая со мной и Жизель Эвери приходил ко мне только дважды, и только с согласия отца. При этом если б он как-нибудь покалечил меня, ему грозило бы то же самое. Эвери не бил меня и не душил, только связывал руки за спиной. Но умел причинять боль множеством других способов.
Всякий раз после его визитов я несколько дней страдала обезвоживанием. Писать было очень больно, и я старалась поменьше ходить в туалет.
Но он все время на меня поглядывал, – как Десмонд, вероятно, присматривался к Саду, пока не нашел способ попасть внутрь. Я казалась ему чем-то запретным, и поэтому желанным.
В четвертый раз, когда мне пришлось иметь с ним дело, все начиналось как обычно. Садовник пришел ко мне и объяснил, что Эвери хочет провести со мной время, но обещает держать себя в руках, как в прошлый раз. Таким образом Садовник пытался утешить нас. Но мы все равно не могли отказать, потому что ему это не понравилось бы. По его мнению, нас должна была ободрить мысль, что Эвери не сможет причинить нам вред без последствий для себя.
Тот факт, что последствия наступали только в тех случаях, если он калечил или убивал нас, ничуть нас не ободрял. Но Садовник об этом, похоже, не задумывался. А если и задумывался, то старался не придавать этому значения. Ведь он действительно считал, что заботится о нас и что в Саду нам лучше, чем снаружи.
Итак, не сильно ободренная, я послушно последовала за Эвери в его комнату и скинула платье, как он мне велел. Он приковал меня к стене и слишком туго затянул повязку на глазах. Я приготовилась процитировать что-нибудь из прозы По, так как без рифмы наговаривать текст сложнее. Сколько могла, я постаралась вспомнить «Сердце-обличитель» и собралась молча его читать.
В отличие от Садовника, Эвери не придавал особого значения предварительным ласкам. У него не возникало мысли подготовить нас или, на худой конец, воспользоваться смазкой. Ему нравилось причинять нам боль. И я не удивилась, когда он сразу приступил к делу.
Но вскоре – я не проговорила и четверти рассказа – он остановился без окончания и отошел. Вот это меня удивило. Я слышала, как он возится в дальней части комнаты, где держал бо́льшую часть своих приспособлений. Но время шло, а Эвери все не возвращался. Потом я почувствовала странный запах, как от старого кофе или от чайника на плите, если вода полностью выкипит. Наконец я услышала его тяжелые шаги по металлическому полу и… Черт возьми, эта адская боль, когда он прижал что-то к моему бедру, и оно зашипело. Не знаю, на что это было похоже. Боль была такая, что меня словно изнутри разрывало.
Я заорала до спазма в горле.
Эвери рассмеялся.
– С годовщиной, сучка!
Дверь распахнулась, и он отступил. Даже когда он отдернул инструмент, боль осталась, от нее перехватывало дыхание, и я захлебнулась от собственного крика. Вокруг меня что-то происходило, но я ничего не соображала, только хватала ртом воздух, но легкие отказывались работать.
Потом кто-то коснулся наручников на моих запястьях, и я вздрогнула.
– Это я, Майя, только я, – услышала я голос Садовника и ощутила знакомое прикосновение.
Он сорвал повязку с моего лица. Рядом на полу валялся Эвери, и в шее у него подрагивал шприц.
– Мне так жаль, я и не думал… как же он… мне так жаль… Он никогда, никогда больше не прикоснется к тебе.
Я взглянула на приспособление, которое лежало рядом с Эвери, и прикусила язык; к горлу подступила тошнота. Садовник отстегнул наручники на щиколотках, я сделала шаг и снова завопила.
Садовник поднял меня на руки, пошатываясь, вынес из комнаты и направился к медпункту. Он буквально уронил меня на кушетку, чтобы нажать кнопку вызова. Потом опустился на колени рядом со мной, взял мою руку в свои и повторял снова и снова, как ему жаль. Даже когда Лоррейн, задыхаясь, вбежала в комнату и принялась за работу.
В этом заключалась и своя положительная сторона. В течение долгого времени мне не пришлось иметь дело с Эвери, и из его комнаты убрали все приспособления. Но Садовник не мог полностью отлучить его от Сада – это был едва ли не единственный способ удержать старшего сына в узде. Поэтому Эвери продолжал истязать девушек другими способами. Казалось бы, проблеск надежды, но не тут-то было…
* * *
Виктор не хочет этого знать. Нет ни малейшего желания. И по глазам Эддисона он видит то же нежелание.
Но они должны знать.
– В больнице об этом ничего не сказали.
– Вы так быстро притащили меня сюда, что врачи не успели провести осмотр, какой полагается жертвам насилия.
Хановериан медленно и судорожно втягивает воздух и тут же со свистом выдыхает.
– Инара.
Она молча встает и приподнимает до середины живота кофту с майкой. Глазам открываются новые порезы, ожоги и линии швов на боку. Пуговицы на джинсах не застегнуты, поэтому она просто расстегивает ширинку и поворачивается левым боком. Оттягивает большим пальцем краешек джинсов и зеленых трусиков ровно настолько, чтобы можно было видеть шрам.
Рубец бороздой проходит на уровне тазовой кости, ярко-розовый посередине и только по краям крыльев немного бледнеет. Она криво усмехается.
– Бог любит троицу?
Итого три бабочки: одна подчеркивает индивидуальность, вторая обозначает принадлежность, и третья как символ низости.
Инара поправляет одежду, снова садится и берет из коробки слойку с сыром. После домашних булочек про них совсем забыли.
– А воды можно попросить?
Через секунду раздается стук по стеклу.
Виктор предполагает, что это Ивонна. В таких случаях всегда хочется чем-то занять себя.
Дверь открывается, но вместо Ивонны заглядывает один из техников, протягивает Эддисону три бутылки и удаляется. Брэндон передает одну бутылку Виктору, свинчивает крышку с другой и ставит перед Инарой. Она смотрит на свои руки в порезах, потом на крышку с насечками и кивает. Делает большой глоток.
Виктор берет фотографию Десмонда и кладет посреди стола.
– Расскажите, как он вел себя в Саду.
Инара прижимает ладони к глазам, а когда отнимает их, на лице остаются красные и розовые следы. Как маска.
Словно крылья бабочки.
Виктора передергивает. Он тянется через стол, мягко опускает ее руки и осторожно, чтобы не задеть ожоги, накрывает их ладонями. Ждет несколько минут, пока она соберется с мыслями. Потом Инара поворачивает руки ладонями вверх и легонько обхватывает его запястья. Виктор отвечает ей тем же.
– Поначалу Десмонд не догадывался об истинной природе Сада, – произносит она, глядя на его руки. – В общем-то, довольно долго. Его отец об этом позаботился.
* * *
Садовник не спешил с паролем для младшего сына. В первые недели он сопровождал Десмонда и отслеживал все, что тот видел и с кем говорил. К примеру, Блисс он представил Десмонду одной из последних. А перед этим провел с ней долгую беседу о том, что можно говорить и показывать его сыну, а что нежелательно.
Десмонд не видел тех, которые часто плакали или подлизывались к Садовнику. А те из нас, с кем он мог говорить, получили платья, закрывавшие спину.
Блисс смеялась до слез, когда увидела возле своей комнаты аккуратно сложенное платье. Их разносила Лоррейн, и поначалу она выглядела очень довольной. Она не знала, что Десмонд сам проник в Сад, не знала, что это временная мера.
Она думала, что мы разделим ее участь, что мы теперь тоже неприкасаемые.
Платья были простые, но элегантные, как и всё в нашем гардеробе. Садовник знал наши размеры и, вероятно, отправил за ними Лоррейн, хоть она панически боялась выходить за пределы Сада. Платья – конечно же, черные – покупались готовыми, но заполучить их быстрее было попросту невозможно. Мое походило на рубашку без рукавов, но с воротником и пуговицами, перехваченное у талии широким эластичным поясом; юбка доходила до колен. В глубине души мне оно нравилось.
Хоть наши крылья и оказались закрыты, к удовольствию Садовника, у меня на правой щиколотке оставалась бабочка, которой я обзавелась в квартире. А поскольку крыльев не было видно, то и волосы мы могли заплетать, как нам хотелось. Блисс оставляла свои кудри распущенными, и они за все цеплялись. Я свои просто заплетала в косу, и в этом чувствовалось нечто особенное.
В первые две недели Десмонд был тенью своего отца. Он вел себя сдержанно и почтительно, тщательно выбирал вопросы, словно не желал испытывать терпение отца. У нас были четкие инструкции о том, как следовало отвечать. Если сын Садовника спрашивал нас о нашем прошлом, нам следовало опускать глаза и бормотать что-то про тяжелую жизнь, о которой лучше не вспоминать. Только на пятый или шестой раз это стало казаться ему странным.
Учитывая, что Десмонд вообще заметил нечто странное, я переменила свое мнение о его сообразительности. Хоть и незначительно. Ведь он по-прежнему принимал на веру, что говорил его отец.
Десмонд приходил по вечерам, на несколько часов. Не каждый вечер, но довольно часто – когда возвращался с занятий, и если задано было немного. На этот период Эвери вообще было запрещено появляться в Саду, а Садовник не притрагивался к нам в присутствии Десмонда. Он приходил к нам после, или прежде, только не на глазах сына. Стены поверх витрин с Бабочками оставались опущенными, и мы неделями могли не видеть мертвых девушек. Было, конечно, немного совестно оттого, что мы старались не думать о них, но мы были рады хотя бы на время забыть о надвигающейся смерти. И о бессмертии.
Знакомство Десмонда с Садом проходило по всем правилам, как было заведено еще у Лионетты. Сначала ты их успокаиваешь. Потом начинаешь показывать и объяснять, понемногу, одно за другим. Ты не заговариваешь сразу о татуировках или о сексе. Ты знакомишь их с каким-то аспектом, ждешь, пока они свыкнутся с этим, и только потом переходишь к следующему.
По этой и по многим другим причинам я не могла сравниться в этом с Лионеттой.
Независимо от того, был Десмонд в Саду или нет, я придерживалась своего прежнего распорядка. По утрам беседовала с девушками в пещере, бегала по коридору перед обедом и вечерами читала на вершине скалы или играла у подножия. С чего бы ни начиналась их прогулка, заканчивалась она, как правило, на вершине скалы, за разговорами со мной. Иногда с нами бывала Блисс. Хотя обычно она избегала их и, если видела, как они поднимаются по тропе, спускалась с другой стороны.
Садовник, зная характер Блисс, не возражал. Это снижало риск того, что Десмонд узнает правду прежде, чем он подготовит сына должным образом.
В тот вечер, когда Десмонд в последний раз был в Саду под присмотром отца, Садовник провел с нами некоторое время, после чего оставил нас, спустился по тропе и скрылся в коридорах. Думаю, ему не хватало Бабочек, скрытых за перегородками. Но после его ухода разговор не клеился. Десмонд не знал, что еще сказать, а мне не было до этого дела, поэтому я вернулась к книге.
* * *
– К «Антигоне»? – спрашивает Эддисон.
– К «Лисистрате», – поправляет она с улыбкой. – Нужно было что-нибудь полегче.
– Такого читать не приходилось.
– Не удивительно. Такое оценит скорее тот, у кого есть постоянная девушка.
– Откуда…
– Что тут удивительного? После того, как вы тут ворчали, рявкали, бестактно перебивали… будете утверждать, что у вас есть жена или девушка?
Эддисон краснеет, он явно в бешенстве, но уже знает, что к чему, и повторно на эту удочку не попадется.
Инара усмехается, глядя на него.
– Зануда.
– Некоторые вообще-то делом заняты, – парирует он. – Попробуйте выбраться на свидание, когда в любую минуту могут вызвать на работу.
– Ваш напарник вот женат.
– Он женился, когда учился в колледже.
– Эддисон в колледже попал под арест, и ему было не до женитьбы, – замечает Виктор, и Брэндон краснеет еще гуще.
Инара оживляется.
– За пьянство и беспорядки? Или распутные действия?
– Нанесение увечий.
– Вик…
Но Виктор не дает ему договорить.
– На территории колледжа произошло несколько изнасилований, но администрация и местная полиция провалили расследование. Возможно, намеренно, поскольку подозреваемым был сын начальника полиции. Обвинение так и не выдвинули, руководство колледжа не применило дисциплинарных мер.
– Тогда Эддисон сам выследил парня.
Они оба кивают.
– Линчеватель, – Инара вновь откидывается на спинку, на лице у нее задумчивое выражение. – Разочаровавшись в правосудии, добиваешься его сам.
– Много лет прошло с тех пор, – бормочет Эддисон.
– В самом деле?
– Я уважаю законы. Может, они не идеальны, но это законы, и ничего с этим не поделаешь. Без правосудия не будет порядка и надежды.
Виктор видит, что Инара внимательно слушает и обдумывает его слова.
– Мне по душе ваши мысли о правосудии, – говорит она после некоторых раздумий. – Хотя не уверена, что таковое существует.
– Существует, – отвечает Эддисон и стучит пальцем по столу. – Это тоже часть правосудия. И сейчас мы добиваемся правды.
Она улыбается.
И пожимает плечами.
* * *
Мы долгое время просидели в тишине, и он все больше нервничал, ерзая на камне и потея рядом с нагретой солнцем стеклянной крышей. Я не обращала на него особого внимания, пока он не кашлянул, готовый прервать молчание. Тогда я заложила пальцем книгу и взглянула на него.
Десмонд отшатнулся.
– Ты, хм… ты ведь всегда прямолинейна?
– По-твоему, это плохо?
– Нет, – ответил он медленно, словно не был уверен. Потом сделал глубокий вдох и закрыл глаза. – Из всего, что отец мне рассказывает, – много ли в этом правды?
Это заставило меня оглядеться в поисках закладки. Я вложила ее между страницами и отложила книгу на камень.
– А с чего ты решил, что должно быть иначе?
– Он слишком старается. Ну и… все эти разговоры про секретность. Когда я был маленьким, он привел меня в свой кабинет, все показал и объяснил, что у него много работы, и мне не следует заходить туда и отвлекать его. Он показал мне. Чего не скажешь про этот сад. И я понял, что здесь все иначе.
Я развернулась к нему, скрестив ноги, и поправила юбку, прикрыла что следовало.
– В каком смысле, иначе?
Десмонд тоже повернулся, и наши колени едва не соприкоснулись.
– Он действительно подобрал вас с улицы?
– Тебе не кажется, что лучше спросить у него самого?
– Я бы предпочел спросить у тех, кто скажет мне правду.
– И ты решил, что я одна из них?
– А почему бы и нет? Ты всегда прямолинейна.
Я невольно улыбнулась.
– Прямолинейна не значит откровенна. Может, я отвечу прямо, и в этом не будет ни слова правды.
– То есть ты солгала бы мне?
– То есть спроси у своего отца.
– Майя, что здесь происходит на самом деле?
– Десмонд, если б ты решил, что твой отец делает что-то неприемлемое, как бы ты поступил?
Догадывался ли он, насколько важным был его ответ?
– Я бы… ну… – Парень мотнул головой, провел рукой по длинным волосам. – Думаю, это зависело бы от того, что именно он делает.
– И как, по-твоему, что он делает?
– Помимо того, что обманывает мою мать?
В точку.
Десмонд снова глубоко вздохнул.
– Думаю, он приходит сюда ради секса.
– А если и так?
– Тогда он изменяет моей матери.
– И это забота твоей матери, а не твоя.
– Он мой отец.
– Но не супруг.
– Почему ты не ответишь прямо?
– Почем ты спрашиваешь меня, а не его?
– Потому что не уверен, что его словам можно верить.
Десмонд покраснел, словно стыдился, что ставит под сомнение слова своего отца.
– И ты решил, что мне можно верить?
– Другие же верят.
Он широким жестом обвел Сад и тех девушек, которым разрешалось выходить из комнат в его присутствии.
Но другие – с крыльями на лицах, которые выслуживались в надежде обрести свободу – оставались взаперти. За стенами оставались и те, кто любил поплакать, или часто впадал в уныние, или – за исключением Блисс – отличался стервозным характером. И за стенами оставались десятки девушек под стеклами и пустые витрины, которых уже не хватало на наше поколение Бабочек. И никто не знал, что собирался делать Садовник, когда закончатся места.
– Ты не один из нас, – заявила я. – И никогда не станешь одним из нас, просто потому что ты – это ты.
– Я какой-то особенный?
– Даже не представляешь насколько. Они доверяют мне, поскольку я доказала, что мне можно доверять. Не вижу смысла доказывать это тебе.
– Как, по-твоему, он отреагирует, если я спрошу у него?
– Не знаю. Вот он как раз поднимается к нам. Буду признательна, если не станешь спрашивать при мне.
– Не так просто спрашивать его о чем-то, – пробормотал Десмонд.
Действительно, нам это давалось непросто, по понятным причинам. Но со стороны его сына… думаю, это была трусость.
Садовник подошел и встал над нами с улыбкой.
– Ну как, поладили?
– Да, Майя очень приятный собеседник.
– Рад слышать, – он поднял руку, хотел коснуться меня, но в последний момент продолжил движение и почесал подбородок. – Нам пора, Десмонд, мама ждет к обеду. Майя, я проведаю тебя позже.
– Хорошо.
Десмонд поднялся и… поцеловал мне руку.
– Спасибо тебе за компанию.
– Взаимно, – ответила я.
Я смотрела, как отец с сыном идут через Сад. Вскоре они с Элеонорой и Эвери соберутся за обедом, как самая обычная семья, будут непринужденно болтать, невзирая на ложь, туманом нависшую над столом…
Через несколько минут ко мне поднялась Блисс.
– Ну и придурок, – проворчала она.
– Возможно.
– Он позвонит в полицию?
– Нет, – ответила я неохотно, – не думаю.
– Точно придурок.
Иногда с Блисс трудно было спорить, как в тот раз.
Но иногда и от придурков бывает польза.
* * *
– Почему, по-вашему, он не звонил полицию?
Инара пожимает плечами.
– По той же причине, почему он не задавал отцу тех вопросов. Потому что был напуган. Что, если он позвонит в полицию, а отцовские объяснения окажутся правдивыми? Или, что хуже, не окажутся? Может, он и хотел поступить по совести, но ему был двадцать один год. Разве можно в таком возрасте знать, что правильно, а что нет?
– Вам даже двадцати нет, – замечает Эддисон, и девушка кивает.
– Так ведь я и не говорю, что знаю. Он хотел верить своему отцу. У меня не было никого, кому хотелось бы так безоглядно верить. Никогда не нуждалась в ком-то, кто гордился бы мной.
Она неожиданно улыбается, мягко и немного печально.
– Лотта постоянно об этом беспокоилась.
– Лотта?
– Младшая дочь Софии. Помню, однажды мы отработали смену до трех утра, и София к половине девятого отправилась в школу к своим девочкам, чтобы посмотреть школьное представление. Она рассказывала потом, после того как вздремнула. – Улыбка становится шире, добрее, и на мгновение Виктору кажется, что перед ним настоящая Инара Моррисси, которая обрела дом в этой странной квартире. – Джилли была бесстрашной и самоуверенной. Такие, как она, не знают сомнений и готовы на любую авантюру. Лотта была… не такой. Так бывает, наверное, со всеми девочками, если у них есть старшая сестра вроде Джилли. В общем, мы сидели на полу вокруг журнального столика и ели всякую всячину из закусочной «Таки». София слишком устала, чтобы одеваться, поэтому подошла прямо в нижнем белье и уселась рядом. Ее волосы прикрывали бо́льшую часть татуировок, но грудь была видна. Лотта неделями мучилась с ролью и репетировала с каждой из нас по очереди, когда мы навещали их вместе с Софией. И нам хотелось знать, как она справилась с ролью.
Виктор бывал на таких представлениях.
– И как, справилась?
– Отчасти. Джилли подсказывала ей реплики из зала, – улыбка пропадает с ее лица. – Я никому не завидовала, не было для этого причин. Но эти девочки, как они держались друг друга и Софии… тут было чему позавидовать.
– Инара…
– Чего только не было в той закусочной «Таки», – поспешно перебивает она и щелкает обожженными пальцами, словно хочет отбросить эту сентиментальность. – Она находилась по пути от станции к нашему дому и всегда была открыта. Там всегда что-нибудь готовили, даже если ты закупал продукты в ближайшем магазине. Мы все работали в ресторане, и готовить ни у кого не было желания.
Виктор не успевает воспользоваться моментом, но про себя делает пометку. Он не настолько наивен, чтобы рассчитывать на ее доверие. Вряд ли Инара собиралась в такой мере обнажать чувства. Но Эддисон прав, она скрывает что-то важное. И, что бы это ни было, так сосредоточена на этом, что невольно говорит лишнее.
Она нравится Виктору. Он видит перед собой дочерей всякий раз, когда смотрит на нее. Но работа есть работа.
– А в Саду? – спрашивает он словно невзначай. – Вы, кажется, говорили, что Лоррейн готовила вам только здоровую пищу?
Инара кривит лицо.
– Как в кафетерии. Все выстраивались в очередь, получали еду и рассаживались за столы с лавочками. Чувство было такое, будто мы вернулись в среднюю школу. Ну, кому хотелось, те брали поднос и уходили к себе в комнату, а в следующий раз возвращали.
– А если кому-то не нравилась еда?
– Ели сколько могли. Если кого-то мучила аллергия, то им было еще простительно. Но если есть недостаточно или слишком придираться, это могло плохо кончиться.
* * *
В Саду, когда я только попала туда, обитали две близняшки. Внешне это были две копии друг друга, вплоть до узора на крыльях. Но в жизни это были два совершенно разных человека. Магдален и Магдалина. Мэгги была на пару минут старше, и у нее была аллергия буквально на все. Она даже в Сад не выходила, потому что не могла дышать тем воздухом. Если хотелось уснуть побыстрее, достаточно было попросить ее перечислить все продукты, которые вызывали у нее аллергию. А вот Лина ничем таким не страдала. И Садовник проявил редкое равнодушие, поместив обеих в одной комнате. И посещал их в одно время.
Лина часто резвилась в Саду и в комнату возвращалась вся перепачканная, с травой в волосах, что создавало определенные проблемы. Даже если Мэгги была в это время в столовой и Лина успевала принять душ, – она возвращалась, находила на полу травинку и закатывала истерику. Садовник перепробовал примерно двадцать видов мыла, пока не подобрал для нее подходящее. Но и после этого Мэгги все время жаловалась, какая у нее сухая кожа, какие жесткие волосы. И постоянно, постоянно ныла, что не может нормально дышать, и что глаза у нее воспаленные, и никто ей даже не посочувствует. В общем, кошмар.
Мэгги привыкла, что родители буквально с ног сбивались, стараясь во всем ей угодить.
Хотя Лина мне нравилась. Она никогда не жаловалась, даже если Мэгги бывала невыносимой, и – прямо как я – изучала Сад. Время от времени Садовник прятал для нее какие-нибудь сокровища, просто потому что знал, что она их найдет. Лина смеялась с удовольствием и всегда находила для этого повод. Она понимала, насколько плачевное у нас положение, но тех, кто этого не знал, ее оптимизм мог привести в замешательство. Она предпочитала радоваться, а не впадать в уныние и не падать духом.
Лина пыталась объяснить мне это, и я в каком-то смысле понимала ее. Хоть и не причисляла себя к такому типу людей. Я не впадала в уныние и не падала духом, но и для радости причин не находила.
Мэгги вместе с нами никогда не ела. По ее словам, даже несколько минут, проведенных в одной комнате с нами, могли спровоцировать аллергическую реакцию. Для нее, как правило, готовили отдельно, и сестра брала поднос и относила ей в комнату, а потом забирала. Ей хватало времени, потому что сама она съедала за пять минут все, что ей давали. Она ела все подряд и не жаловалась.
И Лина была одной из немногих, за кого я действительно боялась. Мы в большинстве своем понимали: если в Саду у них все было на двоих, то и умереть им придется вместе.
Они попали в Сад на полгода раньше меня, и Лионетта старалась приспособить Мэгги к жизни в нашем маленьком мире. К счастью, Садовника скорее забавляла эта потребность Мэгги в особом уходе.
По крайней мере, пока ему не надоело.
Когда начались эти перемены, Лионетты уже не стало, и некому было позаботиться о Мэгги.
Время от времени Садовник изъявлял желание поесть вместе с нами, словно король со своим двором. Или, как выразилась Блисс, словно шейх со своим гаремом. Во время завтрака Лоррейн объявляла, что он присоединится к нам за обедом. Видимо, для того, чтобы мы привели себя в надлежащий вид.
В тот вечер я сидела в комнате Данелли с тазиком на коленях и смачивала ей волосы, чтобы легче было расчесывать. Она сидела передо мной на кровати, перевязывала лентами светлые локоны Эвиты и сплетала их на затылке. Данелли я сделала два пучка и несколько прядей заплела в тонкие косы, а часть волос рассыпались по спине. Недостаточно, чтобы скрыть крылья, но в этом угадывался определенный вызов. Позади меня сидела Хейли и орудовала расческой, а у нее за спиной стояла Симона с лентами и маслом для волос.
В школе я никогда не ходила на танцы, но, думаю, выглядело все так, будто мы готовились к чему-то подобному. Это всегда что-то радостное и веселое, этого ждешь с нетерпением, а под конец вечера остается масса впечатлений, и хочется сохранить их в памяти. В Саду все было иначе. Мы все сидели в нижнем белье, потому что боялись замочить платья, если б расплескали воду из тазика. Никто не хихикал и не болтал, как болтали бы девочки перед танцами.
Потом пришла Лина – с нее еще капала вода после душа, а может, она плескалась в пруду – и бросилась на пол.
– Она не хочет идти.
– Она пойдет, – вздохнула Данелли.
Я заплела ей последнюю косу.
– Она говорит, что нет.
– Мы это уладим, – Данелли потрепала Эвиту по голове и сползла с кровати. – Сядь.
Она опустилась на колени рядом с Линой, и та послушно села.
На этом все и закончилось бы, тем более что Данелли отправилась в комнату к Мэгги. Но когда мы оделись и собрались в коридоре, из комнаты еще доносилась их ругань. Что-то разбилось о стену, и минутой позже вернулась раскрасневшаяся Данелли. Сквозь красно-розовый узор на ее крыльях можно было различить отпечаток ладони.
– Она одевается. Идемте.
Мы шли по двое, как подружки. Садовника на кухне еще не было. Мы с Данелли чуть подотстали, пропустили остальных. Девочки поправляли платья и прически и рассаживались по своим местам. Я прислонилась к стене.
– Она точно одевается?
Она закатила глаза.
– Будем надеяться.
– Надо сходить и проверить.
– Майя… – Она покачала головой. – Ладно, забудь. Иди, попробуй.
Когда Лионетта оказалась за стеклом, Данелли справилась с охватившей ее апатией, чтобы помочь мне. Я пока не знала, как выразить ей свою благодарность.
Мэгги даже не думала одеваться. Она была занята тем, что пыталась запихнуть в унитаз всю свою одежду – которую делила с сестрой. Я встала в проходе и кашлянула. Мэгги вздрогнула, потом посмотрела на меня с вызовом и напряженно запыхтела. Волосы беспорядочно падали на ее лицо. Волосы у нее были русые, как у Садовника и Эвери, и такие же карие глаза и выразительный нос. Ее запросто можно было принять за его дочь.
Которой… хм.
– Я не пойду.
– Пойдешь. Не подвергай свою сестру опасности.
– А она не подвергает меня опасности, когда приходит вымазанная во всякой дряни, которая может убить меня? – огрызнулась Мэгги.
– У тебя аллергия, а так ты разозлишь Садовника. Это разные вещи, и ты это знаешь.
– Я не пойду! Не пойду, не пойду, не пойду!
Я дала ей пощечину.
В маленькой комнате хлопок получился довольно звонкий. Кожа на месте удара мгновенно покраснела. Мэгги уставилась на меня и прижала ладонь к щеке, в глазах у нее стояли слезы. Эвери было запрещено трогать ее, и маловероятно, чтобы она когда-нибудь получала по лицу – хотя на других не раздумывая поднимала руку. Мэгги смотрела на меня, не в силах пошевелиться. Тогда я схватила ее за волосы, свернула их в узел и заколола парой шпилек. Потом схватила ее за локоть и потащила в коридор.
– Я не пойду, – всхлипывала Мэгги и царапала мне руку. – Не пойду!
– Будь ты хоть немного умнее, то просто успокоилась бы и оделась. Через час все было бы позади. Так нет же, надо вести себя как избалованная принцесса… Вот и сиди голая и зареванная, и сама объясняй Садовнику, почему относишься к нему без почтения.
– Скажи, что я заболела!
– Он знает, что ты здорова, – рявкнула я. – Лоррейн сказала бы ему. Иначе зачем, по-твоему, она осматривала нас прошлым вечером?
– Это было вчера!
– Сразу на двоих, видимо, мозгов не хватило, – проворчала я и выплюнула попавшую в рот прядь волос. – Магдален, прошу тебя, не будь такой дурой. Это на один час. Тебе, как всегда, приготовят отдельно, и ты сядешь в дальнем конце стола, в стороне от наших тарелок.
– Как вы не понимаете!
Мэгги лягнула меня, но ничего этим не добилась и попросту растянулась на полу. Я волокла ее за собой. Ей стало больно, и она поднялась.
– Я в самом деле могу задохнуться! Я могу умереть!
Действительно.
Я развернулась и припечатала ее лицом к одной из витрин. Мэгги уставилась на распахнутые крылья. Эта Бабочка была там еще до Лионетты и ее предшественницы. Никто не знал ее имени. Шашечница мексиканская – вот и все, что о ней было известно.
– Ты умрешь, если не сядешь с нами за стол. Ты и твоя сестра. Пойми ты уже.
Мэгги заплакала еще громче, всхлипывала и размазывала сопли по лицу. Я брезгливо поморщилась, вновь схватила ее за локоть и повернула за угол.
Садовник стоял у входа на кухню, скрестив руки на груди, и хмурился.
Черт.
– У вас проблемы, милые мои? – спросил он.
Я посмотрела на голую, зареванную Мэгги. На щеке у нее краснел отпечаток моей ладони, и на руке, где я схватила ее, наливался синяк.
– Нет.
– Понимаю.
Да, он понимал. К несчастью. Он сидел во главе стола, между мной и Данелли, и не сводил глаз с Мэгги. Она не съела ни кусочка, только возила по тарелке еду, приготовленную специально для нее. Она не вступала в разговоры и отвечала, только если вопрос был адресован непосредственно ей. Садовник видел, как она прикладывала к щеке стакан с водой – Данелли между тем делала вид, что ее распухшая щека ничуть не заботит. Он видел, как она сжималась и, насколько позволял стол, пыталась скрыть свою наготу.
Нам всем было не по себе. Когда мы уже пили кофе, Садовник кашлянул и наклонился ко мне.
– Без пощечины было никак?
– Никак. Надо было успокоить ее.
– И она успокоилась?
Я обдумала ответ. Не хотелось подставлять Мэгги – вернее, Лину, – но еще меньше мне хотелось подставляться самой.
– Более-менее.
Садовник только кивнул. Я взглянула на Данелли, увидела мрачное смирение в ее глазах, и внутри у меня все оборвалось.
* * *
– Когда? – спрашивает Эддисон.
– Через две недели, – отвечает она чуть не шепотом. – Вы же знаете, увиденного развидеть уже не дано. После того случая Садовник хмурился всякий раз, когда смотрел на кого-то из сестер. Однажды ночью стены опустились, и через два дня мы увидели их прямо у входа на кухню.
Виктор протягивает ей стопку фотографий. Через минуту Инара возвращает ее; и сверху лежит нужный снимок.
– Вместе?
– В жизни и в смерти, – подтверждает она мрачно.
Сестры стоят рядом, в одной витрине, плотно прижавшись друг к другу и соединив ладони.
– Шашечницы виргинские, – добавляет она.
Виктор проводит пальцем по оранжевым с медным отливом крыльям, покрытым черными крапинками. Одна положила голову на плечо другой, а вторая прислонила голову к голове сестры. Это похоже…
– В жизни они так не ладили.
Инара берет стопку фотографий и начинает перебирать их – при этом лицо ее остается совершенно бесстрастным, – потом раскладывает их в две отдельные колоды (та, что слева, заметно больше), отодвигает ее на край стола, кладет ладони на маленькую стопку и сплетает пальцы.
– Этих я знаю, – произносит она тихим голосом, и по лицу ее по-прежнему нельзя ничего прочесть. – Кого-то из них я недолюбливала, а в некоторых души не чаяла, но я знала всех. Знала по именам, которые он давал им. А когда Лионетта назвала свое настоящее имя, Кэссиди Лоуренс, и продолжала жить в нашей памяти, остальные тоже стали перед смертью называть свои прежние имена.
– Вам известны их реальные имена?
– Имена, полученные в Саду, тоже в некотором смысле реальны.
– Я имею в виду их законные имена.
– Некоторые.
– Мы бы давно оповестили их семьи, – говорит Эддисон. – Почему вы не сказали раньше?
– Потому что вы мне не нравитесь, – заявляет она прямо.
Эддисон вырывает у нее фотографии. Инара приподнимает брови.
– Вы действительно думаете, что знание приносит успокоение? – спрашивает она.
Может, все это кажется ей неправдоподобным… или забавным, трудно сказать. А может, дело совсем не в этом.
– Они имеют право знать, что случилось.
– В самом деле?
– Да! – Эддисон вскакивает из-за стола и начинает расхаживать перед зеркалом. – Некоторые ждут уже десятки лет. Пытаются узнать хоть что-нибудь о своих родных. Если теперь они узнают – узнают, что можно наконец смириться…
Инара наблюдает, как он меряет шагами маленькую комнату.
– Значит, вы так и не узнали.
– Что?
– Кто пропадал. Вы так и не узнали…
Брэндон бледнеет, и Виктор ругается про себя. Инара чертовски умна, следует признать это. Не так уж сложно ввести Эддисона из равновесия; но чтобы заглянуть ему в самую душу…
– Сходи, попроси, чтобы прислали нам поесть, – велит он напарнику. – Переведи дух.
Эддисон захлопывает за собой дверью.
– Кто это был? – спрашивает Инара.
– По-моему, это вас это не касается.
– Много ли из того, что я рассказала, касается вас?
Это не то же самое, и они оба это понимают.
– Не думаю, что знание чем-то поможет, – говорит Инара через некоторое время. – Неизвестно, живы мои родители или нет, и то, что тогда произошло, от этого не изменится. Это перестало терзать меня, как только я поняла, что они не вернутся.
– Ваши родители ушли по собственной воле, – напоминает Виктор. – И ни одна из вас не пошла в Сад добровольно.
Она смотрит на свои обожженные руки.
– Не вижу разницы.
– Если б у Софии похитили кого-то из дочерей, по-вашему, она смогла бы жить в неведении?
Инара на секунду закрывает глаза.
– Но чем это поможет? Знать, что они были мертвы все эти годы? Что их насиловали и убивали, и после смерти надругательства не заканчивались?
– Зато они не будут больше терзаться в неведении. По-вашему, ваши подруги по квартире не волновались за вас?
– Люди уходят, – она пожимает плечами.
– Но вы бы вернулись, если б могли, – настаивает Виктор.
Инара не отвечает. Надеялась ли она сама когда-нибудь вернуться?
Хановериан вздыхает и устало трет глаза. Эта дискуссия может продолжаться бесконечно.
Дверь распахивается и грохает о стену. Эддисон быстро входит в комнату. Виктор ругается про себя и поднимается, но Брэндон мотает головой.
– Все в порядке, Вик, я помню о рамках.
В ФБР им заинтересовались, когда в колледже Эддисон все же переступил черту. Потом он еще не раз переступал ее, из-за чего попадал в неприятности. Но Виктор видит, что гнев идет на убыль, и на смену ему приходит холодная решимость. Он снова садится, однако не теряет бдительности.
Эддисон обходит стол и склоняется над Инарой.
– Что бы вы ни говорили, знайте: люди редко отрекаются от родных. Мне жаль, что вам досталась такая семья. Действительно жаль. Ни один ребенок не заслуживает такой жизни. Жаль, что вас никто ждет, но и решать за других вы не вправе. Этих девушек наверняка кто-то помнит.
Он ставит на стол фотографию в рамке. Виктору нет нужды смотреть, он знает, кто на ней.
– Это моя сестра Фейт, – говорит Эддисон. – Она пропала, когда ей было восемь. Вы правы, мы ничего о ней не слышали и не знаем, жива ли она. Мы разыскиваем ее двадцать лет и ждем новостей. Если б нашлось тело, тогда мы хотя бы знали. Я перестал бы смотреть на блондинок среднего возраста и думать, что одна из них может оказаться моей сестрой, а я пройду мимо. Мама перестала бы обновлять свой профиль на сайте в надежде, что Фейт на него наткнется. Отец снял бы вознаграждение за информацию о ней и отремонтировал бы наконец дом, который на глазах разваливается. Мы, в конце концов, отпустили бы ее с миром. Неведение сковывает. Много времени уйдет на то, чтобы извлечь девушек из этих колб. Потом нужно будет должным образом их идентифицировать. Слишком долго. Вы можете подарить их семьям успокоение. Позвольте им оплакать своих дочерей и двигаться дальше. Позвольте этим девушкам вернуться к родным.
На фотографии маленькая девочка в розовой тиаре и костюме черепашки-ниндзя – с маской на глазах и в розовой юбочке. В руке у нее наволочка с Чудо-женщиной. Эддисон, еще совсем юный, держит ее за другую руку и улыбается, глядя на нее. На нем нет костюма, но девочка ухмыляется в ответ. У нее не хватает двух нижних зубов, но это, похоже, нисколько ее не смущает.
Инара проводит пальцем по ее лицу. Точно так же она касалась фотографии Лионетты.
– Он фотографировал нас, когда заканчивал татуировку, – произносит она наконец. – Анфас и в профиль. Ему ведь нужно было где-то держать снимки. В его комнате их не было – я уже пробовала найти. Но Лионетта предполагала, что у него был специальный альбом, и он брал его, когда уезжал и не имел возможности увидеть нас… – Она еще несколько секунд смотрит на фотографию, потом возвращает Эддисону. – Лотте было восемь.
– Я позвоню криминалистам, – говорит Брэндон. – Пусть еще раз обыщут дом.
Он осторожно забирает фотографию и выходит из комнаты.
Некоторое время в комнате стоит тишина. Потом Инара тихо фыркает.
– Все равно он мне не нравится.
– Это ваше право, – смеется Виктор. – Десмонд видел этот альбом?
Она пожимает плечами.
– Если и видел, то ни разу не говорил об этом.
– Но в какой-то момент он узнал правду.
– Узнал.
* * *
Впервые Десмонд воспользовался своим кодом в ночь с четверга на пятницу. Произошло это примерно через неделю, после того как отец ввел его данные в систему безопасности. Еще неделю он приходил в Сад лишь в сопровождении отца и не задавал вопросов, даже если оставался без присмотра. Три недели прошло с тех пор, как Десмонд увидел Сад, но еще не знал правды.
В тот день я проводила бо́льшую часть времени в комнате Симоны, поила ее холодной водой и обтирала мокрыми тряпками. Ее все время тошнило, уже третий день подряд. До сих пор нам удавалось скрывать это от Лоррейн, но вечно так продолжаться не могло. У меня появилось мрачное предчувствие: по всем признакам, Симона была беременна.
Иногда такое случалось, потому что о контрацепции даже речи не шло. Все это означало новую Бабочку в коридоре и временно пустующую комнату. Скорее всего, Симона еще не догадывалась о своем положении, думая, что Эвери опять заразил нас гриппом. В конце концов она уснула, прижимая руку к животу, и Данелли вызвалась посидеть с ней до утра.
Скисший, застоялый запах рвоты въелся в кожу, и меня саму уже мутило. Хоть я давно заслужила право принимать душ, когда захочу, мысль о том, чтобы вновь запереться в тесной комнате, была невыносима. Я лишь на минутку заглянула к себе, протолкнула платье и белье в спускной желоб – как сказала Блисс, слишком узкий, чтобы поместиться самой – и вышла в Сад.
По ночам Сад оказывался во власти сумерек и луны. Можно было ощутить работу механизмов, которые и превращали это место в Сад. При свете дня, среди разговоров и движения, за играми и редким пением никто не слышал труб, по которым к клумбам текли вода и удобрения, и вентиляторов, нагнетающих воздух. Ночью существо, которое мы называли Садом, выбиралось из своей искусственной оболочки и показывало свое нутро.
Ночной Сад нравился мне по той же причине, что и сказки в оригинальной версии. Он был настоящим, ни больше и не меньше. В темноте, если только не приходил Садовник, легче всего было познать истинную природу Сада.
Я пересекла пещеру и встала под водопад, чтобы смыть с себя тяжелый запах болезни и ощущение надвигающейся смерти. Вода лилась с такой высоты, что струи массировали мышцы, затекшие за несколько дней, проведенных на неудобном стуле, в ожидании Садовника или Лоррейн. Они могли явиться в любую минуту, проверить. Я освежилась и по склону, мокрому от росы, поднялась на вершину; там отжала волосы, растянулась на камне, нагретом за день и закрыла глаза. С каждым вдохом я чувствовала, как расслабляются мускулы.
– Непосредственно – хоть и не очень благопристойно.
Я села до того резко, что хрустнула спина, и следующие несколько минут поносила людей, неспособных нормально предупредить о своем присутствии. Десмонд стоял на тропе, в нескольких шагах от меня, сунув рук в карманы, и выгибал шею, старательно разглядывая сегменты стеклянной крыши.
– Добрый вечер, – сказала я кисло и устроилась поудобнее. Вся моя одежда или осталась в комнате, или дожидалась стирки. Так что не было смысла визжать и пытаться чем-то прикрыться. – Пришел полюбоваться видом?
– Но такого увидеть не ожидал.
– Я думала, что осталась одна.
– Одна? – переспросил он, глядя мне в глаза и стараясь не смотреть ниже. – В саду, полном других девушек?
– Которые либо спят, либо сидят по своим комнатам, – добавила я.
– А…
Десмонд на какое-то время замолчал. Я не собиралась поддерживать беседу, поэтому развернулась на камне и посмотрела на Сад. По поверхности пруда, в том месте, где ручей брал свое начало, проходила рябь. Потом я услышала его шаги, и передо мной возникло что-то темное. Я протянула руку, и оно упало мне на колени.
Его свитер.
При свете луны трудно было определить цвет – наверное, бордовый. На груди был нашит школьный герб. От него пахло мылом, лосьоном после бритья и кедром. Нечто теплое и мужское, большая редкость в Саду. Я собрала волосы в узел и влезла в свитер. Когда все было прикрыто, Десмонд опустился рядом со мной на камень.
– Не мог уснуть, – сказал он тихо.
– И поэтому пришел сюда?
– Просто никак не могу понять, что это за место, в чем его смысл.
– Вполне объяснимо, если учесть, что никакого смысла нет.
– Значит, ты здесь не по своей воле.
Я вздохнула и закатила глаза.
– Перестань допытываться до сведений, которыми все равно не воспользуешься.
– С чего ты взяла, что не воспользуюсь?
– Тебе хочется, чтобы отец тобой гордился, – ответила я резко. – И ты понимаешь, что этого не произойдет, если расскажешь кому-нибудь об этом месте. А поэтому какая разница, по своей воле мы здесь или нет?
– Ты… ты, должно быть, считаешь меня жалким.
– Считаю, что ты претендуешь на это звание, – я посмотрела на его грустное и серьезное лицо и впервые, с тех пор как попала в Сад, решила рискнуть. – Но считаю также, что ты можешь изменить это в лучшую сторону.
Десмонд довольно долго хранил молчание. Такой маленький, ничтожный шажок, но даже это казалось неодолимым. Это как же нужно контролировать ребенка, чтобы родительская гордость значила для него больше, чем правда?
– Наш выбор делает нас теми, кто мы есть, – произнес наконец Десмонд.
Трудно назвать такой ответ содержательным.
– А что выбираешь ты, Десмонд?
– Не думаю, что сейчас я склонен выбирать.
– Значит, твой выбор по умолчанию неверен. – Он выпрямился и раскрыл рот, готовый возразить, но я вскинула руку. – Если ничего не выбирать, это и есть выбор. Нейтралитет – это подход, но значение имеют только факты. Невозможно жить, не совершая выбора.
– У Швейцарии, вроде, получается.
– Для нации это, может, и подходит. Но что, по-твоему, чувствует человек, когда узнает, что он допустил своим нейтралитетом? Когда узнает о лагерях, о газовых камерах и экспериментах над людьми? Думаешь, нейтралитет и дальше был бы ему по душе?
– Тогда почему бы тебе просто не уйти? – спросил Десмонд. – Вместо того чтобы осуждать моего отца за то, что он дает вам жилье, кормит и одевает вас, почему ты просто не уйдешь?
– Ты же не думаешь, что мы знаем код от двери?
Он сразу сник – и возмущения на лице как не бывало.
– Он держит вас взаперти?
– Коллекционеры не выпускают своих бабочек полетать. Это противоречит самой цели.
– Можно спросить…
– Не так просто спрашивать его о чем-то, – ответила я его же словами, произнесенными пару недель назад.
Парень вздрогнул.
Десмонд был слеп, но не глуп. Он предпочитал не замечать происходящего вокруг, и это выводило меня из себя. Я сняла свитер и бросила ему на колени, после чего слезла с камня.
– Спасибо за компанию, – проворчала я и быстрым шагом двинулась вниз по тропе.
Я слышала, как он пытается догнать меня.
– Майя, постой. Подожди! – Он схватил меня за локоть и потянул так, что я едва не упала. – Прости.
– Я хочу перекусить, а ты меня задерживаешь. Можешь просить прощения, только уйди с дороги.
Десмонд отпустил меня, но так и шел со мной через Сад. Он первым перепрыгнул через узкий ручей и протянул мне руку. Это показалось мне странным и в то же время милым. Лампы на кухне и в столовой уже погасли, но над плитой горел ночник для тех, кому захочется перекусить поздно вечером.
Вид большого запертого холодильника ненадолго отвлек его. Я открыла дверцу маленького холодильника и посмотрела, что там есть. Я здорово проголодалась, но ничего особо и не хотелось. Если в твоем присутствии кого-то без конца рвет, аппетит как-то пропадает.
– Что это у тебя на спине?
Я захлопнула дверцу, чтобы не падал свет, но было поздно.
Десмонд шагнул ближе, подвел меня к плите и в тусклом свете стал рассматривать крылья, проработанные до мельчайших деталей. В обычных обстоятельствах я бы, наверное, забыла, как они выглядят. Садовник давал нам зеркала, если кто-нибудь просил. Я никогда не просила. Блисс, напротив, постоянно показывала свои крылья и настаивала, чтобы мы посмотрели.
Поэтому мы не забывали, что собой представляли.
Жизнь у бабочек коротка, и нам все время об этом напоминали.
Его пальцы скользили по верхним крыльям, вдоль тонких прожилок, темно-коричневых на оранжевом фоне, изящными линиями расходящихся к краям. Я стояла неподвижно, хотя мурашки бегали по коже от его осторожных прикосновений. Десмонд не задавал вопросов, но все-таки он был сыном своего отца. Я закрыла глаза и стиснула кулаки, когда его пальцы скользнули к нижним крыльям, розовым с фиолетовым. Он не стал продвигаться ниже и провел пальцем по черной линии, вверх по позвоночнику.
– Это восхитительно, – прошептал Десмонд. – Почему бабочка?
– Спроси у своего отца.
У него задрожали пальцы, но руки он так и не отнял. Продолжал изучать клеймо, поставленное его отцом.
– Это он сделал?
Я не ответила.
– Очень больно было?
Больнее всего было лежать там против собственной воли, но я не стала этого говорить. Не стала говорить, как больно было видеть первые контуры на спине новой девушки. Не сказала, что несколько недель не могла спать на спине, так она болела. И что до сих пор не могла спать на животе, поскольку это напоминало о том, как он впервые надругался надо мной, когда вошел в меня и дал новое имя.
Я продолжала молчать.
– Он… всем такие делает? – спросил Десмонд дрожащим голосом.
Я кивнула.
– Господи.
Беги, кричала я про себя, беги в полицию или открой двери, чтобы мы сами сообщили в полицию. Сделай что-нибудь, что угодно, только не стой столбом!
Но Десмонд не бежал. Он стоял позади меня, не отнимая руки от моих крыльев, и тишина между нами стала осязаема, ожила. Поэтому я сама отступила и вновь открыла холодильник с таким видом, словно ничего особенного не произошло. Взяла апельсин, бедром толкнула дверцу и прислонилась к стойке, расположенной поперек комнаты и разделяющей кухню и обеденную зону.
Десмонд попытался встать рядом, однако ноги его не слушались. Он сполз на пол возле меня, прислонившись к дверце шкафа, касаясь плечом моего колена. Я тем временем чистила апельсин. Я всегда старалась снять кожуру целиком, идеальной спиралью. Но до сих пор ни разу не получалось – она всегда рвалась где-нибудь посередине.
– Для чего он это делает?
– А как ты думаешь?
– Черт.
Десмонд подтянул колени и сцепил руки за головой.
Я отломила первую дольку и стала высасывать сок. Если попадались косточки, я складывала их в кучку.
Тишина становилась все тяжелее.
Высосав из дольки весь сок, я положила ее в рот и начала жевать. Хоуп всегда забавляло, как я ем апельсины. Она говорила, что ее парням неловко смотреть на меня. Я показывала ей язык и говорила, что парням не обязательно пялиться на меня. Как бы там ни было, Десмонд на меня не смотрел. Я съела вторую дольку, потом третью, потом четвертую.
– Еще не спишь, Майя? – донесся из коридора мягкий голос Садовника. – Ты хорошо себя чувствуешь?
Десмонд поднял глаза, побледнел и весь напрягся. Но не встал и ни слова не произнес, ничем не выдал своего присутствия. Он сидел на полу, и, чтобы увидеть его, Садовнику пришлось бы обогнуть стойку и посмотреть себе под ноги. Но он никогда не проходил на кухню.
– Я в порядке, – ответила я. – Просто искупалась под водопадом и решила перекусить.
– И решила, что одеваться незачем?
Рассмеявшись, Садовник прошел в обеденную зону и устроился на высоком обитом стуле, предназначенном специально для него. Насколько я знала, он так и не увидел корону, которую Блисс нацарапала на спинке. Следовало признать, стул действительно напоминал трон: обитый темно-красным бархатом, с черной резной спинкой, но без подлокотников. Он отодвинул его и оперся одной рукой о край стола.
Я пожала плечами и отломила еще одну апельсиновую дольку.
– Решила, что глупо придавать этому значение.
Странно было видеть его таким непринужденным, как он сидел в полумраке, в одних шелковых штанах. Простое обручальное кольцо поблескивало в тусклых отсветах лампы. Сложно было сказать, спал он у себя в комнате или был с кем-то из девушек, но он редко оставался у нас на всю ночь. Если только жена не была в отъезде, по меньшей мере часть ночи он проводил в своем доме, который я не видела. Не могла увидеть даже с самого высокого дерева.
– Подойди, сядь ко мне.
Десмонд зажал рот ладонью. В глазах его читалось страдание.
Я отложила остатки апельсина, послушно обошла стойку и приблизилась к столу. Начала опускаться на скамью, но он привлек меня к себе и усадил на колени. Провел рукой по спине и талии – он проделывал это неосознанно. Другую руку положил мне на бедро.
– Как девушки относятся к присутствию Десмонда?
Если б он мог предположить, что Десмонд в шагах от него, вряд ли завел бы этот разговор.
– Они… заинтригованы, – ответила я. – Думаю, нам всем интересно, на кого он похож больше, на вас или на Эвери.
– И что вам предпочтительнее? – Я покосилась на Садовника; он рассмеялся, потом поцеловал меня в ключицу. – Они его не боятся, правда? Десмонд никому не причинит вреда.
– Думаю, они к нему привыкнут.
– А ты, Майя? Что ты думаешь о моем младшем сыне?
Я едва не оглянулась в сторону кухни. Но раз уж Десмонд не хотел, чтобы отец знал о его присутствии, я не собиралась его выдавать.
– Думаю, он в растерянности. И сам не знает, как к этому относиться.
Я сделала глубокий вдох и убедила себя, что Десмонду следующий вопрос пойдет на пользу, позволит иначе взглянуть на Сад.
– Для чего вам все это?
– Что именно?
– Зачем давать нам вторую жизнь под стеклом?
Садовник медлил с ответом, выводя пальцами беспорядочные узоры на моей коже.
– Мой отец коллекционировал бабочек, – произнес он наконец. – Он сам их ловил. Но если не удавалось заполучить бабочку в хорошем состоянии, он ее покупал. И еще живую крепил иголкой к стендам, обитым черным бархатом. Для каждой имелась бронзовая табличка с научным названием и обиходным. Отец создал в своем кабинете настоящий музей. Иногда он вешал между стендами мамину вышивку. Каких-то бабочек он держал по одной, а из некоторых составлял целые композиции, пестрые на темном фоне.
Садовник убрал руку с моего бедра, провел по спине и стал обводить крылья. Ему даже не нужно было смотреть, он знал их контуры наизусть.
– В этой комнате отец чувствовал себя самым счастливым. И когда вышел на пенсию, проводил там почти все свое время. Но в той части дома случился небольшой пожар, и все бабочки сгорели. Все до одной. Коллекция, которую он собирал десятки лет. После того случая отец уже не был прежним, да и прожил недолго. Мне кажется, он просто потерял тогда смысл жизни. На следующий день после похорон нам с мамой пришлось поехать в город, на ярмарку в честь Дня независимости. Маму представили к награде за ее благотворительную деятельность, и она не хотела расстраивать людей своим отказом. Я оставил ее в компании хороших друзей и отправился бродить по павильонам. Тогда-то я ее и увидел. На ней была маска в виде бабочки. Она стояла у выхода из лабиринта и раздавала детям бабочек из перьев и розовых лепестков. Она была такая яркая, такая живая – трудно было поверить, что бабочки вообще умирают.
Я улыбнулся ей и вошел в лабиринт. Она последовала за мной. Доставить ее к себе домой не составило труда. Поначалу я держал ее в подвале, а потом выстроил сад, который и стал ей домом. Я тогда учился и только принял отцовское дело, и заводить семью было слишком рано. Я решил, что ей очень одиноко, даже когда переселил ее в Сад, и поэтому подселил к ней Лоррейн и других…
Садовник погрузился в воспоминания, но это не причиняло ему боли. Для него все было просто и понятно. Он не стал приводить Еву в Сад – он выстроил Сад вокруг нее. И сам стал ангелом с пламенным мечом, стоял на ее страже. Садовник прижал меня к груди и наклонил мне голову, чтобы я легла к нему на плечо.
– Ее смерть разбила мне сердце. Сама мысль, что ей отведен лишь такой короткий срок, была невыносима. Я не мог забыть ее. Пока я помнил о ней, часть ее продолжала жить. Я сделал контейнеры из стекла и нашел способ предотвратить разложение.
– Смола, – прошептала я, и он кивнул.
– Но прежде – бальзамирование. Моя фирма закупает формалин и формальдегидные смолы – для одежды, как это ни странно. Не так уж сложно заказать сверх необходимого и часть доставить сюда. Следует заменить кровь формалином; это замедлит разложение, пока смола не затвердеет и не законсервирует тело. Даже когда тебя не станет, Майя, ты не будешь забыта.
И ведь он действительно считал, что меня это воодушевит. Если я не провинюсь перед ним, или не произойдет несчастного случая, то через три с половиной года Садовник пустит по моим венам формалин. Я достаточно хорошо его знала и могла предположить, что все это время он будет рядом, будет даже гладить мои волосы и заплетет их в последний раз. И когда вытечет вся кровь, он поместит меня в стеклянный контейнер и заполнит его прозрачной смолой. Даст мне вторую жизнь, и никакой пожар меня не уничтожит. Всякий раз, проходя мимо, он будет касаться стекла и шептать мое имя. И никогда меня не забудет.
Сидя у него на коленях, я не питала иллюзий насчет его отношения к этому.
Он мягко спихнул меня на пол, раздвинул ноги и запустил руку в мои волосы. Я теперь сидела между его коленей.
– Покажи, что и ты не забудешь меня, Майя, – он пододвинул к себе мою голову, другой рукой развязывая шнурок на штанах. – Даже потом.
Даже когда меня не станет, мой вид по-прежнему будет приводить его в возбуждение.
И я подчинилась, как подчинялась всегда. Потому что хотела прожить эти три с половиной года, даже если приходилось выслушивать, как этот человек меня любит. Подчинилась, хотя он едва не задушил меня, и послушалась, когда он вновь усадил меня к себе на колени. И подчинилась, когда он потребовал, чтобы я пообещала, что никогда его не забуду.
И в этот раз вместо того, чтобы повторять про себя какие-нибудь стихи или рассказы, я думала об этом мальчишке, который сидел в другой части комнаты и все это слушал.
Я поняла, что наш сосед – педофил, не только по его взгляду. Я видела, как обреченно переглядывались его приемные дети. Видела, что за секрет их объединяет. Все они знали, что это происходит с каждым из них, но ни один не заговаривал об этом вслух. По их опустошенным взглядам я понимала, что рано или поздно сосед полезет ко мне под платье, возьмет мою руку и положит себе на колено, и шепнет при этом, что у него для меня есть подарок.
Потом Садовник поцеловал меня и сказал, что мне следует отдохнуть. Штаны он завязывал уже на ходу. Когда он ушел, я обошла стойку, взяла остатки апельсина и села рядом с Десмондом. Лицо у него было мокрое, и глаза блестели. Он бросил на меня померкший взгляд.
Опустошенный взгляд.
Я доела апельсин – дала ему время, чтобы он нашелся, что сказать. Но Десмонд так ничего и не сказал, лишь протянул мне свитер. Я надела его, и когда он взял меня за руку, не стала возражать.
Он не собирался идти в полицию.
Мы оба это знали.
За последние полчаса не изменилось практически ничего. Разве что Десмонд слегка возненавидел себя за это.
* * *
– Вы так и не спросили, кто из девушек выжил.
– Вы не отпустите меня к ним, пока я не расскажу вам все, что вы хотите услышать.
– Верно.
– Когда мы закончим, я все узнаю и смогу побыть с ними. Все равно мое присутствие ничего не изменит.
– Я уже готов поверить, что вы не плакали с шести лет.
По лицу Инары пробегает слабая улыбка.
– Чертова карусель, – соглашается она.
* * *
Блисс смастерила карусель. Я еще не говорила?
Она что угодно могла слепить из своей глины. Один за другим ставила противни в духовку, и Лоррейн все это время хмуро за ней наблюдала. Блисс единственная могла пользоваться духовкой. Хотя, кроме нее, об это никто больше не просил.
В ту ночь, перед смертью, когда мы лежали втроем на кровати, Лионетта рассказывала разные истории. Она не называла имен или мест, просто рассказывала случаи из прежней жизни. И один случай, который она вспоминала с особой любовью, который даже заставил ее улыбнуться, был связан с каруселью.
Ее отец изготавливал фигуры для каруселей. Маленькая Кэссиди Лоуренс иногда делала наброски, и отец воплощал их в очередном проекте, разрешая дочери выбирать цвета и выражения лиц. Однажды он взял ее с собой на передвижную ярмарку, для которой изготовил лошадей с каретками. Фигуры установили на круглой платформе, а маленькая Кэссиди сидела и смотрела, как по золоченым шестам тянули провода, чтобы лошади двигались вверх-вниз. Когда все было готово, она несколько раз обошла карусель, гладя лошадей и каждой шепча на ухо ее имя, чтобы они не их забывали. Она знала каждую из них и любила их всех.
Садовник не одинок в своих привычках – просто у него они обрели крайнюю форму.
Но лошади ей не принадлежали, и когда пришло время уезжать, ей пришлось их оставить, скорее всего, навсегда. Кэссиди не плакала, потому что пообещала отцу. Пообещала, что не станет устраивать сцен, когда они поедут домой.
Тогда она сложила первую лошадку из бумаги.
По пути домой Кэссиди сложила два десятка лошадей. Она брала листы из блокнота и счета из закусочных, пока не наловчилась. А когда вернулись домой, перешла на бумагу для принтера. Она складывала лошадей одну за другой, раскрашивала их, как и тех, с которым рассталась, и при этом шептала их имена. Затем выкрасила тонкие прутики и клеем прикрепила к ним лошадей.
Кэссиди раскрасила основание и купол крыши, даже нарисовала замысловатые узоры на опорах. Мама помогла ей составить все это в одно целое, а отец даже сделал специальный вал в основании, чтобы карусель медленно вращалась. Родители так гордились ею…
Утром, в день похищения, когда она отправилась в школу, карусель по-прежнему занимала почетное место на каминной полке.
Когда Лионетты не стало, я, чтобы отвлечься, занялась новой, пока безымянной девушкой.
Блисс лепила из своей глины.
Она никому не показывала, над чем работает, и мы не спрашивали, позволив ей самой справиться с горем. Непривычно было видеть ее такой сосредоточенной, но и повода для беспокойства я не видела. Лишь бы она не слепила огненно-рыжую бабочку. Блисс сделала несколько таких в память о некоторых девушках, и было в этих фигурках что-то зловещее, противоестественное, как в Бабочках под стеклом.
Но потом новая девушка отреагировала на краску – кожа не заживала должным образом. Даже если б ее не убила инфекция, крылья были безнадежно испорчены. А этого Садовник не мог допустить. Ведь именно наша красота определяла его выбор.
Рано утром, когда было еще темно, двери опустились, как перед обычным сеансом. Но когда нас выпустили, ее не было ни в комнате, ни в кабинете для татуирования. И под стеклом мы ее так и не увидели. Ей не дали попрощаться.
Осталось только… нет.
От нее в буквальном смысле ничего не осталось, даже имени.
Когда я вернулась в свою комнату, на кровати, скрестив ноги, сидела Блисс. Она держала что-то на коленях, завернутое в юбку. Под глазами на бледной коже темнели круги: казалось, она вообще не спала с той ночи, когда Лионетта с нами попрощалась.
Я присела рядом с ней на кровать, подогнув под себя ногу, и прислонилась к стене.
– Он убил ее?
Я вздохнула.
– Если и нет, то убьет в ближайшее время.
– А потом ты снова будешь торчать у кровати, хлопотать с новенькой…
– Наверное.
– Зачем?
Я и сама раздумывала над этим целую неделю.
– Потому что это было важно для Лионетты.
Блисс развернула юбку: на коленях у нее лежала карусель.
Лионетта, когда попала в Сад, смастерила еще одну карусель: теперь она стояла на полке над кроватью Блисс. Она воспроизвела все рисунки и узоры, и Блисс повторила все это в своей фигурке, даже спирали вокруг позолоченных шестов. Я протянула руку и легонько толкнула красный флажок на верхушке; карусель сделала оборот.
– Я не могла не сделать, – прошептала она. – Но и у себя оставить не смогу.
Потом Блисс не выдержала и разревелась, прямо у меня на кровати. Она не знала про мою карусель. Не знала, что я сидела на красно-черной лошади, когда наконец поняла, что родители меня не любят – или любят недостаточно. Когда поняла – и приняла, – что не нужна им.
Я взяла фигурку у нее с коленей и мягко подтолкнула ее носком.
– Прими душ.
Блисс всхлипнула и послушно слезла с кровати. Пока она смывала с себя двухнедельную скорбь и негодование, я рассматривала лошадей – искала похожую на ту, которую я десять лет назад окропила слезами, последними в своей жизни.
Одна оказалась очень похожа. У нее были серебряные украшения вместо золотых, и красные ленточки в черной гриве, но в остальном они были практически одинаковыми. Я приподнялась на колени и поставила карусель рядом с Симбой и другими фигурками, рядом с бумажным зверинцем, горным пейзажем от Эвиты и стихотворением от Данелли, и всем прочим, что удалось скопить за эти полгода в Саду. Я подумала, не попросить ли Блисс сделать крошечную девочку с черными волосами и золотистой кожей, и посадить ее на красно-черную лошадь, чтобы она каталась круг за кругом и смотрела, как от нее отворачивается целый мир.
Но тогда Блисс стала бы расспрашивать о причинах. А эта девочка не нуждалась в сочувствии – ей хотелось лишь, чтобы про нее наконец забыли.
Блисс вернулась из душа, замотанная в розовое и фиолетовое полотенца, и в конце концов уснула, свернувшись на кровати, как одна из дочерей Софии. Я заложила руку за голову и вновь прислонилась к стене, то и дело легонько толкая карусель, и красно-черная лошадь скользила по кругу.
* * *
Хотелось бы дать ей возможность отвлечься, чтобы беседа продолжалась своим ходом, и Инаре не пришлось возвращаться в этот кошмар.
Но Виктор наклоняется в кресле и кашляет. Она поднимает на него печальный взгляд, и он медленно кивает.
Инара вздыхает и складывает руки на коленях.
* * *
Следующую неделю Десмонд вообще не появлялся в Саду. Он не приходил ни в одиночку, ни с отцом – просто пропал. Блисс первой спросила о нем у Садовника со свойственной ей прямотой. Но тот лишь рассмеялся и сказал, чтобы мы не волновались, что сын просто сосредоточился на предстоящих экзаменах.
Меня такое объяснение вполне устраивало.
Неважно, избегал он нас или просто обдумывал произошедшее – меня его отсутствие нисколько не волновало. Меньше мужчин – меньше хлопот. Я посвящала освободившееся время размышлениям.
Эвери наконец вернулся в Сад, и мне то и дело приходилось осторожно вмешиваться, чтобы оградить излишне ранимых Бабочек от его внимания. Я в буквальном смысле вынуждена была разрываться между Симоной и остальными.
За последние десять дней Симона заметно потеряла в весе. Она и тридцати минут не могла удержать в себе съеденного. Днем я сидела у ее кровати, а ночью, когда меня сменяла Данелли, выходила в Сад и спала на вершине скалы. Там мне представлялось, что нет никаких стен и впереди у нас еще достаточно времени.
Симона мне нравилась. Она была веселая и все воспринимала с иронией, не питала иллюзий и просто мирилась с происходящим.
Я помогла ей добраться от унитаза до кровати, и она стиснула мою руку.
– Мне придется сдать тест, да?
Блисс говорила, что Лоррейн расспрашивала их во время завтрака.
– Да, – ответила я медленно. – Скорее всего.
– И результат будет положительный?
– Думаю, да.
Симона закрыла глаза, смахнув прядь волос с мокрого лба.
– Мне следовало догадаться. Я же видела маму и старшую сестру во время беременности. Их обеих рвало по два месяца.
– Хочешь, я пописаю вместо тебя?
– Черт, до чего мы докатились, если в этом проявляется наша любовь и дружба… – она медленно покачала головой. – Мы обе знаем, чем это закончится. Я не хочу, чтобы ты умерла вместе со мной.
Мы просидели некоторое время в молчании, потому что иногда слова совершенно излишни.
– Можешь сделать для меня одолжение? – спросила потом Симона.
– Какое?
– Если в библиотеке есть эта книжка, можешь почитать мне?
Когда она сказала название, я чуть не рассмеялась. Не потому, что мне стало смешно, а потому что я могла исполнить ее просьбу, и меня это обрадовало. Я сходила за книгой, села рядом с Симоной на кровати и взяла ее за руку. Потом раскрыла книгу на нужной странице и начала читать.
– «Морозило, шел снег, на улице становилось все темнее и темнее. Это было как раз в вечер под Новый год. В этот-то холод и тьму по улицам пробиралась бедная девочка с непокрытою головой и босая…»
* * *
– Что это за книга?
– Часть книги, – поправляет Инара. – «Девочка со спичками» Ганса Христиана Андерсена.
Виктор смутно припоминает, как его дочь, Бриттани, еще совсем маленькой танцевала в каком-то представлении. Но воспоминания об этом слились со «Щелкунчиком» и «Стойким оловянным солдатиком».
– В Саду подобные истории обретают особый смысл.
* * *
Я дочитала эту историю и перешла к следующим. Но замолчала, когда вошла Лоррейн. Она держала в руках поднос с двумя тарелками, и между ними лежал тест.
– Сделать это нужно при мне.
– Кто бы сомневался…
Симона вздохнула и села, прислонившись к изголовью кровати; затем взяла стакан воды и выпила одним духом. Я взяла с подноса второй стакан, с соком, и протянула ей. Она осушила и его. Потом попыталась поесть. Обед состоял лишь из супа и пары тостов и в конце концов остался почти нетронутым. Когда выпитое наконец напомнило о себе, Симона взяла с подноса тест, прошла в туалет и задернула шторку.
Лоррейн, как стервятница, стояла в дверном проеме, вся ссутулясь и не спуская глаз со шторки.
Симона наклонилась вперед, посмотрела на меня, потом перевела взгляд на стервятницу в дверях. Я кивнула, сделала глубокий вдох и стала читать «Оловянного солдатика».
Во весь голос.
Наша кухарка сверлила меня полным ненависти взглядом, зато Симона спокойно сделала свои дела. Она спустила воду, вышла из-за шторки и швырнула Лоррейн мокрую полоску.
– Поздравляю. Иди, докладывай. Только не мозоль глаза.
– Ты не хочешь…
– Нет. Убирайся, – она легла на кровать, устроившись у меня на коленях. – Продолжим?
Я положила книгу ей на спину, поверх Бархатницы ютты, и продолжила с того места, где остановилась. Симона проспала почти весь вечер, лишь иногда просыпаясь и склоняясь над унитазом. Чуть позже к нам присоединилась Данелли и заплела каштановые волосы Симоны в элегантный твист. Блисс принесла нам ужин и вплела в новую прическу несколько цветков из полимерной глины. Когда я поела – Симона только возила еду по тарелке, – Блисс забрала поднос и ушла на кухню.
Когда стали сгущаться сумерки, в дверях появился Садовник.
С платьем в руках.
Выполненный из легкого шелка кремовых оттенков, уложенного в несколько слоев, наряд полностью был призван подчеркнуть и оттенить расцветку ее крыльев и смуглую кожу. В повисшей тишине Симона подняла глаза, увидела платье и быстро отвернулась, чтобы он не видел ее слез.
– Дамы?
Данелли быстро заморгала и поцеловала Симону в краешек уха, потому что не смогла дотянуться до лица. Потом она вышла, и Симона медленно села на кровати, обняла меня и уткнулась лицом в плечо. Я сжала ее в своих объятиях и почувствовала, как она дрожит.
– Меня зовут Рейчел, – прошептала Симона. – Рейчел Янг. Ты запомнишь?
– Да.
Я поцеловала ее и отпустила с тяжелым сердцем. Потом забрала книгу и направилась к выходу. Садовник мягко поцеловал меня.
– Она не почувствует боли.
Она умрет.
* * *
Теперь мне следовало отправиться в свою комнату, или к Блисс, или к Данелли. Нам следовало сбиться в небольшие группки и притворяться теми, кем мы не являлись. И оплакивать утрату, которая в действительности еще не постигла нас. Следовало ждать, когда умрет Симона.
И я не смогла, впервые за все это время.
Просто не смогла.
Свет предупредительно замигал, чтобы мы успели разойтись по комнатам, прежде чем опустятся стены. Я шагнула по песчаной тропе и при этом уловила движение в дальней части Сада. Трудно было сказать, кто это был – Эвери, Десмонд или кто-то из девушек. В тот момент меня это совершенно не волновало. Свет погас, и стены позади меня тихо зашипели и опустились, с глухим стуком утвердились в своих гнездах. Потом все вокруг стихло.
Я продвигалась вглубь Сада, шла вдоль ручья, пока не оказалась у водопада. Я бросила книгу на камни, на безопасном расстоянии от воды и брызг, и обхватила себя руками. В груди нарастало ощущение тяжести. Я прислонилась к стене и запрокинула голову, глядя сквозь стеклянную крышу. На темном небе загорались звезды – некоторые серебристо-яркие, другие блеклые, синие или желтые. И среди них одиноко мигал красный огонек: наверное, самолет.
Потом небо прочертила крошечная вспышка. Я мыслила рационально – и понимала, что это всего лишь космический мусор, какой-нибудь обломок или часть спутника, сгоревшая в атмосфере. Но не могла ни о чем думать, кроме этой идиотской сказки.
«– Вот, кто-то умирает! – сказала малютка. Покойная бабушка, единственное любившее ее существо в мире, говорила ей: “Падает звездочка – чья-нибудь душа идет к Богу”».
Эта глупая девочка стояла на холоде и жгла спички, чтобы согреться и взглянуть на семьи, которые никогда не станут ей родными. И с осознанием этой суровой действительности она замерзает среди спичек, потому что те, хоть и горят, не согревают, а только светят.
Тяжесть в груди усиливалась, у меня перехватило дыхание. Я не могла ни вдохнуть, ни выдохнуть – ощущала лишь ком в груди и задыхалась. Где-то над головой шелестели ветки и листья. Я упала на колени, хватая ртом воздух, не в силах протолкнуть его дальше. Я сжала руку в кулак и врезала себе по груди. На мгновение стало невыносимо больно, но я по-прежнему не могла дышать и не знала почему.
Чья-то рука легла мне на плечо. Я развернулась, стряхнула ее – и упала, потеряв равновесие.
Десмонд.
Я перекатилась на живот, кое-как поднялась на ноги и прошла сквозь водопад в пещеру. Десмонд последовал за мной и подхватил меня, когда я споткнулась и снова упала. Затем осторожно уложил меня на пол и опустился передо мной на колени. Внимательно посмотрел на меня, пока я хватала ртом воздух.
– Я знаю, у тебя нет причин верить мне, но доверься хотя бы на минуту…
Десмонд протянул руку, и я вновь стряхнула ее. Он покачал головой, потом быстро повернул меня и одной рукой прижал мои руки к животу. А другой рукой накрыл мне рот и нос.
– Вдыхай, – шептал он мне на ухо. – Неважно, насколько глубоко, воздух все равно будет поступать. Вдыхай.
Я пыталась. Возможно, Десмонд был прав и воздух действительно поступал, но я этого не ощущала. Я чувствовала только его ладонь, перекрывающую мне воздух.
– Я стараюсь сделать так, чтобы ты вдыхала углекислый газ повышенной концентрации, – продолжал он спокойным голосом. – Вдыхай. Углекислый газ, попадая в кровь вместо кислорода, тормозит реакции организма. Вдыхай. Когда уровень углекислоты достигнет критической отметки и ты будешь на грани обморока, организм отреагирует сам и заблокирует психологический фактор. Вдыхай.
Всякий раз, когда Десмонд давал команду, я пыталась сделать, как он велел. Честно пыталась. Но не могла вдохнуть ни грамма воздуха. Я перестала сопротивляться, тело мое потяжелело, и я обмякла у него на груди. Его ладонь по-прежнему зажимала мне рот и нос. Отяжелевшая, я почти не чувствовала тяжести в груди, и постепенно в легкие начал просачиваться воздух. У меня кружилась голова, перед глазами все поплыло, но я дышала. Десмонд сместил руку мне на плечо и стал медленно поглаживать, и продолжал при этом шептать:
– Вдыхай.
В конце концов это снова превратилось в нечто привычное, о чем не нужно задумываться. Я закрыла глаза – мне стало стыдно. У меня еще ни разу не было панических атак, но я не раз наблюдала такое у других. Унизительно было осознавать, что я оказалась беспомощна перед ней. Тем более что произошло это у кого-то на глазах. Когда я пришла в себя и почувствовала, что смогу устоять на ногах, я попыталась подняться.
Десмонд обхватил меня руками. Не очень крепко, но достаточно, чтобы удержать меня.
– Я трус, – произнес он тихим голосом. – Хуже того, мне кажется, что я смог бы понять отца. Но если я могу помочь тебе, – позволь мне, прошу.
Если б у маленькой девочки со спичками кто-нибудь был, если б кто-то теплый и любящий обнял ее таким вот образом – может, она осталась бы жива?
Или они оба замерзли бы?
Десмонд пододвинулся к стене и привлек меня к себе. Я лежала теперь боком между его ногами, прижавшись щекой к груди. Даже слышала, как бьется его сердце, и старалась дышать в одном ритме. Стоило мне пошевелиться, и я чувствовала, как его пульс учащался. Десмонд не мог похвастаться мощным телосложением брата или жилистой мускулатурой отца. Он был худой и долговязый, как бегун. Он что-то тихо напевал. Я не узнавала мелодии, да и не могла толком расслышать, прижатая к его груди, но его пальцы скользили по моей коже, как по клавишам рояля.
Мы сидели в темной, сырой пещере, вымокшие под водопадом, и жались друг к другу, как дети, которым приснился кошмар. Но когда я засыпала, кошмар никуда не девался. И когда просыпалась, кошмар продолжался. Изо дня в день, еще три с половиной года, кошмар неотступно будет преследовать меня, и не будет от него спасения.
Но на эти несколько часов я могла притвориться. Могла побыть той девочкой со спичками, отдаться иллюзиям и греться, пока огонь не угаснет и я снова не окажусь в Саду.
* * *
– Вы были не только спутницами в неволе, верно? – спрашивает Виктор через некоторое время, дав ей время собраться. – Вы были подругами.
– Некоторые из них были мне подругами. Но все мы – одна семья. Думаю, иначе и быть не может.
* * *
Иногда сложно было заставить себя с кем-то сблизиться. Это лишь усугубляло страдания после их смерти. Иногда казалось, что оно просто не стоило того. Но в Саду тебя всегда подстерегали одиночество и угроза неминуемой гибели, и поэтому общение с другими казалось меньшим из зол. Не неизбежным – но меньшим.
Мне было известно, что Назира больше, чем Блисс, боялась забыть прошлое. Она была художницей и постоянно рисовала своих родных и друзей, изрисовала кучу блокнотов. Рисовала любимую одежду, дом, школу, маленькие качели в городском парке, где впервые поцеловалась. Рисовала снова и снова – и приходила в ужас, если рисунки чем-то отличались от оригиналов, или смазывались какие-то подробности.
Зара была та еще стерва. Если уж Блисс кого-то так назвала, то человек был действительно невыносим. Блисс, как правило, теряла терпение и злилась, если кто-нибудь совершал глупость. Зара по природе своей была злой. Она не строила иллюзий, и мне это нравилось. Но из-за нее страдали те, кто нуждался в подобной иллюзии. Например, Назира – она считала, что если не забудет прошлого, то сможет когда-нибудь вернуться. По меньшей мере раз в неделю мне приходилось их разнимать. Обычно я тащила Зару к пруду и окунала головой в воду, чтобы она остыла. Я не считала ее подругой, но она нравилась мне, когда бывала спокойной. Зара, как и я, любила книги.
Гленис без остановки носилась по коридорам, пока Садовник не сказал Лоррейн давать ей двойную порцию еды. Равенна – одна из немногих, у кого был плеер с колонками. Она могла танцевать часами. Балет, хип-хоп, вальс, степ босиком – все, чему она научилась за годы занятий. И если случалось пройти мимо нее, она хватала тебя и увлекала в свой танец. Хейли любила заплетать кому-нибудь волосы и делал фантастические прически. Пия всегда пыталась узнать, что и как работает. Маренка великолепно вышивала крестиком. У нее даже были маленькие ножницы для рукоделия – Садовник заставлял носить их на шее, чтобы никто не попытался ранить себя. Адара писала рассказы, Элени рисовала. Иногда Адара просила Элени или Назиру нарисовать иллюстрации к ее рассказам.
Еще была Сирват. Сирват – это… Сирват.
Сложно было понять ее.
Дело даже не в том, что она была молчаливая и замкнутая, хотя и это было справедливо. Невозможно было предугадать, что она выкинет в следующую секунду. Сирват стала последней, кого приняла Лионетта. В тот раз она попросила меня не помогать ей. Учитывая странности Сирват, ни я, ни Лионетта не знали, как я отреагирую. Так что впервые я встретила ее, когда крылья были уже готовы. Она лежала возле ручья, лицом в грязи, и Лионетта смотрела на нее в полном недоумении.
– Ты что делаешь? – спросила я.
Сирват даже не взглянула на меня. Ее каштановые волосы слиплись от грязи.
– Существует масса способов убить себя водой, не обязательно тонуть. Переизбыток жидкости так же смертелен, как и обезвоживание.
Я посмотрела на Лионетту, совершенно сбитую с толку.
– У нее в самом деле склонности к суициду?
– Не думаю.
Нет, таких склонностей у нее не наблюдалось. Как правило. В этом была наша Сирват. Она показывала цветы, которыми можно было отравиться, но сама их не ела. Она знала тысячу способов, как убить себя, – и ее завораживали девушки под стеклом. Мы этого не понимали и не желали понять. Сирват любовалась ими наравне с Садовником.
Сирват была белой вороной, и я, честно говоря, редко проводила с ней время. Она, казалось, даже не замечала этого, а уж о том, чтобы обижаться, и речи не шло.
Но, как правило, мы хорошо знали друг друга. Хоть и не рассказывали о своей прежней жизни, мы были близки. Так или иначе, мы были Бабочками, и в этом состояла непреложная истина.
* * *
– И вы оплакивали друг друга. – Это не вопрос, скорее утверждение.
Инара кривит губы. Нет, она не улыбается – это даже не усмешка. Просто ей необходимо как-то отреагировать.
– Постоянно. Мы не ждали, пока кто-нибудь окажется под стеклом. Мы оплакивали друг друга каждый день, потому что каждый новый день приближал нас к смерти.
– Десмонд сблизился с кем-то еще?
– Да – и нет. Со временем. Это… – Она медлит, несколько раз переводит взгляд с Виктора на свои обожженные руки, потом вздыхает и прячет их под стол, положив на колени. – Вы же знаете, все не так просто.
Хановериан кивает.
– Что на этот счет думал его отец?
* * *
Мы пока не видели Симону, так как стены в коридорах по-прежнему были опущены. На следующий день после ее смерти Садовник привел меня в свою комнату, на ужин. Я не спрашивала прямо, но, скорее всего, я была единственной, кого он приглашал к себе. Думаю, он пытался угодить мне, но у меня такие приглашения вызывали только тревогу. Мы непринужденно беседовали, и Садовник ни разу не упомянул о Симоне. Я тоже не заговаривала о ней, поскольку не хотела знать худшего. Единственное, что оставалось для нас тайной, это как он убивал нас.
Когда с десертом было покончено, Садовник предложил мне выпить шампанского и расслабиться, а сам принялся убирать со стола. Я устроилась в кресле, подняла подножку и поправила длинную юбку, так что она закрыла ноги почти до щиколоток. В этом платье я могла предстать на какой-нибудь церемонии награждения. Поразительно, сколько денег он тратил на свой Сад и наше содержание. Был включен старомодный проигрыватель, и звучала какая-то классика. Я закрыла глаза и откинулась на мягкую спинку.
Толстый ковер приглушал шаги, но я услышала, как вернулся Садовник. Некоторое время он стоял надо мной и просто смотрел. Я знала, что ему нравилось смотреть на нас, когда мы спали. Но в тот раз я не спала, и мне было не по себе.
– Десмонд разозлил тебя позапрошлой ночью?
Я резко открыла глаза, и он воспринял это как приглашение и сел на подлокотник.
– Разозлил?
– Я просматривал записи и видел, как ты оттолкнула его. Десмонд последовал за тобой в пещеру, а там нет камер. Он разозлил тебя? Или обидел?
– Нет.
– Майя.
Я заставила себя улыбнуться – то ли для него, то ли мне самой так захотелось, не знаю.
– Я рассердилась, это правда. Но прежде, чем пришел Десмонд. У меня был приступ паники. Со мной такого еще не бывало; я не знала, что делать, и поначалу неверно истолковала его появление. Он мне помог.
– У тебя был приступ?
– Впервые за полтора года. Думаю, для беспокойства нет повода. Вам так не кажется?
Он улыбнулся в ответ, тепло и искренне.
– И Десмонд помог тебе?
– Да. И сидел со мной, пока я не успокоилась.
Десмонд провел со мной всю ночь, даже когда поднялись две отдельные секции стен и его отец прошел по коридору с плачущей Симоной. Иногда, прежде чем убить девушку, Садовник брал ее напоследок. И, думаю, предпочитал делать это в ее комнате, а не в этих секретных помещениях. Дес просидел со мной до утра. Когда двери поднялись, девушки разбрелись по Саду, чтобы вместе оплакать утрату. Десмонд не понимал их – он не знал, что Симона мертва или скоро умрет. Наверное, он думал, что ее прогнали или повели на аборт.
– Десмонда бывает сложно понять.
– Другими словами, вам непонятно, как он отреагировал на нас.
Садовник рассмеялся и кивнул. Потом перебрался ко мне в кресло, одной рукой обнял за плечи и привлек к себе, чтобы я положила голову ему на грудь. Все выглядело так, словно мы, как два самых обыкновенных человека, сидим в кресле и смотрим фильм.
Но, будь мы обыкновенными людьми, у меня по спине не пробегали бы мурашки.
С Тофером у меня такого ощущения никогда не возникало. Или когда мы валялись на диване у Джейсона или Кегса, или еще у какого-нибудь парня с работы. Близость с Садовником была такой же иллюзией, как крылья, нарисованные у нас на спинах. Все казалось противоестественным.
– Он не очень-то охотно говорит со мной об этом.
– Если учесть, что мы тут вроде гарема, было бы странно, если б молодой человек спокойно обсуждал это с собственным отцом. Если у родителей и спрашивают совета, то, как правило, речь идет о знакомстве или о первом свидании. Но тема секса всегда закрыта, даже если человек морально готов к этому.
И вновь Садовник дал понять, что мы не обыкновенные люди. Он просто рассмеялся и поцеловал меня. А я вдруг подумала, что можно ведь пройти к нему на кухню, взять нож и вонзить ему в сердце. Я могла убить его. Но меня останавливала мысль, что Сад перейдет к Эвери.
– Эвери был в восторге, когда я впервые показал ему Сад. Стоило нам остаться наедине, и он снова заговаривал о нем. Может, отцу и не следует знать таких подробностей о сыне… Но Десмонд ничего не делает, просто осматривается.
– Вы разочарованы? – спросила я ровным голосом.
– Я озадачен.
Садовник погладил меня по плечу, потом завел руку за шею и распустил шелковый шнур. Платье медленно соскользнуло мне на талию, обнажив груди. Садовник продолжал, поглаживая мой сосок:
– Он здоровый молодой человек, окруженный красивыми девушками. Я знаю, что Десмонд не девственник, и тем не менее он не пользуется возможностью.
– Может, ему надо освоиться…
– Может. А может, его не устраивает разнообразие, – он приподнял меня и устроился снизу, так, чтобы легче было ласкать мне грудь; потом стянул платье до бедер. – Он разыскивает тебя всякий раз, когда приходит, хоть и не надеется заполучить тебя.
– Должно быть, я слишком прямолинейна, – ответила я сухо и усмехнулась.
– Да, я понимаю, почему он расспрашивает именно тебя. А что если б он захотел от тебя того же, что и я?
– Думаю, мне следовало бы подчиниться, как вам или Эвери. Разве нет?
– То есть ты подпустила бы его к себе? – Садовник наклонился к моей груди, коснулся губами нежной кожи. – Согласилась бы удовлетворить его страсть?
Десмонд не имел ничего общего с отцом.
Но он оставался его сыном.
– Если вы не велите обратного, я сделаю все, что он попросит.
Он простонал и окончательно стянул с меня платье. Швырнул его на пол, и оно черной лужей растеклось рядом с креслом. Губами и ладонями он заставлял мое тело отзываться на ласки. С этой минуты он не произносил ничего, кроме моего имени. Снова и снова оно раздавалось хриплыми криками в тишине.
Есть свойства – существа без воплощенья, с двойною жизнью… Двойное есть молчанье в наших днях, душа и тело – берега и море. Одно живет в заброшенных местах… [10]
В ту ночь он брал меня снова и снова: в кресле, на ковре, в огромной кровати. Я повторяла все, что могла вспомнить, даже рецепты коктейлей. Но еще задолго до рассвета мои запасы иссякли, и я чувствовала, как яд сквозь раны просачивается в душу. Я привыкла к этому мерзкому чувству, которое охватывало меня, когда Садовник овладевал мною. Но так и не свыклась с болезненной тошнотой, подступавшей к горлу при мысли, что он по-своему меня любит.
Когда Садовник наконец проводил меня в мою комнату, он сел на край кровати и укрыл меня одеялом, убрал волосы с лица и страстно поцеловал.
– Надеюсь, Десмонд поймет, до чего же ты удивительная девушка, – прошептал он, отнимая губы. – Ты бы идеально ему подошла.
Когда он ушел, я поднялась с кровати и встала под душ. Я терла себя мочалкой, пока кожа не раскраснелась, – будто можно было смыть с себя ощущение его прикосновений. В таком виде и разыскала меня Блисс. Проявив неожиданную тактичность, она не произнесла ни слова. Только помогла мне смыть мыло и шампунь, выключила воду и замотала мне голову полотенцем, пока я вытиралась. Позже, когда она расчесала мне волосы и заплела простенькую косу, мы свернулись вместе под одеялом.
Тогда я впервые поняла, почему Блисс раздумывала о том, чтобы броситься со скалы.
Поняла, что оставшиеся несколько лет жизни ничего не стоили даже перед ничтожным шансом на побег.
Впервые за полтора года я почувствовала каждую иголку, вонзавшуюся мне в кожу, словно обрекая меня на это заключение. Я никогда особо и не надеялась, и не поддавалась отчаянию, но чувствовала, как меня душат воспоминания о каждом прожитом дне. Я сделала глубокий вдох, и в голове у меня зазвучал голос Десмонда. Я продолжала дышать, так чтобы Блисс, которая видела меня в таких ситуациях, что другие даже представить себе не могли, – чтобы и она не заметила, до чего же я напугана.
Побледнела душа, и за нею крылья скорбно поникли во прах, ужаснулась, и крылья за нею безнадежно упали во прах, – тихо-тихо упали во прах[11].
Но мои крылья были неподвижны, я не могла взлететь и не могла даже заплакать.
Могла только ужасаться, мучиться и скорбеть.
* * *
Виктор молча выходит из комнаты.
В следующее мгновение к нему подходит Ивонна и протягивает две бутылки воды.
– Звонила Рамирес, – докладывает она. – Состояние у многих стабилизировалось. Но на вопросы они по-прежнему отвечают неохотно, хотят сначала поговорить с Майей. Сенатор Кингсли тоже не прочь с ней побеседовать, она начала обрабатывать Рамирес.
– Черт, – Виктор чешет щеку. – Может Рамирес задержать ее в больнице?
– Ненадолго. Она выступает посредником между сенатором и ее дочерью. Учитывая, какой там сейчас переполох, пару часов она выкроит.
– Хорошо, спасибо. Передашь Эддисону, когда он вернется?
– Ладно.
«Политики – как и служба опеки, – думает Хановериан. – В конечном итоге от них есть польза, но в основном они как заноза в заднице».
Он возвращается в комнату и протягивает Инаре одну бутылку.
Девушка благодарно кивает и отвинчивает крышку зубами – бережет руки. Выпивает половину, после чего ставит бутылку на стол, закрывает глаза и выводит пальцем узоры по поверхности стола, собираясь перед очередным вопросом.
Виктор следит за ее движениями, и внутри у него все сжимается: то, что он принял за бессмысленные узоры, в действительности оказалось контурами крыльев. Она выводит их снова и снова, как напоминание о том, что привело ее сюда.
– Я недолго смогу выгораживать вас, – произносит наконец Виктор.
Она лишь поднимает на него глаза.
– Инара, влиятельные люди хотят знать, что произошло. И они не собираются терпеливо слушать, как я. А я действительно умею слушать.
– Я знаю.
– Хватит ходить вокруг да около. Расскажите то, что я хочу услышать.
* * *
Поведение Десмонда по-прежнему оставалось загадкой для его отца. Парень постоянно бывал в Саду, но не прикасался к нам. Мог разве что подать кому-то руку, чтобы помочь.
Он даже приносил с собой учебники.
Днем я проводила время с новенькой, милым созданием с японской внешностью. По ночам, пока Данелли сидела со спящей девочкой, я поднималась на скалу и наслаждалась иллюзией свободы. Десмонд часто составлял мне компанию. Первое время мы сидели молча, погруженные в чтение. Я уже забыла, каково это, сидеть рядом с мужчиной, не ощущая при этом исходящей от него угрозы. Я не то чтобы чувствовала себя в безопасности, но и страха не испытывала. Иногда мы разговаривали о его занятиях. Но ни разу не заговаривали про Сад или про его отца.
Десмонд не хотел увидеть очевидное, и я, наверное, ненавидела его за это. Садовник не собирался отпускать нас. А Эвери был слишком опасен, чтобы пытаться повлиять на него. Сложно было сказать, имело ли смысл возлагать надежды на Десмонда, но других вариантов я не видела.
Я хотела жить. Хотела, чтобы и другие девушки жили. И мне впервые захотелось поверить в легенду о сбежавшей Бабочке. Хотелось верить, что я смогу выбраться, а не закончить жизнь в стеклянном контейнере или на берегу реки.
А потом Десмонд принес с собой скрипку.
Садовник говорил, что его младший сын занимался музыкой. Я и сама замечала, как задумчиво он перебирает пальцами по книгам, камням, коленям и любым доступным поверхностям. Казалось, Десмонд превращал мысли в музыку, и только так они обретали для него смысл.
Я лежала на животе с книжкой, ела яблоко и наблюдала со скалы за тремя девушками внизу. Они залезли в маленький пруд и плескали водой друг в друга. Садовник наверняка уже знал, что в пруду кто-то есть, но девушки резвились довольно долго, так что он мог спокойно заняться своими делами. В ту ночь его не было в Саду. Когда я уводила новенькую после первого сеанса татуирования, он упоминал что-то про благотворительный вечер с женой. Но я не сомневалась, что у него была возможность понаблюдать за нами при желании. Элени и Изра провели в Саду по три и четыре года – они бы не стали делать глупостей. Но Адара попала в Сад всего на пару месяцев раньше меня. В целом она неплохо себя чувствовала, однако время от времени впадала в глубокую, парализующую депрессию. У нее было какое-то расстройство – просто удивительно, как она справлялась без лекарств. Хотя мы старались не оставлять ее одну в такие периоды. Она почти преодолела очередной такой приступ, но еще страдала перепадами настроения.
Десмонд поднялся по тропе и встал рядом со мной. В руках у него был футляр.
– Привет.
– Привет, – ответил я.
В Саду понятие нормы было относительным.
Я взглянула на футляр. И подумала, если попросить его сыграть для меня, потешит ли это его самолюбие? Или он решил бы, что делает мне одолжение? Садовника или Эвери я уже видела насквозь, но с Десмондом было сложнее. В отличие от отца и брата, он сам не знал, чего хотел.
Избегать людей я умела в совершенстве, но не манипулировать ими. Это было для меня чем-то новым.
– Хочешь сыграть? – спросила я наконец.
– Ты не против? У меня завтра прослушивание, и я не хотел будить маму. Хотел поиграть снаружи, но… – Он показал вверх.
Я не посмотрела. Я слышала, как дождь барабанит по стеклу, и тосковала по его прикосновению.
В квартире музыка звучала почти всегда. Катрин слушала классику, но Уитни любила шведский рэп, Ноэми нравился блюграсс, а Эмбер – кантри. В итоге нам были знакомы все музыкальные направления, какие только можно вообразить. В Саду у некоторых девушек имелись приемники или плееры, но для большинства из нас музыка была недоступна.
Я закрыла книгу и села. Десмонд смазал смычок и размял пальцы. Занятно было наблюдать за этими маленьким ритуалами, но, когда он коснулся смычком струн и собрался играть, я поняла, почему отец называл его музыкантом.
Это была не просто игра. Я не эксперт, но мне казалось, что дело не только в его безупречной технике. Струны под его смычком плакали или смеялись, он в каждую ноту вкладывал чувства. Девушки в пруду перестали плескаться и слушали, стоя в воде. Я закрыла глаза и отдалась музыке.
Мы с Катрин иногда сидели на крыше или на пожарной лестнице после смены, часа в три или четыре утра. Парень из соседнего дома выходил на свою крышу и упражнялся на скрипке. Он неловко перебирал пальцами и часто сбивался с ритма, но в полумраке, близком к ночной тьме, насколько это возможно в городе, казалось, скрипка была ему любовницей. Парень, похоже, не подозревал, что у него были слушатели. Он целиком был сосредоточен на инструменте и звуках, которые извлекал из него. Это было едва ли не единственное наше с Катрин совместное занятие. Даже если у нас был выходной, мы просыпались и выходили на крышу, чтобы послушать игру.
Десмонд играл лучше.
Он легко переходил от одной мелодии к следующей, а когда наконец опустил смычок, последние ноты еще звучали в воздухе.
– Думаю, ты запросто пройдешь это прослушивание, – прошептала я.
– Спасибо, – Десмонд осмотрел инструмент и, убедившись, что всё в порядке, бережно уложил его в футляр. – Раньше я хотел стать профессиональным музыкантом.
– Хотел?
– Отец взял меня в Нью-Йорк и договорился с профессиональным скрипачом, чтобы я пожил с ним несколько дней и посмотрел, что к чему. Это было мерзко. Казалось, в этом… не было души, что ли. Я решил, что возненавижу музыку, если стану заниматься ею ради заработка. Я сказал отцу, что лучше займусь чем-то другим, что позволит мне сохранить любовь к музыке. Он сказал, что гордится мной.
– По-моему, он всегда тобой гордится, – пробормотала я, и Десмонд покосился на меня.
– Он говорит с тобой обо мне?
– Немного.
– Хм…
– Ты его сын, и он тебя любит.
– Да, но…
– Но?..
– Тебя не смущает, что он разговаривает с пленницами о собственном сыне?
Я решила не посвящать его в подробности наших с Садовником бесед.
– А тот факт, что он содержит пленниц, не смущает?
– Должен.
Ему хватило наконец мужества назвать нас пленницами. Но не настолько, чтобы попытаться изменить наше положение.
Ручей, стекающий от водопада к пруду, в глубину был не больше трех футов, но Элени умудрилась проплыть по нему до самой скалы.
– Майя, мы уходим. Тебе что-нибудь нужно?
– Вроде бы нет, спасибо.
Десмонд покачал головой.
– Ты иногда как мать семейства или настоятельница.
– Странная была бы семейка.
– Ты, наверное, ненавидишь меня?
– За то, что ты – сын своего отца?
– Я начинаю понимать, до какой степени, – сказал Десмонд тихим голосом и сел рядом со мной, обхватив колени руками. – На семинарах по Фрейду и Юнгу с нами занимается одна девушка – у нее на плече татуировка в виде бабочки. Безобразная и сделана неумело. Знаешь, такая сказочная фея с лицом, как у расплавленной куклы. Она пришла в открытом платье, и я увидел рисунок. И до конца занятий не мог думать ни о чем, кроме ваших крыльев. Как они прекрасны… Да, они ужасны, но в то же время и прекрасны.
– Мы воспринимаем их примерно так же, – ответила я ровным голосом. Но мне было интересно, к чему он клонит.
– Не уверен, что вы воспринимаете так свои крылья.
Ого.
Точно сын своего отца.
Но, в отличие от своего отца, стыдился этого.
– На другом семинаре мы говорили о коллекционерах, и я вспомнил, как отец рассказывал о бабочках своего отца. Но потом, конечно же, подумал о коллекции в его собственной версии. И снова вспоминал о тебе. На тебе нет ничего, кроме этого узора и шрамов, и все же ты умудряешься сохранить достоинство, что не под силу многим другим, нормально одетым. Уже которую неделю мне снится… это. Я просыпаюсь, весь в поту и возбужденный, и не знаю, кошмар это или нет, – он смахнул волосы со лба и завел руку за голову. – Не хочу даже думать, что я способен на такое.
– Может, и не способен, – я пожала плечами, и он снова покосился на меня. – С этим трудно жить, но это не значит, что однажды ты сам пойдешь на такое.
– И все же мне придется с этим жить.
– Умение отличить хорошее от плохого не облегчает выбор.
– Почему ты не возненавидишь меня?
Я раздумывала над этим последние пару недель, но ответа так и не нашла.
– Может, ты оказался в ловушке, как и мы, – проговорила я медленно.
И все-таки я в определенном смысле ненавидела его, хоть и не в той мере, как ненавидела его отца или брата.
Некоторое время Десмонд обдумывал мои слова. Вспыхнула молния, и я попыталась прочесть по его лицу, что он чувствовал. Он был наблюдателен, как отец, но по уровню самосознания значительно превосходил его. Садовник жил иллюзиями. Десмонд наконец-то столкнулся лицом к лицу с суровой реальностью – или по крайней мере с частью ее. Он не знал, что со всем этим делать, но и не пытался закрыть на это глаза.
– Почему ты не попытаешься сбежать?
– Потому что другие делали это до меня.
– Сбегали?
– Пытались.
Десмонд вздрогнул.
Отсюда во внешний мир ведет только одна дверь, и она всегда заперта. Чтобы войти или выйти, необходимо ввести код. Когда приходят рабочие, комнаты наглухо закрываются, и можно сколько угодно кричать и колотить в стены – никто не услышит. Можно остаться снаружи, когда стены опустятся. Лет десять тому назад одна девушка попыталась, и ничего не вышло. Она просто исчезла – и появилась снова, но уже под стеклом. Однако Десмонд еще не видел этих Бабочек. И казалось, забыл, о чем рассказывал его отец на кухне.
– Не знаю, то ли твой отец нанимает совершенно безразличных людей, то ли ему удалось замять это дело. Так или иначе, никто не пришел на помощь. Мы просто боимся.
– Свободы?
– Последствий, если нам не удастся ее обрести, – я посмотрела в ночную тьму за стеклянной крышей. – Будем откровенны, при необходимости он может убить нас в два счета. И если кто-то из нас попытается и у нее ничего не получится, откуда нам знать, что он не накажет всех?
Или, по крайней мере, ту, которая попыталась, и меня, поскольку Садовник думал, что они все мне рассказывают. Чтобы я, и не знала о таком замысле?
– Мне жаль.
Надо же сморозить такую глупость.
Я покачала головой.
– Мне жаль, что ты здесь появился.
Десмонд опять на меня покосился. Казалось, мои слова задели его и в то же время позабавили.
– Безнадежно жаль? – спросил он через минуту.
Я изучала его лицо в лунном свете. Он дважды помог мне справиться с приступом, хотя знал только об одном. Он был раним и этим отличался от отца и брата. Ему хотелось сделать что-нибудь хорошее, только он не знал что.
– Нет, – ответила я. – Не безнадежно.
Нет, если б я придумала, как обратить это в нашу пользу.
– Ты очень непростая.
– А ты все усложняешь.
Десмонд рассмеялся и протянул мне руку ладонью вверх. Я накрыла ее своей ладонью, и мы сплели пальцы. Я придвинулась к нему и положила голову ему на плечо. Мы сидели в тишине, и нас это не угнетало. Он чем-то напомнил мне Тофера, хотя с ним было сложнее. На какое-то время мне захотелось представить, что он не был сыном своего отца, что он был моим другом.
Так я и уснула. А утром, когда в глаза ударил солнечный свет, я медленно села и поняла, что мы проспали вместе всю ночь. Одна его рука покоилась у меня на бедре, вторую он подложил мне под голову. Новая девушка проснулась бы еще не скоро, но у Десмонда были занятия, а потом прослушивание, которое он прошел бы, не прилагая никаких усилий.
Я протянула руку и осторожно убрала прядь черных волос с его лба. Десмонд заворочался и машинально повторил движение. Я невольно улыбнулась.
– Просыпайся.
– Нет, – пробормотал Десмонд и взял мою руку, заслоняя глаза.
– У тебя занятия.
– Не пойду.
– Тебе сегодня играть.
– Сыграю.
– У тебя экзамены на следующей неделе.
Он вздохнул, но не сдержался и широко зевнул. Потом крайне неохотно поднялся и протер глаза.
– Ты неумолима. Но с тобой приятно просыпаться.
Я отвернулась – не знала, что было написано у меня на лице. Кончиками пальцев, мозолистых от струн, Десмонд тронул меня за подбородок, повернул к себе и посмотрел с улыбкой.
Он подался вперед, но быстро взял себя в руки. Я сама наклонилась ему навстречу, и наши губы мягко соприкоснулись. Его рука скользнула с подбородка к моей щеке, и он поцеловал меня решительнее. У меня голова пошла кругом. Я уже забыла, когда в последний раз целовалась по-настоящему – а не просто позволяла себя целовать. Садовник предполагал, что Десмонд сможет меня полюбить. Возможно, он был прав. Я тогда подумала, что любовь, возможно, побудит его к действию. Надеялась на это.
Перед уходом Десмонд поцеловал меня в щеку.
– Я приду после занятий, ладно?
Я кивнула, хоть и понимала в глубине души, до какой степени усложняла себе жизнь.
* * *
– Садовнику это понравилось?
– Да. Конечно же, это затрагивало и его личные интересы: если Десмонд привяжется к кому-то из нас, то вряд ли станет рисковать нашим благополучием. Примерно так он рассуждал. Но, думаю, при этом был искренне рад видеть своего сына счастливым.
Виктор вздыхает.
– А я-то думал, что все и так слишком запутанно.
– Все может перепутаться в любой момент, – Инара произносит это с улыбкой, но Виктор не дает себя провести. Сложно назвать такую улыбку симпатичной, девушки ее возраста так не улыбаются. – Так ведь бывает в жизни?
– Нет, – быстро возражает Хановериан. – Не так. По крайней мере, не должно так быть.
– Но это не одно и то же. Желаемое и действительное не всегда совпадают.
Виктор подозревает, что Эддисон уже не вернется.
И не может упрекнуть его в этом.
Если эта часть истории настолько запутанна, то что говорить о тех подробностях, которые она утаивает?
– Как развивались события, когда Десмонд сдал экзамены?
* * *
Десмонд стал больше времени проводить в Саду, при этом не пропускал ежедневных прогулок с родителями. Если он приходил с утра, то поднимался на утес или сидел в библиотеке и не мешал нашим беседам в пещере. Данелли, теперь вместо Лионетты, выручала меня, если разговор приобретал более деликатный характер, а по ночам сидела с новенькими.
Ночью, усыпленные снотворным, девушки не доставляли хлопот, но тем не менее. А я, пользуясь случаем, выбиралась на простор.
Данелли носила на лице вторую пару крыльев, но заслуживала доверия и собеседницей была более чуткой. Я привыкла к ее Белым адмиралам – к их пестрому узору на глубоком, насыщенном фоне. Не сказала бы, что крылья ей подходили – чего не сказала бы и о своих собственных, – но они стали частью ее, дали ей бесценный опыт. Они с Маренкой были последними, кого Садовник пометил второй парой крыльев, и теперь предостерегали тех, кто пытался добиться его расположения. Некоторые так и продолжали добиваться, но черту пока ни одна не переступила.
Когда новая девушка начала приходить в себя, Данелли сменила меня в пещере. До тех пор, пока новенькая не обживется, Данелли старалась не попадаться ей на глаза – как и все остальные с крыльями на лицах.
С первого же сеанса я сидела с новой девочкой, пока Садовник работал над ее крыльями. Это было для нее пыткой, но она соглашалась потерпеть, если я читала ей вслух, – и она сжимала мне руку всякий раз, когда боль становилась невыносимой. Она сама так пожелала, Садовник ничего ей не предлагал, но, по-моему, он был доволен. Я читала вслух «Графа Монте-Кристо» и сама при этом гадала, не расценит ли он это как насмешку. А на ее фарфорово-чистой коже постепенно обретала узор светло-синяя Голубянка весенняя – с серебристыми прожилками, белой бахромой по краям и узкими темно-синими полосками на кончиках верхних крыльев.
Рука у меня теперь постоянно была в синяках, и Блисс приносила на подносе пакеты со льдом.
В присутствии Десмонда Садовник ко мне не притрагивался, но интерес младшего сына ко мне приводил его в возбуждение. Садовник любил меня больше других, и ни для кого это не было секретом – и, по-моему, все воспринимали это с облегчением. Зато теперь, вместо двух или трех раз в неделю, он приходил ко мне чуть ли не каждый день.
Конечно, Садовник посещал и других, но в таком случае его не волновало, был Десмонд в Саду или нет. Кроме того, Эвери никуда не делся. Правда, лишенный своих приспособлений, заметно ослабил хватку. Он видел, что отец откровенно гордится Десмондом. Садовник хотел, чтобы Эвери обходился с нами по примеру младшего брата, а тому это не доставляло никакого удовольствия.
С тех пор я возненавидела ланчи. Изо дня в день, когда Десмонд уходил на обед и прогулку с мамой, Садовник приходил ко мне в таком возбуждении, что даже руки тряслись. Я привыкла обедать у себя в комнате – мне было неловко, когда он заявлялся в столовую и громким голосом произносил мое имя. Садовник, конечно же, знал, что Десмонд пока ограничивался только поцелуями, но мог запачкать брюки при мысли, что мы способны зайти дальше.
А я места себе не находила при мысли, что он, возможно, просматривал записи с камер в надежде увидеть меня с Десмондом.
К счастью, эти его визиты были ограничены по времени: к двум часам ему следовало быть дома, чтобы отправиться с женой на прогулку. Пока они прохаживались по внешнему саду, я проводила этот час с девушкой, которую он окрестил Терезой. Ее родители были адвокаты, и ей едва исполнилось семнадцать. Она практически всегда говорила шепотом и повышала голос, только если для нее это имело значение. Так было, например, когда она попросила меня читать ей вслух, пока Садовник работал над рисунком. Кроме того, ее легко было втянуть в разговор о музыке. Как выяснилось, она играла на фортепиано и собиралась стать профессиональной пианисткой. Они с Равенной могли часами обсуждать балетные партитуры. Она была наблюдательна, в любой ситуации видела скрытый смысл, и поэтому догадалась, до чего хрупкое у нас положение, даже прежде, чем я показала ей витрины.
Чтобы Тереза не теряла равновесия и ради ее же блага я попросила Садовника поставить для нее синтезатор.
Он поставил фоно в одной из пустующих комнат – вместо кровати. И стеллаж во всю стену, куда сложил нотные тетради. Тереза, если только не прерывалась на сон или на еду, и не приходила в себя после визитов Садовника – а они происходили во множестве, поскольку она была новенькой, – все время проводила в этой комнате и играла, пока пальцы не начинали дрожать.
Как-то раз Десмонд встретил меня в коридоре. Он прислонился к стене и, склонив голову набок, слушал.
– Если кто-то ломается, что их ждет? – спросил он тихо.
– Ты о чем?
Он кивнул в сторону дверного проема.
– Это слышно в ее музыке. Она часто сбивается, все время меняет ритм, резко бьет по клавишам… Может, она и не жалуется, но это не значит, что ее все устраивает.
Он учился на психолога и постоянно об этом напоминал.
– Сломается или нет, от меня тут мало что зависит.
– Но если сломается, что ее ждет?
– Ты и сам знаешь. Просто не хочешь признать это.
Десмонд ни разу не спросил, почему не вернулась Симона. Появление Терезы привело его в смятение, и он явно старался лишний раз об этом не думать.
Парень побледнел, но все же кивнул. А потом резко переменил тему. Если зажмуриться и не смотреть страху в глаза, то и бояться вроде как нечего, верно?
– Блисс что-то затеяла на вершине скалы. Сказала, если я сяду на какую-нибудь фигурку, то она мне в рот ее затолкает.
– И над чем она работала?
– Понятия не имею. Она только разминала глину.
Летом в полуденные часы, когда солнце нагревало стекло, в Саду стояла невыносимая жара. Девушки, как правило, залезали в пруд или прятались в тени. Некоторые сидели по своим комнатам – можно было ощутить, насколько прохладнее воздух, поступающий по трубам. Я не собиралась отвлекать Блисс, если она над чем-то работала – и уж тем более если она выбрала для этого самое жаркое место в Саду. Поэтому я взяла Десмонда за руку и повела по коридору. В той его части, где основание скалы задерживало солнечные лучи, было прохладнее.
Я привела Десмонда в свою комнату. Он бросился осматривать полку над кроватью, крутанул карусель и оглянулся на меня.
– Ни за что бы не подумал, что тебе нравятся карусели.
– Мне и не нравятся.
– Тогда почему…
– Нравились кое-кому.
Десмонд снова посмотрел на карусель и ничего не сказал. Он боялся задавать вопросы – иначе пришлось бы услышать подробности, о которых ему не хотелось думать.
– Подарки, которые мы дарим, кое-что о нас говорят. Как и подарки, которые мы получаем и храним, – пробормотал он через некоторое время и тронул мордочку грустного дракона, рядом с которым теперь стоял еще и медвежонок в пижаме. – Что же имеет для нас значение – предметы или люди, их подарившие?
– Я думала, у тебя каникулы.
Он смущенно улыбнулся.
– Привычка.
– Ну да.
С того первого дня в моей комнате произошли некоторые перемены. У меня появились розовые простыни и фиолетовое покрывало, а поверх него лежала куча светло-коричневых подушек. Унитаз и душ теперь закрывались шторками, состоящими из широких лент фиолетового, розового и коричневого цветов – они свободно висели вдоль прозрачных стен, чтобы при случае легко было их отдернуть. На стене висели две полки, занятые книгами, которые Садовник подарил лично мне – вместо того чтобы пополнить библиотеку. И там же были расставлены различные безделушки, при этом наиболее значимые из них – или просто личные – стояли на полке над кроватью.
За исключением этих вещиц, в комнате не было ничего такого, что говорило бы о моей личности. Я этих вещей не выбирала, и даже украшения никак не отражали мой характер. Эвита как-то нарисовала на камне хризантему и подарила мне. Но в этом проявилась ее светлая натура, не моя. И если я сохранила камень, это означало лишь, что она была мне дорога.
Вот что действительно напоминало мне, что эта комната вовсе не моя, так это красный огонек камеры, мигающий над входом.
Я села на кровать и прислонилась к стене, глядя на Десмонда, как он наклонился к полке и изучал корешки книг.
– Какие из них выбирал отец?
– Примерно половину.
– И «Братьев Карамазовых»?
– Нет, это я сама выпросила.
– Серьезно? – Он улыбнулся через плечо. – Сложная вещь, правда?
– На первый взгляд. Этот роман интересно обсуждать.
Мы с Зарой часто обсуждали книги, только не классику. Вот с Ноэми мы разбирали произведения досконально. Могли спорить несколько дней подряд, даже недель, но так и не приходили к согласию. Перечитывая Достоевского, я хранила в памяти образ Ноэми – это было не так болезненно, как если б я просто вспоминала ее и остальных девочек. У меня для каждой из подруг была своя книга. Куда изощреннее, чем рисунки Назиры или фигурки Блисс, но смысл от этого не менялся.
– Почему-то я не удивлен, что тебе нравятся сложные книги. – Десмонд закончил осмотр и, сунув руки в карманы, встал у кровати.
– Можешь сесть на кровать, если хочешь.
– Я, хм… это твоя комната, – ответил он сконфуженно. – Не хочется наглеть.
– Можешь сесть на кровать, если хочешь.
В этот раз он улыбнулся и, скинув ботинки, сел рядом со мной. После того первого случая мы целовались еще несколько раз, хоть и не слишком увлекались. Всякий раз, когда намечалось какое-то продолжение, между нами стеной вырастал Садовник или, в меньшей степени, Эвери. Я даже не знала, как к этому относиться.
В общем-то, если дело касалось Десмонда, я ни в чем не была уверена.
Мы поболтали немного о его друзьях, учебе. Иногда даже это было непросто. Я провела в Саду довольно много времени, и внешний мир казался мне чем-то фантастическим, легендой, в которую хочется верить. Потом для Десмонда пришло время возвращаться домой, чтобы мама не гадала, где он пропадает целыми днями. Мы взялись за руки и пошли по коридору. Если б я дошла с ним до выхода, отослал бы он меня перед тем, как ввести код? Скорее всего, отец предупредил его на этот счет. Если б я выбежала за дверь, проникся бы он жалостью, позволил бы мне сбежать?
Успела бы я вызвать полицию и спасти остальных, пока они еще живы?
Если б я только не забивала себе голову, то, вероятно, сразу обратила бы внимание, заметила бы, как тихо стало в коридоре. Но только через минуту осознала, что больше не слышу музыки. Я высвободила руку и, позабыв обо всем, бросилась в комнату, где играла Тереза, в ужасе от того, что могло ждать меня там.
Тереза была жива и невредима.
Но что-то в ней изменилось.
Она по-прежнему сидела за пианино, в безупречной позе. Даже пальцы лежали на клавишах. Казалось, в следующую секунду зазвучит музыка.
Достаточно было взглянуть на ее лицо, увидеть слезы, беззвучно стекающие по щекам, и абсолютную пустоту в глазах, чтобы понять, что от прежней Терезы в ней ничего не осталось. Иногда такое происходило стремительно, в одно мгновение, даже если за секунду до этого все казалось нормальным.
Я присела на краешек стула и положила руку ей на спину. Тереза, по-прежнему глядя перед собой, содрогнулась.
– Прошу тебя, возвращайся, найди в себе силы, – проговорила я шепотом. – Я знаю, это ужасно. Но может быть и хуже, ты знаешь.
– Можно я попробую? – осторожно попросил Десмонд. – Думаю, ей не навредит.
– Что ты хочешь?
– Вставай со стула и придерживай ее у самого края.
Он присел рядом и осторожно пододвинулся, чтобы доставать до всех клавиш. Тереза не сопротивлялась, когда я убрала ее руки с клавиатуры. Десмонд сделал глубокий вдох и заиграл что-то нежное и при этом исполненное страдания.
Тереза затаила дыхание и прислушалась.
Я закрыла глаза, и в груди у меня все сжималось от напиравших слез, которых я не могла пролить. Десмонд не просто играл – музыка сама лилась из него. Тереза шевельнулась в моих объятиях, задрожала и в конце концов всхлипнула и уткнулась лицом мне в грудь. Десмонд не останавливался. Теперь он играл что-то легкое и воздушное, однако мелодия не веселила – скорее давала успокоение. Тереза плакала, но снова была рядом. Она еще не вполне оправилась, в чем-то уже никогда не станет прежней, – но тем не менее вернулась к жизни. Я крепко ее обнимала, и в какой-то момент у меня промелькнула жуткая мысль: не лучше ли было оставить ее в том состоянии. Позволить ей умереть.
Если мы не приходили на обед и никого не посылали за подносом, Лоррейн сразу докладывала Садовнику. Мы еще сидели с Терезой, уговаривая ее сыграть для нас что-нибудь, когда он появился в дверях. Я заметила его, но не обратила внимания, слишком занятая Терезой, по-прежнему дрожащей, как лист. Десмонд не повышал голоса и не делал резких движений. В конце концов она снова положила руки на клавиши и извлекла одну единственную ноту.
Десмонд сыграл следующую.
Тереза снова нажала клавишу, и Десмонд ответил ей. Постепенно отдельные ноты слились в последовательность аккордов, и они уже играли в четыре руки композицию, смутно мне знакомую. Когда они закончили, Тереза несколько раз медленно вдохнула и выдохнула.
– Даже с этим можно смириться, – прошептала она едва слышно.
Я старалась не смотреть в сторону двери.
– Да, можно.
Тереза кивнула, подолом платья вытерла лицо и заиграла следующую мелодию.
– Спасибо.
Мы послушали еще несколько мелодий в ее исполнении, потом Садовник шагнул в комнату и поманил меня пальцем. Я, сдержав вздох, поднялась и вышла за ним в коридор. Десмонд последовал за нами.
Он спас ее, но даже предположить не мог от чего.
– Лоррейн сказала, что ты пропустила обед, – сказал Садовник.
– У Терезы был кризис, – ответила я. – Мне показалось, что это важнее обеда.
– Она придет в норму?
Ей придется, иначе она окажется в стеклянном контейнере. Я взглянула на Десмонда, и он взял меня за руку.
– Думаю, этот случай не последний, но наиболее выраженный. Отсроченный шок, или вроде того. Но Десмонд помог ей, и она снова начала играть; это хороший знак.
– Десмонд? – Тревога на лице Садовника уступила место гордости. Он потрепал сына по плечу. – Приятно слышать. Я могу чем-то помочь ей?
Я закусила губу, и он погрозил мне пальцем.
– Майя, только честно.
Я вздохнула.
– Думаю, будет лучше, если вы на какое-то время воздержитесь от секса с ней. Хотите проводить с ней время – пожалуйста. Но секса она сейчас не вынесет.
Садовник уставился на меня, несколько озадаченный, но Десмонд кивнул.
– И проследи, чтобы Эвери ее не трогал, – добавил он. – Ему всегда нравилось все ломать.
– Сколько?
– Пару недель. Постараемся не спускать с нее глаз и посмотрим, как она справится.
Я видела, как загорелись у него глаза. Но в присутствии сына он сдержался и поцеловал меня в лоб.
– Ты проявляешь к ним такую заботу, Майя… Спасибо тебе.
Я побоялась отвечать и просто кивнула.
Садовник прошел в комнату, и Тереза прервала игру. Но когда он взял стоявший в углу стул и сел слушать, мелодия вновь набрала силу.
Мы с Десмондом постояли в коридоре и прослушали еще несколько композиций, но Тереза больше не сбивалась, играла чисто, как на выступлении, словно демонстрировала свой талант. Когда мы убедились, что кризис окончательно миновал. Десмонд мягко потянул меня за руку и повел по коридору.
– Ты голодна?
– Нет, если честно.
Его отец заставил бы меня поесть, так как следил за нашим здоровьем. Его брат сделал бы то же самое – ему понравилось бы смотреть, как я запихиваю в себя еду и давлюсь. Но Десмонд просто кивнул и повел меня в пещеру.
Там никого не было – остальные еще обедали. Мы прошли в самый центр, и Десмонд остановился. Повернулся и обнял меня за плечи, привлек к себе.
– В одном он точно прав, – сказал он, коснувшись губами моих волос. – Ты действительно проявляешь к ним заботу.
Я научилась этому в квартире – у Софии. Она на свой странный лад заботилась о каждой из нас. А потом у Лионетты. София заботилась о своих девочках, но Лионетта показала мне, как следует заботиться о бабочках.
– Должно быть, нелегко привыкнуть к такому месту, если попал сюда с улицы, – добавил Десмонд. – Ты в безопасности, но не имеешь права уйти.
Мы попали сюда не с улицы и не чувствовали себя в безопасности. Но я не знала, как заставить его понять, поскольку витрины с Бабочками были закрыты.
Однако мы все-таки отправились на кухню. Когда я справилась с волнением, голод напомнил о себе. Мы ели бананы с вафлями, и в этот момент к нам заглянула Адара и пообещала оставаться с Терезой на ночь. Она сама страдала от депрессий и уже неоднократно преодолевала их. И совсем иначе смотрела на такие вещи.
Не в силах словами выразить свою благодарность, я поцеловала ее в щеку.
Данелли тоже внесла свой вклад. Она приглашала Садовника в свою комнату, как делала раньше, когда заработала вторую пару крыльев. Думаю, он понимал, что к чему. Но, по-моему, он был тронут – даже если мы старались не для него, мы делали это ради Терезы. Если Бабочки заботились друг о друге, это радовало его, как если б мы делали это ради него.
Десмонд налил стакан молока и сел рядом со мной на стойку, поставив стакан между нами.
– Если б я сделал что-нибудь романтичное, ты бы сделала вид, что тебе нравится, чтобы потешить мое самолюбие?
Я посмотрела на него с опаской.
– Я бы с радостью тебя поддержала, но не могу ничего обещать, пока не узнаю, что это.
Десмонд одним глотком выпил полстакана.
– Идем. Я покажу.
– Если я скажу, что мне не по себе, но все равно пойду, это потешит твое самолюбие?
– Вполне.
Он помог мне спуститься на пол и взял за руку. Мы вышли в Сад. Снаружи еще не стемнело, и сумерки окрасили небо. Я на ходу смотрела, как меняются краски. Десмонд привел меня в пещеру и выпустил мою руку.
– Подожди здесь.
Не прошло и минуты, как он вернулся.
– Закрой глаза.
Если Десмонд о чем-то просил меня – и если я делала, как он просит, – у меня не возникало ощущения, что я подчиняюсь ему, как подчинялась его отцу или брату.
Десмонд был куда осмотрительнее в своих просьбах.
Сквозь шум водопада я не слышала, что он делал. Но через мгновение заиграла музыка. Я узнала мелодию. «Sway», любимая песня Софии, – она танцевала под нее со своими девочками всякий раз, когда навещала их, и всякий раз в глазах у нее стояли слезы. Десмонд взял меня за руки, положил одну себе на бедро и шагнул вплотную.
– Открывай.
Возле прохода в коридор, подальше от брызг, стоял «Айпод» с колонкой. Десмонд улыбнулся, немного неуверенно, и пожал плечами.
– Потанцуем?
– Я никогда… я не… – я втянула воздух и улыбнулась, так же неуверенно. – Я не умею танцевать.
– Брось. Я сам, кроме вальса, ничего не знаю.
– Вальс?
– Мамины благотворительные вечера.
– А…
Десмонд поднес мою руку к груди, а второй рукой обнял меня за талию. Я прижалась щекой к его плечу, и мы медленно закружились на месте. Десмонд начал негромко напевать, а я позволила ему вести и уткнулась ему в плечо – не хотела, чтобы он видел мое лицо и что на нем было написано.
Бывают такие моменты, когда вдруг осознаешь происходящие в твоей жизни перемены. Такое происходит довольно часто.
Со мной это произошло в три года, когда я поняла, что мой отец не такой, как все его родные.
Потом – в шесть лет, когда я кружилась на чертовой карусели, и все меня бросили.
Так было, когда я ехала в такси к бабушке и когда бабушка умерла. Когда Ноэми впервые угостила меня текилой в квартире.
Так было, когда я очнулась в Саду. Когда мне дали новое имя и отняли мою прежнюю жизнь.
И тогда, в объятиях этого странного юноши, я понимала, что моя жизнь уже не будет прежней – хотя ничего, в общем-то, и не менялось.
Возможно, мне удалось бы изменить его. Уговорить, обмануть или как-то иначе повлиять на него, чтобы он помог нам обрести свободу. Но это имело бы свою цену.
– Дес…
Я почувствовала, как его губы у моего виска растянулись в улыбке.
– Да?
– Вот сейчас я тебя немного ненавижу.
Он не прервал танца, но улыбка его померкла.
– Почему?
– Да потому что это полная лажа, – я медленно вздохнула, обдумывая свои следующие слова. – И это разобьет мне сердце, вот почему.
– Так значит, ты тоже меня любишь?
– Мама говорила, что мужчина должен признаться первым.
Десмонд немного отклонился, чтобы посмотреть на меня.
– Серьезно?
– Да.
Он никак не мог понять, шучу я или говорю всерьез.
Эта песня закончилась, и началась следующая – тоже что-то знакомое. Десмонд чуть отстранился.
– Но кому я в этом признаюсь? Может, под именем Майи ты мне и ответишь. Но это будешь не ты.
Я покачала головой.
– Я бы не стала так рассуждать. Вряд ли мне выпадет шанс снова стать той, прежней.
У него вытянулось лицо. А чего он еще ожидал? Потом Десмонд опустился на колено, взял меня за руки и улыбнулся.
– Я люблю тебя, Майя, и клянусь, что не сделаю тебе больно.
Я поверила ему лишь отчасти.
И пыталась отделаться от чувства вины.
Но не смогла. Поэтому присела к нему на колено и поцеловала. Он так увлекся в ответном поцелуе, что потерял равновесие, и мы оба повалились на сырой пол. Десмонд смеялся и продолжал целовать меня. А я поняла, что не смогу целиком поверить в его признание. Он не смог бы стать хорошим, как ни старался. Быть лучше отца и брата для этого недостаточно. Он каждый день продлевал наше заключение. И этим делал мне больно.
* * *
– В этот раз я не читала По, если хотите знать.
– Уверен, в этот раз вы сосредоточились на процессе, – сухо соглашается Виктор. – Значит, это было всерьез?
– У нас с Десмондом?
– И с ним тоже. Но я имел в виду ваши слова насчет мамы.
– Да, честно.
Какое-то время Виктор обдумывает ее слова, пытачсь уловить смысл.
Не выходит.
– До сих пор пытаетесь угадать, кто я и откуда?
– Да.
– Зачем?
Он вздыхает и качает головой.
– Потому что вымышленные люди не могут давать показания.
– Я вполне себе настоящая, изготовлена из натурального сырья.
Не стоило бы ему смеяться. В самом деле не стоило бы. Но Виктор смеется и не может остановиться. Он ложится на стол, чтобы хоть как-то приглушить смех, а когда снова поднимает глаза, она улыбается, в этот раз совершенно искренне. Хановериан улыбается в ответ.
– Реальный мир наседает, да? – спрашивает Инара тихим голосом, и его улыбка угасает.
– Будем откровенны?
– Вам тяжело спрашивать – и не менее тяжело слушать, хотя вы столько уже услышали. Вы мне нравитесь, специальный агент Виктор Хановериан. Вашим девочкам повезло, что у них такой отец. Так или иначе, история подходит к концу. И станет легче на какое-то время.
* * *
К концу лета в Саду произошли некоторые перемены. Десмонд проводил там столько времени, что стал неотъемлемой его частью. Я по-прежнему была единственной, к кому он притронулся, но не единственной, с кем он подружился. Тереза общалась с ним больше, чем со мной, потому что музыка стирала границы и позволяла забыться, хотя бы на время. Даже Блисс прониклась к нему симпатией, хотя не исключено, что она делала это ради меня.
Девушки постепенно привыкли к нему, как никогда не привыкли бы к его отцу или брату, поскольку он ничего от них не требовал. В большинстве своем они уже не верили в возможность спасения, поэтому не винили Десмонда и не ждали, что он пойдет в полицию.
Садовник был на седьмом небе от счастья.
Впервые заговорив со мной о Десмонде, он сказал, что «мама им гордится». Тогда я подумала, что сам он ее чувства не разделял. Со временем я многое поняла. Садовник всегда гордился Десмондом, но до сих пор имел дело с девушками, которые знали только Эвери. А тот не скрывал своего восторга от идеи о собственном гареме, и отцу приходилось с этим мириться. Теперь, когда Десмонд стал частью Сада, счастью Садовника не было предела. Кроме того случая с Терезой, тем летом ни у кого не было нервных срывов, никто не пострадал и не достиг рубежа в двадцать один год. Ничто не напоминало нам, что мы оказались здесь не просто ради забавы.
Ну, разве что Садовник и Эвери насиловали нас, когда им вздумается. Это сводило на нет все хорошее.
Но Садовник стал относиться ко мне иначе. С тех пор, как я переспала с Десмондом, его отец ко мне не притрагивался. Он относился ко мне, как… к матери семейства. Или дочери. Но, в отличие от Лоррейн, я не лишилась его милости. Однако теперь он считал, что я принадлежу Десмонду. С Эвери он делился, Десмонду он дарил.
Жуть, правда?
Но в то время я не задавалась такими вопросами. Если я и надеялась как-то повлиять на Десмонда, то простой влюбленности с его стороны было недостаточно. Необходимо было, чтобы он по-настоящему меня полюбил, был готов бороться за меня. А этого не случилось бы, если б он и дальше делил меня с братом и отцом.
По просьбе сына Садовник даже отключил камеру в моей комнате. Десмонд сказал, что ему неловко от мысли, что отец наблюдает за ним в момент близости. Кроме того, ему можно было доверять – разве мог он причинить мне какой-то вред? Ведь он так нежно меня любил.
Разумеется, выражались они сдержаннее, как мужчина с мужчиной. Но девушки давились со смеху, когда Блисс излагала собственную версию.
И все же Десмонд был сыном своего отца. Всякий раз, когда я пыталась проводить его до самого выхода, он вежливо, но решительно отсылал меня, и я не видела, как он водит код.
– Мама этого не перенесет, – ответил Десмонд, когда я наконец заговорила об этом. Ему сложно было открыто выступить против отца, я это понимала. Но почему бы не дать нам возможность спасти себя самим? – Доброе имя моей семьи, наша репутация, фирма… Не хочу, чтобы все это рухнуло по моей вине.
Вот так. Доброе имя было важнее человеческой жизни. Всех наших жизней.
В выходные перед началом семестра в Саду состоялся концерт. Десмонд принес колонки и установил их на вершине скалы. Садовник в виде исключения раздал нам яркие наряды и угощал сладостями. Невозможно передать, как мы были счастливы в тот вечер. Мы по-прежнему были его пленницами, и смерть ходила за нами по пятам, отсчитывая дни до двадцать первого дня рождения. И все равно тот вечер был волшебным. Мы все смеялись, танцевали и пели, кто как умел. Садовник и Десмонд танцевали вместе с нами.
Эвери сидел чуть в стороне и дулся, потому что вся эта идея принадлежала Десмонду.
Когда мы всё убрали и девушки разошлись по своим комнатам, Десмонд принес ко мне в комнату маленькую колонку, и мы медленно кружились на одном месте и целовались. Близость с Десмондом была иллюзией и ничем не отличалась от близости с его отцом. Но Десмонд этого не осознавал. Он был уверен, что я тоже его люблю, хоть ни разу не говорила ему об этом. В его понимании это было счастьем, чем-то устойчивым и нормальным, вокруг чего и строится жизнь. Я постоянно напоминала ему, что в клетке никто долго не живет. Но он то ли не понимал моих намеков, то ли старался не придавать им значения.
Десмонду страшно хотелось стать хорошим, поступать по совести. Но наша жизнь в Саду текла по-прежнему, и перемен не предвиделось.
Когда мы наконец упали в кровать, у меня голова шла кругом от его поцелуев. Я смеялась и не могла остановиться. Его руки и губы были повсюду, он тоже смеялся и щекотал мне кожу. Я не могла назвать секс с Десмондом близостью, но это было весело. Он сводил меня с ума своими ласками. А после мы перевернулись, я устроилась сверху и, закусив губу, медленно приняла его. Десмонд застонал и заработал бедрами, но не сдержал смеха, когда заиграла совершенно неуместная песня. Я шлепнула его по животу. Он приподнялся и снова стал меня целовать, потом прижал к спинке кровати.
Тогда-то я и заметила Эвери. Стоя в дверном проеме, он наблюдал за нами с хмурым видом и мастурбировал.
Я вскрикнула – стыдно вспоминать, – и Десмонд оглянулся, чтобы посмотреть, что меня так напугало.
– Эвери! Убирайся!
– Я имею на нее такое же право, как и ты, – проворчал Эвери.
– Пошел вон!
В глубине души я давилась со смеху. Но меня, к счастью, охватила жуткая досада, и я чувствовала себя такой униженной, что сдержалась. Я бы прикрылась простыней, но Эвери уже не раз видел меня голой. А Десмонд… его интимных частей в тот момент видно не было. Они спорили поверх моего плеча, и я закрыла глаза – не хотела видеть, продолжает ли Эвери онанировать, переругиваясь с братом.
Кроме того, смех так и рвался наружу.
Появился Садовник. Ну, кто бы сомневался…
– Что здесь творится, черт возьми? Эвери, прекрати немедленно!
Я открыла глаза. Эвери застегивал штаны, Садовник пытался застегнуть рубашку. Вся семья в сборе, за исключением Элеоноры. Десмонд выругался вполголоса и отстранился от меня. Подал мне платье, и только потом потянулся за брюками.
Мелочи порой имеют значение.
– Может, объясните, почему ваши вопли разносятся по всему Саду? – спросил Садовник угрожающе тихим голосом.
Братья заговорили наперебой, но отец прервал их резким жестом.
– Майя?
– Мы с Десом спокойно трахались. Эвери решил присоединиться: стоял в проеме и онанировал.
Садовник вздрогнул, поскольку не ожидал от меня такой грубости. Потом уставился на старшего сына. Он по-прежнему был зол, но не скрывал своего изумления и ужаса.
– О чем ты только думал?
– Почему она досталась Десмонду? Он ни разу не помог тебе в поисках, не привел сюда ни одной девушки. Но ты подарил ему Майю, будто замуж выдал, а мне даже тронуть ее не даешь.
К Садовнику не сразу вернулся дар речи.
– Майя, ты извинишь нас? Нам нужно поговорить.
– Конечно, – ответила я учтиво. Вежливость порой так же неприятна, как и пренебрежение. – Мне лучше выйти?
– Нет, с какой стати, это твоя комната. Десмонд, Эвери, идемте.
Я сидела на кровати, пока их шаги не стихли в коридоре. Затем оделась и побежала в комнату Блисс. Она сидела на полу, что-то лепила из глины, и на подносе перед ней были расставлены медвежата. Выглядело все так, словно они устроили между собой резню.
– Что там стряслось?
Я устроилась на кровати и все ей рассказала, а она, чуть ли не в истерике, билась от смеха.
– Как по-твоему, когда он окончательно выставит Эвери из Сада?
– Не думаю, что он пойдет на такое, – ответила я с сожалением. – Если даже здесь Эвери с трудом поддается контролю, то каков он за пределами Сада?
– Вряд ли мы это узнаем.
– Точно.
Блисс протянула мне комок глины, чтобы я размяла его.
– Можно задать тебе личный вопрос?
– Насколько личный?
– Ты его любишь?
Я чуть было не спросила, кого она имеет в виду, – тем более что мы говорили об Эвери. Но поняла, о ком она, прежде чем выставила себя идиоткой. Я взглянула на мигающий огонек камеры и перебралась на пол, чтобы можно было понизить голос.
– Нет.
– Тогда к чему это все?
– Как думаешь, той Бабочке в самом деле удалось сбежать?
– Нет. А может, и да. А что? Так, стой… черт. Теперь, кажется, поняла. По-твоему, сработает?
– Не знаю, – я вздохнула, разминая комок глины. – Ему страшно называть себя его сыном, и в то же время он… наверное, горд. Впервые в жизни он видит, что отец им гордится и не скрывает этого. Сейчас это значит для него больше, чем я. Кроме того, ему страшно отделить правильное от неправильного.
– Не будь этого Сада, если б ты встретила его в библиотеке или еще где-нибудь, ты смогла бы его полюбить?
– Честно? Мне незнакома любовь подобного рода. Я, конечно, встречала влюбленные пары. Но мне самой… Видимо, я просто не способна на это.
– Печально… А может, оно и к лучшему. Даже не знаю.
– Думаю, возможно и то, и другое.
Молодая пара через улицу была без ума друг от друга. И с появлением малыша их отношения стали полнее и крепче. Ребекка, старшая официантка в «Вечерней звезде», безумно любила своего мужа, который приходился племянником Джулиану. Невозможно было не умиляться, глядя на них.
Хоть мы их, конечно, и дразнили.
Таки и Карен любили друг друга. Их дочь любила свою подружку.
Но всякий раз, когда мне попадались такие пары, я понимала, что вижу нечто редкостное, и что не со всеми такое бывает, и не все способны распознать это и сберечь.
И я первая готова признать себя неудачницей.
– Ты права. И откровенна, – Блисс взяла у меня размятый комок и протянула другой, в этот раз пурпурный. Глина оставляла цветные полосы на моей коже. – Мы ни разу не поблагодарили тебя.
– За что?
– Ты заботишься о нас, – сказала она тихо, сосредоточившись на медвежонке, которого лепила. – Не то чтобы ты печешься о нас, как мамаша, боже упаси. Но ты по-своему любишь нас и всегда готова выслушать. И бываешь с Садовником в его комнате, когда ему нужен совет.
– Мне не хотелось бы говорить об этом.
– Ладно. Давай сюда глину и вымой руки.
Я послушно встала и смыла с ладоней розовые полосы. Блисс протянула мне бирюзовый шарик из глины. В этот раз я села напротив нее и взглянула на фигурки. У половины медвежат головы, лапы и хвосты были черного цвета, у другой половины – белого. Некоторые из них были в униформах: черные мишки в красном, белые – в синем. Некоторые были крупнее других, и униформы на них – более изысканные. Кроме того, некоторые из фигурок были парными.
– Шахматный набор?
– У Назиры через две недели день рождения, двадцать лет.
А еще через пару недель мне стукнуло восемнадцать. Но дни рождения в Саду никто не праздновал. Чувствовалось в этом какое-то издевательство, как если б мы праздновали приближение смерти. Нормальные люди в свои дни рождения говорят: «Ух! Еще на год старше!» Мы воспринимаем их немного иначе: «Черт. Еще годом меньше».
– Это не ко дню рождения, – продолжала Блисс с кислой миной. – Сожалею, что твоя жизнь обернулась таким дерьмом – вот как я ее поздравлю.
– Хороший подарок.
– И сраный повод, – согласилась Блисс.
Она скатала тонкую колбаску из позолоченного шарика и разделила ее пополам. Потом скрутила обе части, и на плече у красного короля появился лампас.
– И все-таки, хоть немножко, но ты его ненавидишь.
– Больше чем немножко.
– Ему пришлось бы пойти против семьи.
– Зато сейчас он идет против закона и здравого смысла, – я вздохнула и отдала ей размягченный кусок глины. Блисс протянула мне шарик голубого цвета. Я даже не пыталась помочь ей с фигурками – лепила я отвратительно. – Блисс, можешь не сомневаться, я все как следует обдумала, ничего не упустила. Это давно потеряло смысл, если вообще когда-то его имело.
– Тогда просто продолжай в том же духе, и будь что будет.
– Ну да.
– Кто-то идет.
В коридоре послышались шаги, и через мгновение в комнате появился Десмонд. Он опустился на пол рядом со мной и протянул нам по апельсину.
– Что-то вроде шахмат?
Блисс закатила глаза и ничего не сказала. Некоторое время она лепила своих шахматных мишек, я разминала для нее глину, а Десмонд возился со своим «Айподом».
Что же касается того апельсина, то я впервые счистила кожуру идеальной спиралью.
* * *
Эддисон наконец-то возвращается. В руках у него два пакета, в одном – бутылки с лимонадом и водой, из другого он достает сэндвичи с мясом; протягивает один Инаре, затем достает из кармана небольшой пакетик и кладет перед ней.
Она берет его в руки и радостно смотрит на содержимое.
– Мой синий дракон!
– Я говорил со специалистами. Они сказали, что ваша комната не пострадала. – Брэндон садится напротив нее, занятый своим сэндвичем; Виктор из вежливости делает вид, что не замечает румянца на его щеках. – Вам все вернут, как только мы получим разрешение. Но их мне все-таки отдали.
Инара раскрывает пакет, кладет себе на ладонь маленькую фигурку и большим пальцем гладит крошечного медвежонка в пижаме, спящего на его согнутых лапах.
– Спасибо, – произносит она шепотом.
– Не ожидал от вас такой любезности.
Она улыбается.
– Вик, криминалисты обыскивают дом. Они сообщат, если найдут фотографии.
Беседа на некоторое время прерывается. Инара обворачивает руки салфетками, чтобы взять горячий сэндвич. Когда с едой покончено и мусор выброшен, она берет маленького дракона и зажимает в ладонях.
Виктор понимает, что теперь можно действовать решительнее.
– Что произошло с Эвери?
– В смысле?
– Отец наказал его?
– Нет. Они просто поговорили об уважении к личной жизни каждого. Он сказал, что не следует относиться к Бабочкам, словно это собственность. Это такие же люди, и нужно относиться к ним с уважением. По словам Деса, отец напомнил Эвери, что ему, так или иначе, запрещено ко мне прикасаться, учитывая мой ожог. Вернее, «учитывая предыдущий инцидент». Дес никогда не спрашивал о шраме у меня на бедре. Если не задавать лишних вопросов, то и голову из песка вынимать не придется.
– Значит, все вернулось в прежнее русло.
– Вроде того.
– Но что-то пошло не так.
– Да. И началось это с Кейли.
* * *
Вернее, началось все с Эвери. А Кейли стала жертвой обстоятельств.
С начала семестра мы с Десмондом стали реже видеться. Шел последний год его обучения, и расписание было довольно загруженное. Но он приходил по вечерам и брал с собой учебники, чтобы заниматься. Я помогала ему, как помогала когда-то Уитни, Эмбер и Ноэми. Только теперь без текилы. Блисс тоже помогала: смеялась над ним всякий раз, когда он ошибался. Даже если ошибка была пустяковая.
Вообще, Блисс смеялась над ним при любой возможности.
Эвери был чернее тучи. Он видел, как Десмонд освоился в Саду. Как я уже говорила, Десмонд нравился Бабочкам. Он не приставал с расспросами. Вернее сказать, вопросы он задавал, но не требовал от них ответа.
Иногда он спрашивал их имена. Но так уж у нас повелось, что свои имена мы называли только перед смертью. Однако мы говорили ему, что Симону когда-то звали Рейчел Янг, а Лионетту – Кэссиди Лоуренс. Тех, кому лишнее напоминание уже не причинит боли.
Они не видели в Десмонде угрозы.
Эвери, напротив, так покалечил Зару во время секса, что отец на целый месяц изгнал его из Сада. А потом вынужден был давать ему успокоительные, чтобы приступы не повторялись. Зара после того случая почти не могла ходить, на ней живого места не осталось. Рядом с ней постоянно кто-нибудь находился, чтобы помогать с элементарными потребностями, вроде душа, туалета и еды.
Лоррейн, конечно, знала свое дело – пусть и не отличалась сочувствием, – но чудес творить не умела. У Зары воспалилось бедро, и у Садовника осталось два пути: либо отправить ее в больницу, либо поместить под стекло.
Думаю, нетрудно догадаться, что он предпочел.
Садовник сообщил нам об этом с утра, так что у нас был целый день, чтобы попрощаться.
Когда он сказал мне об этом, я покосилась на него, а он криво улыбнулся и поцеловал меня в висок.
– Пусть это будут мимолетные объятия и несколько слов, произнесенных шепотом – в такие моменты вы делитесь самым сокровенным. И если это принесет Заре – и всем вам – какое-то успокоение, я буду только рад.
Я поблагодарила его, так как он явно ждал этого. Но в глубине души я недоумевала, зачем растягивать это на целый день и не лучше ли покончить со всем сразу.
Десмонд, перед тем как уйти на занятия, принес нам кресло-каталку, чтобы мы возили Зару по Саду. Он улыбался, когда принес ее; улыбался, когда поцеловал меня в щеку и ушел. Блисс так материлась, что Тереза покраснела.
– Он ведь ничего не знает? – пропыхтела Блисс, когда ее словарный запас иссяк. – Он в самом деле ничего не знает.
– Он видит, что Зара больна, и думает, что делает что-то хорошее.
– Это… это…
Некоторые вещи не требуют перевода.
В тот день, когда Садовник прогуливался с женой во внешнем саду – который был куда ближе, чем это казалось, – Зара с трудом села на кровати. Ее огненно-рыжие волосы слиплись от пота.
– Майя, Блисс… Можете прокатить меня немножко?
Мы положили в кресло сложенное одеяло и приткнули вокруг Зары несколько подушек, обездвижив, насколько возможно, ее бедро. Это был не единственный ее перелом, но, несомненно, самый болезненный.
– Только круг по коридору, – попросила она.
– Хочешь подыскать местечко? – спросила Блисс, и Зара кивнула.
Это было что-то удивительное: гадать, какой контейнер станет твоим, когда ты умрешь. Я примерно догадывалась, какой из них Садовник припас для меня: справа от Лионетты, расположенный так, что был заметен из пещеры. Блисс полагала, что окажется по другую сторону от меня. Вместе навсегда, в чертовой стене, чтобы будущие поколения Бабочек смотрели на нас и холодели от ужаса.
Мы медленно шли по коридору: я толкала каталку, а Блисс придерживала Зару спереди. Она остановила нас у входной двери. В воздухе стоял запах жимолости, перемешанный с запахом каких-то химикалий из комнаты, которую мы никогда не видели открытой. Стены там были непроницаемые и крепкие, как в комнате Лоррейн, тату-кабинете и бывшей комнате Эвери. У входной двери висела панель ввода. Нам не следовало здесь находиться.
И я так и не увидела, как Дес вводит свой код.
– Как думаете, если я попрошу поместить меня здесь, он согласится?
– Из-за жимолости?
– Нет. Потому что мы сторонимся этой части. Так что на меня не будут слишком часто смотреть.
– Попроси. В худшем случае он ответит отказом.
– Если б я попросила вас, вы убили бы меня на месте?
Я смотрела на стеклянный контейнер, иначе поняла бы по глазам, что она говорила всерьез. Зара бывала жестокой, могла довести до слез своими насмешками, но особым чувством юмора не отличалась.
– Не думаю, что я настолько хорошая подруга, – ответила я наконец.
Блисс промолчала.
– Как думаете, это больно?
– Он говорит, что нет.
– И ты ему веришь?
– Нет, – я вздохнула и направила коляску к выходу в Сад. – Не уверена, что он знает об этом. Думаю, ему самому хочется верить в это.
– Как по-твоему, какая она будет?
– Кто?
– Новая Бабочка, – Зара запрокинула голову, чтобы посмотреть на меня. Глаза у нее лихорадочно блестели. – Он давно не выходил на охоту. С тех пор, как привел Терезу. Десмонд так его осчастливил, что ему и искать никого не хотелось.
– Может, он и не станет искать.
Зара фыркнула.
Не то чтобы он искал их постоянно. Бывало и так, что не отправлялся на охоту сразу после чьей-то смерти. Ждал, пока не умрет еще кто-нибудь. Иногда он приводил одну, а бывало, что и двух. Но при мне такого еще не было. Бессмысленно искать логику в действиях этого человека.
Мы еще стояли там, когда Лоррейн вышла из своей комнаты, готовить ужин. В первый миг она, казалось, пришла в замешательство. Тронула свои каштановые волосы, какие-то тусклые, с седыми прядями. Она по-прежнему собирала их в пучок, как это нравилось Садовнику. Хоть он и не смотрел на нее и не делал замечаний, Лоррейн, как и прежде, старалась ему угодить. Она посмотрела на Зару, замотанную в бинты и бледную – только щеки пылали. Потом перевела взгляд на пустую витрину.
Зара прищурилась.
– Хочешь занять ее, Лоррейн?
– Мне не о чем с вами разговаривать, – ответила Лоррейн.
– Я знаю, как это можно устроить.
Недоверие и надежда боролись в ее потускневших голубых глазах.
– В самом деле?
– Да. Чудом омолодиться на тридцать лет. Уверена, тогда ему захочется убить тебя и поместить в эту банку.
Лоррейн фыркнула и прошла мимо нас, задев при этом ногу Зары. Движение болью отозвалось в сломанном, воспаленном бедре. Зара стиснула зубы и сдержала вопль.
Блисс проводила медсестру взглядом.
– Я пришлю к вам Данелли.
– Почему, куда ты… – Я увидела выражение ее лица. – Проехали. Все верно. Данелли.
Мы молча смотрели ей вслед.
– Как думаешь, куда она пошла? – спросила Зара через минуту. Она все никак не могла отдышаться.
– Лучше не спрашивать. Не хочу знать раньше времени, – ответила я с задором. – Может, мне и потом не захочется знать – смотря что она вытворит.
Еще через несколько минут пришла не только Данелли, но и озадаченная Маренка.
– Можно спросить, что задумала Блисс?
– Нет, – ответили мы одновременно.
– Тогда не стоит спрашивать, зачем ей понадобились мои ножницы? – пробормотала Маренка и потрогала шею, где обычно висели на шнурке маленькие ножницы для рукоделия.
– Точно.
Данелли ненадолго задумалась, потом кивнула и осторожно тронула каталку.
– В Сад? Или обратно в комнату?
– В комнату, – простонала Зара. – Мне, пожалуй, нужно принять еще обезболивающего.
Мы втроем перенесли Зару на кровать и дали ей таблетку. Потом пришла Блисс. Она прятала руки за спиной, и вид у нее было очень довольный.
О, Господи. Я не хотела этого знать.
– Зара, у меня для тебя подарок, – заявила она бодро.
– Голова Эвери на подносе?
– Почти, – она бросила на покрывало свернутую прядь волос.
Зара взяла ее, долго на нее смотрела, а потом прыснула. Сплетенные косы медленно распускались у нее в руке.
– Космы Лоррейн?
– Радуйся!
– Как думаете, я смогу забрать их с собой?
Данелли перебрала в руках распустившиеся кончики.
– Можешь вплести их в подвязку чулка.
– Или заплести в прическу, как украшение.
– В виде короны.
Все, кто приходили в тот вечер к Заре, высказывали свои предложения на этот счет. Это выражало нашу всеобщую неприязнь к Лоррейн. Никто не испытывал жалости или сочувствия к нашей кухарке. Когда нас позвали на ужин, мы взяли подносы и набились в комнату Зары, все двадцать человек. Мы все теснились на полу, заняли даже душ.
Адара подняла стакан яблочного сока.
– За Зару, которая плюется косточками дальше всех.
Мы все рассмеялись, даже Зара. Она подняла стакан воды в ответ.
Потом настала очередь Назиры. Думаю, мы все немного встревожились: Назира с Зарой ладили примерно так же, как Эвери с Десмондом.
– За Зару. Хотя она та еще стерва, но это наша стерва.
Зара послала ей воздушный поцелуй.
Это было чистое безумие. Думаю, никто в этом и не сомневался. Это было безумие, это походило на какое-то извращение, и тем не менее мы чувствовали себя намного лучше. Одна за другой, мы поднимались и произносили тосты в честь Зары, шутливые или серьезные. И конечно же, было пролито немало слез – но только не мной. Возможно, Садовник был прав – возможно, это действительно помогало…
Когда настала моя очередь, я встала и подняла стакан воды.
– За Зару, которая покидает нас слишком рано, но которую мы будем помнить и вспоминать добрым словом до конца наших дней.
– Как бы мало их ни оставалось, – добавила Блисс.
Насколько нужно быть двинутым, чтобы рассмеяться над этим?
Когда все высказались, Зара вновь подняла стакан.
– За Зару, – произнесла она тихим голосом. – Потому что, когда она умрет, Фелисити Фаррингтон упокоится с миром.
– За Зару, – сказали мы хором и осушили стаканы.
Садовник в этот раз пришел без платья, но привел Десмонда. Он улыбнулся, когда увидел нас в полном составе.
– Милые мои, пора.
Все по очереди стали целовать Зару, потом забирали свои подносы и выходили из комнаты. Садовник при этом каждую целовал в щеку. Я ждала, пока не уйдет последняя, сидя на краю кровати, и держала Зару за размякшую руку. Посеребренную прядь Лоррейн мы оплели короной вокруг ее двойного твиста.
– Я могу что-нибудь сделать для тебя? – спросила я шепотом.
Зара вынула из-под подушки потрепанный, зачитанный до дыр и испещренный заметками экземпляр «Сна в летнюю ночь».
– Я ходила в театральную студию, когда училась в школе, – когда меня похитили в парке, я как раз шла на репетицию. Я три года писала заметки для пьесы, которую так никогда и не поставлю. Может, вы с Блисс устроите выступление для других? Просто… в память обо мне.
Я взяла книгу и прижала к груди.
– Обещаю.
– Позаботься о следующей девочке и постарайся не навещать меня слишком часто, хорошо?
– Хорошо.
Зара крепко обняла меня, ее пальцы впились мне в плечи. Девушка выглядела спокойной, но я чувствовала, как она дрожит. Я не двигалась, пока Зара сама не выпустила меня. Она тяжело вздохнула, и я поцеловала ее в щеку.
– Я только сегодня узнала тебя, Фелисити Фаррингтон, но я полюбила тебя и никогда не забуду.
– Видимо, это все, о чем я могу попросить тебя, – она попыталась улыбнуться. – Спасибо тебе за все, честно. С тобой было намного легче.
– Жаль, что не смогла сделать больше.
– Ты делаешь то, что в твоих силах. Все остальное зависит от них, – она кивнула в сторону Садовника и Десмонда. – Думаю, через пару дней вы меня увидите.
– У самого выхода, чтобы мы вообще тебя не видели.
Я произнесла это едва слышно, снова поцеловала ее и вышла из комнаты, сжимая книгу, так что побелели костяшки пальцев.
Садовник взглянул на седой локон в волосах Зары, явно не ее, потом посмотрел на меня.
– Лоррейн плакала, – проговорил он. – Она говорит, что Блисс напала на нее.
– Это всего лишь волосы, – я посмотрела ему прямо в глаза. – Мы подчиняемся вам и вашим сыновьям, но ее выходки терпеть не обязаны.
– Я поговорю с ней.
Он поцеловал меня и направился к Заре. Но Десмонд не двинулся с места, на лице его читалось легкое недоумение.
– Я чего-то не понимаю? – спросил он тихим голосом.
– Ты ничего не понимаешь.
– Я понимаю, что вы будете тосковать, но мы о ней позаботимся. С ней все будет хорошо.
– Не будет.
– Майя…
– Молчи. Ничего ты не понимаешь. Хотя следовало бы – ты видел достаточно. Я-то все понимаю. Поэтому не говори мне, что с ней все будет хорошо. Сейчас я ничего не хочу слышать от тебя.
Эвери был старшим из сыновей, но преемником Садовника в определенном отношении можно было считать Десмонда.
И в скором времени нам предстояло узнать, в какой мере он был сыном своего отца.
Я оглянулась на Зару, но Садовник загораживал ее. Не обратив внимания на оскорбленный взгляд Десмонда, я вышла в коридор.
Я отнесла поднос на кухню и со злорадным удовольствием послушала, как шмыгает носом Лоррейн, посмотрела на ее коротко подрезанный хвостик. Некоторые из девочек приглашали меня к себе, но я отказывалась. Я вернулась в свою комнату, и где-то через полчаса опустились стены. Состояние Зары не позволяло переспать с ней напоследок. К тому же с ними был Десмонд. Я свернулась на кровати, открыла книгу и стала читать заметки на полях. И познакомилась поближе с Фелисити Фаррингтон.
Было около трех часов утра, когда стена перед моей комнатой начала подниматься. Только эта секция – если заглянуть сквозь витрины в комнату Изры или Маренки и как следует присмотреться, можно было увидеть, что другие секции остались на месте. Мы так давно не видели этих мертвых тел, даже странно и приятно было открывать глаза. Я заложила книгу пальцем, готовая увидеть пред собой Садовника: одна рука на пряжке ремня, глаза горят от возбуждения…
Но это оказался Десмонд. Ужас и страдание застыли в его бледно-зеленых глазах. Таким я не видела его уже несколько месяцев. Он оперся рукой о стеклянную стену, чтобы сохранить равновесие, но колени у него дрожали и подгибались.
Я закрыла книгу и поставила ее на полку. Потом села на кровати.
Десмонд сделал несколько нетвердых шагов, вошел в комнату и упал на колени. Затем закрыл лицо руками, вздрогнул и уставился на свои ладони, словно они ему не принадлежали. Его била дрожь, он согнулся пополам и прижался лбом к металлическому полу. От него шел тот тошнотворный химический запах, какой я чувствовала всякий раз, когда бывала рядом с жимолостью возле выхода.
Прошло минут десять, прежде чем Десмонд сумел что-то выговорить, но и тогда голос у него дрожал и срывался.
– Он обещал, что позаботится о ней.
– И сдержал слово.
– Но он… он…
– Избавил ее от страданий и уберег от разложения, – закончила я спокойно.
– …убил ее.
Все-таки до отца ему было далеко.
Я разделась и опустилась рядом с ним на колени. Начала расстегивать его рубашку. Десмонд посмотрел на меня как на больную и оттолкнул мою руку.
– Я помогу тебе принять душ, от тебя несет.
– Формалин, – пробормотал он.
В этот раз Десмонд позволил себя раздеть и поплелся за мной в душ. Я усадила его на полу и пустила теплую воду.
В том, что происходило дальше, не было ничего сексуального. Это как если б София купала своих полусонных девочек. Когда я говорила ему наклониться, поднять руку или закрыть глаза, он подчинялся, но ничего не говорил, словно не осознавал происходящего. Мой шампунь и гель для душа имели фруктовый аромат, и я вымыла Десмонда с ног до головы, так что воняла теперь только его одежда.
Я замотала Десмонда в полотенце и взяла его ботинок, чтобы вымести в коридор пропахшую одежду. Потом вернулась и вытерла насухо себя и его. Мне то и дело приходилось вытирать ему лицо – в ду́ше я этого не заметила, но по его щекам без конца текли слезы.
– Отец сделал ей какую-то инъекцию, чтобы усыпить, – прошептал Десмонд. – Я думал, мы отнесем ее в машину, но он отворил комнату, которую я прежде не видел… – Парень содрогнулся. – Когда она уснула, он надел на нее оранжевое платье и уложил на операционный стол. А потом… подвесил ее…
– Прошу тебя, не рассказывай, – перебила я тихим голосом.
– Нет, я должен. Потому что однажды он сделает с тобой то же самое, ведь так? Вот что он делает, вот как он уберегает вас: бальзамирует вас, еще живых… – Он снова содрогнулся; голос его подводил, но он продолжал. – Он стоял и объяснял мне каждый шаг. Как он сказал, чтобы однажды я сам мог этим заниматься. Сказал, что любовь – это не только удовольствие, сказал, что мы должны быть готовы к тяжелым испытаниям. Он сказал… он…
– Идем, ты весь дрожишь.
Я подвела его к кровати, укрыла одеялом и села рядом, сложила руки на коленях.
– Он сказал, если я действительно люблю тебя, то не позволю никому другому прикоснуться к тебе, что сам о тебе позабочусь.
– Дес…
– Он показал мне других. Я думал… я думал, он просто возвращает вас на улицу! Я не понимал…
Десмонд раскис окончательно, всхлипывая так, что тряслась кровать. Я поглаживала его по спине, пока его душили рыдания. Я не знала, как еще могла утешить его, ведь он по-прежнему не знал всей правды. У Зары была костная инфекция, а он полагал, что люди, если они ломались, либо накладывали на себя руки, либо запускали себя до такой степени, что умирали. Десмонд пока не знал главного.
Но теперь, когда он сам готов был сломаться, я не смогла рассказать ему. Тогда он стал бы бесполезен. Чтобы помочь нам, он должен был набраться храбрости.
Хотя на этот счет у меня были большие сомнения.
– Она сама выбрала место, – сумел выговорить он. – Отец заставил меня донести ее, и показал, как следует располагать тело, как запечатать контейнер и заполнить смолой. Прежде чем запечатать ее, он… он…
– Поцеловал ее на прощание?
Десмонд судорожно кивнул и начал икать.
– Он сказал, что любит ее!
– В его понимании это и есть любовь.
– И как ты только терпишь меня?
– Иногда – с трудом, – призналась я. – Я напоминаю себе, что ты не знаешь всей правды. Многое из того, что делают твой отец и брат, тебе пока неизвестно. Иногда только это и помогает, иначе видеть тебя не могла бы. Но ты…
– Продолжай, прошу.
– Но ты трус, – вздохнула я. – Ты понимаешь, что это ненормально – держать нас здесь. Ты понимаешь, что это противозаконно. Тебе известно, что он насилует нас, а теперь тебе известно, что он нас еще и убивает. Кого-то из этих девушек, возможно, разыскивают родные. Ты знаешь, что это неправильно, но ничего не делаешь. Ты говорил, что ради меня собираешься стать храбрым, но так и не стал. И если честно, я даже не знаю, сможешь ли.
– Узнать обо всем этом… обо всем рассказать… мама этого не переживет.
Я пожала плечами.
– Будешь тянуть – я тоже этого не переживу. Ты можешь и дальше оставаться трусом, но у тебя всегда есть выбор. Тебе известно про Сад, но ты не сообщаешь в полицию, не пытаешься освободить нас. Это твой выбор, и ты совершаешь его изо дня в день. Ничего не поделаешь, Десмонд. Но прикидываться и дальше уже не выйдет.
Десмонд снова заплакал. А может, он так и ревел все это время… Справиться с таким потрясением оказалось выше его сил.
Он пролежал молча в моей кровати до самого утра. Когда солнечные лучи осветили Сад, собрал свои пропахшие формалином вещи и ушел.
Мы не виделись несколько недель. Лишь однажды Десмонд пришел в Сад – посмотреть на Зару, когда смола затвердела, и ее уже не скрывала часть стены. После этого все стены поднялись, и суровая реальность, завуалированная на протяжении всего лета, обрушилась на нас с прежней силой. Мы были Бабочками, и наш короткий срок оканчивался под стеклом.
* * *
– Постойте. Вы, кажется, говорили, что все началось с Кейли, – напоминает Эддисон.
– Да. Я как раз подхожу к этому.
– А…
Инара поглаживает большим пальцем драконью шею и делает глубокий вдох.
– Кейли попала к нам четыре дня назад.
* * *
Прошло какое-то время, прежде чем я смогла выполнить обещание, данное Заре. Садовник согласился, чтобы мы поставили пьесу целиком – когда я объяснила ему, ради чего. Но ему хотелось, чтобы все было сделано «как подобает». Он заказал все необходимые костюмы и принес Блисс ящик глины, который весил больше ее самой. Она должна была слепить для нас короны. Мы распределили роли, и девочки разучивали текст. Некоторым из них доводилось читать английские пьесы, но почти никому не приходилось участвовать в настоящем представлении.
Я почти два года прожила с Ноэми: она часто расхаживала по квартире в нижнем белье и читала вслух монологи, пока чистила зубы.
Да, чистила зубы. Поэтому продолжаться это могло бесконечно.
В тот вечер Садовник поручил Лоррейн устроить праздничный ужин в Саду. Мы расположились по обе стороны ручья, все сидели на разноцветных и причудливых креслах – что-то между пуфом и креслом-грушей. На нас были свободные платья из полупрозрачного шелка прекрасных оттенков, и они не имели никакого отношения к нашим крыльям. Мне досталась роль Елены, поэтому мой наряд был выдержан в зеленых лесных тонах, и только один слой сиял насыщенным розовым цветом. В тех же цветах Блисс смастерила для меня корону из полимерных роз.
Волосы у многих из нас были распущены – просто потому, что было можно.
Во время приготовлений смех наш звучал как-то уж слишком пронзительно. Мы делали это в память о Заре, но Садовник обратил все в праздник. Он, конечно же, знал, по какому поводу это делается, но был убежден, что мы ставим пьесу для него – ведь мы так счастливы под его нежной опекой. Этот человек обладал непревзойденным талантом к самообману.
Он даже не заметил, что Лоррейн купила себе парик, чтобы волосы, как и прежде, казались длинными и ухоженными. Она хотела понравиться ему. Больная.
Кроме того, он уговорил присоединиться Десмонда.
То, как тот воспринял смерть Зары, должно быть, сбило его с толку. Дес был сыном своего отца, но смотрел на вещи иначе. Иначе как убийством он назвать это не мог. Однако по-прежнему ничего не предпринимал.
Под конец первой недели, в течение которой Десмонд не давал о себе знать, Садовник заглянул ко мне перед завтраком.
– Десмонд сам не свой, – сообщил он, как только я открыла глаза. – Вы поссорились?
Я зевнула.
– Ему сложно переварить то, что произошло с Зарой.
– Но с Зарой все хорошо, теперь никто не причинит ей боли, – он искренне недоумевал.
– Когда вы сказали, что позаботитесь о ней, он думал, вы отвезете ее в больницу.
– Это было бы неосмотрительно. Могли возникнуть вопросы.
– Я лишь пытаюсь объяснить.
– Да, конечно. Спасибо, Майя.
Уверена, за эти несколько недель между ними состоялась не одна беседа, содержание которых осталось для меня загадкой. Но когда Десмонд появился на представлении, вид у него был такой, словно за все это время он вообще не спал. Должно быть, в тот день он выступал с докладом на семинаре: на нем была строгая рубашка с галстуком и темно-зеленые брюки. Верхняя пуговица была расстегнута, галстук ослаблен, и рукава закатаны до локтя – и все равно одет он был опрятнее, чем обычно. У меня промелькнула мысль, что рубашка цвета морской волны отлично подходит к цвету его глаз, и мне самой стало противно.
Десмонд старался не смотреть нам в глаза, особенно мне. Я рассказала Блисс о нашем с ним разговоре, пока она мастерила из глины печенье с шоколадной крошкой – чтобы обдурить Лоррейн. Блисс лишь пожала плечами и сказала, что не смогла бы проявить такой мягкости.
Учитывая, что идея с печеньем принадлежала ей, я не стала спорить.
Представление началось просто замечательно. До сих пор я не придавала особого значения словам – когда перед тобой читают монолог Гамлета с зубной щеткой во рту, интерес как-то пропадает. Но пьеса действительно была смешная, и мы старались как могли. Блисс играла Гермию, и в одной сцене, когда мы спорили, действительно бросилась на меня через ручей, что вызвало у Садовника взрыв хохота.
Маренка исполняла роль Пака. Посреди ее монолога дверь в Сад распахнулась, и появился Эвери с маленьким свертком, перекинутым через плечо. Маренка замолчала и уставилась на меня широко раскрытыми глазами. Я встала рядом с ней, глядя, как Эвери шагает через Сад. Через мгновение к нам присоединились Садовник с Десмондом.
– Я принес новенькую! – объявил Эвери с кривой ухмылкой и скинул на песок свою ношу. – Я разыскал ее и доставил сюда. Отец, ты только взгляни, кого я надыбал!
Садовник не сводил глаз со старшего сына. Я опустилась на колени и дрожащими руками приподняла покрывало. Некоторые из девушек вскрикнули. О, черт, черт, черт…
Девочке на вид не было и тринадцати. Лицо с одной стороны было в запекшейся крови, растекавшейся от виска, и там уже наливался синяк. Я полностью развернула покрывало – сквозь порванную одежду были видны кровоподтеки и ссадины. Еще больше крови было на бедрах и нижнем белье. Господи, на ней были трусы с розовыми и фиолетовыми надписями «Суббота». Вы же знаете, такое белье бывает только маленьких размеров. В голове у меня промелькнула совершенно неуместная мысль, что сегодня лишь четверг.
Она была маленькая, нескладная, с едва намечающейся грудью. Волосы с медным отливом были собраны в хвост. По-детски милая, она была очень, очень юна. Я вновь завернула ее в покрывало, чтобы не видеть крови, и обняла, не в силах вымолвить ни слова.
– Эвери, – прошептал потрясенный Садовник, – какого черта ты наделал?
У меня не было ни малейшего желания слушать их разговор. Данелли помогла мне встать с девочкой на руках, придерживая ей голову.
– Блисс, можно взять твое платье, которое с закрытой спиной?
Блисс кивнула и бросилась в свою комнату.
Мы с Данелли перенесли девочку в мою комнату, сняли с нее разорванную одежду и вымыли. Я смыла кровь с ее бедер и осторожно облила из душа, чтобы удалить всю грязь между ног. Данелли между тем согнулась над унитазом. Потом она вернулась и вытерла рот дрожащей рукой.
– У нее даже волос нет, – прошептала она.
Ни волос в промежности или под мышками, ни грудей, ни талии. Перед нами, несомненно, был ребенок.
Данелли придержала ее, чтобы я вымыла ей волосы. К этому времени Блисс принесла платье – немного великоватое, но это единственное, что подошло бы девочке по размеру и не имело открытых мест. Мы вытерли ее насухо, одели и уложили в мою кровать.
– Теперь, раз она уже здесь, думаете… – Даже Блисс не смогла закончить мысль.
Я помотала головой, осматривая руку девочки. Несколько ногтей были сломаны – она сопротивлялась.
– Они ее не тронут.
– Майя…
– Они ее не тронут.
Мученический вопль разнесся по Саду, и все мы разом вздрогнули.
Но голос был мужской, так что мы остались в комнате.
Остальные девушки испугались крика и стали собираться в моей комнате, так что мне не пришлось их прогонять. Мы понятия не имели, когда очнется девочка. Ей станет страшно, ей будет больно. Совсем ни к чему, чтобы на нее при этом пялились двадцать человек. Остались только Блисс и Данелли. Последняя держалась позади, так что ее лицо не сразу бросалось в глаза.
Только вот книжная полка на правой стене не полностью прикрывала Лионетту.
Блисс подтянула шторку перед туалетом, подняла нижний край и прижала книгами. Если знать заранее, что за шторкой что-то есть, можно было увидеть волосы Лионетты и часть ее спины. Но для этого следовало внимательно присмотреться.
Мы стали ждать.
Блисс сбегала на кухню, принесла несколько бутылок воды и по пути захватила у напуганной Лоррейн пару таблеток аспирина. Хотя его действия хватило бы ненадолго – аспирин хорошо помогал от головной боли после снотворного, – но все-таки это лучше, чем ничего.
В дверном проеме появился Садовник. Он посмотрел на стену, прикрытую шторкой, перевел взгляд на девочку и кивнул. Затем достал из кармана небольшой пульт, и через минуту по обе стороны от входа опустились стены.
– Как она?
– Без сознания, – ответила я коротко. – Ее изнасиловали. Она получила сильный удар по голове и множество других повреждений.
– При ней что-нибудь было? Вы узнали, как ее имя и откуда она?
– Нет.
Я передала ее руку Блисс и пересекла комнату. Садовник выглядел бледным и встревоженным.
– Никто ее не тронет.
– Майя…
– Никто ее не тронет. Ни крыльев, ни секса, ничего. Это ребенок.
К моему удивлению, он кивнул.
– Она будет на твоем попечении.
Данелли кашлянула.
– Она еще не приходила в себя. Может, увезти ее? Доставить в больницу или еще куда-нибудь? Она ничего не знает.
– Нет гарантий, что она не запомнила Эвери, – с трудом ответил Садовник. – Ей придется остаться.
Данелли прикусила губу и отвернулась, поглаживая девочку по волосам.
– Думаю, вам лучше уйти, – произнесла я ровным голосом. – Неизвестно, когда она очнется. Лучше бы ей не видеть в этот момент мужчин.
– Да, конечно. Скажи мне, если… если ей будет что-то нужно.
– Ей нужна мама и девственность, – съязвила Блисс. – И ей нужно домой.
– Блисс…
Она фыркнула, но замолчала, уловив предостерегающий тон Садовника.
– Скажешь, если что-то понадобится, – повторил он, и я кивнула.
Я не стала смотреть ему вслед.
Еще через некоторое время пришел Десмонд. Выглядел он совершенно разбитым.
– С ней все будет хорошо?
– Нет, – ответила я холодно. – Но жить будет.
– Слышали крик? Отец отлупил Эвери палкой.
– Ну да, ей от этого станет гораздо лучше, – проворчала Блисс. – Убирайся к черту!
– Что он с ней сделал?
– Что, по-твоему, он мог с ней сделать? Пригласил на чай?
– Десмонд, – я не стала продолжать, пока он не посмотрел мне в глаза. – Вот на что способен твой брат. Но в этом замешан каждый из вас. Поэтому сейчас тебе не следует здесь находиться. Я понимаю, что сейчас ты сам себе противен и нуждаешься в сочувствии, но я не хочу, чтобы рядом с этой девочкой был хоть один мужчина. Тебе лучше уйти.
– Я в этом не участвовал!
– Участвовал, – отрезала я. – Ты мог предотвратить это! Если б ты сообщил в полицию или освободил кого-то из нас, чтобы мы сами сообщили в полицию, Эвери не смог бы ее похитить, не избил бы ее, не изнасиловал бы. Она не оказалась бы здесь. Но теперь это будет повторяться снова и снова, пока она не умрет, еще совсем юной. Ты допустил это, Десмонд, позволил этому произойти – так что принял в этом самое непосредственное участие. Если ты никак не собираешься ей помочь, то я не хочу тебя здесь видеть.
Десмонд уставился на меня, шокированный моими словами. Потом молча развернулся и ушел.
Неужели репутация важнее, чем жизнь ребенка? Важнее, чем все наши жизни?
Блисс посмотрела ему вслед и взяла меня за руку.
– Как думаешь, он вернется?
– Мне без разницы.
В какой-то мере это была правда. Я слишком устала, и у меня уже не было сил раздумывать о никчемности Десмонда.
Примерно в два часа ночи девочка наконец-то пришла в себя. Боль обрушилась на нее волной, и она застонала. Я присела на кровать и взяла ее за руку.
– Не открывай глаза, – я старалась говорить мягко и не повышать голоса, как учила меня Лионетта. Прежде я никогда над этим не задумывалась, но с этой девочкой следовало проявить мягкость и настойчивость. София, наверное, сразу бы заметила разницу. – Я приложу тебе к лицу мокрую тряпку, чтобы снять боль.
Данелли отжала тряпку и протянула мне.
– Где… что…
– Я все тебе объясню, обещаю. Сможешь проглотить таблетку?
Она заплакала.
– Не надо, пожалуйста! Я буду смирной, обещаю, я не буду сопротивляться!
– Это всего лишь аспирин, поверь мне. Я хочу лишь помочь.
Я приподняла ей голову, положила в рот таблетку и дала запить.
– Кто вы?
– Меня зовут Майя. Я была похищена теми же самыми людьми. Но я не позволю им вновь причинить тебе вред. Они тебя не тронут.
– Я хочу домой.
– Знаю, – прошептала я, прикладывая тряпку к ее глазам. – Знаю. Мне жаль.
– Я хочу видеть, прошу вас, дайте мне открыть глаза!
Я заслонила ей глаза и убрала тряпку. Даже при таком слабом свете девочка заморгала. Глаза у нее были разного цвета: один – голубой, другой – серый; на радужной оболочке голубого были два пятнышка. Я сдвинула руку так, чтобы она могла видеть меня, и при этом ее не слепил свет от лампы.
– Так лучше?
– Больно, – пожаловалась она. Слезы стекали ей на волосы.
– Я знаю, милая. Знаю.
Девочка перевернулась на бок и положила голову мне на колени, обхватив руками за талию.
– Я хочу к маме!
– Знаю, милая, – я склонилась над ней, так что мои волосы рассыпались вокруг нее, словно заслоняли от всех опасностей, и крепко обняла, стараясь при этом не причинить боли. – Мне жаль.
Джилли на тот момент исполнилось одиннадцать. Эта девочка была примерно того же возраста, может, на год старше. Но мне по-прежнему было больно вспоминать дочерей Софии. Эта девочка была такой маленькой, такой хрупкой… Не хотелось думать так же о маленькой храброй Джилли.
Она плакала, пока снова не уснула. А когда проснулась через несколько часов, Блисс принесла нам фрукты.
– Лоррейн не приготовила завтрак, – шепнула она мне и Данелли. – Зулема и Вилла говорят, она всю ночь просидела на кухне, уставившись в стену.
Я кивнула, взяла банан и присела рядом с девочкой.
– Вот. Ты, должно быть, проголодалась.
– Не то чтобы, – ответила она жалостливо.
– Это последствия шока. Но кальций полезен для мышц – он поможет им расслабиться и немного снимет боль.
Она тяжело вздохнула, но взяла банан и откусила.
– Это Блисс, – я показала на подругу. – А это Данелли. Можешь назвать свое имя?
– Кейли Рудольф, – ответила девочка. – Я из Шарпсбурга, Мэриленд.
В прошлой жизни Джулиан говорил что-то насчет Мэриленда.
– Кейли, побудешь храброй ради меня?
В глазах ее снова заблестели слезы, но она, слава Богу, кивнула.
– Кейли, мы называем это место Садом. Нас держат здесь трое мужчин, отец и его сыновья. Они кормят нас и одевают, обеспечивают всем необходимым, но не отпускают. Сожалею, что тебя похитили и привели сюда, но я не в силах этого изменить. Не могу обещать, что ты когда-нибудь вернешься домой к своим родным.
Кейли всхлипнула, и я обняла ее за плечи и привлекла к себе.
– Знаю, это тяжело. И это не просто слова – я знаю, о чем говорю. Но обещаю, что позабочусь о тебе и не позволю им тебя тронуть. Мы здесь как одна большая семья. Иногда мы ругаемся, кто-то кому-то не нравится, но мы – семья и привыкли заботиться друг о друге.
Блисс наградила меня кривой улыбкой. Она, хоть и не в подробностях, но знала, что я росла несколько иначе. Однако мне довелось познать это в нью-йоркской квартире, а остального я набралась уже в Саду. Мы были странной, но все-таки семьей.
Кейли взглянула на Данелли и содрогнулась.
– Почему у нее татуировка на лице? – спросила она шепотом.
Данелли опустилась на колени перед кроватью и взяла Кейли за руки.
– Это еще одно обстоятельство, которое ты должна принять, – произнесла она мягким голосом. – Хочешь услышать сейчас или подождать немного?
Девочка прикусила губу и взглянула на меня неуверенно.
– Тебе решать, – сказала я. – Сейчас или позже, выбор за тобой. Если тебе от этого станет легче, то обещаю: тебя это не коснется.
Она сделала глубокий вдох и кивнула.
– Тогда лучше сейчас.
– Человек, который держит нас здесь, – мы зовем его Садовником, – заговорила Данелли. – Он считает нас своими Бабочками и делает нам на спинах татуировки в виде крыльев. Когда я только попала сюда, я думала, что если понравлюсь ему больше остальных, то он отпустит меня, и я вернусь домой. Я ошибалась, но поняла это слишком поздно, и он сделал мне крылья на лице, чтобы все видели, что я счастлива находиться здесь.
Кейли снова взглянула на меня.
– У тебя тоже такие есть?
– Да, на спине.
Она перевела взгляд на Блисс. Та кивнула.
– Но мне он их не сделает?
– Он к тебе даже не притронется.
После обеда мы вывели ее в Сад. Блисс шла впереди нас, предупреждая остальных. Обычно девушки сторонились новеньких, пока те не освоятся, но с Кейли обстояло иначе. Все, кроме Сирват, подходили к ней – по одной или парами, – знакомились и выказывали свои добрые намерения. Но самое главное – обещали, что мы все вместе будем оберегать ее. При этом отсутствие Сирват меня как-то не расстроило.
Маренка опустилась на колени и позволила Кейли потрогать свои крылья на лице, чтобы те больше не пугали ее.
– Я перейду в какую-нибудь другую комнату, и вы с Майей будете рядом, – сказала она. – Если станет одиноко или страшно, тебе не придется блуждать по коридорам. Вы будете в соседних комнатах.
– С-с-пасибо, – пробормотала Кейли.
Лоррейн сумела собраться и приготовить нам холодный ужин. При этом она все время плакала. Мне хотелось верить, что она наконец-то поняла, кем на самом деле был Садовник; что похищение ребенка привело ее в ужас; что она стыдилась своих желаний и зависти к мертвым Бабочкам. Я хотела верить в то хорошее, что в ней еще осталось. Но я не верила. Сложно сказать, что ее сломило, однако я догадывалась, что это касалось лично ее. Возможно, покупка парика – а скорее всего, тот факт, что Блисс все сошло с рук, – в конце концов, убедила ее, что Садовник ее не полюбит.
Мы поднялись с подносами на вершину скалы: там пригревало солнце и ощущался простор. У Кейли по-прежнему не было аппетита, но она поела, чтобы порадовать нас. Затем девочка увидела, как по тропе поднимается Десмонд, и прижалась ко мне. Блисс и Данелли пододвинулись поближе, так что Кейли оказалась под нашей защитой.
Десмонда бояться не стоило, но это был мужчина, и ее реакция объяснялась просто.
Он остановился на некотором расстоянии, опустился на колени, развел руки в стороны и тихо сказал:
– Я не причиню тебе вреда. Я не притронусь к тебе, даже не подойду.
Я покачала головой.
– Зачем ты пришел?
– Спросить, как ее зовут и откуда она, чтобы сделать то, что нужно.
Я начала слезать с камня, но Кейли обхватила меня руками.
– Все хорошо, – шепнула я и обняла ее. – Я просто поговорю с ним. С тобой останутся Блисс и Данелли.
– А если он поранит тебя? – всхлипнула она.
– Нет, он ничего не сделает. Со мной все будет хорошо. Я все время буду у тебя на виду.
Кейли медленно отпустила меня и обняла Данелли. Блисс обладала приятными формами, но обниматься с ней не тянуло.
Я прошла мимо Десмонда к самому краю утеса. Через мгновение он последовал за мной, остановился в паре шагов от меня и спрятал руки в карманах.
– Что ты собираешься делать?
– То, что необходимо, – ответил он. – Позвоню в полицию. Но мне нужно знать имя девочки. Ее наверняка уже разыскивают.
– Почему сейчас? Тебе уже полгода известно про нас.
– Сколько ей лет?
Я оглянулась на нее через плечо.
– Она с подругами праздновала в торговом центре свое двенадцатилетие.
Десмонд выругался и уставился себе под ноги. Носки его ботинок выступали за край скалы.
– Я пытался убедить себя, что отец говорит правду. Что он, хоть и приводит вас против вашей воли, помогает вам.
Даже теперь, глядя на эту двенадцатилетнюю девочку, он продолжал себя обманывать.
– Я хотел верить, что он подбирает вас с улиц или уводит из плохих семей, – говорил Десмонд. – Что угодно, лишь бы как-то оправдать его действия, но я не могу… Я понимаю, что ее привел сюда Эвери, а не отец, но это должно прекратиться. Ты права – я трус. И думаю только о себе, потому что не хочу разрушать свою семью, не хочу отправляться за решетку. Но эта девочка… – Он помолчал, чтобы перевести дух и справиться с избытком чувств. – Я убеждал себя, что мне необходимо набраться храбрости. Господи, каким идиотом я был… Не нужно ничего набираться. Нужно просто брать и делать то, что необходимо, как бы оно ни пугало. Поэтому я собираюсь позвонить в полицию, перечислить имена, которые знаю, и рассказать им про Сад.
– В самом деле хочешь позвонить? – спросила я.
Десмонд сердито взглянул на меня.
– Я спрашиваю, потому что не могу вернуться к этой девочке и сказать, что помощь уже близко, если ты собираешься дашь задний ход и снова спрятать голову в песок. Ты в самом деле позвонишь?
Он сделал глубокий вдох.
– Да. Я позвоню.
Я протянула руку и осторожно коснулась его щеки, чтобы Десмонд посмотрел мне в глаза.
– Ее зовут Кейли Рудольф, она из Шарпсбурга.
– Спасибо.
Он собрался уже уйти, но помедлил, развернулся и страстно меня поцеловал.
А потом ушел, не сказав ни слова.
Вернувшись к своим, я сказала:
– Остаток дня проведем в комнате. Идите без меня, я пока предупрежу остальных.
– Думаешь, он и в самом деле что-то предпримет? – спросила Блисс.
– Думаю, он наконец-то попытается. И да поможет ему Бог, если ничего не получится… Идемте скорее.
Все выглядело так, словно мы играли в прятки и этот кон был решающим. Я по очереди отлавливала девушек и велела им сидеть по комнатам. Неважно, у себя они были или нет – главное, что не в Саду: как только Садовник узнает про этот звонок, стены опустятся. И мне даже думать не хотелось о том, что произойдет с теми, кто останется снаружи. Я говорила шепотом, так как не знала, насколько чувствительны микрофоны. Возможно, Садовник уже знал о намерении Десмонда.
Элени и Изру я разыскала в пещере, Терезу – за пианино, Маренку – в своей пока еще комнате, и Равенна с Назирой помогали ей собирать рукодельные принадлежности. Вилла и Зулема сидели на кухне и наблюдали за Лоррейн: она так рыдала, что парик съехал набок. Пия была в пруду, изучала сенсоры. Одну за другой я разыскивала их и передавала новость, и они торопливо расходились.
Последней я разыскала Сирват – возле Зары. Она всем телом прижалась к стеклу и стояла неподвижно, с закрытыми глазами. Крылья на ее спине играли черными, белыми и желто-оранжевыми красками.
– Сирват, какого черта ты творишь?
Она приоткрыла один глаз, взглянула на меня.
– Пытаюсь представить, каково это.
– В ее нынешнем состоянии вряд ли она сможет тебе рассказать.
– Чувствуешь запах?
– Жимолости?
Сирват покачала головой и отошла от стекла.
– Формалина. Наш учитель по биологии помещал в него образцы для препарирования. Судя по запаху, они держат его там в огромных количествах.
– Там он проводит с нами все необходимые процедуры, – сказала я со вздохом. – Сирват, нужно возвращаться в комнату. Дело принимает серьезный оборот.
– Из-за Кейли?
– И Десмонда.
Она тронула дверь, запертую на кодовый замок.
– С формалином следует быть очень осторожным. Даже разведенный в спирте, он крайне нестабилен.
Я никогда не испытывала угрызений совести за свое отношение к Сирват. Она была ненормальная.
Но Сирват послушно двинулась за мной и свернула в свою комнату. Я бегом вернулась на вершину скалы и, вскарабкавшись на дерево, попыталась разглядеть, что творится снаружи. Но я не видела даже дом, не говоря уже о въезде в поместье. У Садовника была куча денег и огромный участок – опасное сочетание в руках психопата.
Свет лихорадочно замигал, и я поспешила вниз. Расцарапав руки и ноги, спустилась по крутому склону, пробежала сквозь водопад и устремилась в свою комнату, пока не опустились стены.
Блисс протянула мне полотенце.
– До меня только потом дошло: может, лучше было бы собраться всем вместе в Саду… Если Десмонд скажет полиции, что мы внутри, они захотят проверить это, верно? Если мы будем снаружи, нас увидят.
– Не поверишь, я тоже об этом думала, – я скинула промокшее платье и надела другое, которое носила вначале, когда Десмонд только узнал про нас. Садовник был от него не в восторге, но в тот момент меня это не волновало. Я хотела бежать, бороться, что угодно, но только не сидеть в этой крошечной комнате и ждать. – Если Садовник сумеет уболтать полицию или убедит Десмонда не звонить, как думаешь, что он сделает с теми, кто его ослушался?
– Дерьмо.
– Блисс… мне страшно, – прошептала я, села на кровать и взяла Кейли за руку; та прильнула ко мне в поисках утешения. – Ненавижу сидеть в неведении.
Мы с Маренкой как-то провели эксперимент: орали во все горло, когда пришли рабочие. Наши комнаты находились рядом, но мы ничего не услышали. Когда опускались стены, даже вентиляция перекрывалась.
Стены поднялись лишь через несколько часов. Сначала мы сидели в комнатах, слишком напуганные, чтобы выйти, – хоть и ненавидели сидеть взаперти. Потом не вытерпели и вышли в Сад – посмотреть, может, что-нибудь изменилось. И может, даже к лучшему…
* * *
– И как, оправдались надежды? – спрашивает Эддисон, когда уже ясно, что Инара не собирается продолжать.
– Нет.
Инара поглаживает маленького синего дракона. Корка на большом пальце постоянно цепляется, и она ее сдирает.
Виктор и Брэндон переглядываются.
– Возьмите пиджак.
– Зачем?
– Прокатимся немного.
– Что?.. – бормочет Эддисон.
Инара не задает вопросов. Она просто принимает его пиджак и продевает руки в рукава. И ни на секунду не выпускает дракона.
Они спускаются на парковку, и Виктор открывает перед ней переднюю пассажирскую дверь. Инара какое-то время смотрит на машину, и рот ее кривится – сложно назвать это улыбкой.
– Что-то не так?
– Если не считать поездки сюда и в больницу, и может, из Нью-Йорка в Сад, я ни разу не садилась в машину, с тех пор как взяла такси до бабушки.
– Значит, за руль вам лучше не проситься.
Она вздергивает уголки губ. Непринужденный смех и хорошее настроение, которое наконец-то установилось в кабинете, меркнут на фоне того, что им предстоит.
– Мне обязательно садиться сзади? – жалуется Эддисон.
– Мне обязательно тебя уговаривать?
– Ладно, но тогда я выбираю музыку.
– Нет.
Инара приподнимает брови, и Виктор морщится.
– Он слушает кантри.
– Прошу вас, не подпускайте его к приемнику, – вежливо просит Инара и садится.
Виктор посмеивается и ждет, пока она уберет ногу, после чего захлопывает дверцу.
– И куда мы направляемся? – спрашивает Эддисон, пока они обходят машину.
– Сначала возьмем кофе, потом – в больницу.
– Чтобы она проведала подруг?
– В том числе.
Брэндон закатывает глаза и садится на заднее сиденье.
* * *
Они подъезжают к больнице и допивают кофе; Инара предпочла чай. Все пространство перед зданием забито машинами радиостанций, вокруг толпятся зеваки. Виктор слишком долго этим занимается и поэтому не исключает, что здесь, вероятно, все, у кого когда-то пропала дочь в возрасте от шестнадцати до восемнадцати. Они пришли со свечами и фотографиями, пришли в надежде на лучшее – или даже готовы к худшему, лишь бы кошмар неведения остался наконец позади. Некоторые смотрят в телефоны и ждут звонка, которого, в большинстве своем, так и не дождутся.
– Их палаты закрыты? – спрашивает Инара и отодвигается от стекла, пряча лицо.
– Да, и находятся под охраной, – Виктор всматривается вперед в надежде, что удастся провести девушку через вход для неотложки. Но там уже стоят четыре машины скорой помощи, и вокруг них тоже толпятся люди.
– Я могу пройти мимо парочки репортеров, если надо. Не ждут же они, что я встану и начну отвечать на их вопросы.
– Вам приходилось смотреть городские новости?
Инара пожимает плечами.
– Видала мельком у «Таки», пока расплачивались за еду. У нас не было телевизора, и почти все, у кого мы зависали, ничего не смотрели – ставили себе игровые приставки или проигрыватели. А что?
– В том-то и дело, что они ждут от вас ответов, хоть и знают, что вам запрещено говорить. Они будут пихать вам под нос микрофоны и задавать вопросы личного характера, а потом поделятся вашими ответами со всеми, кто их слушает.
– Это… примерно как в ФБР?
– Сначала Гитлер, теперь репортеры, – встревает Эддисон. – Высокого же вы о нас мнения…
– Просто я не так много знаю о репортерах, чтобы опасаться их, так что не вижу в них ничего ужасного.
– Тогда идемте, если вы готовы протолкаться сквозь них, – произносит Виктор, пока не разгорелся спор. Он паркуется, обходит машину, чтобы открыть дверь перед Инарой, и предупреждает: – Они будут орать наперебой. Будут наседать, вставать у нас на пути. Камеры будут снимать со всех сторон. Кто-то из родителей будет расспрашивать о своих дочерях, захотят знать, виделись ли вы с ними. Вас будут оскорблять…
– Оскорблять?
– Всегда есть такие, кому кажется, будто жертва этого заслуживает, – объясняет Виктор. – Они идиоты, но зачастую орут громче всех. Разумеется, вы этого не заслужили, никто такого не заслуживает. Но они будут кричать об этом, потому что считают так или же просто хотят на пару секунд привлечь к себе внимание. А поскольку у нас свобода слова, мы ничего не можем с ними сделать.
– Видимо, я настолько привыкла к ужасам Сада, что отвыкла от ужасов внешнего мира.
Хановериан многое отдал бы, чтобы возразить ей. Но не произносит ни слова, потому что она права.
Они идут к главному входу, Виктор с Эддисоном шагают по обе стороны от нее. Репортеры словно срываются с цепи. Инара игнорирует их с молчаливым достоинством, смотрит прямо перед собой и даже не прислушивается к вопросам. Вдоль дорожки тянутся ограждения, вдоль которых стоят полицейские и никого за них не пускают. Двери уже близко. В этот момент особо предприимчивая журналистка пробирается под ограждением и между ног у полицейского, за ней тянется провод микрофона.
– Как вас зовут? Вы одна из жертв? – выкрикивает она, размахивая перед ней микрофоном.
Инара не отвечает, даже не смотрит на нее. Виктор знаком велит полицейскому увести женщину.
– Вы обязаны поведать общественности о том, что пережили!
Инара по-прежнему поглаживает большим пальцем дракона, но теперь смотрит на женщину, которая пытается стряхнуть с себя руки полицейского.
– Будь у вас хоть какое-то представление о деле, которое вы беретесь освещать, – произносит она тихим голосом, – вы даже не заикнулись бы о том, что я кому-то чем-то обязана.
Она кивает полицейскому и движется дальше. Репортеры кричат ей вслед, люди у входа спрашивают насчет пропавших девушек. Но как только за ними закрываются двери, все стихает.
Эддисон усмехается.
– Я думал, вы пошлете ее куда подальше.
– Мне хотелось, – признается Инара. – Но я подумала, что вы, должно быть, тоже попадаете в кадр. Не хотела, чтобы агент Хановериан потом краснел перед мамой.
– Очень смешно. Идемте.
Странно видеть в больнице столько полицейских, даже в фойе. ФБР, местная полиция, представители других департаментов, служба опеки… Все разговаривают по телефону, уставились в свои ноутбуки или планшеты. Кому-то досталось самое сложное: семьи.
Эддисон выбрасывает в ведро пустые стаканчики. Виктор между тем отыскивает глазами третьего члена своей команды. Рамирес сидит с какой-то супружеской парой. Она кивает, но не отходит от изнуренной женщины среднего возраста.
– Инара, это…
– Агент Рамирес, – заканчивает за него Инара. – Мы познакомились, прежде чем меня увезли. Она обещала проследить, чтобы врачи не вели себя по-свински.
Виктор вздрагивает. Рамирес улыбается.
– Навязчивы, – поправляет она. – Обещала, что постараюсь проследить, чтобы врачи не были слишком навязчивы. Только я думала, что тебя зовут Майей.
– Звали. Зовут, – Инара качает головой. – Все не так просто.
– Это родители Кейли, – Рамирес кивает в сторону пары.
– Она постоянно спрашивает про вас, – говорит отец Кейли. У него бледное лицо и покрасневшие глаза, но он протягивает ей руку. Инара показывает свои обожженные ладони. – Так это вы встали на ее защиту, когда она попала туда?
– Пыталась, – отвечает она уклончиво. – Ей, конечно, не повезло, что она попала туда. Но повезло, что она пробыла там совсем недолго.
– Мы хотели попросить, чтобы ее перевели в отдельную палату, – добавляет жена сквозь слезы; в руках у нее рюкзак с котенком Хелло Китти и несколько носовых платков. – Она такая маленькая, а врачи задают такие личные вопросы…
Она замолкает, и ее муж продолжает за нее.
– Она запаниковала. Сказала, что если вас нет, то она останется с…
– Блисс и Данелли?
– Точно. Я… не понимаю почему…
– Ей через многое пришлось пройти, – мягко произносит Инара. – Это ужасно. Кейли пробыла там совсем немного, но в эти несколько дней она была не одна. Мы втроем постоянно были рядом, и не только мы. Ей спокойнее с теми, кто знает, через что ей пришлось пройти. Скоро ей станет лучше, – она смотрит на синего дракона у себя в руках. – Это не значит, что она не рада вас видеть. Это не так. Она тосковала по вам. Но если сейчас оставить ее одну, это… вызовет у нее панику. Наберитесь терпения.
– Что они сделали с нашей девочкой?
– Она сама расскажет, когда сможет. Только наберитесь терпения, – повторяет Инара. – Знаю, у вас ко мне, должно быть, миллион вопросов. Но мне нужно проведать остальных, включая Кейли.
– Да-да, конечно, – отец девочки несколько раз кашляет. – Спасибо, что помогли ей.
Женщина встает и обнимает растерянную девушку. Инара бросает на Виктора обеспокоенный взгляд, но тот лишь усмехается. Поняв, что он не собирается ее выручать, она кривится. Потом мягко высвобождается из объятий и недовольно спрашивает:
– Сколько тут еще родителей?
– Если говорить о выживших девушках, то примерно половина. Некоторые еще в пути, – отвечает Рамирес, шагая с ними к лифту. – Остальных мы известим позже, когда станет точно известно, кто есть кто.
– Да, так лучше.
– Агент Рамирес! – раздается властный голос, вместе со стуком каблуков по кафелю.
Виктор издает тихий стон. Им почти удалось пройти незамеченными.
И все-таки они с коллегами разворачиваются навстречу женщине. Инара продолжает смотреть на табло лифта, отсчитывает этажи.
Сенатор Кингсли – женщина пятидесяти лет, с черными волосами. У нее мягкие черты лица, но при этом суровый взгляд. Она в больнице с прошлой ночи, но вид у нее по-прежнему довольно свежий. Красный костюм контрастирует с ее темной кожей, маленький значок с американским флагом почти сливается с цветом.
– Так это она и есть? – спрашивает сенатор, останавливаясь перед ними. – Девушка, которую вы прятали от меня?
– Мы допрашивали ее, а не прятали, – вежливо поправляет Виктор, кладет руку на плечо Инары и разворачивает ее – мягко, но настойчиво.
Инара окидывает женщину взглядом и заставляет себя улыбнуться: фальшь в ее улыбке настолько очевидна, что Виктору не по себе.
– Вы, должно быть, мама Равенны.
– Ее зовут Патрис, – с нажимом поправляет сенатор.
– Звали, – соглашается Инара. – И будут звать. Но сейчас она еще Равенна. Мы пока не освоились во внешнем мире.
– Какого черта это значит?
Улыбка исчезает с лица Инары. Она поглаживает большим пальцем своего дракона, а через мгновение выпрямляется и смотрит женщине прямо в глаза.
– Это значит, что ей пока сложно поверить в происходящее, и вам не стоит торопить события. Мы слишком много пережили за прошедшие два дня. Мы так долго жили в чьих-то жутких фантазиях, что теперь даже не знаем, кто мы в реальности. Со временем все встанет на свои места, но сейчас ваша реальность слишком… – она бросает взгляд на группу ассистентов, стоящих на почтительном расстоянии, – …слишком публична. Вот если б вы распустили свою свиту, возможно, ей было бы легче.
– Мы лишь пытаемся докопаться до истины.
– А в ФБР разве не этим занимаются?
Женщина смотрит на нее с изумлением.
– Она – моя дочь. Я не могу просто сидеть и смотреть…
– Как все остальные родители?
Виктор снова вздрагивает.
– Вы представляете закон, миссис Кингсли. Это значит, что иногда лучше не вмешиваться в работу других его представителей.
Эддисон отворачивается и снова вызывает лифт. Хановериан замечает, как трясутся у него плечи.
Но Инара еще не закончила.
– Иногда сложно оставаться одновременно и матерью, и политиком. Думаю, она будет рада увидеться с мамой. Но, учитывая, через что ей пришлось пройти и какие еще предстоят испытания, не уверена, что она обрадуется сенатору. А теперь, если позволите, мы проведаем Равенну и остальных.
Раздается мелодичный сигнал, и девушка входит в лифт, как только открываются двери. Рамирес и Эддисон входят следом. Виктор машет им рукой, чтобы они отправлялись. Сенатор хоть и лишилась дара речи, но это не будет длиться вечно.
Она быстро приходит в себя.
– Мне сообщили, что эта женщина, Лоррейн, замешана в том, что произошло с моей дочерью. Если появится малейшее подозрение, что эта девушка как-то причастна к этому, я клянусь, что задействую все свое влияние…
– Сенатор, давайте каждый будет заниматься своим делом. Если вы хотите узнать, что произошло с вашей дочерью, то предоставьте эту работу нам, – Виктор протягивает руку и касается ее локтя. – У меня есть дочь, она немного младше Патрис. Поверьте, мне и самому приходится нелегко. Эти девушки невероятно сильны, им пришлось пройти через ад, и я сделаю для них все, что в моих силах. Но вам лучше не вмешиваться.
– А вы бы смогли? – спрашивает она резким голосом.
– Надеюсь, мне не доведется это узнать.
– Если что-то пойдет не так – я вам не завидую.
Виктор смотрит ей вслед и нажимает кнопку вызова. Пока едет лифт, он наблюдает, как Кингсли возвращается к своей команде, раздает поручения и о чем-то спрашивает. Молодые ассистенты отвечают наперебой, их старшие коллеги ведут себя более сдержанно.
Виктор поднимается на четвертый этаж. После переполненного фойе тишина кажется необыкновенной. Остальные дожидаются его. На сестринском посту разговаривают несколько врачей и медсестер. У дверей стоят вооруженные часовые, поэтому говорить стараются тихо.
Одна из медсестер машет Рамирес.
– Хотите поговорить с кем-то из девушек?
– Кое-кто хочет их проведать, – Рамирес кивает на Инару, и медсестра улыбается.
– А, я тебя помню… Как твои руки?
Инара поднимает руки, чтобы медсестра могла осмотреть их.
– С виду неплохо. Швы чистые, припухлостей нет, – бормочет сестра. – Отдираешь корки с небольших ранок?
– Немножко.
– Не надо. Тебе же хочется, чтобы они поскорее зажили? Дай-ка я перевяжу на всякий случай…
Через несколько минут руки Инары снова в бинтах, каждый палец аккуратно перевязан. Заодно медсестра осматривает другие раны, на боку и на запястье.
– Неплохо, милая, – заключает она и кладет руку ей на плечо. – Она свободна, мистер Хановериан.
Инара отдает честь, и медсестра с улыбкой отвечает тем же.
Они подходят к первой двери. Инара делает глубокий вдох и снова достает своего дракона.
– Даже не представляю, как все будет, – признается она.
Виктор треплет ее по плечу.
– Войдем и узнаем.
Полицейский у дверей смущенно переступает с ноги на ногу.
– Они все в одной комнате, еще через две двери.
– Все? – резко переспрашивает Эддисон.
– Они настояли.
– Они – это спасенные девушки?
– Да, сэр, – он снимает фуражку и приглаживает светлые волосы. – Одна из них научила меня таким словечкам, каких я и в наркопритонах не слышал.
– Видимо, Блисс, – бормочет Инара.
Она не спорит с полицейским, а проходит дальше по коридору. Виктор с напарниками шагают следом. У двери Инара кивает часовому.
– Можно мне войти?
Тот смотрит на агентов: все трое кивают.
– Да, мэм.
В палате за стеной слышны разговоры, хотя слова разобрать не удается. Когда дверь распахивается, голоса на секунду смолкают. Потом издаются радостные возгласы.
– Майя! – миниатюрная девушка с голой попой бросается к Инаре. – Какого черта, где ты пропадала?
– Привет, Блисс, – Инара гладит ее черные вьющиеся волосы и оглядывает палату.
В двуместной палате почему-то стоят четыре кровати. Те девушки, которые отделались легкими повреждениями, сидят рядом с теми, кому повезло меньше, держат их за руки или сидят в обнимку. Некоторые из родителей, самые решительные, сидят на жестких стульях возле кроватей. Но остальные стоят у противоположной стены, переговариваются между собой и не сводят глаз с дочерей.
Виктор прислоняется к стене и улыбается, глядя на девочку, которая робко пробирается между кроватями и встает рядом с остальными. Инара крепко прижимает ее к себе и улыбается. Приятно видеть эту улыбку.
– Привет, Кейли. Я видела твоих родителей.
– По-моему, я их расстроила, – шепчет девочка, но Инара качает головой.
– Просто они еще не оправились. Наберись терпения.
В течение часа Виктор с напарниками стоят у двери и наблюдают. Девушки смеются, шутят между собой или переругиваются, и время от времени утешают друг друга. Инара, хоть и без особого восторга, знакомится с родителями. Они рассказывают ей, как разыскивали своих дочерей, как верили до последнего. Инара терпеливо слушает, и приподнятая бровь демонстрирует ее отношение. Данелли хихикает так, что кардиомонитор издает сигнал.
Равенну узнать нетрудно: так, наверное, выглядела ее мама в молодости. Они с Инарой перекидываются парой слов. Хорошо бы услышать, о чем они говорят. Одна нога у нее полностью забинтована. Инара осторожно прикасается к повязкам. Виктор припоминает, что Равенна занималась танцами, и задумывается, как повреждение отразится на ее увлечении.
Некоторых из Бабочек он узнает по рассказам Инары; других пытается определить по именам, которые проскальзывают в разговорах. За исключением Кейли, которую так и не переименовали, никто не называет своего настоящего имени. Они еще не расстались с именами, полученными в Саду, и родители вздрагивают всякий раз, когда слышат их. Инара говорила, что забыть иногда проще. Виктор задумывается, удастся ли это хоть кому-то из них. А может, Инара права и они пока не готовы вернуться в реальный мир…
Хочется постоять здесь подольше, насладиться происходящим, отгородиться от ужасов последних нескольких дней. Но расслабляться пока рано. Инара еще не все увидела. И не все им рассказала.
Не все, что им нужно.
Виктор поднимает руку, смотрит на часы. Инара мгновенно переводит на него взгляд. Ее вопрос не требует слов. Хановериан кивает. Она закрывает глаза, чтобы собраться, делает глубокий вдох. Потом уверяет остальных, что скоро вернется. Она уже возвращается к двери, но Блисс хватает ее за руку.
– Много ты им рассказала? – спрашивает она прямо.
– Почти все, что имеет значение.
– А они тебе?
– Эвери мертв. Садовник, скорее всего, выживет и предстанет перед судом.
– Значит, нам все придется рассказать.
– Пришло время. Смотри на это иначе: возможно, рассказывать агентам ФБР будет легче, чем родителям.
Блисс кривит лицо.
– Ее предки в пути, – вполголоса говорит Рамирес. – Летят через Атлантику, ее отец работает учителем в Париже. То ли потеряли надежду, то ли старались ради остальных детей… Сложно сказать.
Что думает по этому поводу сама Блисс, сомневаться не приходится.
Инара обнимает на прощание Кейли и покидает палату с Виктором и Эддисоном. Рамирес остается побеседовать с родителями. Они проходят мимо пустых палат, предназначенных для девушек. И хотя там никого нет, двери по-прежнему охраняются. Еще несколько незанятых палат образуют буфер между девушками и другой частью коридора. Здесь тоже полно охраны.
Они останавливаются перед закрытой дверью. Эддисон заглядывает через маленькое окошко и бросает на Виктора странный взгляд. Тот просто кивает.
– Я подожду здесь, – говорит Брэндон.
Виктор пропускает Инару вперед и осторожно прикрывает за собой дверь.
К человеку на кровати подключено множество аппаратов, и каждый с определенной периодичностью издает слабые сигналы. Кислород поступает в легкие по трубкам, но рядом на случай крайней необходимости лежит все необходимое для интубации. Он укрыт простыней, его практически не видно под повязками, слоями мази и синтетическими пленками для заживления ожогов и предотвращения инфекций. Ожоги покрывают даже голову – кожа здесь покрыта бесцветными волдырями.
Инара делает один шаг – и застывает на месте, глядя на мужчину широко раскрытыми глазами.
– Его зовут Джоффри Макинтош, – произносит Виктор мягким голосом. – Теперь это никакой не Садовник. У него есть имя, и на нем в буквальном смысле не осталось живого места. Это уже не властелин Сада. И больше никогда им не станет. Его зовут Джоффри Макинтош, и он предстанет перед судом и ответит за все, что сделал. Этот человек больше не причинит вам вреда.
– А что с Элеонорой? Его женой? – шепотом спрашивает Инара.
– Она в соседней палате, под наблюдением врачей. Потеряла сознание в своем доме. Насколько можно судить, она ничего об этом не знала.
– А Лоррейн?
– Чуть дальше по коридору. Ее пока допрашивают. Необходимо определить, в какой мере она причастна к этому, и предъявить обвинение. Но перед этим с ней еще побеседуют психологи.
Виктор по ее губам читает следующее имя, но она молчит. Садится на стул у стены, ставит локти на колени и смотрит на мужчину, неподвижно лежащего на больничной койке.
– Мы еще никогда не видели его таким злым, – произносит она тихим голосом. – Даже когда Эвери выводил его из себя. Он был в бешенстве.
Виктор протягивает ей руку и пытается скрыть удивление, когда Инара принимает ее.
– Таким его еще никто из нас не видел.
* * *
Они втроем стояли в другом конце Сада, недалеко от входа. Садовник был просто вне себя. Он орал на Десмонда; рядом стоял Эвери, и вид у него был самодовольный. Он, видимо, решил, что отец уже не злится на него из-за Кейли.
Я не стала приближаться, сначала осмотрелась. В Саду кто-то побывал, это не вызывало сомнений. На песке были видны отпечатки ботинок, некоторые растения примялись, а на берегу ручья кто-то выбросил обертку от жвачки. Может, полиция и не искала ничего толком? Или их убедили отговорки Садовника?
– Стены, – прошептала Блисс. – Если он опустил все стены, они, должно быть, так ничего и не узнали. По бокам от входа тоже есть направляющие.
Выходит, они искали, но не смогли нас найти.
Десмонд все-таки позвонил.
У меня сердце кровью обливалось. Мне хотелось испытать за него гордость, но я думала лишь о том, как же долго он тянул с этим. Он знал, что нас похищали; знал, что нас насиловали, убивали и держали в стеклянных контейнерах. Но этого было недостаточно. Только изнасилованная и избитая девочка убедила его.
– Это неправильно! – закричал он, когда отец замолчал, чтобы перевести дух. – Приводить их сюда, держать их здесь, убивать их – это неправильно!
– Не тебе это решать!
– Это противозаконно!
Отец ударил его с такой силой, что Десмонд попятился и упал.
– Это мой дом и мой сад. Здесь я устанавливаю законы, и ты их нарушил.
Эвери радостно засмеялся, как мальчишка у рождественской елки, и скрылся. Он вернулся через пару минут с бамбуковой палкой. Вероятно, той самой, которой отец отлупил его днем раньше. Серьезно, принес палку. Кто, черт возьми, бьет своих взрослых детей палкой? И вообще, кто бьет детей палкой? Но Эвери протянул ее отцу, а затем схватил младшего брата и сорвал с него одежду, оголив ему спину и задницу.
– Это ради твоего же блага, Десмонд, – произнес Садовник и закатал рукава. Десмонд дернулся, но Эвери крепко держал его за шею.
Мы стояли и смотрели, как Садовник хлещет своего сына. Я прижала к себе Кейли, чтобы та не видела. Палка оставляла красные полосы, и они быстро распухали. А Эвери с каждым новым ударом подбадривал отца, больной урод… Десмонд продолжал вырываться, но ни разу не вскрикнул, как бы больно ему ни было. Садовник считал вслух. После двадцатого удара он отбросил палку.
Эвери уставился на него.
– И это всё? – изумился он. – Ты дал мне столько же за то, что я обжег эту сучку!
Я тронула бедро и почувствовала мясистый шрам, оставшийся после того случая. И он оценил это в двадцать ударов палкой?
– Эвери, не лезь!
– Ну нет! Из-за него мы могли попасть за решетку, возможно, в камеру смертников. И ты даешь ему двадцать ударов? – Он отшвырнул Десмонда на песок и поднялся. – Он едва не разрушил все, над чем ты трудился тридцать лет. Он не хочет называться твоим сыном, он отвернулся от тебя!
– Эвери, я сказал…
Эвери достал что-то из-за пояса, и уже не имело значения, что там сказал ему отец.
У него в руке был пистолет.
– Все достается ему! – закричал он, указывая пистолетом на брата. – Твой миленький Десмонд… Он даже не помогал тебе обустраивать Сад, а ты так им гордился. «Бабочки любят его», «он не причиняет им вреда», «он их понимает»… Кого это волнует? Я тоже твой сын, старший сын. Вот кем ты должен гордиться.
Его отец поднял руки и уставился на пистолет.
– Эвери, я всегда тобой гордил…
– Нет, ты всегда был в ужасе от меня. Даже я могу заметить разницу.
– Эвери, прошу тебя, положи пистолет. Такому здесь не место.
– Такому здесь не место, – передразнил Эвери отца. – Ты говорил так обо всем, чего я хотел!
С тяжелым, болезненным стоном Десмонд перевернулся на спину и приподнялся на локтях.
Раздался выстрел.
Десмонд вскрикнул и снова повалился на тропу. Задранная футболка мгновенно пропиталась кровью. Садовник захлебнулся криком и бросился к сыну. Вновь прозвучал выстрел. Он упал на колени, схватившись за бок.
Я перепоручила Кейли Данелли и знаком велела спрятаться за камень.
– Сидите здесь, – прошипела я.
Блисс схватила меня за руку.
– Он того стоит?
– Может, и нет, – призналась я. – Но он позвонил.
Блисс сокрушенно покачала головой и выпустила меня. Я побежала к Десмонду. Практически добежала, но Эвери схватил меня за волосы и оттащил назад.
– А вот и сама сучка, маленькая королева Сада…
Он с такой силой ударил меня пистолетом, что в ушах зазвенело и по щеке потекла кровь. Эвери отшвырнул пистолет, повалил меня на колени и стал расстегивать ремень.
– Что ж, теперь я король Сада, и ты выразишь мне свое почтение.
– Сунь, только попробуй, – и я отгрызу тебе его, – прорычала я, и Блисс тоже что-то прокричала из-за камня.
Эвери снова ударил меня, а потом еще раз. Занес руку для следующего удара, но его остановил голос Назиры:
– Сирены! Слышите?
Я ничего не слышала – у меня в голове стоял колокольный звон. Но некоторые из девушек соглашались с Назирой. Сложно было сказать, то ли они пытались отвлечь Эвери, то ли в самом деле что-то слышали.
Эвери отшвырнул меня и побежал через Сад к вершине скалы, чтобы осмотреться. Я подползла к Десмонду. Он пытался зажать рукой рану на груди. Я убрала его руки и сама накрыла рану. Кровь толчками потекла по моим ладоням, теплая и густая.
– Не умирай, пожалуйста, – прошептала я.
Десмонд слабо сжал мою руку, не пытаясь ответить.
Садовник застонал и подполз к сыну с другой стороны.
– Десмонд? Десмонд, ответь!
Тот приоткрыл глаза – бледно-зеленые, как у отца.
– Если хочешь защитить их от него, позволь им уйти, – простонал он; по лицу его струился пот. – Он убьет их одну за другой, заставит их страдать…
– Десмонд, только не теряй сознания, – взмолился Садовник. – Мы доставим тебя в больницу, что-нибудь придумаем… Майя, не прекращай зажимать!
Я и не прекращала.
Но теперь я тоже слышала сирены.
Эвери скакал на вершине скалы и орал. Девушки сбежали вниз и сгрудились вокруг нас – должно быть, решили, что рядом с Садовником и Десмондом безопаснее, чем со взбешенным Эвери. К нам примкнула даже Лоррейн, и никто не пытался прогнать ее. Блисс дрожащими руками подняла пистолет, не спуская глаз с Эвери.
Сирены становились громче.
* * *
– Понятия не имею, почему они вернулись, – шепотом произносит Инара, сжимая его руку. – В первый раз они ведь ничего не обнаружили? Иначе Садовник не поднял бы стены.
– Кое-кто из офицеров в участке просматривал список имен, которые Десмонд назвал по телефону. Кейли он вспомнил, поскольку она пропала не так давно. Но некоторые имена значились в списках ФБР. Их начальник отдела связался с нами, и мы встретились с ними в пути. Кэссиди Лоуренс, к примеру, пропала почти семь лет назад в Коннектикуте. Между ней и Кейли прослеживалась явная связь, иначе не было причин называть их имена в одном ряду.
– Выходит, Лионетта отчасти помогла найти нас? – спрашивает Инара со слабой улыбкой.
– Выходит, что так.
Некоторое время они молча смотрят на мужчину, лежащего на кровати.
– Инара…
– Да, окончание истории.
– Надеюсь, больше вам не придется отвечать на эти вопросы.
Она пожимает плечами.
– Мне еще придется дать показания в суде.
– Мне жаль, правда. Но чем это все закончилось?
* * *
Сирват, будь она проклята.
Садовник вынул из кармана маленький пульт и нажал несколько кнопок.
– Сирват, беги в комнату возле выхода и принеси несколько полотенец и резиновых трубок.
– Это та, возле которой Зара?
– Да, она.
Ее губы медленно растянулись в улыбке. Она со смехом побежала выполнять поручение. Сирват пробыла там полтора года, и всегда была нелюдимой и… какой-то странной.
Садовник сдвинул ремень таким образом, чтобы зажать рану на боку. Он гладил сына по голове, умолял его не терять сознание, задавал вопросы и просил его ответить. Дес время от времени сжимал мне руку. Он по-прежнему дышал, но не пытался заговорить. Я решила, что так оно и к лучшему.
– Когда мы его перевяжем, вы позволите нам вынести его? – спросила я.
Садовник поднял на меня глаза. Он смотрел сквозь меня и даже теперь, казалось, выбирал между Бабочками и сыном. В конце концов он кивнул.
Потом я почувствовала запах и оцепенела.
Данелли тоже почувствовала и сморщила нос.
– Что это?
– Формальдегид, – прошипела я. – Надо убраться подальше от этой комнаты.
– Какой комнаты?
Садовник побледнел еще больше.
– Идемте, не задавайте вопросов.
Мы потащили Десмонда по песку; Садовник, пошатываясь и спотыкаясь, плелся за нами. Мы прошли сквозь водопад – Блисс вталкивала тех, кто осторожничал и боялся намочиться – и собрались в пещере.
Сквозь шум водопада мы услышали смех Сирват. А потом…
* * *
Инара качает головой.
– Сложно описать этот взрыв. Он был страшной силы, нас обдало жаром и оглушило. С вершины скатились несколько булыжников, но пещера, вопреки моим опасениям, не обрушилась. Начался пожар, осколки стекла были повсюду. Брызги от водопада испарялись прямо в воздухе. Сквозь разбитую крышу в Сад хлынул воздух, и языки пламени устремились вверх. Дым повалил наружу, и вместе с ним на свободу вылетали обыкновенные бабочки. Но все равно дым был такой густой, что мы едва могли дышать. Нужно было выбираться.
– Вы пошли по ручью?
– Да, пока не подошли к пруду. Стекло резало ноги, но повсюду был огонь, и мы старались держаться воды. Со стороны входа Сад был охвачен пламенем. Я спросила Садовника… – она с трудом сглатывает и смотрит на человека, лежащего на койке. – Я спросила мистера Макинтоша, есть ли там запасной выход, другой путь наружу. Но он сказал, что… не предполагал, что такое может случиться.
Она поворачивает руку в ладони Виктора и пальцем подлезает под повязку. Тот мягко отводит ее руку.
* * *
Огонь распространялся очень быстро. Крыша треснула, и сверху сыпались крупные осколки стекла. Вилла увернулась от одного, но следующий пробил ей голову. Было видно, что пламя пробирается и во внешний сад.
Садовник покачал головой и оперся о Хейли.
– Если огонь доберется до помещения с удобрениями, будет второй взрыв, – сказал он хриплым голосом.
Многие из девушек между тем плакали.
Я пыталась найти выход, хоть какой-то способ выбраться.
– Скала, – сказала я. – Если выломать стекло из стены, мы сможем выбраться на крышу над коридорами.
– А потом? Съехать по разбитой крыше во внешний сад и переломать себе все кости?
– Отлично. Что ты предлагаешь?
– Придумать что-нибудь.
Десмонд хмыкнул и сразу же застонал.
Пия вдруг закричала, и мы разом обернулись. Позади нее стоял Эвери, перехватив ее за шею обожженной рукой. В плечо ему воткнулся осколок стекла, лицо было в мелких порезах и покрыто копотью. Пия попыталась вырваться. Он рассмеялся и укусил ее за шею.
– Эвери, отпусти ее, – простонал Садовник.
Сквозь рев пламени мы услышали, как хрустнула ее шея.
Эвери отшвырнул мертвое тело. В следующий миг раздался хлопок, и его самого отбросило. Я обернулась: Блисс встала, широко расставив ноги, и снова спустила курок. Эвери взревел от боли и бросился на нас. Блисс выстрелила еще дважды, прежде чем он наконец упал, зарывшись лицом в цветы.
Одно из деревьев, охваченное огнем, треснуло почти у самого корня и с грохотом ударилось о стену. Стекло разлетелось, металлические планки согнулись под весом дерева, и черная стена, разделявшая сад на две части, обрушилась. Внешний сад был теперь виден сквозь языки пламени.
– У меня по-прежнему никаких идей, – сказала Блисс, задыхаясь от дыма. – Серьезно, придумай что-нибудь.
– Иди к черту, – пробормотала я. Она слабо ухмыльнулась.
Я стопой зацепила Равенну за ногу, подтянула к себе и велела зажать рану на груди Десмонда. Мы столько его перемещали, вряд ли это пошло ему на пользу. Я должна была хотя бы попытаться. Десмонд попытался бы, даже если б ничего вышло. Мы тоже могли попытаться.
Мне не хотелось, чтобы он умер. Теперь, когда он наконец-то подарил нам шанс…
Я подбежала к поваленному дереву и принялась разгребать крупные осколки и сломанные ветки. Боль пронзала руки. Но если у нас был хоть какой-то шанс на спасение, я не могла не попытаться. Гленис и Маренка стали мне помогать, потом к нам присоединилась Изра. Мы пытались расчистить участок вокруг ствола. Разобрав завал с одной стороны, мы все вместе стали тянуть и толкать, и нам удалось продвинуть поваленный ствол во внешний сад.
Маренка выдернула у меня из руки осколок и отбросила в сторону.
– Кажется, я знаю, как нам его вытащить.
– Давай попробуем.
Она ухватила его под мышками и приподняла. Я встала у него между ног и взяла под колени. Не сказать, что было это очень изящно, и уж точно не легко. Но, так или иначе, мы гуськом пробирались наружу.
Блисс прокладывала дорогу, Данелли и Кейли шли следом. Изра держалась позади, расшвыривая в стороны падающие обломки. Садовник плелся рядом с ней. Он был не в том состоянии, чтобы кому-то помочь, но подгонял остальных, напуганных и парализованных. Дым становился гуще, все мы задыхались. Во внешнем саду двигались какие-то фигуры. Внезапно по стеклу сверху вниз побежала трещина – кто-то обрушил на него топор. Мы остановились и стали ждать, удастся ли им пробиться. Последовало еще несколько ударов, и стекло наконец лопнуло. Обухом топора спасатель выбил из рамы остатки стекла и накрыл осколки тяжелым брезентом.
– Быстрее! – крикнул он – или она? – сквозь маску.
Подбежали еще два спасателя и приняли Десмонда у нас из рук. Не сказать, что снаружи было свежо, но впервые за долгое время мы вдохнули наружный воздух. Те из нас, кто пока не плакал, не сдержали слез, когда ступили на хрусткую осеннюю листву и ощутили дуновение ветра. Некоторые попадали на колени, и их пришлось оттаскивать.
Как только унесли Десмонда, я попыталась сосчитать нас и заметила, что Изра занята тем же. Мы пытались определить, кто из нас дожил до этого момента. Потом раздался этот… хлопок. Какую-то из комнат разнесло взрывом. На моих глазах Изру, объятую пламенем, отбросило в сторону. Она увлекла за собой еще трех жмущихся к ней девушек. Садовник лежал на земле, одежда на нем горела. Я бросилась к девушкам, но кто-то из спасателей обхватил меня за талию и оттащил прочь.
* * *
– А потом – скорая, больница и комната, где мы с вами встретились, – вздыхает Инара. – Вот и всё. Конец истории.
– Не совсем.
Она закрывает глаза, подносит к щеке маленького синего дракона.
– Мое имя.
– У Садовника теперь есть имя. Неужели ваше собственное настолько пугает вас?
Инара не отвечает.
Виктор встает и жестом просит ее подняться.
– Пойдемте. Осталось еще кое-что.
Они выходят в коридор. Эддисон, разговаривая с криминалистом в ветровке, бросает на них хмурый взгляд. Хановериан ведет Инару в палату, расположенную напротив. В этот раз он сам подводит ее к кровати: она узнает лежащего там человека, и у нее перехватывает дыхание.
Десмонд медленно открывает глаза, сонный после обезболивающего. Но на губах его появляется слабая улыбка.
– Привет, – шепчет он.
Инара беззвучно шевелит губами, прежде чем к ней возвращается голос.
– Привет.
– Я сожалею.
– Нет… нет, ты… сделал, что следовало.
– Но должен был сделать гораздо раньше.
Он пододвигает руку, и за ней по простыне тянется пластиковая трубка с иглой, введенной под кожу.
Инара делает движение навстречу, сжимает и разжимает кулак, и только потом касается его руки. Она смотрит на него с приоткрытым ртом, ее нижняя губа дрожит.
Десмонд снова закрывает глаза. То ли уснул, то ли потерял сознание.
– Он еще слаб, – тихо говорит Виктор. – Пройдет еще много времени, прежде чем он оправится. Но врачи говорят, что худшее уже позади.
– Его тоже обвинят? – спрашивает она шепотом; глаза у нее странно блестят, но слезы не текут. Зажав в ладони синего дракона, Инара скрещивает руки на животе – защитный жест, в котором уже нет необходимости. – Или привлекут, как свидетеля?
– Тут мы бессильны. Может быть, в его отношении допустят какие-то поблажки, но…
– Но ему следовало позвонить на полгода раньше, и скоро все об этом узнают.
Виктор чешет голову.
– Признаюсь, я ожидал, что вы обрадуетесь, увидев его живым.
– Я рада. Просто…
– Все не так просто?
Она кивает.
– Было бы лучше, если б ему не пришлось осознавать последствий собственной трусости. Он сделал не так много, и сделал это слишком поздно, но все-таки сделал то, что следовало. А теперь его осудят за то, что он медлил… Он мог бы умереть храбрецом, но останется жить трусом.
– Значит, все было не всерьез?
– Ровно настолько, чтобы остались шрамы. Так что не совсем всерьез. Да и разве могло быть?
– Ему, скорее всего, предъявят обвинение. И вам, вероятно, придется дать против него показания.
Она не отвечает и продолжает смотреть на молодого человека.
Виктор не уверен, нужны ли тут слова.
– Инара…
– Инара! – доносится из коридора женский голос. – Ина… да вижу я ваш бейдж, бестолочь. Но там мои близкие! Инара!
Слышны звуки борьбы. Потом дверь распахивается, и на пороге возникает женщина лет тридцати, среднего роста. Потускневшие каштановые волосы выбиваются из прически.
Инара замирает на полуобороте, широко раскрывает глаза.
– София? – произносит она едва слышно.
София забегает в комнату, и Инара бросается ей навстречу. Они сжимают друг друга в объятиях, так что хрустят суставы, и покачиваются из стороны в сторону.
София? Та, что заботилась о них в квартире? Как она вообще узнала, что Инара здесь?
В палату входит Эддисон, красный от злости, и смотрит на женщину. Затем протягивает Виктору простой блокнот в черной обложке.
– Это нашли в секретном ящике его стола. Криминалисты просмотрели имена и обнаружили кое-что.
Виктор не хочет этого знать, но такая у него работа. Он отводит взгляд от Инары и Софии. Смотрит на зеленый стикер, которым отделены примерно две трети дневника, и отлистывает на несколько страниц назад.
С фотографии на него смотрит напуганная девушка с заплаканными глазами. Она ссутулилась, руки у нее приподняты, словно ее сфотографировали в тот момент, когда девушка пыталась прикрыть обнаженные груди. Рядом – фотография со спины, с новыми крыльями. На снимке снизу – те же крылья, но уже в витрине, края немного смазаны под стеклом. На свободном месте написаны два имени: «Лидия Андерсон», и снизу – «Сиобан. Шашечница мексиканская». И две даты с разницей в четыре года. Почерк явно принадлежит мужчине.
На другой странице – еще одна девушка. А на следующей – которая со стикером – только две фотографии. И снизу только одна дата. На фотографии – красавица с каштановыми волосами и внимательными карими глазами. Подпись внизу гласит…
– София Мадсен, – читает Виктор вслух, с недоумением в голосе.
Женщина смотрит на него через плечо Инары и договаривает за него:
– Лара.
– Как…
– Никто не заговаривал бы о сбежавшей Бабочке, если б никому это не удалось, – произносит Инара, зарывшись лицом в волосы Софии. – Это было бы слишком тяжело.
– Это не миф. Вам… удалось сбежать?
Они одновременно кивают. Эддисон хмурится.
– Специалисты проверили имя, оно оказалось в списке сотрудников «Вечерней звезды». Мы отправили людей в ресторан и двум указанным адресам, но ее там не оказалось.
– Конечно, не оказалось, – язвительно отвечает София. – Откуда мне там взяться, если я уже была в пути?
Она чуть отстраняется от Инары. Не отпускает ее, но делает шаг назад, чтобы оглядеть ее. На Софии поношенная и слишком свободная футболка. Широкая горловина съехала на плечо, так что видны бретелька бюстгальтера и кончик крыла. Краска потускнела, и контуры стали размытыми, поскольку София за это время прибавила в весе.
– Таки увидел по новостям, как тебя ведут в больницу, и бросился к нам в квартиру, чтобы сказать всем. Потом они позвонили мне, и… Ох, Инара!
Та задыхается в объятиях Софии, но не пытается высвободиться.
– Ты как? – спрашивает София.
– Жить буду, – тихо, даже застенчиво отвечает Инара. – Больше всего пострадали руки, но и они скоро заживут.
– Я не только об этом спрашиваю – и могу спросить. Я теперь живу отдельно, так что мне не обязательно соблюдать правила.
Улыбка озаряет лицо Инары, и от растерянности не остается следа.
– Тебе вернули девочек!
– Да, и они очень обрадуются, когда увидят тебя. Они так по тебе тосковали… И говорят, что никто не читал им лучше, чем ты.
Эддисону плохо удается замаскировать смех под кашель. Инара бросает на него кислый взгляд.
Виктор с некоторым облегчением отмечает, что девушка и сейчас отвечает уклончиво. Значит, она ведет себя так со всеми. Хановериан покашливает, привлекая к себе их внимание.
– Не хочу прерывать, но придется задать вам несколько вопросов.
– Он всегда так, – ворчит Инара.
София лишь улыбается.
– Это его работа. Только вот…
Она бросает взгляд в сторону кровати. Десмонд никак не реагирует на происходящее.
– Может, выйдем?
Виктор кивает, и они выходят из палаты. В коридоре перед палатой, где собрались Бабочки, стоит сенатор Кингсли, совершенно одна, и старается успокоить дыхание. На ней теперь лишь блузка и юбка. Она старается придать себе непринужденный вид, но выглядит просто напуганной. Кажется, что пиджак для нее, как помада для Инары, помогает оградиться от внешнего мира.
– Как по-вашему, она войдет? – спрашивает Инара.
– Рано или поздно, – отвечает Виктор. – Когда осознает, что к такому невозможно подготовиться.
Он заводит их в незанятую палату между Бабочками и семьей Макинтош. Здесь им по крайней мере никто не помешает, и перед дверью на всякий случай становится полицейский. Инара и София садятся рядом на кровать – лицом к двери, чтобы видеть любого, кто войдет в палату. Виктор садится напротив них. Эддисон, оставшись на ногах, начинает расхаживать по палате, и это нисколько не удивляет его напарника.
– Мисс Мадсен, – произносит Хановериан. – Не хотите начать?
– Вам бы хотелось сразу перейти к делу, правда? – София мотает головой. – Прошу прощения, но не сейчас. Мне пришлось ждать дольше, чем вам.
Виктор несколько раз моргает, потом кивает.
София берет Инару за руку, накрывает ладонью.
– Мы думали, тебя настигло что-то из прошлого. Думали, ты сбежала.
– Было бы вполне логично, – соглашается Инара.
– Но твоя одежда…
– Всего лишь одежда.
София снова мотает головой.
– Если б ты сбежала, то забрала бы деньги. Мы с Уитни, кстати открыли для тебя счет. Нам было не по себе оттого, что вся твоя наличность лежит в квартире.
– София, если ты сейчас ищешь в этом свою вину, то зря стараешься. Мы все от чего-то скрывались. И все знали об этом. И не задавали вопросов, если кто-нибудь исчезал.
– А следовало бы. И так все совпало…
– Откуда вам было знать?
– Что совпало? – спрашивает Виктор.
– То мероприятие, на котором Садовник… мистер Макинтош…
София издает удивленный возглас.
– Так у него есть имя. То есть, оно, конечно, должно быть, но… так странно.
– Тот вечер в ресторане, – продолжает Инара. – Я никому не сказала, что с мистером Макинтошем что-то не так. Только про стычку с Эвери. Но потом мы притащили домой эти крылья…
– Я напилась почти до беспамятства, – добавляет София с мрачным видом. – Ощущение было такое, будто я снова оказалась в этом аду.
– Я вывела ее на пожарную лестницу подышать, и она все мне рассказала.
– Никому не рассказывала до того дня.
– Почему? – спрашивает Виктор и краем глаза замечает, как Эддисон замер посреди палаты.
– Во-первых, потому что и рассказывать-то было нечего. Я не знала его имени, не знала, где находится поместье. Я была так напугана, что не замечала ничего вокруг. У меня были только крылья, а в животе подрастал зародыш. Если б я рассказала свою историю в полиции, там решили бы, что я напилась или закайфовала, или загуляла и теперь пытаюсь избежать последствий. Родители подумали именно так.
– Вы вернулись к родителям?
София кривит лицо.
– Они меня выставили. Сказали, что я их позорю. Мне было девятнадцать, и я была беременна. Мне некуда было идти и не от кого ждать помощи.
Эддисон присаживается на край кровати, занятой Виктором.
– Так, значит, Джилли от Садовника?
– Она моя, – со злостью отвечает София.
Эддисон вскидывает обе руки.
– Но он ее отец.
София глубоко вдыхает, и Инара пододвигается к ней, чтобы успокоить.
– Это вторая причина, почему я ничего не рассказывала. Если б он узнал об этом, я бы могла потерять дочь. Суд ни за что не позволил бы ей остаться с наркозависимой проституткой, если она могла жить в состоятельной и уважаемой семье. Когда служба опеки отобрала моих девочек, у меня хотя бы оставался шанс вернуть их. Если б он забрал Джилли, я ее никогда уже не увидела бы. И Лотта не смогла бы этого пережить. Это мои девочки. Я должна была уберечь их.
Виктор переводит взгляд на Инару.
– Разве Десмонд делал не то же самое? Разве он не защищал свою семью? Вам не очень-то понравилось это его стремление.
– Это разные вещи.
– Разве?
– Нет, и вы это знаете, – говорит она сухо. – София защищала своих детей. Ни в чем неповинных детей. Они не обязаны страдать из-за того, что случилось. Десмонд же защищал преступников. Убийц.
– Как вам удалось сбежать? – спрашивает Эддисон.
– Мне предстоял тест на беременность, – отвечает София. – Я начала набирать вес, и меня иногда рвало после еды. Лора, наша медсестра, принесла мне тест, но ее вызвали в медпункт, и она не смогла проследить за мной. Я была в панике. Я носилась по Саду в поисках выхода, которого могла не заметить за два с половиной года. А потом увидела Эвери.
– Значит, Эвери уже знал про Сад.
– Он узнал про него всего пару недель назад. Отец дал ему код, но Эвери никак не мог запомнить его. И набирал очень медленно. В тот день я спряталась среди жимолости и наблюдала за ним. Он даже проговаривал цифры, когда нажимал кнопки. Я выждала какое-то время и тоже ввела код. Я уж и забыла, что двери можно открывать как-то иначе.
Виктор чешет щеку.
– Вы сказали об этом остальным?
София вспыхивает, но тут же плечи ее опускаются.
– Я догадываюсь, почему вы спрашиваете, – признается она. – Ведь я не пошла в полицию и тем самым оставила их умирать, верно? Но я пыталась, – она смотрит ему прямо в глаза. – Клянусь вам, я пыталась. Но они побоялись уходить. А я побоялась остаться.
– Побоялись?
– Что станет с Бабочкой, если сбежать не удастся? – спрашивает Инара, но звучит это скорее как напоминание.
– На тот момент и месяца не прошло с тех пор, как девушка по имени Эмилин осталась снаружи, когда пришли рабочие, – продолжает София. – Она попыталась рассказать им о происходящем, но Садовник, видимо, как-то уладил дело. В следующий раз мы увидели ее уже под стеклом. Не так-то просто решиться на побег, когда ты видишь, чем это может закончиться. Но вы вините меня в том, что я оставила их.
– Нет, – Виктор качает головой. – Вы дали им шанс. Вы не можете спасти кого-то против воли.
– И раз уж зашла речь, Лоррейн тоже здесь.
София смотрит на нее в изумлении.
– О, нет… Она еще жива?
Инара кивает.
– Бедная женщина, – произносит София тихим голосом. Инара косится на нее, но ничего не говорит. – Я столько времени провела на улице, среди других шлюх, но не видела женщина более несчастной, чем Лоррейн. Он любил ее, а потом вдруг перестал. И в этом не было ее вины. Можешь ее ненавидеть, если хочешь, но мне ее просто жаль. В отличие от всех нас, у нее вообще не было шансов.
– Теперь ей не суждено попасть под стекло.
– Ей уже тогда не было суждено. Что от этого меняется?
– Инара? – Все поворачиваются к Эддисону. Насколько Виктор может судить, он впервые назвал ее по имени. – Вы намеренно дали себя похитить? Это вы от нас скрываете?
– Намеренно? – хрипло переспрашивает София и вскакивает с кровати.
– Нет, я…
– Вы сделали это намеренно?
– Нет! Я…
Виктор не обращает внимания на вдохновенную ругань Софии и поворачивается к напарнику.
– Как ты до такого додумался? – спрашивает он, и в голове у него ураганом проносятся мысли.
Если Эддисон прав, то все может перемениться. Им не удастся спасти ее от сенатора или суда. Так далеко зайти и не сообщить в полицию? Осознавать подобную опасность – это одно, но чтобы намеренно туда отправиться… Осознанно подвергать опасности себя и, возможно, других девушек?
– Если она к этому не причастна, то что же она скрывала?
– Я прикрывала Софию! – выкрикивает Инара, хватает подругу за руку и тянет к себе; та с возгласом удивления плюхается на кровать. – Да уж, намеренно… Я что, похожа на идиотку?
– Хотите, чтобы я ответил? – усмехается Эддисон.
Инара бросает на него хмурый взгляд.
– Я не хотела вмешивать в это Софию, – произносит она уже мягче и смотрит на Виктора. – Я знаю, что мое слово значит не так уж много, но клянусь, что это правда. Я понимала, если всплывет имя Софии, и откроется правда о Джилли. Я не могла… София так старалась, чтобы вернуться к прежней жизни. Я не хотела, чтобы по моей вине у нее забрали дочь. Мне нужно было подумать.
– Над чем? – спрашивает Виктор.
Она пожимает плечами.
– Я думала, как можно оградить Софию от всего этого. Легче всего было бы спрятать блокнот, но его… И я решила, что если удастся протянуть время, удастся позвонить ей и предупредить, но…
– Вы не ожидали, что она приедет.
Она мотает головой.
– Однако вы знали про Сад, – настаивает Эддисон.
– Но не знала, что это были они, – Инара берет в руки своего маленького дракона. – При виде крыльев на нее обрушились воспоминания. Мы не говорили, как выглядели клиенты. С чего бы? К тому же они спонсировали «Мадам Баттерфляй», все казалось логичным… Я не знала.
Виктор медленно кивает.
– Однако вы знали про Сад и, когда очнулись там, не запаниковали.
– Именно так. Я пыталась проследить за Эвери, но он стал осмотрительнее. Все-таки десять лет с тех пор прошло. Я всюду искала возможность выбраться, но бесполезно. Даже пыталась разбить стекло с дерева. Без толку.
– А потом появился Десмонд.
– Десмонд? – переспрашивает София.
– Младший сын Садовника. Я пыталась… – Инара качает головой, смахивает волосы с лица. – Знаешь ведь, как Хоуп может охмурить парней, с которыми спит? Так что они в горящий дом готовы войти, если она скажет, что там осталась ее любимая цепочка.
– Да…
– Вот и я пыталась.
– О, милая, – София плечом подталкивает Инару, и на ее усталом лице появляется улыбка. – Зная тебя, могу предположить, что это не сработало.
– Не сработало.
– Он позвонил, – напоминает Виктор.
– Не думаю, что это я его сподвигла, – признается Инара. – Скорее это был Эвери.
– То есть как?
– Эвери и Десмонд не могли сосуществовать в Саду. Не уверена, что они вообще ладили, но там это обретало особое выражение, ведь речь шла об отцовской гордости и любви. Между ними шло соперничество. Эвери пошел на крайности – и Десмонд пошел на крайность в ответ. Но они оба проиграли.
– А вы выиграли.
– Сомневаюсь, что тут есть выигравшие. Два дня назад нас было двадцать три, включая Кейли. Теперь нас тринадцать. А сколько, по-вашему, вернутся к прежней жизни?
– Думаете, кто-нибудь покончит с собой?
– Думаю, рана не заживет лишь потому, что тебя спасли.
Эддисон поднимается и забирает у Виктора блокнот.
– Надо вернуть его криминалистам. Еще что-нибудь нужно, раз уж я выхожу?
– Проверь, связались ли с адвокатом семьи Макинтош. Джоффри и Десмонду он пока не потребуется, но Элеонор понадобится представитель. И проведай Лоррейн. Может, психологи уже сделали предварительное заключение.
– Будет сделано, – Эддисон кивает Инаре и выходит.
Та приподнимает бровь.
– Знаете, если посидеть с ним еще пару дней взаперти, я бы, может, увидела в нем друга.
Инара улыбается, мягко и немного натянуто, и все же это улыбка. Но она быстро сходит с ее лица.
– Что будет дальше?
– Вам еще не раз придется давать показания. Мисс Мадсен, вас это тоже коснется.
– Я предполагала. И поэтому захватила кое-какие вещи.
– Вещи? – переспрашивает Инара.
– Они в машине. Джулиан одолжил мне свой грузовик, – София улыбается и легонько подталкивает Инару. – Ты же не думаешь, что я про тебя забыла? Мы сохранили все твои вещи, и твоя кровать по-прежнему свободна. Я ведь уже говорила, что мы с Уитни положили все твои деньги на счет. Процент, должно быть, набежал приличный. И Джулиан сказал, что будет рад снова видеть тебя в ресторане.
– Вы… сохранили мои вещи? – спрашивает Инара слабым голосом.
София осторожно щиплет ее за нос.
– Ты ведь тоже моя девочка.
Инара быстро моргает, но уже не в силах сдержать слез, и с удивлением касается пальцем мокрой щеки.
Виктор тихо кашляет.
– Карусель осталась в прошлом, – произносит он мягко. – Вас ждут родные.
Инара дрожит и с шумом втягивает воздух, пытаясь собраться. Но София обнимает ее и укладывает к себе на колени. Инара плачет беззвучно, только тело вздрагивает время от времени, и слышно ее неровное дыхание. София не гладит ее по волосам – это слишком похоже на Садовника, полагает Виктор. Вместо этого она поглаживает ее пальцем по краю уха. В конце концов Инара смеется сквозь слезы и снова садится. Виктор протягивает ей платок, и девушка вытирает лицо.
– Вернуться все-таки можно? – спрашивает он.
– И всегда кто-нибудь ждет, – добавляет она совсем тихо.
– Осталось еще кое-что, вы знаете…
Инара поглаживает большим пальцем маленького синего дракона.
– Поймите, что она ненастоящая. Никогда не была. Меня не существовало, пока я не стала Инарой.
– Зато Инара может стать настоящей. Вам скоро восемнадцать, если вы говорили правду.
Она смотрит на него искоса, и Виктор улыбается.
– Вы можете на законных основаниях стать Инарой Моррисси, но только если мы узнаем ваше реальное имя.
– Ты пережила Садовника и его сыновей, – подчеркивает София. – Даже если твои родители дадут о себе знать, ты им ничем не обязана. Твоя семья здесь, в больнице, и в Нью-Йорке. Твои родители ничего не значат.
Инара медленно втягивает воздух, еще медленнее выдыхает. Снова делает вдох.
– Самира, – произносит она с дрожью в голосе. – При рождении я была Самирой Грантайр.
Виктор протягивает руку. Она какое-то время смотрит на нее. Потом кладет дракона себе на колени и пожимает ее. София берет ее за другую руку.
– Спасибо вам, Самира Грантайр. Спасибо за то, что были честны. Спасибо за то, что позаботились об остальных девушках. И за то, что проявили такую отвагу.
– И такое упрямство, – добавляет София.
Девушка смеется, лицо у нее открытое и блестит от слез. Все-таки день выдался превосходный, решает Виктор. Он не настолько наивен, чтобы думать, что все хорошо. Будет расследование, будет суд, и она не сразу оправится от этой травмы. Многие мертвы, а живым потребуются годы, чтобы приспособиться к жизни во внешнем мире.
И все-таки это славный день.
1
«Вашингтон редскинс» – американский профессиональный футбольный клуб (американский футбол).
2
Стокгольмский синдром – психологический термин, описывающий защитно-бессознательную травматическую связь, взаимную или одностороннюю симпатию, возникающую между жертвой и агрессором в процессе захвата, похищения и/или применения (или угрозы применения) насилия.
3
Bliss (англ.) – блаженство, наслаждение.
4
Большинство североамериканских бабочек не имеют устоявшегося русского названия. Здесь и далее приведены адаптированные варианты названий.
5
Пер. В. Брюсова.
6
Юнитард – обтягивающий комбинезон для занятий спортом.
7
Название популярной в США телевизионной игры.
8
Аннабель Ли – главная героиня последнего стихотворения Э. По. Рассказчик любит ее с такой силой, что даже ангелы начинают завидовать.
9
Э. По. «Сон во сне», пер. К Бальмонта.
10
Э. По. «Молчание», пер. К. Бальмонта.
11
Э. По. «Улялюм», пер. В. Топорова.