Книга: Голем в Голливуде
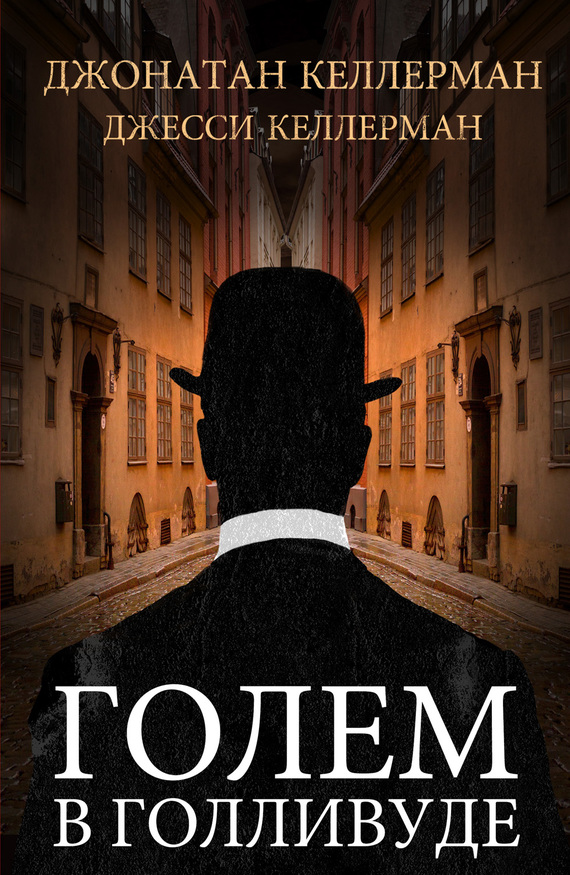
Джонатан Келлерман, Джесси Келлерман
Голем в Голливуде
© А. Сафронов, перевод, 2015
© «Фантом Пресс», оформление, издание, 2015
Прага, Чехия
Весна, 2011 год
Черед ее долго пас.
Слежка – важный и чрезвычайно приятный этап. Остаешься в тени, но умные мозги бурлят, зрение, слух и все прочее до предела обострено.
Его недооценивали. Всегда. Итон: две ночи в запертом чулане. Оксфорд: бесконечные насмешки девиц-кобылиц и жеманных парней. А еще разлюбезный папаша, глава семейства, хранитель домашней казны. Ха-ха, сынок – отменно образованный курьер.
Однако недооценить – все равно что не заметить.
Он это использовал.
Теперь – выбирай любую.
Осмотри стадо.
Отбракуй.
Яркоглазая брюнетка в Брюсселе.
Ее почти что копия в Барселоне.
Первые шаги, восхитительные сельские пейзажи, оттачивание мастерства.
Безошибочный трепет накатывал, как припадок. Спору нет, ему нравился определенный тип: темные волосы, точеные черты. Из простых, не шибко умная, не дурнушка, но вовсе не красавица.
Не дылда, но чтоб грудастая. Податливая упругость неизменно возбуждала.
Эта – что надо.
Черед заприметил ее на Карловом мосту. Уже две недели рыскал по городу, осматривал достопримечательности и ждал своего часа. Прага ему нравилась. Здесь он уже бывал и никогда не разочаровывался.
На фоне трескучих стай американских туристов в джинсе, уличных музыкантов с пропитыми голосами и не особо одаренных художников-портретистов она выделялась благопристойностью. Широкая юбка, гладко зачесанные волосы, сосредоточенный взгляд, угрюмое скуластое лицо в бликах утренней Влтавы.
Идеально.
Черед пошел за ней, но она растворилась в толпе. Назавтра он, собранный и полный надежд, опять стоял на мосту. Открыл путеводитель, перечитал раздел «Знаете ли вы?». Для крепости мостовых опор в раствор подмешивали яйца. Добрый король Карл IV повелел собрать в королевстве все яйца, и тупые слюнтяи-подданные безропотно сложили их к ногам его величества.
Знал ли это Черед?
Конечно. Он знал все, что нужно, и еще много сверх того.
Даже путеводитель его недооценивал.
Она появилась в то же время. И на другой день тоже, как часы. Три дня кряду Черед наблюдал. Аккуратистка. Отлично.
Сперва приходила в кафе у моста. Надев красный фартук, за гроши убирала посуду со столов. В сумерки перебиралась из Старого города в Новый и, сменив красный фартук на черный, в пивной, облюбованной, судя по запаху, местными, таскала подносы с кружками. В витрине красовались фото колбасок, облитых мутным соусом, который здесь добавляли во все.
Из укрытия трамвайной остановки Черед смотрел, как она туда-сюда шастает. Дважды к нему обратились на чешском, что лишний раз подтвердило его неприметность. Он ответил по-французски – мол, не понимаю.
В полночь девушка закончила уборку. Выключила свет в пивной, а через пару минут двумя этажами выше вспыхнуло желтым окно и блеклая рука задернула штору.
Значит, съемная каморка. Печальная беспросветная жизнь.
Восхитительно.
Какие варианты? Уделать в ее собственной спальне.
Заманчиво. Но Черед презирал бессмысленный риск. Перед глазами пример папаши, прожигавшего тысячи на футболе, крикете и прочих игрищах недоумков с мячиком. Состояние, копившееся веками, сгинуло в букмекерских утробах. Не очень-то он разборчив, папаша. Без конца твердил, что просадит все до последнего пенни. Дескать, сын пошел не в него и ни черта не заслуживает.
Когда-нибудь Черед все ему выскажет.
Однако к делу – незачем менять шаблон, который себя оправдал. Он уделает ее на улице, как прочих.
Какой-нибудь привилегированный гражданин свободного мира найдет под забором или за мусорным баком оболочку с остекленевшим взором.
Справа от пивной Черед осмотрел неприметную дверь с шестью безымянными звонками. Имя не играло роли. Он присваивал им номера. Так легче составить каталог. Да, в нем есть библиотекарская жилка. Эта станет номером девять.
На седьмую ночь, в четверг, Девятка, как обычно, поднялась к себе, но вскоре вышла на улицу – в руках перьевая метелка и белый матерчатый сверток.
Чуть отпустив ее, следом за ней он пересек Староместскую площадь, где было слишком людно. В Йозефове, бывшем еврейском квартале, нырнул в те́ни Майзеловой улицы.
На днях он здесь побывал, вспоминая город. В старые еврейские кварталы стоило наведаться. Он упорно протискивался сквозь гадкое скопище ротозеев, которые, внимая болтовне гидов о славянской толерантности, безостановочно щелкали камерами. На евреев в целом ему было плевать – они не вызывали безудержной ненависти. Он их презирал, как и прочие меньшинства, к которым относилось все человечество, за исключением его самого и нескольких избранных. Знакомые евреи-одноклассники были самодовольными тупицами и изо всех сил пытались перехристианить христиан.
Девушка свернула направо к ветхому желтому зданию. Староновая синагога. Чудное название вкупе с чудной архитектурой. К готике подмешали ренессанс, получилась невкусная каша из зубчатого пиньона и подслеповатых окон. Старья гораздо больше, чем новизны. Хотя в Праге старья немерено. Как шлюх. Этого добра с него довольно.
Вдоль южной стены синагоги проулок вел мимо десяти широких ступеней; дальше – закрытые ставнями магазины Парижской улицы. Может, Девятку ждала уборка в каком-нибудь бутике?
Но у подножия лестницы она свернула налево и скрылась за синагогой. В туфлях на каучуковой подошве Черец бесшумно миновал проулок и выглянул из-за угла.
Девушка взошла на небольшую мощеную террасу на задах синагоги и остановилась перед арочным входом – железной, грубо клепанной дверью. Трио мусорных баков составляло дворовый декор. Девушка встряхнула сверток и повязала ткань вокруг пояса – еще один фартук. Черец усмехнулся, представив ее гардероб, в котором только фартуки всех цветов. У нее столько скрытых обликов, и каждый новый горестнее прежнего.
Девушка подняла отставленную метелку. Встряхнула. И помотала головой, словно отгоняя сонливость.
Юная уборщица, трудяга. Две полные смены, а теперь еще это.
Кто сказал, что рабочая этика сгинула?
Можно было уделать ее прямо там, но с Парижской донесся смех хмельной парочки, и Черец медленно взошел по лестнице, краем глаза следя за девушкой.
Она достала из кармана джинсов ключ и через железную дверь вошла в синагогу. Лязгнул запор.
Под фонарем Черед занял позицию напротив темного силуэта синагоги. Пожарная лестница в кирпичной стене вела к другому арочному входу: жалкая деревянная копия железной двери бессмысленно маячила в тридцати пяти футах над землей.
Чердак. Знаете ли вы? Там всемирно известный (уж таки всемирно?) рабби Лёв сотворил голема – сказочного глиняного исполина, защитника обитателей гетто. Сам ребе удостоился памятника на широкой площади. Следя за девушкой, Черед притворился, будто фотографирует статую.
Вообще-то ужасная гадость. Глина – почти что дерьмо.
Однако легенда способствовала беззастенчивой наживе: брюхатое чудище красовалось на вывесках, меню, кружках и флажках. В одной особо гнусной забегаловке неподалеку от гостиницы Череда подавали голембургер в коричневом соусе и големвейн, способный разрушить печень.
Люди готовы платить за что угодно.
Люди – дрянь.
Теплый ветерок унес смех парочки.
Черед решил дождаться следующей ночи. Долгая прелюдия усиливает оргазм.
В пятницу вечером в Староновой было не протолкнуться. На входе стоял блондин с рацией, кое-кто из верующих перебрасывался с ним словечком. Море улыбок, свободный доступ. Ну и на кой охрана?
Однако Черед подготовился: костюм (единственный приличный, ибо папаша перекрыл кран), почти свежая белая рубашка, старый школьный галстук и очки с простыми линзами. На подходе к дверям он ссутулился, чтобы казаться ниже, и расстегнул пиджак, чтобы внутренний карман не топорщился.
Светловолосый охранник, совсем мальчишка-сосунок, заступил ему дорогу:
– Что вам угодно?
Гортанный голос, режущий ухо акцент.
– Помолиться, – ответил Черед.
– Вот как? – спросил охранник, словно это была весьма странная причина для посещения синагоги.
– Ну, воздать хвалы. Возблагодарить Господа. – Черед усмехнулся. – Вдруг поможет.
– Чему?
– В мире царит кавардак и все такое.
Охранник разглядывал Череда:
– Хотите войти в шул?[1]
Вот же упертый говнюк.
– Точно.
– Помолиться за мир?
Черед чуть сбавил обороты:
– Да, старина, и за себя тоже.
– Еврей вы?
– Иначе не пришел бы, верно?
Охранник усмехнулся:
– Пожалуйста, назвать последний праздник.
– Что?
– Недавний еврейский праздник.
Черед бешено рылся в памяти. Прошибло испариной. Он сдержался, чтобы не отереть лоб. Пауза слишком затягивалась, и Черед разродился:
– Ну, это… Пасха, да?
– Пасха, – повторил охранник.
– Выходит, так.
– Вы англичанин, – сказал охранник.
Надо же, какой догадливый. Черед кивнул.
– Пожалуйста, показать ваш паспорт.
– Не пришло в голову взять его на молитву. Охранник демонстративно достал ключ и запер входную дверь. Затем снисходительно потрепал Череда по плечу:
– Ждать здесь, пожалуйста.
Он неспешно зашагал по улице, бормоча в рацию. Кровь бросилась Черецу в голову Наглец коснулся его. Черец напружинил грудь и ощутил ношу в кармане. Костяная рукоятка. Шестидюймовый клинок. Впору тебе помолиться, приятель.
В двадцати ярдах охранник остановился перед дверью, из-за которой возник еще один страж. Они заговорили, откровенно разглядывая Череца. Пот лил градом. Иногда потливость была проблемой. Черец сморгнул каплю, щипавшую глаз. Насильно мил не будешь. Терпения ему не занимать. Не дожидаясь окончания совета охранников, он развернулся и ушел.
Однако всякому терпению есть предел. За шесть дней так и не улучив верного шанса, он был на грани безумия и решил, что все произойдет сегодня. Будь что будет, но он словит кайф.
Три часа ночи. Она была в синагоге уже больше двух часов. Черец притулился в тени лестницы и, вслушиваясь в далекие невнятные шумы вдали от еврейского квартала, вертел в руках нож. Может, она там вздремнула? Весь день в трудах, валится с ног.
Взвизгнула железная дверь.
Девятка вышла с большим пластиковым ведром и, не оглядываясь, направилась к мусорным бакам. Шумно опорожнила ведро – звякнули жестяные банки, зашуршала бумага. Черец выкинул лезвие (смазанная пружина сработала бесшумно и охотно, точно легкие наполнились свежим воздухом) и двинулся к жертве.
На полпути тихий шорох поверг его в панику.
Черец оглянулся.
Никого.
Девушка шума не слышала и сосредоточенно выгребала остатки мусора из ведра.
Поставила ведро на землю.
Потом распустила волосы, чтобы заново перевязать. Ее вскинутые руки напомнили крутобокую лиру. Прелестная, чудная форма. Вновь взыграла кровь, и Черец ринулся вперед. Но слишком рьяно – наподдал камушек, звучно заскакавший перед ним. Девушка замерла, потом резко обернулась. Рот распахнут, уже готов исторгнуть крик.
Но не успел – его накрыла ладонь Череда, который развернул девушку к себе спиной и отвердевшим членом вжался ей в ягодицы. Натруженные руки с коротко обрезанными ногтями безуспешно старались его оцарапать, но потом вмешался древний инстинкт жертвы и девушка попыталась лягнуть его в ступню.
К этому Черед был готов. Урок преподала Четверка в Эдинбурге. Ее острый каблучок порвал связку и загубил пару отличных мокасин. Теперь он широко расставил ноги. Черед ухватил девушку за волосы и запрокинул ей голову, открыв изящную выпуклость горла.
Вскинул нож.
Но девица оказалась не промах и, видимо, ногти остригала не до мяса. Она по-змеиному зашипела, и что-то ткнуло его в глаз, будто шилом пронзив глазное яблоко до самого зрительного нерва. Вспыхнули цветные искры. От боли Черед аж подавился и выпустил ее волосы, схватившись за лицо. В нем тоже сработал инстинкт жертвы.
Искаженный силуэт девушки рванул к лестнице.
Черед застонал и попытался его схватить.
Снова шипенье и снова бешеный тычок, уже в другой глаз. Ослепший от слез Черед врезался в мусорные баки и выронил нож. Он ничего не понимал. Она пальнула, что ли? Кинула чем-то? Черед еле проморгался и сквозь пелену увидел, как девушка взлетела по лестнице и скрылась за углом на Парижской. И тогда осознал надвигавшуюся катастрофу.
Она видела его лицо.
Собравшись в погоню, он с трудом встал на ноги, но сзади раздалось шипенье, и Череда пронзило дикой болью, словно кто-то огрел гвоздодером по черепушке. Он ничком рухнул на жесткую землю, и вот тогда оглушенный, но сметливый мозг подсказал: тут что-то не так, девица-то давно убежала.
Распростертый среди мусора, Черед открыл слезившиеся глаза и в полушаге от себя увидел пятно размером с монету, что черно посверкивало на булыжной мостовой.
Жук с твердым панцирем пошевелил усиками, из башки его вылез длинный черный шип.
И нацелился точно в середину Черецова лба.
Черед заорал и, отбив кошмарное острие, попытался встать, но зловещая тварь не унималась, оглушительно стрекоча крыльями. Шип колол в голову, спину, под колени и, точно электрокнут, гнал прочь от лестницы. Черед уперся спиной в стену синагоги и, свернувшись калачиком, прикрыл руками голову.
Внезапно атака оборвалась. Только тихий стрекот нарушал ночную тишину. Череда трясло. Исколотый лоб сочился кровью, она струилась по щеке и затекала в рот.
Черед выглянул из-под руки.
Жук разглядывал его, раскорячившись на мостовой.
В бешенстве Черед вскочил.
Занес ногу, чтобы раздавить тварь.
Со всей силы топнул.
Промазал.
Жук отскочил чуть в сторону и спокойно ждал.
Черед вновь топнул, потом еще и еще, и так они на пару исполнили странный злобный танец: Черед подскакивал и притоптывал, гнусная тварь издевательски кружила.
Наконец Черед очухался. Он тут гоняется за букашкой, а девка, видевшая его лицо, уже бог знает где и бог знает что рассказывает бог знает кому.
Надо сваливать. Немедля. Плевать на вещи. Поймать такси, рвануть в аэропорт и убраться восвояси. Чтоб никогда сюда не возвращаться.
Черед кинулся к лестнице и врезался в стену.
Прежде ее не было.
Глиняная стена.
Широченная, выше синагоги, она свихнувшейся раковой опухолью разрасталась вширь и ввысь, источая вонь стоялой воды, тухлой рыбы, плесени и липких водорослей.
Черед бросился назад и снова врезался в стену.
Шина, глиняные стены были повсюду, он словно очутился в глиняном городе, мегаполисе, огромном, глухом, безликом. Он взглянул вверх и увидел равнодушное беззвездное небо из глины. Всхлипнув, опустил взгляд и увидел черную, как запекшаяся кровь, землю, в которую медленно погружались его ступни. Черед закричал. Хотел выдернуть ноги, но те будто приросли к земле, хотел сбросить ботинки, но земля, поглотив лодыжки, уже добралась до голеней и взбиралась выше. Злобная горячая пустота, тесная и бесцветная, однако источавшая едкую вонь, пожирала его живьем.
Он истошно вопил, но крик булькал и умирал взаперти.
Чернота поднялась к коленям и, хрустнув чашечками, тесными чулками охватила бедра. Сам собой опростался кишечник, член с мошонкой как бы нехотя втянулись в живот, который будто сдавила подпруга, лопнули ребра и гортань, вся требуха скопилась у горла, не давая вдохнуть. Он уже не кричал.
Перед глазами в глиняной стене разверзлись две темно-красные дыры.
Они изучали его. Как некогда он – свою жертву.
Черед не мог говорить, но губы еще слушались.
«Нет», – проартикулировал он.
Ответом был тяжелый вздох.
Глиняные пальцы сомкнулись на его горле.
Когда голова его под треск шейных позвонков отделилась от туловища и миллионы нейронов дали свой прощальный залп, Черед пережил несколько чувств разом.
Конечно, боль, а вместе с ней и муку страшного озарения. Он не умер в счастливом неведении – он понял, что ничего не понимал, что все грехи ему зачтутся и по ту сторону его ждет нечто невыразимое.
Голова с раззявленным ртом взмыла в воздух, и сознание, клокоча и угасая, еще успело запечатлеть ускользавшие образы: ночное небо в барашках облаков; шафрановый свет фонарей вдоль реки; открытую дверь синагогального чердака, что покачивалась на ветру
Лос-Анджелес
Весна, 2012 год
Шатенка. Джейкоб озадачился.
Во-первых, в памяти – мало что, впрочем, сохранившей о минувшем вечере – значилась блондинка. Однако девушка в его кухоньке, залитой утренним светом, была неоспоримо темноволосой.
Во-вторых, помнилась сумбурная возня в тесной виниловой будке, но домой-то он отправился один. Но если не один и даже такие подробности стерлись, то это серьезный знак – пора завязывать.
В-третьих, гостья была умопомрачительно хороша. Его же контингент – середнячок. Ну, чуть выше среднего. Неустроенные и ранимые одаривали теплом, и близость с ними возвышалась над заурядной случкой. Просто двое сговорились сделать мир добрее.
Но такая ему не по чину. Хотя, пожалуй, можно сделать исключение.
В-четвертых, она куталась в его талес.
В-пятых, на ней больше ничего не было.
Джейкоб учуял запах кофе.
– Извините, я не помню, как вас зовут, – сказал он.
– Обидно. – Она театрально схватилась за сердце.
– Вы уж простите. Я вообще мало чего помню.
– Помнить-то особо нечего. Вы были абсолютно в норме, а потом вдруг уронили голову и вырубились.
– Похоже.
Джейкоб проскользнул к полке, взял две кружки ручной работы и закрытую банку.
– Кружки миленькие, – похвалила шатенка.
– Благодарю. Вам молоко, сахар?
– Спасибо, ничего не надо. А вы не стесняйтесь.
Джейкоб поставил на место банку и одну чашку, себе налил полкружки черного кофе.
– Ну, давайте по новой. – Он сделал глоток. – Меня зовут Джейкоб.
– Я знаю. – Чуть сползший с плеча шерстяной талес явил гладкое плечо, хрупкую ключицу и краешек груди, но девушка шаль не поправила. – Зовите меня Мая. Без «и» краткого.
– С добрым утречком, Мая.
– Взаимно, Джейкоб Лев.
Джейкоб покосился на молитвенную шаль. Сто лет не доставал ее из ящика, не говоря уж о том, чтобы надеть. Талес на голое тело – некогда счел бы кощунством. А сейчас – пончо как пончо.
И все-таки весьма странный выбор наряда. В нижнем ящике комода талес хранился вместе с забытыми тфилин[2] и кипой ненадеванных джемперов, купленных в Бостоне и получивших отставку в Лос-Анджелесе. Раз гостье приспичило нарядиться в одежду хозяина, ей пришлось сперва покопаться в комоде, где было полно вариантов получше.
– Не напомните, как мы сюда добрались? – спросил Джейкоб.
– В вашей машине. – Девушка кивнула на бумажник и ключи на столешнице. – Вела я.
– Разумно. – Джейкоб допил кофе и снова налил полкружки. – Вы коп?
– Я? Нет. С чего вдруг?
– В «187» два сорта посетителей. Копы и мочалки копов.
– Невежливо. – Карие с прозеленью глаза полыхнули. – Я просто милая девушка, спорхнула поразвлечься.
– Откуда спорхнула?
– Сверху. Откуда обычно спархивают.
Джейкоб сел напротив, однако не слишком близко. А то кто его знает.
– Как же вы затащили меня в машину? – спросил он.
– Вы, что интересно, передвигались самостоятельно и слушались моих указаний. Удивительно. Будто у меня завелся личный робот или автомат. Вы всегда такой?
– Какой?
– Послушный.
– Я бы не сказал.
– Так я и думала. Но мне глянулось командовать. В кои-то веки. Вообще-то, у меня был свой интерес. Я лопухнулась. Подруга – вот она-то коповская мочалка – свалила с каким-то придурком. В своей машине. Три часа я вас убалтывала, а теперь подвезти меня некому, заведение закрывается, и приключения мне ни к чему. На такси жалко денег. – Она лучезарно улыбнулась. – Абракадабра, и вот я здесь.
Она его убалтывала?
– И вот мы здесь.
Длинные пальцы ее тихонько оглаживали мягкий белый талес.
– Вы извините, я ночью озябла, – сказала она.
– Так надели бы что-нибудь, – ответил он и тотчас подумал: «Дубина! Не дай бог оденется».
Она потерлась щекой о плетеную бахрому:
– Похоже, очень старый.
– Дедушкин. А ему достался от его деда, если верить семейным преданиям.
– Я верю. Конечно. Что у нас есть, кроме преданий?
Она встала и скинула талес, явив божественное гибкое тело, сияющее, точно атлас.
Джейкоб машинально отвел взгляд. Черт, вспомнить бы, что было. Хоть фрагмент. Вот уж пища для фантазий на месяцы вперед. В детской непринужденности, с какой девушка оголилась, не было ни капли обольщения. Она ничуть не стыдилась своей наготы. А чего он-то засмущался? Любуйся, коль выпал случай.
Девушка аккуратно втрое сложила талес и, перекинув его через спинку стула, поцеловала кончики пальцев – привычка еврейской школьницы.
– Вы еврейка, – сказал Джейкоб.
Глаза ее позеленели.
– Всего лишь шикса[3].
– Шиксы так себя не называют, – возразил он.
Девушка насмешливо разглядывала бугор, выросший под его трусами.
– Вы зубы почистили?
– Первым делом, как проснусь.
– А вторым?
– Помочиться.
– А третьим?
– Наверное, это зависит от вас, – сказал он.
– Вы мылись?
– Лицо.
– А руки?
Вопрос ошарашил.
– Вымою, если хотите.
Она лениво потянулась всем роскошным телом. Безудержное совершенство.
– Вы симпатичный, Джейкоб Лев. Примите душ.
Не дожидаясь горячей воды, он встал под струи и яростно тер гусиную кожу. Вышел розовый, в боевой готовности.
В спальне ее не было.
В кухне тоже.
Двухкомнатная квартира – поисковый отряд не требуется.
И талес исчез.
Клептоманка с пунктиком на религиозных атрибутах?
Мог бы сообразить. Такая девушка – значит, где-то убудет. Законы вселенской справедливости требуют баланса.
Стучало в висках. Джейкоб плеснул себе кофе, уже потянулся в шкаф за бурбоном, но решил: все, завязываю, допился. Опорожнил бутылку в раковину и пошел в спальню проверить комод.
Талес уютно примостился между синим вязаным свитером и потертым бархатным мешком с тфилин. Знак любезности либо укоризны.
Поразмыслив, Джейкоб выбрал второе. Она ведь проголосовала ногами.
Милости просим в наш клуб.
Голый и растерянный, на корточках он сидел перед комодом, и тут звякнул дверной звонок.
Передумала?
Кто бы возражал.
Джейкоб кинулся к двери, на ходу сочиняя остроумную реплику, и потому был совсем не готов увидеть двух бугаев в просторных темных костюмах.
Один – светлый шатен с щеточкой ухоженных черных усов.
Другой – румяный крепыш, печальные коровьи глаза в обрамлении длинных девичьих ресниц.
Точно отставные полузащитники. Их пиджаки сошли бы за автомобильные чехлы.
Оба ухмылялись.
Здоровяки расплылись в дружелюбных улыбках, глядя на съежившийся Джейкобов член.
– Хорошо висит, детектив Лев, – сказал шатен.
– Секунду, – ответил Джейкоб.
Захлопнул дверь. Обмотался полотенцем. Вернулся.
Оба не шевельнулись. Еще бы. При таких габаритах любое движение требует уймы сил. Нужен веский повод. Никак иначе. Стоп машина. Суши весла.
– Пол Шотт, – представился шатен.
– Мел Субач, – сказал румяный. – Особый отдел.
– Не слыхал, – ответил Джейкоб.
– Показать удостоверение? – спросил Субач.
Джейкоб кивнул.
– Придется расстегнуть пиджак, – вздохнул Субач. – И вы увидите наши пушки. Переживете?
– По очереди, – сказал Джейкоб.
Субач, а за ним Шотт показали золотистые бляхи, прицепленные к внутренним карманам. В кобурах были обычные «глок 17».
– Порядок? – спросил Субач.
Вроде бы. Копы? Да. Бляхи настоящие.
И все же порядок ли? Вспомнился ответ Сэмюэла Беккета на реплику приятеля, мол, в такой славный денек хочется жить: слишком сильно сказано.
– Чем могу служить? – спросил Джейкоб.
– Не откажите в любезности проехать с нами, – сказал Шотт.
– У меня выходной.
– Дело важное.
– Нельзя ли конкретнее?
– К сожалению, нет, – сказал Субач. – Вы позавтракали? Может, закинете пару плюшек?
– Я не голоден.
– Наша машина за углом, – сказал Шотт.
– Черная «краун-вика», – уведомил Субач. – Садитесь в свою машину и езжайте за нами.
– Только наденьте штаны, – добавил Шотт.
«Краун-вика» держала умеренную скорость и аккуратно включала поворотники, дабы «хонда» Джейкоба не отстала. Джейкоб решил, что их путь лежит в голливудский отдел, где он работал до недавнего времени. Однако поворот с Вайн-стрит на север опроверг гипотезу. Они ехали к Лос-Фелису, и Джейкоб нервно ерзал.
Через семь лет службы Джейкоб был еще зелен для убойного отдела, но ему дважды повезло: во-первых, вышла директива благоволить к выпускникам колледжей, а во-вторых, ветеран, который тридцать лет высаживал по три пачки в день, как раз дал дуба, освободив теплое местечко.
С работой Джейкоб справлялся блестяще – раскрываемость у него была чуть ли не выше всех в отделе, – но два вышеозначенных обстоятельства не давали покоя капитану Тедди Мендосе. По непонятным причинам он имел на Джейкоба преогромный зуб. Несколько месяцев назад капитан вызвал его в свой кабинет и помахал манильской папкой:
– Я ознакомился с вашим отчетом, Лев. «Хлипкий» – это что еще за хрень?
– То есть хрупкий, сэр.
– Значение слова мне известно. У меня степень магистра. Вы-то этим не можете похвастать.
– Так точно, сэр.
– А каких наук магистр? На стенку не смотреть!
– Коммуникаций, сэр.
– Очень хорошо. Знаете, чему обучают на факультете коммуникаций?
– Коммуницировать, сэр.
– Совершенно, в жопу, верно! Пишите «хрупкий», если хотите сказать «хрупкий».
– Есть, сэр.
– В Гарварде этому не учили?
– Видимо, я пропустил занятие, сэр.
– Наверное, это проходят только на втором курсе.
– Не могу знать, сэр.
– Освежите мою память, умник: почему вы не закончили Гарвард?
– Не хватило силы воли, сэр.
– Хитрожопый ответ, чтоб не лезли с вопросами. Вы этого хотите? Чтоб я заткнулся?
– Никак нет, сэр.
– Да нет, хотите. Я говорил, что мой кузен прошел в Гарвард?
– Как-то обмолвились, сэр.
– Разве?
– Разок-другой.
– Значит, я сказал, что он не стал учиться.
– Так точно, сэр.
– А сказал – почему?
– Непосильная плата, сэр.
– Гарвард – дорогое удовольствие.
– Так точно, сэр.
– Вы, кажется, получали стипендию.
– Так точно, сэр.
– Глянем… Спортивная стипендия. Наверное, победили в пинг-понге.
– Нет, сэр.
– Университетский конкурс мудозвонов? Нет? За что же вам дали стипендию, детектив?
– За успехи в учебе, сэр.
– Эва!
– Так точно, сэр.
– Успехи… Хм. Видимо, кузен не достиг ваших высот.
– Не мне судить, сэр.
– Но почему вы получили, а он нет?
– Лучше спросить стипендиальный комитет, сэр.
– Успехи в учебе… Знаете, это еще паршивей, чем не получить стипендию. По мне, так хуже нет, если тебе что-то дали, а ты профукал. Это непростительно. Даже отсутствие силы воли – не оправдание.
Джейкоб смолчал.
– Доучились бы заочно. Типа общеобразовательной подготовки. В Гарварде дают такие сертификаты? Вы разузнайте.
– Разузнаю. Спасибо за подсказку.
– А пока что у нас с вами одинаковые дипломы. Университет штата Калифорния в Нортридже.
– Верно, сэр.
– Нет, не верно. В моем сказано: магистр. – Мендоса откинулся в кресле. – Ну что, переутомились, да?
Джейкоб напрягся:
– Не понимаю, с чего вы взяли, сэр?
– Потому что именно это я слышал.
– Можно узнать, от кого?
– Нельзя. Еще говорят, вы подумываете об отпуске.
Джейкоб не ответил.
– Даю шанс излить душу, – сказал Мендоса.
– Я воздержусь, сэр.
– Вымотались, что ли?
Джейкоб пожал плечами:
– Работа нервная.
– Спору нет, детектив. У меня целая свора притомившихся копов. Однако никто не помышляет об отпуске. А вы у нас как будто особенный.
– Я так не думаю, сэр.
– Черта с два, думаете.
– Как вам угодно, сэр.
– Ну вот, извольте. Вот об этой вашей манере я и говорю.
– Боюсь, я не понимаю, сэр.
– Вот опять. «Боюсь, я ля-ля-ля-ля-ля». Сколько вам лет, детектив?
– Тридцать один, сэр.
– Знаете, на кого вы похожи? На моего сына. Ему шестнадцать. А что такое шестнадцатилетний пацан? По сути, засранец. Высокомерный, упертый, сопливый засранец.
– Тонко подмечено, сэр.
– Вы хотели отпуск – вы его получили. – Мендоса потянулся к телефону. – Вас переводят.
– Куда?
– Я еще не решил. Куда-нибудь с офисными кабинками. Станете возражать?
Джейкоб не возразил. Кабинки – просто замечательно.
Вообще-то слово «переутомление» не годилось. Вернее было сказать – глубокая депрессия. Он исхудал. В изнеможении слонялся по квартире, ибо не мог уснуть, и все время путанно бормотал что-то слащавое и невразумительное.
Он хорошо знал внешние признаки недуга и умел их скрыть, прячась за штору отчужденности. Ни с кем не разговаривал, опасаясь, что в любую секунду его замкнет. Позволил зачахнуть немногим приятельствам. И постепенно стал вполне соответствовать характеристике Мендосы – выглядел снобом.
Труднее было скрыть незримую глухую тоску, что будила затемно, подсаживалась за обедом, превращая рамэн[4] в несъедобное и мерзкое червивое месиво, а вечером поправляла одеяло, усмешливо желая спокойной ночи. Она обнажала жестокую несправедливость жизни и нелепость его работы. Где уж ему справиться с мировым дисбалансом, если он в разладе с собственной душой? Своей тоской он был гадок себе и окружающим. Она была точно наследный орден Хвори с засаленной черной лентой, который надлежало раз в несколько лет доставать из шкатулки, отрясать от пыли и втайне носить, приколов на голое тело.
Сквозь заднее стекло «краун-вики» маячили два контура.
Гориллы. Тяжелая артиллерия для тяжелых случаев.
Джейкоб сдерживался, чтобы не повернуть домой. Особый отдел – изящное обозначение того, с чем лучше не связываться.
Вот что бывает, если мнишь себя особенным.
Толком-то их не проверил.
Может, послать кому-нибудь эсэмэску? Чтоб знали, куда он делся. На всякий пожарный.
Кому?
Рене?
Стейси?
Заполошное послание непременно скрасит день бывших жен.
Мистер Лучик.
Этим титулом, пропитанным ядерной насмешкой, его наградила Рене. А Стейси подхватила, когда он по дурости рассказал жене номер два о занудстве жены номер один и та прониклась сочувствием к предшественнице, «угодившей в такое дерьмо».
В конечном счете все исходит на дерьмо.
Значит, едем по адресу. Ничего нового.
Решив вопреки всему насладиться поездкой, Джейкоб откинулся на сиденье и представил Маю. Одетую. Потом не торопясь ее раздел, открывая сногсшибательно соразмерные формы. Джейкоб уже готовился сорвать талес, когда «краун-вика» резко свернула, и он повторил маневр, подскочив на ухабе.
Табличка «Одиссей-авеню» на захолустной недоулочке в два квартала выглядела претенциозно. Оптовая торговля игрушками, импорт-экспорт китайских товаров, закрытая «Студия танца», порог которой, похоже, давно не переступала ни нога, ни ножка.
«Краун-вика» подъехала к стальным подъемным дверям. Рядом на стеклянной двери значился номер 3636. На тротуаре человек в форме старшего чина лос-анджелесской полиции из-под руки разглядывал гостей. Выглядел он внушительно, под стать Субачу и Шотту, – рослый, жилистый, мертвенно-бледный; пушистые седые пучки над ушами смахивали на крылышки. Пепельно-серые брюки, ослепительно белая рубашка, в облегченной сетчатой кобуре табельный пистолет. Открывая дверцу «хонды», человек слегка нагнулся, и золотистая бляха с голубой эмалью «КОММАНДЕР», висевшая у него на шее, звякнула о стекло.
– Здравствуйте, – сказал он. – Я Майк Маллик.
Джейкоб вылез из машины и пожал протянутую руку, чувствуя себя недомерком. Росту в нем было шесть футов, но в Маллике – шесть футов и шесть дюймов самое малое.
Может, Особый отдел – это вроде паноптикума?
Что ж, тогда он им сгодится.
Бибикнув, «краун-вика» уехала.
– Уйдем с солнцепека, – позвал Маллик и проскользнул в дверь с номером 3636.
– Как по-вашему, хорошие настали времена или плохие? – спросил Маллик.
– Это, сэр, зависит…
– От чего?
– От личного опыта.
– Да ладно, вам ли не знать. Для таких, как мы, времена всегда плохие.
– Согласен, сэр.
– Как вам живется в транспортном отделе?
– Грех жаловаться.
– Вовсе нет. Это главное человеческое право.
Зябкое, как пещера, безоконное помещение. Бывший гараж. Бетонные стены изъела плесень, источавшая нестерпимо едкий запах. Никакой обстановки, имеется стеклянная дверь. Из потолочной тьмы выныривает провод, с которого криво свисает галогенная лампа.
– Над чем трудитесь? – спросил Маллик.
– Сравнительный анализ городских ДТП с участием автомобилей и пешеходов за пятьдесят лет.
– Поди, увлекательно.
– Не то слово, сэр. Прямо алмазный рудник.
– Как я понимаю, вы решили отдохнуть от убийств.
Опять за рыбу деньги?
– Я уже докладывал капитану Мендосе, что это было сказано сгоряча. Сэр.
– Чего он на вас взъелся? За обедом отняли у него кусок, что ли?
– Я бы охарактеризовал его отношение ко мне как отеческую строгость, сэр.
Маллик усмехнулся:
– Речь истинного дипломата. Во всяком случае, передо мной оправдываться не нужно. Я все понимаю. Это естественно.
«Может, меня отобрали для психолухов, в какую-нибудь экспериментальную программу? – подумал Джейкоб. – Нужна кукла для прессы, чтобы подправить репутацию лос-анджелесской полиции, заслуженно прослывшей ордой мужланов с пушками. Ой, знаете, мы подарили ему котят в мешке!»
– Да, сэр.
– Надеюсь, вы не мечтаете о карьере в транспортном отделе? – спросил Маллик.
– Могло быть хуже.
– Не могло. Не будем валять дурака, ладно? Я говорил с вашим начальством. Знаю, кто вы такой.
– И кто я, сэр?
Маллик вздохнул:
– Кончайте, а? Я вам желаю добра. Вас временно переводят.
– Куда?
– Вопрос неверный. Не куда, а к кому. Вы подчиняетесь непосредственно мне.
– Я польщен, сэр.
– Напрасно. Ваши умения тут ни при чем. Меня интересует ваша биография.
– А что именно, сэр? Я очень сложный человек.
– Скажем, национальность.
– Значит, меня переводят, потому что я еврей.
– Негласно. Официально Департамент лос-анджелесской полиции всей душой ратует за многообразие. Действует строгое правило: поручая дело, мы слепы к расе, полу, национальности и вероисповеданию.
– И реальности, – добавил Джейкоб.
Маллик улыбнулся, протянув ему бумажный клочок.
Адрес с почтовым индексом Голливуда.
– Что там? – спросил Джейкоб.
– Убийство. Повторяю, вы в моем подчинении. Дело щекотливое.
– С еврейским уклоном.
– Можно сказать и так.
– Кто жертва?
– Лучше вам составить собственное впечатление.
– Можно узнать, что такого особого в Особом отделе?
– Всяк особ, – сказал Маллик. – Иль не слыхали?
– Слыхал. Но вот про вас не слышал.
– Нашему подразделению негоже погрязать в текучке. Зато мы резвы, когда в нас подлинная нужда.
– Что мне сказать в транспортном отделе?
– Я все улажу. – Маллик открыл стеклянную дверь. На солнце его белая рубашка засверкала, точно зеркало. – Насладитесь видом.
Отыскав Касл-корт, 446, на северной окраине Голливуда (севернее водохранилища и западнее Знака), навигатор сообщил время в пути: пятнадцать минут.
Говорун соврал. Через полчаса «хонда», надсадно воя перегретым мотором, все еще карабкалась в гору, минуя дома-коробки пятидесятых годов, одни обновленные, другие в облупившейся краске. Проулки чередовались по темам: Астру, Андромеду и Иона сменяли Орлиное Гнездо, Соколиный Утес, потом Заоблачный Край, Небесная Высь и Поднебесный Пик. Свидетельства уймы застройщиков либо одного-единственного, но с синдромом дефицита внимания.
Дорога петляла и раздваивалась, цивилизация иссякала вместе с кислородом; наконец асфальт кончился и навигатор возвестил о прибытии на место.
Опять вранье. Никакого места преступления. Только бесконечная лента каменистой земли.
Джейкоб поехал дальше.
«Прокладываю новый маршрут», – сообщил навигатор.
– Да заткнись ты.
«Хонда» неуклюже переваливалась по бездорожью, чиркая пузом о камни. Дерганье и толчки отдавались в печенке, будто Джейкоба лягал неутомимый двухлетний хулиган. Боясь пропороть колеса, Джейкоб тащился со скоростью пять миль в час. На изрытой оврагами пустоши в сорняках и кустарнике не имелось ни единого ровного пятачка, пригодного для человеческого жилья. Казалось, здесь нет жизни вообще, но потом Джейкоб углядел сластолюбивую беличью пару, бесстыдно совокуплявшуюся в колючих зарослях.
Вскоре появился еще один зритель – в небе описывала круги огромная птица. Похоже, хищник. Амурной парочке грозило стать поздним завтраком.
Кто это, Орел из Гнезда? Сокол с Утеса?
Птица спикировала. Джейкоб выгнул шею, наблюдая за развитием драмы, и на секунду отвлекся от дороги. Машина подпрыгнула, перевалив через гребень, за которым открылась неглубокая впадина – пара акров иссеченной ветрами каменистой земли, с юга и востока укрытой холмами.
Серый куб восседал над городом безликой горгульей на скалистом выступе.
Приехали.
Время в пути: пятьдесят одна минута.
«Прокладываю новый маршрут», – известил навигатор.
– Достал уже. – Джейкоб отключил вруна.
Не было никакой мельтешни, сопутствующей прибытию спецов на место убийства. Ни патрульных машин, ни служебных, ни следовательского фургона, ни бригады экспертов. Лишь галстуком на ветру трепетала желтая лента на дверной ручке, а на крохотной забетонированной стоянке наискось припарковалась серебристая «тойота». На приборной панели – карточка офиса коронера. К капоту привалилась женщина.
Лет тридцати пяти или чуть больше, стройная, изящная и миленькая вопреки (а может, благодаря) носу, похожему на туканий клюв. Широко расставленные искристые угольно-черные глаза, пышная шевелюра того же оттенка, кожа цвета свежемолотого мускатного ореха. Джинсы, кроссовки и белая куртка поверх огненно-оранжевого свитера.
Джейкоб вылез из машины – женщина выпрямилась. Окликнула его, когда он приблизился:
– Детектив Джейкоб Лев?
– Собственной персоной.
Рука ее была теплой и сухой.
Беджик на нагрудном кармане извещал: «Дивия В. Дас, доктор медицины, доктор философии».
– Рад встрече, – сказал Джейкоб.
Дивия скептически качнула головой:
– Может, еще пожалеете.
У нее был индийский акцент, мелодичный и неуловимый.
– Что, скверно?
– А бывает иначе? – Она помолчала. – Правда, такого вы еще не видели.
Подобно гаражу на Одиссей-авеню, дом выглядел давно заброшенным: потеки на стенах, мышиный помет, затхлая вонь.
Но очень светлый – в этом ему не откажешь. Архитектор расстарался, и сквозь огромные окна, нынче молившие о помывке, с трех сторон открывалась панорама неба и холмов.
Внизу насмешливо подмигивал город, укрытый вуалью смога.
Джейкоб думал, что всякий квадратный дюйм Лос-Анджелеса уже давно взят с боем. Ан нет.
Идеальное место для убийства.
Идеальное место для трупа.
Или, как сейчас, для головы.
Она покоилась точно посредине гостиной, щекой на потемневшем дубовом полу.
Ровно в двух футах от нее (рядом лежала рулетка) высилась зеленовато-бежевая горка, смахивавшая на слоновью порцию прогорклой овсянки.
Джейкоб взглянул на спутницу. Дивия кивнула – дескать, можно, – и он медленно приблизился к жуткому объекту, превозмогая шум в ушах. Кое-кто из его коллег, стоя над трупом, отпускал шуточки и грыз чипсы. Джейкоб повидал немало мертвецов, расчлененных в том числе, но в первый момент его всегда шибало. Под мышками стало липко, дыхание сбилось, он сглотнул тошноту. Подавил и мысль о том, что у милого еврейского мальчика, получившего образование в Лиге плюща (ну, почти получившего), кишка тонка для работы в убойном отделе. Так, все по порядку: формы, цвета, впечатления, вопросы.
Мужчина, от тридцати до сорока пяти, национальность неясна; темные волосы, нависшие брови, вздернутый нос, на подбородке дюймовый шрам.
Обезглавливание проведено по линии, где шея переходит в плечи. Если не считать рвотную массу, пол чист. Ни крови, ни мозгового вещества, ни фрагментов кровеносных сосудов, сухожилий и мышц. Обогнув голову, Джейкоб присел на корточки и разглядел, в чем дело: шейная рана запечатана. Никаких рваных краев – кожа туго стянута, будто шнурком. Под давлением жидкости и трупных газов вздувшиеся ткани разгладились и теперь напоминали пластик. Кладезь мыслей превратился в мешок с гнилью.
Крысы его не тронули.
Джейкоб перевел взгляд на зловонную кучку в двадцати четырех дюймах слева. Она сюрреалистически поблескивала, словно прикольная имитация, выловленная в корзине с товарами за девяносто девять центов.
– Зелень говорит о желчи, характеризующей очень сильную рвоту, фонтанирующую. Я взяла образцы на анализ, а когда вы закончите, соберу всё. Хотелось, чтобы вы увидели первозданную картину.
– Фонтанирующая рвота изверглась в одну аккуратную кучку, – сказал Джейкоб.
Дивия кивнула:
– Никаких брызг, луж и сгустков.
Джейкоб встал и попятился к двери. Отдышался. Вновь посмотрел в окно.
На многие мили – небо и холмы.
– А где его остальное?
– Хороший вопрос.
– Это всё?
– Вам не угодишь, – сказала Дивия. – Спасибо, что не ступня.
– Как же он блевал, если у него желудка нет?
– Тоже прекрасный вопрос. Учитывая отсутствие брызг, можно предположить, что рвало его в другом месте, а потом рвотную массу вместе с головой доставили сюда.
– Для красоты, – сказал Джейкоб.
– Лично я предпочла бы ковер. Но о вкусах не спорят.
– Как заделали рану?
– Три из трех, детектив Лев.
– Значит, я не проглядел мелкие стежки.
– Я тоже не заметила. Конечно, надо рассмотреть подробнее.
– Кровь?
– Всё на виду.
– Я не вижу крови.
Дивия покачала головой.
– Никаких капель от двери.
– Никаких.
– И снаружи ничего.
Дивия вновь покачала головой.
– Все произошло в другом месте, – сказал он.
– Пожалуй, разумное заключение.
Джейкоб кивнул. Взглянул на голову. Открытые глаза, раззявленный рот. Век бы не видеть.
– Давно она здесь?
– Меньше суток. Я приехала в час пятьдесят ночи. Патрульный сбыл ее с рук и укатил.
– Имя его спросили?
– Крис… что-то на «х»… Хэмметт.
– Он сказал, кто его вызвал?
Дивия помотала головой:
– Мне не докладывают.
– А кто еще сюда наведывался?
– Никто.
Джейкоб не был ярым фанатом следственной процедуры, однако ситуация быстро превращалась из странной в тревожную.
Он глянул на часы: без малого десять. Дивия Дас была свежа и вовсе не походила на женщину, которая одна-одинешенька восемь часов трудилась на месте преступления.
И тоже рослая, отметил Джейкоб.
– Сейчас угадаю, – сказал он. – Особый отдел, да?
– Я исполняю любые приказы коммандера.
– Мило, – сказал Джейкоб.
– Стараюсь.
– И очень желательно, чтобы дело не получило огласку, так?
– Да, Джейкоб. Очень желательно.
– Маллик сказал, меня взяли из-за моей биографии. Что тут такого еврейского?
– Идемте, – позвала Дивия.
От заброшенной кухни без всякой утвари веяло пятидесятыми: посудные шкафчики и столешницы из дешевой древесины, покоробившейся и по краям расщепившейся. Видимо, под воздействием влаги, хотя плесенью не пахло. Наоборот, воздух казался очень сухим.
В центре самой длинной столешницы был выжжен знак.
Черные обуглившиеся буквы.

– Вам что-нибудь говорит, – сказала Дивия Дас.
Утверждая, не спрашивая.
– Цедек, – ответил Джейкоб.
– В смысле.
– В смысле «справедливость».
Джейкобу, который планировал иначе провести выходной, пришлось фотографировать место происшествия на мобильник.
– Перед вашим приездом я тут все запечатлела, – сказала Дивия Дас. – Буду рада поделиться, если у вас не выйдет.
– Премного благодарен.
Джейкоб сфотографировал голову, блевотину и знак на кухне. Из-за своей уединенности дом снаружи казался больше. Кроме кухни и гостиной в нем еще были средних размеров спальня, смежная с ванной и биотуалетом, и небольшая студия: стеллаж, грубая деревянная столешница, выступавшая из стены, и панорамное окно с видом на восточный склон.
– Еще что-нибудь? – спросила Дивия.
– Нет, забирайте.
Дивия сходила к машине и вернулась с двумя большими виниловыми сумками, отчаянно розовой и ядовито-зеленой, будто позаимствованными из реквизита мультяшного «Никелодеона». Надев перчатки, она аккуратно положила голову в пластиковый пакет и, подвернув горловину, поместила сверток в розовую сумку. Затем пластиковой лопаточкой собрала рвотную массу в контейнер с крышкой. На глянцевом полу осталось бесформенное пятно, проеденное желудочным соком. Другой заостренной лопаточкой Дивия соскребла засохшие хлопья и весь улов сложила в зеленую сумку.
– Напомните, чтоб я не ел ваши оладьи, – сказал Джейкоб.
– Много потеряете, – ответила Дивия.
Тампоном, смоченным бесцветной жидкостью, она протерла пятно. Позеленевший тампон убрала в прозрачный пакет.
Потом использовала еще парочку тампонов, на которых следов не осталось. Все тампоны отправились в зеленую сумку.
– Вам как будто и нипочем, – сказал Джейкоб.
– Ловко скрываю, – сказала Дивия. Затем усмехнулась: – Ладно, скажу правду. Это меня вырвало.
Джейкоб рассмеялся.
– Идем дальше, – сказала Дивия.
В кухне она осторожно промокнула тампоном выжженный знак.
– Вроде бы все.
– Больше ничего во всем доме?
– Гостиная, студия, спальня и ванная. Мебели и вещей нет. Я все тщательно осмотрела.
– А в туалете?
Дивия покачала головой.
– Точно?
– Абсолютно. Правда, свои посещения в рапорт не включу.
Подхватив жуткий багаж, Дивия направилась к выходу.
– Мне в некотором роде понравилось наше совместное утро, детектив Лев. Может, как-нибудь повторим?
Джейкоб осмотрел подходы к дому.
Никаких следов, отпечатков шин и прочих знаков человеческого вторжения. Бесплодная земля, блеклые камни и низкорослые растения, не избалованные влагой.
Джейкоб боком обходил дом, пока не помешал крутой обрыв. На глазок, каньон глубиной футов четыреста-пятьсот. В верхней трети лишь голая земля, не за что уцепиться. Не дай бог оттуда сверзиться – кубарем полетишь в дубки и кусты чапареля, напоминавшие густую лобковую поросль. Тут даже самая ловкая служебная собака переломает все лапы. Чтобы избавиться от трупа, лучше места не придумаешь: скинул мертвяка – и почивай себе.
На карте глянуть иные подходы к дому, пометил себе Джейкоб. Скажем, с западной стороны Гриффит-парка. М-да, если кого-то сбросить с холма, он превратится в обглоданный скелет задолго до того, как на него наткнется незадачливый турист.
Справедливость.
Джейкоб побрел обратно к дому. С похмелья, сдобренного солнцепеком, раскалывалась голова, и странность ситуации виделась во всей ее красе. С чего вдруг такая суета из-за убийства, пусть даже нетипичного? Полиция Лос-Анджелеса, как всякая муниципальная контора, страдала от нехватки людей, недостатка финансирования, избытка работы. Кто-то – патрульный Крис Хэмметт, Дивия Дас или некто следующий в цепочке – распознал иврит в выжженных буквах, и этого хватило для кутерьмы.
Жертва – еврей?
Мусульманин?
Еврей – преступник?
Джейкоб представил, как полицейское начальство, напуганное призраком этнической войны в городе, созывает срочное совещание. Раздумывает, чем прикрыть задницу.
Нужен сыскарь-еврей.
Есть у нас такой?
Здрасьте, Яков Меир, сын раввина Шмуэля Залмана.
До свиданьица, протокол.
Теперь ясно, что такое Особый отдел: молчи в тряпочку и выполняй приказы.
А если он раскроет дело, на пресс-конференцию велят прийти в кипе?
И закутаться в талес?
Если. Главное слово в английском языке.
В кухне Джейкоб рассмотрел знак, выжженный на столешнице.
Прибор для выжигания на батарейках? Хобби убийцы? Скаутский значок за обезглавливание?
И той же штуковиной запечатали рану? Надо будет спросить у Дивии Дас.
Джейкоб подумал о Дивии. Акцент милый.
Затем подумал о Мае.
Затем подумал: очнись.
Он вышел на улицу и набрал свой номер в транспортном отделе. Марша, вольнонаемный администратор, ответила лишь через десять гудков. Обычно приветливая, сейчас она говорила сдержанно:
– Только что закончила паковать твое барахло.
Майк Маллик даром времени не терял.
– Куда перешлешь? – спросил Джейкоб.
– Чен велел оставить в его кабинете. На досуге заберешь. Чего звонишь-то?
– Хотел с ним перемолвиться.
– Не советую. Он шибко не в духе. Считает, у тебя такая манера.
– Какая?
– Линять.
– Решили за меня.
– Мне-то что. Жаль, конечно. Ты скрашивал мою жизнь.
– Такого мне еще не говорили.
Марша засмеялась:
– Куда тебя запрягли?
– Подсунули дельце.
– Какое?
– Убийство.
– Вона. Ты ж вроде как с этим завязал.
– Ты знаешь, как оно бывает.
– Не знаю. Энтони полтора года пытался перевестись в убойный отдел Ван-Найса, чтоб не мотаться туда-сюда как оглашенный. Ни фига. Глухо. Поведай, как тебе удалось свинтить, и я твоя вечная должница.
«Твой муж обрезанный?» – чуть не спросил Джейкоб, но сообразил, что для человека с фамилией Сан-Джованни это маловероятно.
– Решили за меня, – повторил он.
– Наверное, мы тебя утомили своей дорожной мелочевкой?
– Я уже по ней истосковался.
– Тогда поскорее там заканчивай и давай обратно к нам.
– Твои слова да богу в уши, – сказал Джейкоб.
Не спеша он вновь осмотрел местность и ничего не нашел.
Какое-то движение на фоне полуденного солнца привлекло его внимание.
Та же птица медленно снижалась, описывая круги к югу.
Ну давай. Покажи, чего ты углядела.
Будто услышав, птица спикировала. Потом выровнялась и перешла в глиссаду.
Она неслась прямо на Джейкоба.
Футах в сорока от земли взмыла и вновь стала наматывать круги. Крупная, блестящая, черная – не хищник. Ворон? Джейкоб сощурился: черт, шустрая, да еще солнце слепит. Нет, все же не ворон – слишком короткие крылья и странно сплющенная тушка.
С минуту птица ярким контуром кружила высоко в небе. Может, все-таки сядет? Но она рванула к восточным каньонам. Джейкоб пытался за ней проследить. В безоблачном небе спрятаться негде. Однако птица исчезла.
Перед его домом стояла «краун-вика», на передних сиденьях Субач и Шотт. Джейкоб им кивнул и заехал под навес. Детективы встретили его у дверей квартиры – у каждого в руках картонная коробка.
– Веселого Рождества, – сказал Шотт. – Можно войти?
Ни словом не обмолвившись о своих намерениях, здоровяки занесли коробки в гостиную и, не спрашивая разрешения, начали переставлять мебель.
– Будьте как дома, – сказал Джейкоб. – Не церемоньтесь, чего там.
– Я абсолютно бесцеремонен, – ответил Шотт. – Внутренняя свобода – характерное свойство человечества.
– Вкупе с даром речи. – Субач одной лапищей подхватил журнальный столик. – Иначе мы бы не отличались от стада животных.
Отключив телевизор и цифровой видеомагнитофон, они свалили технику на кушетку, задвинутую в угол. Остался только низенький стеллаж; на полках инструменты – деревянные рукоятки отполированы ладонями дотемна: проволочные щетки, скребки, резцы, ножи, стек-петли.
По две штуки за раз Джейкоб переложил их в письменный стол.
– Мило. – Шотт склонился к инструментам. – Столярничаете?
– Матушкины.
– Она столяр?
– Скульптор. Была.
– Талантливая семья, – сказал Шотт.
Субач подхватил оголившийся стеллаж:
– Куда лучше поставить?
– Туда, где стоял, – ответил Джейкоб.
– А как вариант?
Джейкоб неопределенно махнул в сторону чулана.
Пока Шотт ходил к машине еще за одной коробкой, Субач вскрыл упаковку с разобранным столом из древесно-слоистого пластика. В гостиной, усевшись по-турецки, он разложил вокруг детали, так и сяк поворачивая инструкцию по сборке и тряся головой:
– Вот же долбаные шведы.
Джейкоб пошел в кухню сварить кофе.
Через час детективы закончили.
Вращающееся кресло. Новехонький компьютер, рядом синий скоросшиватель – кожзам, три кольца. Компактная цифровая камера и смартфон. На полу возле плинтуса компактный многофункциональный принтер. Беспроводной роутер и тихо гудящий блок питания.
– Добро пожаловать в новый офис, – сказал Шотт.
– Центр управления, – подхватил Субач. – Отдел Дж. Лева. Надеюсь, вам подойдет.
– Вообще-то я хотел сменить облик, – сказал Джейкоб.
– Вы уж извините за телевизор, – усмехнулся Субач.
– Оно и лучше, – встрял Шотт. – Ничто не отвлекает.
Субач показал на роутер:
– Надежная спутниковая связь. То же самое с телефоном.
– Старый мобильник вам больше не понадобится, – добавил Шотт.
– А как быть с личными звонками? – спросил Джейкоб.
– Мы переведем их на новый телефон.
– В нем уже забиты все номера, какие вам понадобятся, – сказал Субач.
– Включая заказ пиццы? – уточнил Джейкоб.
Шотт вручил ему незапечатанный конверт. Джейкоб вынул кредитную карту «Дискавер» – чистый белый пластик, оранжевый логотип, его оттиснутое имя.
– На оперативные расходы, – пояснил Субач.
– Включая пиццу?
Детективы не ответили.
– Слушайте, за каким хреном все это?
– Коммандер Маллик решил, что дома вам будет лучше работаться.
– Какая чуткость.
Субач сделал обиженное лицо:
– Позвольте напомнить, что вы впустили нас к себе добровольно.
Джейкоб осмотрел спутниковый телефон. О такой модели он даже не слышал.
– Видимо, надо предположить прослушку?
– Мы не скажем, что надо предполагать, – ответил Шотт.
Субач выдвинул клавиатуру и стукнул по клавише. Засветился монитор, грянул аккорд и возник рабочий стол, густо усеянный иконками – от Национального центра картографической информации до полицейских управлений крупных городов, лиц в розыске и базы данных баллистических экспертиз.
– Быстро, внятно, широкий доступ без паролей и допусков, – сказал Шотт.
– Вам понравится, – уверил Субач. – Сплошное удовольствие.
– Кто бы спорил. – Джейкоб взглянул на скоросшиватель.
– Для материалов дела, – сказал Субач.
– Кое-что надежнее по старинке, – добавил Шотт.
– Есть вопросы? – спросил Субач.
– Да. – Джейкоб взял кредитную карту. – Какой лимит?
– Вам не исчерпать.
– Кто знает. Я съедаю много пиццы.
– Еще вопросы? – спросил Шотт.
– Да навалом, – сказал Джейкоб.
– Вот и славно, – усмехнулся Субач. – Вопросы – это хорошо.
Детективы ушли. На секунду Джейкоб задумался. В новой реальности выпивка станет врагом или помощником?
Почти всю сознательную жизнь он был высокофункциональным алкоголиком. Иногда в основном функционировал, иногда пребывал под высоким градусом. После перевода в транспортный отдел бухал не так чтобы очень (как-то обходился), и потому вчерашняя отключка его обеспокоила.
Теперь он опять в ищейках и, значит, вправе накатить.
Срочно развязываем, что завязали.
Джейкоб сварил свежий кофе и сдобрил его нездоровой дозой бурбона из запасной бутылки, хранившейся под раковиной.
С каждым глотком головная боль слегка притуплялась, вспомнилась Мая.
Прямо дурдом.
Прикончив дозу и ее двойника, Джейкоб уселся за новый стол.
Открыл браузер, отстучал запрос. Компьютер и впрямь оказался отзывчив.
У коммандера Майкла Маллика имелись жена-красотка и две дочки-красавицы.
Окончил университет Пеппердайн, выпуск семьдесят второго года.
Судя по результатам последних любительских турниров по гольфу, ему, наверное, лучше переключиться на теннис.
Подборка фото: Маллик извещает репортеров о захвате местной террористической ячейки, умышлявшей взорвать офис конгрессмена штата.
Возможно, Джейкоба и вправду пустили по следу еврейского террориста.
Мысль обескуражила. Соплеменники. Коллективная ответственность.
Сколько времени надо быть самим собой, чтобы лишиться племени?
И потом, откуда Маллику знать, кто злодей?
А если он все-таки знает, почему не сказал?
Вопросы – это хорошо.
Но для копа лучше ответы. Может, Маллик хочет, чтобы Джейкоб забуксовал? Неприятная мысль.
Щекотливое дело.
Кого-то выгораживает?
А может, вся затея – месть Мендосы? Чтобы выставить Джейкоба тупицей, снизить его раскрываемость и поработить.
Джейкоб потряс головой. Похоже, начинается паранойя.
В полицейском справочнике он нашел патрульного Криса Хэмметта. На мобильнике набрал его номер. Звонок не прошел. Но городской телефон работал прекрасно, и Джейкоб оставил сообщение. Маленький бунт пригасил раздражение. И потом, никто не запрещал пользоваться городским телефоном, который наверняка прослушивается.
Джейкоб поискал доктора Дивию В. Дас.
Родилась в Мумбае, окончила медицинский колледж в Мадрасе. Страница в «Фейсбуке» открыта только для друзей. Докторскую степень получила в Колумбийском университете.
«В» значит «Ванхишикха».
Можно весь день шнырять по интернету и читать про всяких людей, однако разгадку этим не приблизишь. Убийство раскрывают не технологии. Убийства раскрывает человек, настойчивость и кофеин в дозах, которые срубят йети.
В памяти спутникового телефона значились Майкл Маллик, Дивия Дас, Субач и Шотт.
В нем уже забиты все номера, какие вам понадобятся.
То есть консультации не допускаются. Головная боль вернулась.
Фотокамера выглядела вполне обычно.
Джейкоб открыл скоросшиватель из кожзама. Чистые страницы, которые надо заполнить.
Впрочем, скоросшиватель был не совсем пуст. Из кармана задней обложки выглядывал листок.
Чек на имя Джейкоба, спецсчет полицейского управления, подпись М. Маллика.
Девяносто семь тысяч девяносто два доллара.
Годовое жалованье без вычета налогов.
Джейкоб решил продышаться и, рассовав по карманам кредитку и спутниковый телефон, отшагал четыре квартала до магазина «7-Одиннадцать» на углу Робертсон-бульвара и Аэродром-стрит.
Не считая года в Израиле и еще одного в Кембридже, а также короткой и безуспешной попытки Стейси пересадить его в Западный Голливуд, Джейкоб всегда жил в одном районе в милю радиусом. Пико-Робертсон был центром ортодоксальной еврейской общины. Сейчас Джейкоб проживал на втором этаже черт-те чего в трех кварталах от такого же недоразумения, в котором обитал после колледжа.
Иногда он себя чувствовал собакой на цепи. Нельзя сказать, что он рвался на свободу, ибо для этого требовалась энергия, которой не было.
В каком-то смысле Джейкоб созрел для секретной работы под прикрытием. Он и жил-то под прикрытием, чужаком вышагивая по исхоженным улицам. Бывало, какой-нибудь друг детства хватал его за пуговицу, желая поболтать. Джейкоб улыбчиво что-то мямлил и шел дальше, зная, что за субботним обедом ему перемоют кости.
В жизни не догадаетесь, кого я встретил.
Чем он занимается?
На ком женат?
Развелся?
Дважды?
Ого.
Надо бы его пригласить.
Надо кого-нибудь ему сосватать.
Друзья детства неуклонно достигали ожидаемых высот. Врачи, юристы, дантисты, работники сомнительной «финансовой» сферы. Переженились между собой. Понабирали ипотек. Обзавелись здоровыми прелестными детишками.
Вот потому-то его не волновало, что он превратился в шаблон – сильно пьющего копа-бирюка. А чего волноваться – это же не его шаблон.
Он избегал общину, но был рад ее благоденствию.
Кто-то веровал, избавляя его от бремени.
Но главное, надо думать об отце. Сэм Лев никогда бы не переехал, и, следовательно, Джейкоб тоже.
Причина, она же оправдание бездействия.
Несмотря на соседство с фешенебельными минидворцами Южного Беверли-Хиллз и Беверливуда, их уголок всегда считался непрезентабельным. Одноклассники сходили с ума, гоняясь за последним писком – кроссовками «Эйр Джордан» и «Рибок Памп». А Джейкоб получал немодные школярские кроссовки на липучках – раз в год, ко Дню поминовения. У Левов не было телевизора, и лишь с началом войны в Заливе Сэм купил плохонький черно-белый ящик – вести учет «Скадов», выпущенных по Израилю. По окончании боевых действий телик с табличкой «продается» выставили на лужайке. Покупателей не нашлось. Джейкоб отволок его на помойку.
Уже то, что он был единственным ребенком, превращало его в отщепенца. Его родители, свободолюбивые и глубоко набожные, познакомились и поженились довольно поздно и взрастили Джейкоба в этаком интеллектуальном и социальном пузыре, где не было многочисленной родни, какая пеленала его сверстников, – бабушек, дедушек, тетушек, дядюшек и кузенов, которые ни на секунду не оставляют дитятко в одиночестве.
Джейкоб часто бывал один.
В дверях магазина он вспомнил об отключенном телевизоре, переселившемся на кушетку. Отец был бы в восторге.
Продавец приветствовал его по имени. Джейкоб покупал здесь почти все.
Меню холостяка.
Меню копа-холостяка. Пора улучшать жизнь.
Он взял два хот-дога и четыре бутылки «Джима Бима».
Глянув на спиртное, продавец Генри покачал головой:
– Дружеский совет: отоваривайтесь в «Костко»[5].
– Заметано. – Джейкоб уже достал из бумажника двадцатку, но передумал и подал продавцу кредитку «Дискавер».
Ожидая оплаты, глянул на банкомат. Чек тоже лежал в бумажнике – не хотелось оставлять его дома. Джейкоб усмехнулся, представив, как аппарат изрыгнет дым и взорвется, тужась разом выдать сотню тысяч.
– Не проходит, – сказал Генри.
Неисчерпаемый лимит, твою мать. Ничего удивительного. Лос-анджелесская полиция. Всегда выберут компанию вроде «Дискавера». Джейкоб расплатился наличными, взял покупки и ушел.
В неделю раз пять, а то и больше он ходил этим маршрутом, и все было так рассчитано, что вторая сосиска доедалась точнехонько на пороге дома. В двух кварталах от дома в кармане загудело. Джейкоб затолкал в рот последнюю четверть второй сосиски и выудил телефон, надеясь, что звонит патрульный Крис Хэмметт.
Отец.
Джейкоб поспешно дожевал слишком большой кусок и, поперхнувшись, ответил:
– Алло?
– Джейкоб? У тебя все хорошо?
Давясь, он проглотил сосиску.
– Все замечательно.
– Я не вовремя?
Джейкоб стукнул себя по груди:
– …нет, ничего…
– Давай я перезвоню.
– Все нормально, абба. Что случилось?
– Хотел пригласить тебя на субботний ужин.
– На этой неделе?
– Ты сможешь?
– Не знаю. Могу быть занят.
– Работа?
Несоблюдение обряда огорчало отца, для которого было немыслимо работать в субботу. К его чести, он никогда не выказывал неодобрения. Наоборот, застенчиво, но болезненно интересовался кошмарным занятием сына.
– Угу, – сказал Джейкоб.
– Дело-то интересное?
– Пока ничего сказать не могу, абба. Как только выясню, дам знать.
– О деле?
– Об ужине.
– А. Будь любезен. Надо прикинуть, сколько закупать еды.
– Ты же не собираешься готовить.
– Иначе будет не гостеприимно.
Джейкоб улыбнулся.
– Попрошу Найджела взять на вынос, – сказал Сэм.
Это лучше, чем если бы отец спалил дом, однако ненамного. Сэм жил на строгом бюджете.
– Очень тебя прошу – не надрывайся.
– Не буду, но скажи, что придешь.
– Хорошо. Если получится, я позвоню, ладно?
– Ладно. Береги себя. Я тебя люблю.
Сэм был нежен, но чувств особо не проявлял. От такого признания Джейкоб опешил.
– И ты береги себя, абба.
– Позвони.
– Хорошо.
Джейкоб свернул в свой квартал. В пакете звякали бутылки, искушая прямо сейчас смыть застрявшую в пищеводе сосиску.
Место «краун-вики» занял помятый белый фургон.
ШТОРЫ И НЕ ТОЛЬКО – СКИДКА НА МЫТЬЕ ОКОН
На лестнице Джейкоб вдруг сменил курс. Не заходя в квартиру, сел в «хонду» и, пристроив бутылки под пассажирское сиденье, поехал на место происшествия.
– Ты моя, ибо я старше, – говорит старший брат.
– Ты должна любить меня, ибо явилась за мной по пятам, – говорит брат-близнец.
– Ты неблагодарная и должна смирить гордыню, – говорит старшая сестра.
– Ты своенравна и должна покориться, – говорит сестра-близнец.
– Ты мне кое-кого напоминаешь. Одну беглянку, – говорит отец.
Мать хмурится и молчит.
Она же говорит:
– Я сама по себе и сделаю как пожелаю.
Минул год, как сестры ее стали женами. Поспел новый урожай (благодаря Каинову деревянному мулу очень богатый), и отец извещает, что скоро наступит время подношений.
– А потом ты должна выбрать.
– Я никого не выбираю, – говорит Ашам.
Ева вздыхает.
– Нельзя быть одной, – говорит Адам. – Всякая тварь ищет себе пару.
– Тварь? Я, что ли, животное?
Нава, согнувшаяся над ткацкой рамой, прыскает.
– Если сама не решишь, – говорит Адам, – пусть за тебя решит Господь.
– Я думала, вы с Ним в размолвке, – отвечает Ашам.
Яффа подбрасывает хворост в очаг и прицокивает языком:
– Не дерзи.
– Твое тщеславие есть грех, – говорит Адам.
– У тебя всё – грех.
– Невозможно, чтобы все оставалось по-прежнему, – говорит Адам.
– Они взрослые мужчины, – отвечает Ашам, а затем обращается к сестрам: – Велите мужьям перестать ребячиться. – Берет флягу из тыквы и идет к выходу.
– Стой и слушай, – говорит Адам.
– Я еще вернусь, – отвечает Ашам.
Всякий раз, как отец заговаривает о саде, голос его полон печали. Ашам не знает о былом, и потому в ней живет не печаль, а интерес: разве жизнь бывает иной? Больше всего она любит гулять одна и собирать цветы, чувствуя, как трава щекочет коленки. Земля улыбается ей. Родители сердились, когда в детстве она приходила домой вся изгвазданная, а в пригоршне ее копошились жуки, червяки и змейки, к которым ей запрещено было даже приближаться. Но ведь они ее друзья, потерянные и позабытые подземные жители.
Нынче долина поет о весне, и Ашам, вышагивая по лугам, тихонько ей подпевает, а фляга раскачивается в такт. Ашам пьет воздух, сладкий от пыльцы, и наслаждается одиночеством.
Отчего же ей не тщеславиться? Пусть не шибко, однако нечего притворяться, будто она не замечает, какими глазами смотрят на нее братья. Чего уж врать-то – их соперничество ей льстит. Нехорошо, конечно, но еще хуже, если б она им отказывала только поэтому. Она их знает как облупленных. Стоит выбрать одного – и рухнет хрупкое перемирие, что зиждется на решительном отказе обоим.
Ничего себе творец. Создал такой неуравновешенный мир.
Ашам не разделяет сомнений Каина в Божественном совершенстве, но и не довольствуется простым послушанием, которое исповедуют Авель и отец.
Семья разбита на пары.
Отец и Мать, Каин и Нава, Авель и Яффа.
И еще Ашам.
Нечетная, лишняя, злая шутка божества.
Сердитая кроха, в потоке крови она явилась последней вслед за Яффой. Мать так вспоминает о родах, будто заново претерпевает боль.
В тот миг я постигла свою кару.
О других детях она так не говорит, только об Ашам. Возникает вопрос, что тут кара – боль или дочь-последыш?
Смеркается. Обхватив колени, Ашам сидит под пологом рожкового дерева. Небо золотисто-пурпурно, но черная сажа ночи уже замазывает холм.
Авель гонит отару домой.
Его величественный силуэт все ближе. Красивый златокудрый брат-близнец чем-то похож на своих подопечных. Он никогда не повышает голос, но вовсе не слаб. Однажды нес сразу четырех ягнят, отбившихся от стада. Двух взял под мышки, двух других ухватил за шкирки, невзирая на возмущенное блеянье.
Авель щелкает языком и пристукивает посохом, через луг направляя отару к дому.
Впереди рыщет пес.
Ашам тихонько свистит, и он настораживает уши. Потом кидается к ней и, прорвавшись сквозь лиственный полог, облизывает ей лицо. Она прижимает палец к губам.
– Я знаю, что вы там.
Ашам улыбается.
– Оба, – говорит брат. – Я же слышу.
– Ничего ты не слышишь, – отзывается она.
Авель раскатисто смеется.
Ашам отпускает пса, тот пулей летит к хозяину и лижет ему руку. Она выбирается из-под веток.
– Как ты узнал, что это я?
– Я тебя знаю.
– Ты припозднился.
– А сама-то?
– Не хотелось идти домой. – Ашам вешает на плечо тяжелую флягу на лямке из кудели – изобретение Каина.
– Дай сюда. – В руках Авеля фляга кажется пустой.
Свет ушел, подкрадывается ночь, хищники и добыча ищут укрытие. Светляки вспыхивают и гаснут. Отара сама сбивается кучнее, пес облаивает всякую рохлю. Ашам делится дневными впечатлениями, показывает величину радужного жука, которого поймала утром.
– Не загибай, – говорит Авель.
– Ничего я не загибаю. – Ашам пихает брата.
– Воду мою разольешь.
– Ничего себе – твою?
– Ну вот, вся нога мокрая, – бурчит Авель.
– По-моему, это я набрала воду.
– А я несу.
– Никто тебя не просил.
Авель щелкает языком, точно приструнивая овцу.
– Отец сказал, скоро жертвоприношение, – говорит Ашам.
– Надобно возблагодарить Господню щедрость.
Братнина набожность прельщает ее либо раздражает – по настроению. Сейчас хочется дать ему хорошего тумака. Ведь знает, что отец назначил ей крайний срок.
Оба смолкают. Уже не впервые Ашам хочет, чтобы брат сам начал разговор. С ним беседовать – как по озерной глади скользить.
А с Каином – как головой в омут.
– Еще одна овца вот-вот оягнится, – говорит Авель.
– Подсобить?
– Если хочешь.
Сестры не понимают ее тяги к вспоможению в овечьих родах. Нава, питающая отвращение к физическому труду, ехидно ее подначивает.
Мужик в женском обличье. Это про тебя.
Но кутерьма в крови и слизи ее завораживает, и, пока братья меж собой не разобрались, иного материнства ей не светит – только с ягнятами обниматься.
– Хорошо бы ты сделала выбор, – говорит Авель.
– А если я выберу его?
– Тогда я попрошу передумать.
– Не жадничай, – говорит Ашам.
– Любовь – не жадность.
– Жадность, – возражает Ашам. – Еще какая. Самая жадная жадность.
Жертвенник устроен на вершине горы Раздумья, что в одном дне пути от долины.
Путешествие дается тяжко: с каждым шагом, с каждой вехой все ярче память о прошлых неудачах. Каин часто говорит, что они только зря переводят пищу. Мол, пора признать, что они молятся пустоте и выживут, лишь рассчитывая на собственные силы.
Кощунство ужасает всех, включая Наву. Одна Ашам видит в нем толику здравого смысла.
Она знает, каково это – полагаться на себя.
Из того же духа противоречия Каин, наперекор отцовым увещеваньям, соорудил деревянного мула. Собрав тучный урожай, свалил снопы к ногам Адама и возликовал:
Ты проклят. Не Господом – нехваткой воображения.
Ашам заметила, что вопреки суровым порицаньям Адам не преминул отведать от сыновнего урожая.
С восходом солнца тронулись в путь; ослабевшие от поста, к полудню еле передвигают ноги. Авель тащит подношение на плечах, свободной рукой поддерживает Яффу. Каин и Нава опираются на посохи. Задыхаясь от волнения, Ашам плетется последней, ветер треплет ее волосы. Для беспокойства есть веский повод. Поскольку братья все еще собачатся, отец объявил, что отдаст ее тому, чья жертва будет принята.
Поди знай, насколько серьезна его угроза. Он и прежде что-то подобное говорил. Однако Адам взбирается на гору рьяно (Ева следует тенью) – похоже, на сей раз все будет иначе.
Рядом пристраивается Каин.
– Гляди веселей, – шепчет он. – Что выйдет, на худой-то конец? Я. Считай, повезло. Я бы не шибко переживал. – Каин тычет ее под ребра и нахально подмигивает.
Ах, ей бы такое самонадеянное неверие.
Считается непреложной истиной, что Авель красив, а Каин умен. Однако все не так просто. Мнение, будто всякий наделен каким-нибудь талантом, будто неизбежно побеждает справедливость, грубо противоречит ее опыту. Да, на Авеля приятно посмотреть. Но можно и отвернуться, ибо всегда можно посмотреть снова, и он останется прежним.
Красота в несовершенстве.
В его развитии.
Со стороны, братья вроде как не соответствуют своим поприщам. Наверное, Авелю больше подошло бы землепашество, а Каину – маркие хлопоты с живностью. Ан нет, думает Ашам. Почти во всем овцы самодостаточны. Родят себе подобных. Готовеньких. И хозяин опекает их, не особо утруждаясь.
Землепашество – иное дело. Это рукопашный бой, бесконечные толки с несговорчивым партнером. Сражение с сорняками, битва с лопухами и чертополохом. Возня с непокорными саженцами, которые нужно выстроить шеренгами и заставить с каждым годом плодоносить обильнее. И Каин весьма преуспевает на этой грани улещенья и принуждения, мечты и замысла.
– Возьми. – Каин отдает ей посох. – Кажись, тебе не помешает.
Он догоняет Наву и, обернувшись, снова подмигивает. Пожалуй, он все-таки хорош собой. Бледно-зеленые глаза искрятся, как росистая трава. Смуглое чело подобно грозовой туче, что всех страшит, но одаривает влагой. Плохо ли, хорошо ли это, но он волнует.
Обессилевшее семейство падает на колени. Жара и стужа отменно потрудились: от прошлогодних подношений не осталось и следа. Адам воздевает руки, умоляя принять дары. Слова его тонут в вое ветра.
Молитва окончена, все встают.
Первый дар от Каина – ошметки кудели. Адам велел принести пшеницу, но сын взъерепенился – мол, сам знает, как распорядиться своим урожаем. Вырасти свое и делай с ним, что хочешь.
Он кладет мягкую волокнистую кучу на жертвенный камень. Нава поливает ее вонючей водой, в которой замачивали кудель, и пара отступает, ожидая милостивого знака.
Небеса безмолвствуют.
Каин криво улыбается. Жену он не получит, зато молчание доказывает его правоту.
Авель принес лучшего новорожденного ягненка. Трех дней от роду, барашек еще не ходит, и Авель, связав ему ноги, нес его на плечах. Малыш озирается, жалобно блеет, призывая мать, которой нигде не видно.
Яффа утыкается лицом в плечо Антам.
Авель кладет ягненка на камень, успокаивает, поглаживая ему пузо.
– Давай поскорее, – бурчит Каин.
В дрожащей руке Авель сжимает смертоубийственный булыжник. Оглядывается на Ашам, словно ища поддержки. Она отворачивается, ожидая крика.
Тишина. Антам смотрит на жертвенник. Ягненок егозит. Авель застыл.
– Сын, – говорит Адам.
Авель качает головой:
– Не могу.
Ева тихонько стонет.
– Тогда уходим, – говорит Нава.
– Неужто бросим бедняжку здесь, – сокрушается Яффа.
– Нельзя его забрать, – говорит Адам. – Он – дар.
Эта невразумительная логика бесит Каина. Он возмущенно фыркает, подходит к брату и выхватывает у него камень.
– Держи этого, – говорит он.
Авель бледен и никчемен.
Каин одного за другим оглядывает родичей и наконец обращается к Ашам:
– Подсоби.
Сердце ее колотится.
– Долго будем валандаться? – понукает Каин.
Словно подчиняясь чужой воле, Ашам подходит к жертвеннику. Обнимает ягненка. Какой горячий.
Барашек кричит и брыкается.
– Держи крепче, – говорит Каин. – Не хватало мне пораниться.
Ашам берет ягненка за ноги. Тот бешено лягается. Ужас удвоил его силы, сейчас он вырвется. Каин его цапает.
– Слушай, тут дела на минуту. – Голос его мягок. – Чем крепче держишь, тем оно проще и легче. Всем. Держи. Крепче. Хорошо. Молодец.
Ашам зажмуривается.
Рукам мокро.
Ягненок раз-другой дергается и затихает.
Она сглатывает тошноту.
– Всё.
Ашам открывает глаза. С камня в руке Каина капает кровь, брат сердито глядит в безмолвное небо. В ужасе Авель смотрит на мертвого ягненка.
Сама чуть живая, Ашам берет Авеля за руку и уводит прочь.
Едва семейство пускается в обратный путь, гора взрывается.
Ашам, оглушенную грохотом и ослепленную вспышкой, швыряет наземь. Когда очухивается, видит: Яффа кричит, Адам держит на руках бесчувственную Еву, Авель скорчился, Нава мычит от боли.
Звенит в ушах.
А где Каин?
С вершины катятся клубы пыли. Мать очнулась – стонет, кашляет, бессвязно бормочет. Где Каин? Сквозь пыльные тучи Ашам карабкается к вершине, окликая брата. Лавиной накрывает облегчение, когда в султане жирного дыма, что поднимается от искореженных камней, она различает невысокую, крепко сбитую фигуру.
Каин смотрит на жертвенник.
Невыносимый запах паленой шерсти и горелого мяса.
Начинается дождь. Ашам запрокидывает голову, капли холодят лицо.
– Смилуйся, – говорит Ева.
На четвереньках подобравшись к Наве, Яффа зажимает кровавую рану на сестриной руке. Адам пал на колени и молится.
Дождь усиливается, по склону, уволакивая камушки в долину, бегут мутные ручьи.
Все ошеломлены, но всех больше Авель. Он смаргивает капли, рот его распахнут, золотистые кудри превратились в мокрое мочало.
– Смилуйся, – повторяет Ева. – Пощади.
Каин слышит ее. Глядит на мать, высмаркивает воду.
– Ну и что это значит?
Он вновь смотрит на жертвенник. Не поймешь, рад он или испуган, победитель или проигравший.
Проходит день-другой, гора еще пыхает дымом, что черной струйкой вьется в небеса. Сеется дождик, кругом лужи, загадка не разгадана.
Авель пришел в себя и нагло заявляет: раз подношение от него, то и милость явлена ему. Каин насмешливо фыркает. Непогодь, говорит он, всего лишь совпадение. Кроме того, милость, безусловно, явлена тому, кто не ослаб в коленках.
Бранные слова рвутся наперегонки.
Многообразие трактовок наводит Ашам на мысль, что знака не было вовсе.
Устав от братниных препирательств, Ашам напоминает, что выбор за ней.
Крикуны ее даже не слышат.
Поглощенный работой, Каин не замечает сестру. Ашам добирается до границы поля с фруктовым садом; кряхтя, Каин вылезает из-за деревянного мула – темная поросль на груди слиплась от пота.
– Чего подкрадываешься?
– И не думала.
– Я не слышал твоих шагов. Значит, подкралась.
– Я не виновата, что ты глухой.
Каин смеется и сплевывает.
– Чего надо-то?
Ашам разглядывает деревянного мула. Какой он ладный и соразмерный, рукоятки отполированы ладонями. Каин взрыхляет землю вдесятеро быстрее отца. Настоящий мул, запряженный в устройство, ритмично помахивает хвостом, сгоняя оводов с крупа.
Иногда Ашам воображает, как родителям жилось до появления Каина. Наверняка спокойнее, однако удручающе монотонно.
Она бы еще больше восхищалась братом, если б он этого не требовал.
– Весь в трудах, – говорит Ашам.
– Некогда прохлаждаться. Новая страда.
Ашам кивает. После затяжного дождя пашня поблескивает лужицами. Ветерок, посетивший сад, напитан ароматом фиг и лимона, сильным и терпким.
– Я хотела спросить.
– Валяй.
– Там, на горе, в помощницы ты выбрал меня.
Каин кивает.
– Почему?
Он медлит с ответом.
– Я знал, что ты справишься.
– Откуда ты знал?
– Мы с тобой схожи.
Ашам теряется. Наверное, можно сказать: нет, у нас с тобой ничего общего. И что единоутробный брат ее – Авель. Она вспоминает кровавые брызги, предсмертные судороги ягненка, и все внутри восстает против того, что Каин разглядел в ней и выманил наружу убийцу.
Но кто ж виноват, если так уж она устроена?
Каин подходит ближе, обдавая пьянящим подземным духом.
– Вместе мы бы сотворили целый мир, – говорит он.
– Мир уже сотворен.
– Новый мир.
– Для этого у тебя есть Нава.
Каин досадливо фыркает.
– Я хочу тебя.
Ашам пытается отстраниться, но он хватает ее за руку:
– Прошу. Умоляю.
– Не надо. Никогда не надо умолять.
Лицо его наливается кровью, губы жадно приникают к ее губам, колючая щетина обдирает ей подбородок, влажная грудь его – точно звериная шкура. Язык его врывается к ней в рот; сейчас Каин высосет из нее жизнь. Ей удается его отпихнуть, и он, оступившись, плюхается в грязь.
– Ты чего? – говорит она.
– Прости. – Он встает. – Прости, – повторяет он, и набрасывается, и валит ее на землю.
Мигом срывает с нее одежду; она кричит и отбивается, они барахтаются в чавкающей грязи. Камешки впиваются Ашам в голую спину. Она молотит его по плечам, ладонью упирается в его подбородок, словно пытаясь отломить ему голову, но получает обжигающую оплеуху и слышит его победительный рев. Он не потерпит отказа, он овладеет ею.
В пронзительно-ясном небе мечутся темные птицы.
В грязи рука ее нащупывает камень, и у Каина во лбу расцветает разверстая рана, кровь заливает ему глаза. Отпрянув, он хватается за лицо; вывернувшись, она пускается наутек.
Голая, грязная, она бежит медленно, словно в кошмаре, ноги вязнут в глинистой пашне. Вот одолела поле, проскочила рощицу, а там другое поле – паровое, слякотное, цепкое – и еще лесок, а за ним выпасы. Каин преследует ее. Она слышит, как под его ногами хлюпает влажная земля. Грудь ее горит огнем, она карабкается по косогору и, выбравшись на гребень, видит восхитительную, нежную белизну отары, темное пятнышко пса и Авеля, высокого и златокудрого.
– На помощь! – кричит она, и тут он ее настигает.
Оба падают и кубарем катятся по склону, измаранными телами собирая листья, сучки и траву. Они инстинктивно жмутся друг к другу, и она близко видит его налитые кровью глаза, его лоб в крови, челка слиплась от грязи и крови.
У подножия холма они, избитые, иссеченные, распадаются, отхаркивая набившуюся в рот землю. Пес с лаем несется по выпасу, длинная тень накрывает Ашам.
– Тебе воздастся за твое зло, – говорит Авель брату.
Каин отирает рот. На ладони остается кровавый след. Каин сплевывает.
– Ты ничего не понимаешь, – говорит он.
– Я понимаю, что вижу. – Авель бросает посох и берет на руки Ашам.
Он делает шагов пять, и на голову его обрушивается посох, от удара разлетаясь в щепки.
Здешнее пастбище истомилось по влаге, и Ашам жестко стукается головой. Пелена перед глазами, шум в ушах, язык – неповоротливый слизняк. Она способна лишь наблюдать за схваткой, скоротечность которой предопределена: Авель крупнее и сильнее. Вскоре под аккомпанемент лая и рычанья овечьего стража Каин на коленях молит о пощаде.
Что матери-то скажешь.
Наглая увертка. Так просто. Ашам бы не поверила. Но Авель поверит, ибо сам простак, и она, замерев, видит, как иссякает его гнев. Авель подает брату руку и помогает подняться с земли.
Обход соседей, живших ниже Касл-корта, Джейкоб закончил поздним вечером.
Начав с подножия холма, он двигался вверх. Люди, которые предпочли жить в получасе езды от ближайшего супермаркета, были не расположены к поздним визитам. Кое-кто отозвался, но дверь не открыл, а тот, кто открыл, ничего не знал. По общему мнению, дом над обрывом – как бельмо на глазу и давным-давно необитаем.
Номер 332, после которого дорога превращалась в грязный проселок, прятался за высоким оштукатуренным забором, ощетинившимся штырями от птиц и угрюмыми камерами наблюдения.
Высунувшись из окна машины, Джейкоб долго улещивал владелицу по интеркому. Потом еще минут десять пялился на изъеденные ржавчиной стальные ворота, пока хозяйка дозванивалась в управление и проверяла номер его бляхи.
Наконец затарахтел движок и створка отъехала в нишу. Включив ближний свет, Джейкоб покатил по щебеночной дорожке, меж кочек и кактусов петлявшей к ухоженному асимметричному белому кубоиду – модерну пятидесятых годов, втиснутому в ландшафт.
Женщина за пятьдесят в изумрудном фланелевом халате ждала у парадной двери. Даже в темноте хмурость ее фонила на десять футов. Джейкоб приготовился, что сейчас его отошьют.
Но хозяйка, представившись Клэр Мейсон, всучила ему огромную кружку горького чая и коротким узким коридором провела в гостиную с гладким бетонным полом и внутрь скошенными окнами – точно рубка звездолета, что бороздит тьму в вышине над городскими огнями. На стенах безумствовал абстрактный экспрессионизм. Мебельный дизайн был рассчитан на бездетных худышек.
Не успел Джейкоб открыть рот, хозяйка засыпала его вопросами: ей грозит опасность? Надо бояться чего-то конкретного? Не созвать ли соседский дозор? Она здешняя староста. Потому сюда и переехала, что искала покоя.
– Может, вы что-нибудь знаете о доме выше по дороге? – спросил Джейкоб. – Номер 446.
– А что с ним такое?
– Кто там живет?
– Никто.
– Не знаете, кому он принадлежит?
– А что?
– Какой интересный вкус, – сказал Джейкоб: чай смахивал на заваренное гуано. – Что это?
– Крапивный отвар. Предотвращает инфекции мочевого пузыря. У меня есть ружье. Обычно держу его незаряженным, но, послушав вас, наверное, заряжу.
– Я думаю, в этом нет необходимости.
Наконец Джейкоб сумел унять ее беспокойство и подвести разговор к камерам наблюдения. Через кухню – оникс и цемент – прошли в переоборудованную кладовку: запас консервов, сигнальные щиты, коротковолновый приемник. Мониторы, предлагавшие обзор местности с разных точек. Кресельная подушка с двугорбой вмятиной свидетельствовала о долгой и охотной вахте.
– Весьма впечатляет, – сказал Джейкоб.
– У меня доступ с телефона и планшета, – сказала Мейсон, усаживаясь в кресло.
Жалкая похвальба выдавала парадокс, таящийся во всяком параноике: преследование дарует оправдание соответствующей мании.
– Сколько времени хранится запись?
– Сорок восемь часов.
– Можно взглянуть на вчерашнюю запись около пяти вечера?
На мониторе появилось окно, разбитое на восемь квадратов с почти одинаковыми картинками дороги. Мейсон кликнула по счетчику, ввела время, задала скорость просмотра 8х и тюкнула пробел.
В окошках разноцветье сменилось зеленью ночного виденья, но все прочее осталось неизменным.
Как в наипаршивейшем авторском кино.
– Можно чуть быстрее? – попросил Джейкоб.
Мейсон увеличила скорость до 16х.
На экране промелькнула тень.
– Что это было?
– Койот.
– Откуда вы знаете? Можно отмотать?
Мейсон закатила глаза, отмотала запись и установила скорость 1х.
Верно: высунув язык, по дороге крался тощий мохнатый зверь.
– Поразительно, как вы разглядели, – сказал Джейкоб.
Клэр Мейсон мечтательно улыбнулась экрану:
– Практика, голубчик, практика.
Джейкоб сидел в «хонде», прислушиваясь к лязгам и щелчкам остывающего мотора. Движок уработался. Каждая поездка к месту преступления отнимала у него годы жизни. С учетом карты «Дискавер» и авансированного жалованья стоило бы, пожалуй, пересесть в прокатную машину.
Если ехать сюда на автомобиле, камеры Клэр Мейсон не избежишь. Однако ни отпечатков покрышек, ни смятых растений.
Пехом? В обход дороги, упрятав ношу в бакалейный пакет?
Вертолет?
Реактивный ранец?
Ковер-самолет?
Абра, Кадабра и Алаказам!
Как ни странно, под небом в россыпи звезд дом выглядел не столь зловеще. Ветер доносил шорохи, писки и уханье невидимых тварей, многочисленных ночных завсегдатаев.
Фонарь, который Джейкоб достал из бардачка, не понадобился ни перед домом, ни внутри. Вполне хватило лунного света и городского зарева.
Любопытное место – совершенно уединенное и совершенно открытое.
Избавление от трупа требует секретности. А тут все напоказ. Похоже, особое представление для избранной публики.
Кто владелец дома?
Кто о нем знал?
Джейкоб глянул на спутниковый телефон – не пропустил ли звонок Хэмметта – и нахмурился. Нет связи. Казалось бы, эти штуки должны работать повсюду.
Водя телефоном, Джейкоб побродил по дому – одно деление то появлялось, то исчезало. Пригвоздить его удалось на выходе из спальни. Джейкоб подождал значка пропущенного вызова. Ничего.
Удивительно, тут совсем не пахло смертью. Жутковато, но терпимо. Джейкоб не был мистиком, однако верил, что людей тянет туда, где их души находят свое отражение, а со временем души обиталища и обитателя сливаются.
Здесь царил покой на грани дзэнской безмятежности. Прекрасное место для писателя, художника или скульптора – идеальная студия под открытым небом. Хотя мало кто из творцов такое осилит.
Разве что богатей, строящий из себя художника.
По опыту Джейкоб знал, что подавляющее большинство злодеев выбирают путь наименьшего сопротивления. Потому-то и злодеи, что исступленно желают потакать своим прихотям, тратя как можно меньше сил. В массе своей преступники – патологические лентяи.
Чего не скажешь о нынешнем парне. У него есть стиль. Мерзкий, но явный. Возможно, в нем и впрямь была инакость – либо мнилась ему. Была и такая разновидность преступников – редкая, но яркая. Потрошители, Эды Гины, Деннисы Рейдеры[6] и прочие выродки. Из кожи вон лезли, только бы попасть в газеты. Примечательный злодейский подвид – Гитлеры, Сталины и Пол Поты.
Оба типа опасны. Первый – безоглядностью, второй – оглядкой.
В студии Джейкоб подошел к восточному окну, вспоминая дом своего детства: в углу гаража тяжеленные коробы с глиной, банки с краской и лаком, электропечка для обжига, под наброшенной тканью сушилка. Шаткий трехногий табурет, на котором сидела Вина Лев. Никакого гончарного круга. Только руки.
В юности она вроде бы заигрывала с авангардом. Вещественных свидетельств того периода не осталось. Когда Джейкоб подрос и научился видеть в ней творческую личность с амбициями, амбиции уже иссякли. На его памяти Вина ваяла только ритуальную утварь: чаши для вина, меноры, банки под специи для хавдалы[7]. По выходным возила их на ярмарки, продавала через еврейские магазины. Этот ее отказ от искусства ради ремесла не назовешь прагматичным. Капиталов мать не нажила. Горькая ирония: нынче эти предметы в некоторых кругах считались коллекционной редкостью.
Жаль, тогда не было интернета. Невезучие времена.
Какие времена ни возьми – все невезучие.
Вскоре после похорон Сэм, от горя впавший в ступор, надумал продать дом. Избавиться от мебели было несложно, а вот на гараж у отца не хватило духу. Джейкоб взял это на себя. Он уже привык, что теперь он единственный взрослый.
Купив рулон мусорных мешков, Джейкоб принялся за дело: яростно и методично зашвыривал в мешки незаконченные подсвечники и нераспакованные коробки с краской (негорючей, без содержания свинца). Разобрал сушилку и отдал деревяшки соседу, у которого был камин. За печку для обжига в ломбарде предложили тридцать долларов – от мизерности суммы пробудились и кувалдой шибанули угрызения совести.
Пятьдесят вместе с инструментами.
Нет, спасибо, сказал Джейкоб, их я оставлю.
Он взял тридцать долларов и, вернувшись в гараж, переворошил содержимое мешков, надеясь отыскать хоть что-нибудь, достойное сохранения. К несчастью, он выпустил пар от души: почти все превратилось в прах и осколки.
Уцелело несколько вещиц, обернутых газетами. Пара кофейных кружек. Чаша с ушками для омовения рук. Футляр мезузы[8]. Непонятного назначения банка с крышкой и крепкими тонкими стенками. Он осторожно сложил все в вещмешок, простеленный полотенцами.
В плотном свертке оказалось множество каких-то вещиц, каждая в своей обертке. Заинтересованный, Джейкоб отогнул краешек бумаги и вздрогнул, увидев крохотное чужеродное лицо. То же самое и в остальных сверточках.
Он-то считал, мать переключилась на тарелки и чашки из-за того, что иудаизм не поощрял изображений человека – итог запрета на идолопоклонство.
Видимо, Вина нашла лазейку: эти серые статуэтки вовсе не походили на людей. Тускло мерцая черными и темно-зелеными крапинами, существа не делали тайны из своего органического происхождения, а руки-ноги их извивались, будто рвались сбежать.
Все мамины поделки просились в руки. Даже самая простенькая чашка откликалась на прикосновение.
Но эти будто говорили: не тронь меня.
В кавардаке гаража Джейкоб сидел на захламленном полу, разглядывал эти фигурки, и волосы у него вставали дыбом. Похоже, он недооценивал Вину.
Джейкоб завернул статуэтки в бумагу и убрал в вещмешок.
Это печальное наследство сопровождало его в двух женитьбах и бессчетных квартирах. Он прибивал мезузу к косякам, ставил чашу возле раковины, в банке держал сахар. Сам он пил кофе без сахара, но получал удовольствие, открывая банку для очередной подружки. Все они ахали, восхищаясь его изысканным вкусом.
Гончарные инструменты, сами по себе красивые, Джейкоб разложил на стеллаже, где они тихо сияли отполированными рукоятками, напоминая, что жизнь хрупка, непонятна и коротка. И почему-то было хорошо.
Рене панически боялась фигурок, и он положил их в банковский сейф – наверняка ежемесячно платил за аренду сейфа больше, чем они стоили.
Теперь бояться некому, можно забрать домой, подумал Джейкоб, глядя на складчатые склоны каньона.
Черная рука шлепнула по стеклу.
Джейкоб отпрянул и, выхватив «глок», гаркнул команду, гулко отозвавшуюся в пустой комнате.
Тишина.
Нашумевшее существо прилипло к стеклу снаружи.
Кряжистое, округлое. Черное чешуйчатое брюшко. Трепещущие крылья лупят по стеклу.
Джейкоб покачал головой и рассмеялся. Еще немного – и всадил бы две пули в жука. Чего ты хочешь – почти сутки без сна и нормальной еды.
Сунув пистолет в кобуру, он поплелся к «хонде». В машине нашарил бутылку и сделал пару глотков – только чтобы встряхнуться и доехать до дома. А уж там хорошенько вмажет и завалится спать.
В ту ночь ему снился бескрайний и буйный росистый сад. В гуще его стояла Мая. Голая, призывно раскинула руки. Он рванулся к ней, но тщетно: между ними разверзлась пропасть, отрезавшая его от родных пенатов.
Спозаранок похмельный Джейкоб одной рукой тыкал в клавиатуру, а в другой баюкал кружку кофе с виски. На вафлю «Эгго» рук не осталось.
Злополучным домом владел траст, принадлежавший другому трасту, которым владела холдинговая компания на Каймановых островах, принадлежавшая подставной корпорации в Дубае, которой владела еще одна холдинговая компания в Сингапуре, у которой был телефон.
Прикинув разницу во времени, Джейкоб раздумывал, имеет ли смысл звонить среди ночи. Стоит проверить, решил он, существует ли этот номер вообще.
Ответила женщина – по-английски, с сильным акцентом. После мучительного допроса выяснилось, что это номер не холдинговой компании, а контактного центра, чья единственная задача – отваживать любопытных от поисков информации о холдинговой компании. Джейкоб уже на максимум включил обаяние, и тут вдруг заегозил спутниковый мобильник – звонил патрульный Крис Хэмметт.
Не попрощавшись, Джейкоб дал отбой Сингапуру.
По голосу, Хэмметт был молод и растерян:
– Простите, что раньше не перезвонил. Я тут… маленько замотался.
– Ничего. Как дела?
– Честно? – Хэмметт выдохнул. – Все еще не очухался.
– Понятное дело. Я туда ездил.
– Вот же хрень-то собачья, а?
– Нет слов. Не расскажете, как все было?
– Да, конечно. Я добрался туда к полуночи…
– Давайте чуть раньше, – сказал Джейкоб. – Где вы были, когда поступил вызов?
– На Кауэнга, неподалеку от Франклина. Диспетчер сказал, что звонила женщина, сообщила о чем-то подозрительном.
– Женщина?
– Так мне сказали.
– О чем она сообщила?
– Мол, надо проверить один адрес.
– Представилась?
– Нет. Сказала: пришлите кого-нибудь, проверьте. Я был ближе всех. – Хэмметт помолчал. – Знаете, сэр, я так намучился – никаких знаков, чуть не заплутал. Добирался не меньше часа.
Сочувствие пригасило досаду, когда Джейкоб вспомнил, как сам разыскивал дом.
– Добрались – и что?
– Ничего необычного не заметил. Дверь приотворена. Я заглянул, посветил фонариком и увидел.
– Голову.
– Да, сэр. – Хэмметт рассказал, как осмотрел дом и обнаружил знак на кухонной столешнице. – Я связался с капитаном, и он велел переслать фото. Видимо, он запустил машину, потому как вскоре прибыла леди от коронера. Сказала, сама всем займется.
– Еще что-нибудь показалось существенным?
– Нет, сэр. Только… можно вопрос?
– Валяйте.
– Я вроде как во что-то вляпался, да?
– В смысле?
– Вчера пришел в участок, а там меня ждали парни из конторы, о которой я никогда не слышал.
– Особый отдел, – сказал Джейкоб.
– Он самый.
– Здоровяки такие.
– Как из цирка.
– Мел Субач. Или Пол Шотт.
– Вообще-то, оба. Говорил Шотт. Отвел меня в сторонку и сказал, что в моих интересах помалкивать. Потому-то я и не звонил вам, сэр. Боялся напортачить. Я связался с Шоттом, спросил насчет вас, и он сказал – валяй, но потом обо всем забудь. Вы поймите, я, конечно, никому ничего.
– Спасибо, вы очень помогли, – сказал Джейкоб.
– Не за что. Надеюсь, вы его поймаете.
– Ваши слова да богу в уши.
– Не понял?
– Хорошего дня вам.
По электронной почте Джейкоб отправил Маллику отчет и сообщил, что с кредитной картой вышла загвоздка. Еще одно письмо с просьбой выслать копию звонка направил в диспетчерскую 911. Потом оделся и пошел к машине. Озираясь, выехал задом, отметив, что со вчерашнего вечера фургон, предлагавший уход за окнами, с места не двинулся.
В девять утра он уже бродил по месту преступления, сверяясь с топографической картой, распечатанной с «Гугла». Новая камера обладала мощным объективом с зумом, позволявшим заглянуть на дно каньона, не прибегая к кирке, крюкам, мотку веревки и силе духа.
Джейкоб вошел в дом, чтобы еще раз все сфотографировать, начиная со знака, выжженного на кухонной столешнице.
Буквы исчезли.
Джейкоб застыл. Потом огляделся – не перепутал ли чего.
Все столешницы чисты.
Первоначальные снимки остались в мобильнике, который за ненужностью валялся дома. Джейкоб прикинул, где был знак, и нагнулся, не касаясь столешницы. Нигде никаких следов наждачки или скоб лежки.
Может, сработала жидкость, которой Дивия Дас промокнула буквы? Нет, такое могло бы случиться, если б их нанесли на поверхность, а не выжгли в дереве. Чтобы восстановить идеальную гладкость, столешницу пришлось бы целиком заменить.
Сообщение доставлено и автор вернулся, дабы скрыть улики?
Джейкоб выпрямился, отчетливо слыша мертвую тишину.
Выключил и спрятал камеру в карман, вынул «глок» и крадучись обошел гостиную, спальню, студию.
Ни души.
Еще раз осмотрел дом снаружи.
Никого.
Из багажника «хонды» Джейкоб достал дактилоскопический набор и вернулся в кухню. Сделав кучу снимков девственно чистых столешниц, присыпал их порошком. Ни единого отпечатка.
Однако тот, кто здесь побывал и навел порядок, не мог проскочить камеры Клэр Мейсон. Уже хорошо. Джейкоб сел в машину и поехал вниз по холму.
– Все-таки вернулись, – прохрипел интерком.
– Не устоял.
Ожил воротный движок.
При дневном свете появилась возможность оценить размах владения – то был гимн человеческой изобретательности и оазис модернизма в бесплодной доисторической пустыне. Гараж на три машины, небесной синевы бассейн, ландшафтная архитектура, поблекшие кирпичные дорожки, разбегавшиеся по облагороженной и озелененной земле. Стальная скульптура из двутавровой балки, под стать воротам покрывшаяся патиной. Из-за фруктовой рощицы выглядывала островерхая оранжерея. Зачем столько огородно-садовой продукции? Может, хозяйка из тех, кто в ожидании конца света готовится к худшему, решил Джейкоб. Потому и возвела стены – оградиться от ненасытных орд, кои неизбежно возникнут во времена нехватки и, жадно облизываясь, захотят поживиться за счет богатеньких.
Клэр Мейсон встретила его в том же фланелевом халате и вновь всучила огромную кружку чая.
– Дважды за двенадцать часов, – сказала она. – И вы будете уверять, что мне не о чем беспокоиться?
– Всего лишь добросовестность. – Джейкоб обвел рукой владение: – Славное у вас местечко.
– Я его арендую.
В секретной комнате Мейсон воспроизвела запись вчерашней ночи – за исключением приезда и отбытия машины Джейкоба, статичная картинка.
– Есть другой путь на холм? – спросил он. – Пожарная просека или что-нибудь этакое, о чем умолчала карта?
– К северу земля общественная. Шастает всякая шваль. Туристы. Потому-то я и поставила камеры.
– Понятно, – сказал Джейкоб. А еще потому, что ты чокнутая.
Рьяность Мейсон обеспечивала его круглосуточным наблюдательным постом. Джейкоб оставил визитку и попросил связаться с ним, если кто-нибудь вдруг направится к Касл-корту.
Следующие два часа он бродил по Гриффит-парку, тщетно отыскивая выход к каньону. Короткая беседа со смотрителем подтвердила отсутствие лазеек. Если не удастся выпросить у Особого отдела отряд скалолазов, в обозримом будущем труп не найти.
От всех этих трастов, ширм и холдингов несло деньгами. Ни один сайт по недвижимости, даже «Зиллоу», на запрос о Касл-корте ничего не выдал. Лишь к обеду Джейкоб наткнулся на страницу университетского преподавателя, занимавшегося историей южнокалифорнийских высших кругов. Историк проштудировал «Синие книги» с 1926 по 1973 год. Тексты распознаны – можно искать.
Искомое нашлось в издании 1941 года.
Касл-корт принадлежал мистеру и миссис Герман Пернат. Муж был главным архитектором в фирме, носившей его имя. У супругов было двое детей – шестнадцатилетняя Эдит и четырнадцатилетний Фредерик.
В архиве «Лос-Анджелес тайме» обнаружились некрологи: в 1972 году умер Герман, двумя годами раньше – его жена. Дочь Эдит Мерримен, в девичестве Пернат, умерла в 2004 году.
Поиск Фреда Перната привел к киношной базе данных, где многажды упоминались его спецэффекты в третьесортных фильмах. Джейкоб полагал, что подобные кровавые пиршества уже не снимают, но названия всего лишь трехлетней давности уведомили, что Пернат жив-здоров, а еще один запрос выдал его телефонный номер и адрес в районе Хэнкок-парка.
Джейкоб позвонил и, представившись, попросил кое-что прояснить о Касл-корте.
– Чего прояснять-то?
– Вы давно там были?
Пернат деланно рассмеялся:
– Последний раз – когда стал владельцем.
– Когда это было?
– Зачем вам, детектив?
– Ведется расследование, – сказал Джейкоб. – Кто еще имеет доступ в дом?
– Как вы меня нашли?
Джейкоб не любил тех, кто отвечает вопросом на вопрос. Они напоминали школьных раввинов.
– Послушайте, мистер Пернат…
– Хотите поговорить – приезжайте.
– Телефонный разговор меня вполне устроит.
– А меня – нет. – И Пернат повесил трубку.
Величавый георгианский особняк на Джун-стрит к северу от Беверли-бульвара контрастировал с нойтраским[9] стилем Касл-корта. Роднила их лишь неухоженность. Все прочие дома квартала похвалялись благоустроенностью, свежей покраской и новыми кровлями. У Перната забитые водостоки изгадили палисадник.
Хватило одного взгляда, чтобы вычеркнуть хозяина из числа подозреваемых. Тщедушный высохший старикашка поманил Джейкоба и, визжа палкой по полу, уковылял в сумрак дома.
Загроможденный интерьер тоже контрастировал с пустотой Касл-корта. Отрезанных голов, похоже, не было, хотя они вполне могли затеряться среди мигавших бра, натюрмортов в золоченых резных рамах и китайских ваз с пыльными ростками шелковых цветов. От вычурной полированной мебели не повернуться (фэншуй наоборот), на всякой относительно горизонтальной плоскости толпились безделушки.
И в этих непроглядных дебрях – ни одной семейной фотографии.
Кабинет Перната весь был оклеен афишами и рекламой ужастиков. Сев на истертую козетку, Джейкоб пересилил себя и отказался от предложенного виски. Лишь завистливо посмотрел, как хозяин плеснул себе из хрустального графина. Пернат прошаркал к стенному шкафу, где стояли граненые вазочки с орешками и отрезанная голова.
Окровавленные лохмотья кожи, незрячий взгляд.
Задохнувшись, Джейкоб вскочил.
Пернат мазнул по нему взглядом, потом ухватил голову за волосы и швырнул Джейкобу. Тот поймал.
Резиновая.
– Для копа вы малость нервный, – сказал Пернат.
Он взял из шкафа две вазочки с кешью, одну поставил перед Джейкобом.
– Извините, если не первой свежести. – Пернат умостился в кресле за внушительным дубовым столом.
Теперь было видно, что голова бутафорская, хотя издали выглядела вполне натуральной. Бесспорно, мастерская художественная работа – этакая смесь Моне и Гран-Гиньоля[10].
– Вы так со всеми гостями? – спросил Джейкоб. Сердце еще сбоило.
– Вы не гость. – Пернат закинул орешек в рот. – Давайте к делу, а то мне уже восемьдесят четыре.
Джейкоб снова сел на козетку.
– Расскажите о Касл-корте.
– Усадьба принадлежала отцу, – пожал плечами Пернат. – Он из зажиточного рода, всякой собственности до черта. Дома, фабрики, земли. Полно недвижимости, после его смерти разгорелась нешуточная драка. – Он прихлебнул виски. – По правде сказать, я не нуждался в деньгах. Но сестра решила захапать усадьбу, и я, естественно, воспротивился.
– Ваша сестра скончалась.
– Потому-то я и победил, – хихикнул Пернат. – Помогла пятая колонна – «Вирджиния слимс». – В объятиях большого скрипучего кресла, усаженного шляпками медных гвоздей, он смотрелся высохшим листиком. – Вроде как победил. Адвокаты урвали две трети пирога. Я оставил собственность, которая приносила доход, остальное продал. Жил припеваючи. Усадьба – часть большого владения, которое отец поделил. Он ее сам выстроил. По своему проекту.
– Он был архитектор.
– Свинья он был. Но да, чертил чего-то там. Меня его работы не интересовали. На мой вкус, все как-то стерильно.
Джейкоб посмотрел на чучело обезьяны, подвешенное к потолку.
– Я вас понимаю.
Пернат усмехнулся и встал налить себе еще виски.
– Усадьба приносит доход? – спросил Джейкоб.
– Ни цента.
– Тогда почему не продать? Похоже, она гибнет.
– В том-то и цель. Пусть сгниет. Как представлю, что она разваливается, приятно аж до щекотки. – Пернат закупорил графин и проковылял к креслу, по пути прихватив резиновую голову, которую устроил на коленях, словно ши-тцу. – Мыслилось этакое убежище, где папаша окунется в творчество. К карандашу он там не притрагивался, однако немало натворил и вдосталь наокунался. Все его секретарши и ассистентки полюбовались домом – вернее, потолком, пока папаша на них прыгал. Удивительно, что ни одну не заездил до смерти. Свинья, в полном смысле слова. Угробил мать.
– Ну так снесли бы дом.
– Вот уж нет. Это архитектурное достояние… – Пернат залпом прикончил вторую порцию. – Своего рода памятник. Адюльтеру.
– С тех пор как унаследовали дом, вы там не бывали?
– А зачем?
– Кто еще имеет доступ?
– Да кто угодно. Я его не запер. Пусть входит кто хочет, мне нет дела. Чем больше проклятий там скопится, тем лучше.
Джейкоб нахмурился. Он надеялся на другой ответ.
– Что вы расследуете, детектив? Наверное, что-нибудь скверное.
– Убийство.
Пернат хрюкнул.
– Куда уж сквернее. Прискорбно. Кто убийца?
– Знал бы, не разговаривал бы с вами.
– Кого убили?
– Тоже не знаю.
– А что вы знаете, детектив?
– Немного.
– Ай молодец! – Пернат поднял стакан. – За неведение.
Интересно, почему нет семейных фотографий.
– В городе у вас есть родственники? – спросил Джейкоб.
– Бывшая жена снова вышла замуж, но я бы не спешил назвать ее родственницей. Живет в Лагуна-Бич. Сын в Санта-Монике. Дочь в Париже.
– Часто с ними видитесь?
– Как можно реже.
– Значит, вы один.
– Да. – Пернат погладил бутафорскую голову. – Я и Герман.
Дети Перната унаследовали дедову любовь к простоте. В парижском Марэ Грета держала галерею, где торговали минималистскими произведениями, созданными из эпатажных материалов вроде пожеванной жвачки и ослиной мочи. Архитектурные творения Ричарда представляли собой каркасы из стекла и стали. Перелистывая его портфолио, Джейкоб думал о маятнике поколений: с каждым взмахом вкус детей уничтожает вкусы отцов.
Однако отпрыски Перната были по-своему успешны: деловые люди, ведущие деловую жизнь.
Тупик.
Поиск схожих преступлений выдал короткий список обезглавливаний, но совпадений – запечатанной раны, выжженного знака ни иврите (даже не исчезающего) – не нашлось. Обычно злодеем оказывался псих, которого быстро ловили. Один во дворе насадил голову своей престарелой тетушки на кол и отплясывал вокруг него, распевая «Мы чемпионы».
Самым, так сказать, здравым оказался один пакистанец из Куинса: он задушил и обезглавил дочь-подростка, которая отправляла однокласснику пикантные эмэмэски.
Религиозный пыл выявлял в людях все лучшее.
Справедливость.
Джейкоб поискал сведения о еврейских террористических группах в Соединенных Штатах.
Расширил поиск до любой еврейской улики на месте убийства.
Затем – до любых выжженных знаков.
Добавил к запросу слово «справедливость».
По нулям.
Джейкоб откинулся в кресле. В животе урчало. Без четверти десять вечера. Нетронутый завтрак – вафля в застывшем сиропе и заветревшемся масле – отправился в мусорное ведро. В холодильнике было пусто, но для проформы Джейкоб в него заглянул и потопал в магазин за парой хот-догов.
Вряд ли злодей рискнет вновь появиться в доме, тем паче что знак уже стерт. Однако особых планов на вечер не имелось, и, пожалуй, стоило убить несколько часов. Забравшись на холмы, Джейкоб поставил «хонду» на обочине в пятидесяти ярдах за домом Клэр Мейсон. Откупорил пиво, откинул спинку сиденья и стал поджидать удачу.
Около трех он встрепенулся, приложившись локтем о руль. Ломило спину, во рту пересохло. Пузырь разрывался, член стоял оглоблей.
Под хихиканье сверчков Джейкоб выбрался из машины и отошел в сторонку отлить. Ему опять снилась голая Мая в саду, такая близкая и недосягаемая. Дожидаясь, когда образ ее изгладится и член обмякнет, он раздумывал, что означает пропасть между ними. Наверное, упущенный шанс. Однако в томительной незавершенности была своя сладость. Вспомнилась непринужденность Маи – она ничего не скрывала, отчего эротика становилась невинной.
Это бы ему пригодилось. За семь лет службы в мозгу возникла четкая связь между сексом и насилием. Плохо, конечно, но никуда не денешься. И если такая женщина желает его спасти, он совсем не против.
Однако он прекрасно знал, какого сорта девицы ошиваются в «187».
Вы симпатичный, Джейкоб Лев.
Интересно, она там еще появится?
Был только один способ выяснить.
Баром «187» владела пара отставных полицейских, знавших, что нужно копам: крепкая выпивка, громкая музыка и кухня, открытая до половины пятого утра, чтобы накормить ребят, в два сорок пять закончивших ночную смену В угоду жестокой правде жизни хозяева арендовали секционный склад, втиснутый между пескоструйной фирмой и магазином автозапчастей на Блэкуэлдер-стрит в индустриальной зоне к югу от 10-го шоссе.
Никакой вывески, приваренная монтировка вместо дверной ручки. Джейкоб распахнул дверь, и его накрыло звуковой волной – гремучей, как сетка-рабица, острой, как колючая проволока.
Ближайшие жилые дома отстояли на два квартала, что, впрочем, не гарантировало от попадания в зону звукового поражения.
Флаг в руки тому, кто надумал бы пожаловаться на шум.
Зал кишел стражами правопорядка и теми, кто их любил и вожделел. Женщины-копы редко сюда заглядывали, и потому бар облюбовали гражданские дамочки с недавно истекшим сроком годности.
Джейкоб задержался на пороге, выглядывая Маю.
Она не затеряется в толпе.
Буфера. Телеса, выпирающие из юбок с заниженной талией, хозяйки которых целятся в угловую лузу, что-то шепчут кавалеру на ушко, покусывают ему мочку.
Маи не видно.
Невероятно, что она здесь была. Наверное, чувствовала себя жемчужиной в навозе. Еще невероятнее, что она его «убалтывала».
И отвезла домой? Совершенно немыслимо.
Снова тупик. Надо сваливать.
Но в динамиках гремела «Саблайм»[11], а Джейкоб разгулялся, уже не уснуть.
Сквозь три ряда амурничавших пьяниц Джейкоб протиснулся к стойке. За час до закрытия воцарилось отчаяние, парочки лихорадочно складывались и распадались, точно в безумном человеческом «Тетрисе».
Бармен Виктор уже наливал Джейкобу двойной бурбон. Верность, порожденная дурными привычками. Джейкоб представил собственные похороны: плачущая толпа барменов и продавцов из ночных магазинов.
Виктор поставил перед ним выпивку и повернулся к другому клиенту.
– Погоди! – крикнул Джейкоб, поманив его к себе. – Пару дней назад здесь была девушка, помнишь?
Взглядом Виктор будто спрашивал: как же тебя взяли в детективы?
– Она ушла со мной.
Виктор рассмеялся:
– Круг поиска не шибко сузился.
– Она была с подругой. Обалденно красивая, не помнишь?
– Таких сюда не пускают. – Виктор щелкнул по стакану Джейкоба: – Не горюй, еще четыре дозы, и в ком-нибудь ты ее разглядишь.
Он поспешил к нетерпеливым клиентам.
Джейкоб погонял виски в стакане и понял, что выпивать совсем не хочется.
Однако он должен соответствовать званию высокофункционального алкоголика. Хочешь не хочешь, а надо.
Джейкоб опорожнил стакан, кинул двадцатку на стойку и, развернувшись на табурете, уткнулся в чью-то грудь, большую и мягкую, как подушка.
Его всегдашний приз буднего дня: оплывшие бока, грубое лицо, вытравленные волосы; неразборчивая и крепко поддатая.
Девица надулась:
– Ты расплескал мою выпивку.
Джейкоб вздохнул и помахал Виктору.
Он подвел девицу к ее машине, показал свою «хонду» и велел ехать следом, добавив:
– Езжай осторожно.
– Да кто ж меня остановит? – ухмыльнулась девица.
В кухне Джейкоб стоял со спущенными штанами и, чувствуя, как ручка ящика впивается в голую задницу, периодически отхлебывал из бутылки, подстегивая угасавший задор.
Оторвавшись от его промежности, девица, сидя на корточках, одарила его суровым взглядом:
– Ты гляди там, не усни.
– Слушаюсь, мэм.
– Хорош нажираться, он у тебя и так уже пьяный. Погоди, писать хочу.
Щелкнув коленками, девица встала и вышла из кухни.
«Господи ты боже мой», – подумал Джейкоб.
Послышалось журчание. Звучное. Девица не закрыла дверь ванной.
– Уф, хорошо! – крикнула она.
– Захвати презерватив, ладно? В левом нижнем ящике.
Зашумел бачок. Уже без джинсов и в расстегнутой блузке девица вошла в кухню, шлепая презервативом о ладонь, точно сахарным пакетиком.
– У тебя там тараканы, – сказала она.
Джейкоб невольно сравнил ее с Маей, хотя понимал, что это несправедливо.
Может, такая и нужна, чтоб забыться?
Незамысловатая.
Джейкоб сел на стул, надел презерватив и хлопнул себя по ляжке:
– К вашим услугам.
Неуклюже перешагнув через его колени, девица растопырилась над ним, колыша грудями перед его лицом. Она уже изготовилась усесться, но вдруг замешкалась и топнула по полу.
– Фу! Купи «Рейд». – Девица снова топнула и тотчас вскрикнула: – Зараза!
– Что еще?
– Сволочь меня цапнула.
– Какая сволочь?
– Хрен ее знает. – Девица плюхнулась ему на колени.
И охнула.
Очередная ублаженная клиентка.
Джейкоб ухватил партнершу за мясистые бедра, стал раскачивать взад-вперед и не вдруг сообразил, что девица охает явно не от восторга.
Он поднял взгляд. Глаза у нее закатились, голова упала на грудь, изо рта тянулась нитка слюны.
Такого еще не бывало. Джейкобу случалось вырубиться, не закончив дело, но на нем еще никто не отключался. Оскорбившись, он встряхнул подругу:
– Эй!
Девица повалилась на него, по телу ее пробежала судорога.
Выругавшись, Джейкоб хотел ее поднять, но она соскользнула с его колен и грохнулась навзничь. Крепко саданувшись головой о холодильник, девица осталась лежать на полу, разбросав ноги.
Джейкоб упал на четвереньки, готовясь оказать ей первую помощь.
Бледная как смерть, девица испуганно заморгала:
– Что это было?
– У тебя надо спросить.
Она посмотрела на свою промежность, потом на его член и лицо.
Подхватилась и рванула из кухни.
Следом за ней Джейкоб прошел к ванной, где она поспешно одевалась.
– Ты как себя чувствуешь? – спросил он. – Ты же головой шандарахнулась.
– Нормально.
Надевая туфлю, девица задрала ногу, и Джейкоб увидел красный след на ступне.
– У тебя аллергия, что ли?
Девица не ответила.
– Меня как будто насадили на нож, – помолчав, сказала она.
– Я… – начал Джейкоб и осекся.
Надо извиниться или… что? В таком состоянии ей нельзя за руль. Джейкоб предложил гостье остаться, но та отмахнулась и, схватив сумочку, выскочила в молочное утро.
Обескураженный Джейкоб из окна смотрел, как она дает по газам.
Потом оделся и на четвереньках исползал всю квартиру в поисках тараканов.
Нигде ни единого, даже в ванной.
Тем не менее Джейкоб завязал мусорный мешок с вафлей и отнес в контейнер во дворе.
Потом дошел до магазина и купил средства от тараканов – распылитель и целую коробку ловушек.
Хотя тараканья версия ничего не объясняла.
Закатившиеся глаза. Свистящее дыхание.
Меня как будто насадили на нож.
Может, у нее какая-нибудь патология? Сухость. Презерватив-то выбрала со смазкой.
Возникла забавная мысль. На иврите член – зайин.
Так же называется седьмая буква еврейского алфавита

Еще одно значение слова – оружие.
Форма буквы напоминает клинок, булаву, топор.
Значит, у него убойный член.
Меч-елдак.
Эксхерлибур.
Не сдержавшись, Джейкоб рассмеялся.
Дома он расставил ловушки и израсходовал весь распылитель, окутав квартиру туманом. Потом распахнул окна и пошел в душ.
Когда Джейкоб вышел из ванной, телефон еще блямкал – голосовая почта от отца и эсэмэска от Дивии Дас: «звякните мне».
Нынче пятница, а он так и не ответил насчет ужина.
– Здравствуй, абба.
– Ты получил мое сообщение? – спросил Сэм.
– Я в замоте. Можно в другой раз?
Короткая пауза.
– Конечно.
– Извини, что раньше не сказал.
– Делай, как тебе нужно, – сказал Сэм. – Хорошей субботы.
– И тебе. – Джейкоб дал отбой и в адресной книжке нашел Дивию Дас.
– Доброе утро, детектив.
– У меня кое-что есть для вас, – сказал Джейкоб. – А у вас для меня?
– Разумеется. Сейчас можем встретиться?
– Скажите где.
Дивия назвала незнакомый адрес в Калвер-Сити.
Джейкоб обещал быть через пятнадцать минут.
Напротив его дома был припаркован белый фургон. Вроде бы он и вчера там стоял. Джейкоб точно не помнил, поскольку был пьян и следил исключительно за тем, чтоб подруга не сковырнулась с лестницы. Похоже, уже несколько дней фургон елозил по кварталу.
Кому-то приспичило подвесить много-много штор.
Сквозь ветровое стекло Джейкоб заглянул внутрь.
Инструменты, рейки, коробки с тканями.
Никакого громилы в наушниках.
«Не смеши людей», – сказал себе Джейкоб.
На пути в Калвер-Сити зазвонил телефон – снова отец. Джейкоб не ответил, дав работу голосовой почте.
По адресу, названному Дивней Дас, располагался многоквартирный дом в розовой штукатурке, фасадом выходивший на безвкусный Венис-бульвар. Под безнадежным объявлением о сдаче в аренду одно-, двух– и трехкомнатных квартир на газоне спал бездомный бродяга.
Припарковавшись в переулке, Джейкоб выключил мотор и прослушал отцово сообщение.
Привет, Джейкоб. Не знаю, получил ли ты мое предыдущее послание, но не хлопочи. Я справлюсь.
То сообщение он не прослушал. Теперь пришлось.
Привет, Джейкоб. Наверное, дел по горло, раз ты не звонишь. Ладно, ничего. У меня все готово, кроме одного. По ошибке Найджел привез две халы[12] вместо трех, и я хочу попросить: если не трудно, захвати еще одну. Я люблю с маком, но…
Джейкоб остановил запись и позвонил отцу.
– Джейкоб? Ты получил второе сообщение?
– Получил. Можно спросить, абба?
– Конечно.
– Ты вправду хотел избавить меня от мороки с халой или все это для того, чтобы я себя чувствовал виноватым?
Сэм усмехнулся:
– Не забивай себе голову.
Джейкоб протер глаз.
– Во сколько ужин?
Беленые стены Дивия Дас воспринимала как чистый холст, пригодный для игривой мешанины цвета и текстуры. Ядовито-оранжевое покрывало оживляло ветхую софу; телевизионная тумбочка пятидесятых со стеклянной столешницей превратилась в обеденный стол. Гостиную украшали ламинированные репродукции богов и богинь: Ганеша со слоновьей головой, божественная обезьяна Хануман.
Джейкоб хотел рассказать об исчезнувшем знаке, но Дивия безумолчно щебетала и, предложив позавтракать, поставила перед ним тарелку с печеньем и дымящуюся кружку.
– Извольте, – сказала она. – Настоящий чай.
Джейкоб от души прихлебнул. Крутой кипяток.
– Черт! – выдохнул он.
– Я как раз хотела сказать, что лучше подуть.
– Спасибо.
– Чистую свежую воду нужно довести до кипения. Американцы постоянно пренебрегают этим этапом, и результат удручающий.
– Вы правы, – сказал Джейкоб. – Ожог третьей степени придает незабываемый вкус.
– Вызвать «скорую»?
– Обойдусь молоком.
Дивия принесла молоко.
– К сожалению, ничего существеннее предложить не могу.
– И не надо. Мой самый сытный завтрак за долгое время.
– Стоит наябедничать вашей матушке.
– Если докричитесь, – сказал Джейкоб. – Она умерла.
– О господи. Простите, пожалуйста.
– Вы же не знали.
– Нечего было распускать язык.
– Не парьтесь. – Чтобы избавить хозяйку от неловкости, Джейкоб показал на дверцу холодильника, где магнитиками были пришпилены фото: – Вы и ваши?
На центральном снимке Дивия обнимала пожилую женщину в красном сари.
– Моя бабушка. А это… – Дивия кивнула на фотографию, где группа людей окружала нарядную пару, – свадьба брата.
– Когда вы перебрались в Штаты?
– Семь лет назад. В магистратуру.
– Колумбийского университета.
– Вы навели обо мне справки, детектив?
– Только в «Гугле».
– Тогда, конечно, вы знаете все, что вам нужно.
На холодильнике были еще снимки, которые, видимо, не требовали пояснений: Дивия фотографировалась на фоне экзотических пейзажей за умеренно рискованными занятиями – в альпинистской сбруе, в лыжной экипировке и очках, в компании подвыпивших девушек, салютующих бокалами с «Маргаритой».
Никаких поцелуев в будке моментального фото, никакого волосатого мужика в хирургическом костюме, ее облапившего.
– Я не сильно обеспокоила вас своим звонком? – спросила Дивия.
– Я уже не спал.
– Хотела вас поймать, прежде чем убегу на весь день. Странно, конечно, зазывать вас к себе, но так лучше. Приходится осторожничать. Мой непосредственный начальник не в восторге от вашей отсеченной головы. Сейчас несколько патологоанатомов уехали на конференцию, и у нас скопилась гора трупов.
– Что значит – не в восторге?
– Дословно он сказал: «У меня нет времени на диковины».
– Речь об убийстве.
– Он пытался меня убедить, что это музейный экспонат.
– Как и недавняя рвота?
– Я не говорю, что это было убедительно. И умно. Но незачем тратить время на споры. Иногда он жутко упертый, особенно в зашоре.
– Значит, вы позвали меня, чтобы извиниться? За то, что сваливаете?
Дивия улыбнулась. В левой ноздре сверкнула золотая пуссета, которую Джейкоб прежде не замечал.
– Боюсь, я маленько напроказила, – сказала Дивия.
В квартире были две спальни. Сквозь приотворенную дверь первой виднелась кровать с горой вышитых подушек.
Вторую спальню превратили в анатомическую минилабораторию. Толстая полиэтиленовая пленка поверх ковра. На складном столике медицинский лоток, на письменном столе микроскоп. Аккуратный ряд коробок с ярлычками: «скальпели», «пинцеты», «молотки». Контейнер для зараженных материалов, воздухоочиститель, упаковка с двумя тысячами нитриловых перчаток.
Джейкоб глянул на хозяйку.
– Выпросила, позаимствовала, украла, – пожала плечами Дивия. – Ничего особенного, в основном излишки. Собирала со студенческих времен. Протащить через таможню – тот еще подвиг, уж поверьте.
– Приятно встретить коллегу-трудоголика.
– Помогает скоротать время.
«И отчасти объясняет, почему ты одна», – подумал Джейкоб. Она все больше ему нравилась.
В нише на сетчатой полке стояли пять виниловых сумок. С розовой и зеленой, уже знакомыми по месту преступления, соседствовали оранжевая, черная и красная.
– Прямо «Секс в большом городе», – сказал Джейкоб.
– «Рвота». – Дивия показала на зеленую сумку. – «Отпечатки пальцев». (Черная.) «Кровь». (Красная.) «Фрагменты». (Розовая.)
– Для чего оранжевая?
– С ней я хожу на танцы. Мой любимый цвет. Кстати, откуда вы знаете про «Секс в большом городе»?
– От бывшей жены.
– А-а.
«Может, не стоило про жену?» – подумал Джейкоб, потому что Дивия тотчас вернулась к делу:
– Не хотелось, чтобы шеф заглядывал мне через плечо, поэтому я взяла материалы домой…
– Какие материалы?
– Голову. И рвоту. Они в холодильнике.
– Напомните, чтоб у вас я и мороженое не ел.
– Позвольте, я продолжу. От рвоты мало толку. В ней полно кислоты, чуть не разъела мне перчатку. Признаться, я так и не выяснила, чем запечатана шея. На коже нет волдырей и ожогов, сопутствующих высокотемпературной обработке. Возможно, тканевой клей – в больницах его используют для заживления ран.
– То есть человек в этом разбирается и имеет доступ к медицинским препаратам.
– Вероятно. Хотя трансглутаминазу[13] можно заказать по интернету. Ее используют повара. Называют мясным клеем.
– Свихнувшийся врач либо чокнутый шеф-повар.
– Либо ни тот ни другой. Однако это не самое интересное. С образцом головной ткани я прокралась в экспертную лабораторию, выделила ДНК и пробила по базе данных. Особых надежд не питала, но делать так делать. Вам повезло, детектив. Надеюсь, вы слышали об Упыре?
Еще бы он не слышал.
– Что ж, вы его заполучили. Вернее, его голову. Точнее, я заполучила. В свой холодильник.
Дивия присела в книксене перед опешившим Джейкобом:
– Вуаля.
В утро ее ухода отец вновь пытается отговорить Ашам:
– Тебе их не найти.
– Конечно – если сидеть сиднем.
Ева бормочет себе под нос.
– Наше место здесь. – Адам обводит рукой долину. – Нельзя уходить. Познание скрытого от тебя есть зло. Хуже нет греха.
– Думаешь? – спрашивает Ашам. – Могу назвать еще парочку грехов.
– Отец прав, – говорит Яффа. – Останься.
Ашам смотрит на убитую горем сестру. Золотистые волосы теперь как пакля, лицо в сизых прожилках. Она не желает снять вдовий наряд, не хочет работать, лишь день-деньской сидит на грязном полу и вяло ковыряет ладони.
Когда Каин и Нава бежали, бремя забот обрушилось на Ашам: натаскать воды, собрать хворост, раздобыть и сготовить пищу. Стиснув зубы, она работает, а Яффа знай себе голосит.
Где мой возлюбленный?
Кто отмстит за него?
Хочется ее встряхнуть.
Возлюбленный твой сгинул.
Отмщение на тебе.
Только надо прекратить вой.
Встать и действовать.
– Ты же не знаешь, каково на чужбине, – говорит Ашам сестре.
– В том-то и дело, – встревает Адам. – А если найдешь их? Скольких еще мне терять?
– Этого требует справедливость.
– Справедливость воздает Господь, не ты.
– Скажи это своему мертвому сыну.
Адам отвешивает ей пощечину.
В тишине Евино бормотанье – как вопль.
– Не уходи, – говорит Яффа. – Я не желаю ему зла.
– Что ж ты за упрямица? – вздыхает Адам. – Если уж прощает она, чего ты-то упорствуешь?
Вспомнив крик бесплотной души, Ашам отвечает:
– Ее там не было.
Поклажа ее мала. Запасные сандалии; шерстяная накидка и еще одна из кудели; фляжка; смертоубийственный камень.
Всё смастерил рукастый Каин.
Он сам снарядил ее в погоню.
Беглецам не обойтись без питьевой воды, и оттого, покинув родной уголок под сенью горы Раздумья, Ашам идет вверх по реке. На следующее утро добирается до крутой излучины – последнего рубежа их края. Дальше, сказал отец, запретная земля, о которой нельзя даже помыслить.
Ашам вспоминает далекий день, когда вместе с Каином смотрела на противоположный берег.
Как можно запретить думать?
Каин воспользуется суеверием.
На его месте она бы так и сделала.
Ашам переходит реку вброд.
Долина петляет, сужается и расстилается вновь. Обломанные лозы в потеках засохшего сока указывают дорогу, черные пятна кострищ – вехи пути беглецов. За спиной гора Раздумья испускает струйки дыма, съеживается, исчезает за горизонтом. Растительность впадает в буйство. Добрый лик земли становится равнодушным, а потом враждебно хмурится. Даже чрезмерно яркие полевые цветы выглядят зловеще. Странные звери смотрят в упор, безбоязненно. От далеких криков перехватывает дыхание. Дочиста обглоданные скелеты заставляют прибавить шагу.
В детстве Ашам пугали родительские рассказы о страшной судьбе всякого, кто забредет слишком далеко. Там невообразимая стужа и огненные реки – живьем опалишься, а кости твои обглодают дикие звери. В хватке кошмара она жалась к дрожавшей Яффе, и обе от страха плакали.
Утешал их Каин с его сердитой логикой.
Откуда им знать, если они там никогда не были?
Господь поведал.
Вы его слышали?
Нет, но…
Вас просто запугивают.
И я боюсь.
Чего? Зверей, огня или стужи?
Всего вместе.
Ладно. Давай по очереди. Во-первых, огонь и стужа опасны не только тебе, но зверям. Огонь и стужа ненавидят друг друга. Значит, в худшем случае тебе достанется что-нибудь одно, а не все разом. Говоришь, косточки обглодают? Да и плевать. Ты уже замерзла. Или сгорела. То есть ты мертвая и ничего не чувствуешь.
На этом аргументе Яффа зажимала руками уши и умоляла перестать. Ашам неудержимо хихикала.
Допустим, предки не врут, продолжал Каин. Хотя они врут. Но – допустим. Ты в безопасности, пока ты дома. Так они говорят? Ага. Ну вот. Не о чем беспокоиться. Всё, спите и хорош лягаться.
Он так долго был для нее кладезем ума, и оттого еще труднее понять его злодеяние. Часу не проходит, чтобы не вспомнилось его опухшее бездумное лицо.
Теперь он – кладезь кошмаров.
Гнев – плод, от которого куснешь, а он только больше. Гнев утоляет ее голод. Он – неумолчный барабанщик. Его ритм помогает идти, когда нет уже сил. Долгое восхождение к жертвеннику; всякий шаг священен. Она принесет брата в жертву небесам, спасет его, искупит его вину Акт милосердия и справедливости равно.
На двадцать шестой день она выходит из леса и видит невообразимую гору – вершина теряется в облаках.
Ашам плачет.
Потому что ужасно устала, а еще предстоит подъем.
Потому что даже не знала, что существует такая красота.
Река, потихоньку набиравшая силу, стала вдвое шире. С ревом вода бежит по горному склону, точит камни и, срываясь с уступов, взлетает пеленой брызг. В начале восхождения Ашам насквозь мокрая, зубы ее клацают. Сырость и скудеющая растительность заставляют помучиться с костром.
Судя по следам, Каин и Нава тоже с этим столкнулись.
На тридцатый день Ашам опускается на колени перед обугленными останками деревянного мула и всхлипывает, глядя на чудесное изобретение, ставшее головешками.
Каин мудро растянул запас на четыре дня – ей не досталось и щепочки.
Завернувшись в накидку, Ашам продолжает путь. От буйной растительности долины – ни следа. Ни деревца, ни клочка мягкой земли, лишь камни, на которых то и дело оступаешься, и валуны, из-за которых внезапно выскакивает злобный ветер, грозящий сдуть в пропасть.
Невообразимо холодно.
Наверное, все-таки родители говорили правду.
На жесткой земле никаких следов, взор все чаще упирается в непроглядную ширь серого камня. Ашам ставит себя на место Каина: куда бы он пошел?
И тогда вдруг пред нею сияет тропа.
И тропа неизменно приводит к черному пятну кострища под кургузым обломанным кустом – самому логичному привалу в сем нелогичном краю.
Ашам видит путь, потому что Каин-то не соврал.
Они с ним и впрямь очень похожи.
На тридцать третий день земля становится ослепительно белой.
Ашам ладошкой зачерпывает белизну и изумленно ахает: белизна тает.
Никакие слова не опишут сияние земли.
Ашам лижет ладонь.
Вода.
Река покрывается коркой, а вскоре и вовсе исчезает. Значит, здесь ее исток – его уверенно предрекал Каин, а отец отвергал как нечто совершенно невозможное.
Ашам не ела два дня. Она набивает рот белизной, холодящей горло, и продолжает путь.
Она жадно глотает воздух, но не может надышаться. Кружится голова, изо рта вырываются серебристые облачка. Сквозь звездную ночь Ашам карабкается вверх, боясь остановиться и заснуть.
На рассвете она видит ярко-красное пятно, расцветившее унылый пейзаж. Что это? Антам приближается, но мозг не желает воспринять кошмарное зрелище.
Мул. Настоящий. Без головы и хвоста. Туша освежевана и разделана.
Убой. Рукотворный.
Изголодавшаяся Ашам падает на колени и камнем срезает смерзшиеся ошметки.
Неизведанный вкус мяса. Будто жуешь собственный язык.
Ашам давится, но жадно глотает. Сытость вновь распаляет гнев.
На подбрюшье мула остался рваный кусок шкуры. Ашам его отдирает и отогревает, прижав к груди. Потом разрезает надвое и половинками обматывает онемевшие ступни. Другим куском шкуры, оставшимся на холке, укрывает шею и плечи.
Потом отламывает ребра и унизывает их мясными ошметками.
Мул безропотно трудился на полях. И по-прежнему их кормит.
На похороны бесполезных останков уходит полдня.
На тридцать шестой день Ашам достигает перевала.
Вершина окутана облаками, но в сизо-белой пелене виднеется проход к свету. Антам ковыляет по благодатно ровной земле. За белыми стенами что-то глухо гудит, трещит и скрежещет, Ашам спешит к свету, звуки громче, она бежит, но от них не скрыться, и воздух содрогается, а гора возмущенно ревет.
Ашам очнулась. Темно.
Последнее, что помнится, – обрушившаяся белизна и всепоглощающий холод.
Во рту сухо. Ашам сбрасывает одеяло, и тотчас от ледяного воздуха замерзают слезы в глазах. Ашам покаянно шарит вокруг себя – где одеяло? Если не найдется, она умрет. Нету. Но чья-то рука касается ее плеча, до подбородка укрывает одеялом, чей-то голос велит спать. Она покоряется.
Пробуждение. Голова ясная. Пещера, где лежит Ашам, заполнена холодным пульсирующим светом. Костра нет. Свет исходит от стен в блестящей слизи.
Высокий, как дерево, худой, как тростник, над Ашам склоняется человек в сияющих белых одеждах.
– Ты голодна, – говорит он, протягивая дымящуюся чашу.
Ашам подносит ее к губам и поперхивается: приготовилась к горячему, но похлебка из воды и злаков обжигающе холодна. Голод дает себя знать, и Ашам, распробовав угощение, уже не может остановиться и в один присест заглатывает пищу. Похлебка соленая, густая и сытная. Ашам вытряхивает в рот последние капли и облизывает края чаши.
– Еще? – спрашивает человек.
Ашам кивает и получает добавку из сияющего сосуда. Вторую порцию она смакует. Ашам преисполнена благодарности. И растерянна, и насторожена. До сих пор она видела только родных. Не было и намека, что на свете существует кто-то еще.
– Ты была в жару, когда я выкопал тебя из-под снега, – говорит человек.
– Из-под чего?
Человек усмехается.
– Меня зовут Михаил. Это мое жилище. Оставайся, пока не окрепнешь. Потом я провожу тебя в долину.
Ашам застывает, не донеся чашу до рта.
– Мне туда не надо.
Блики скачут по лицу Михаила, не давая толком его рассмотреть. То оно гладко и молодо, то словно древний камень.
– Мой путь через гору, – говорит Ашам.
– Твой брат далеко, – отвечает Михаил. – Разумнее вернуться домой.
– Ты его видел.
Михаил кивает.
– Где он? Нава с ним?
– Еще не поздно вернуться. Ты получишь нового брата.
– Новый не нужен.
– Такова воля Господа.
– Возможно, – говорит Ашам. – Но не моя.
Семь дней Михаил ее выхаживает, а на восьмой велит встать. Дает ей воду, сушеные плоды, орехи и чистую одежду. А еще цветастый мех, мягкий и прочный, легкий и теплый. Ашам никогда не видела зверя с таким мехом, но уже привыкает к тому, что мир значительно шире ее опыта. Она ничего не знает.
Михаил благословляет ее именем Господа.
– Идем, – говорит он.
Оказывается, пещера очень глубока. Они идут тоннелями, перешагивая через замерзшие лужицы. Становится теплее. Впереди возникает пятнышко света. Михаил останавливается. Его лицо без возраста будто состарено печалью. Ашам видит его словно впервые.
– Зло притаилось за дверью, – говорит Михаил. – Если не справишься с ним, оно всю жизнь будет тебя подстерегать.
Привыкшая к сумраку Ашам щурится от солнца. Воздух прохладен, сух и запашист. Ашам медленно отрывает взгляд от земли, припорошенной снегом. Ровный белый склон становится рыжеватым и каменистым; на шипастых растениях шевелятся букашки; край равнины в пожухлой траве, а вот и равнина – огромная, бурая, плоская, потрескавшаяся, она курится под блеклым небом, бескрайним, как само зло.
Джейкоб знал об Упыре. О нем знал каждый лос-анджелесский коп.
Криминальные телешоу смаковали жуткие детали «глухаря» более чем двадцатилетней давности: девять одиноких женщин изнасилованы, подвергнуты пыткам, искромсаны.
Время от времени какой-нибудь досужий журналист выкапывал дело и сообщал об отсутствии подвижек.
Когда произошли убийства, Джейкобу было лет восемь-девять, и он помнил парализованный город. Двери на два замка, по магазинам не шастать, охранники, встречи-проводы, нежданные каникулы.
Другие пацаны вряд ли заметили.
Но он, внимательный к непредсказуемому миру, заметил.
– Вы что-то расстроились, – сказала Дивия Дас.
– Да нет, я просто… обалдел.
– Как и я.
– Вы абсолютно уверены, что это он?
– Совпадение по всем семи из девяти эпизодов, в которых были получены образцы ДНК. Заметьте, не чьи-то, а именно преступника. Сперма из вагин жертв, в одном случае кровь, не принадлежащая жертве, – видимо, в суматохе убийца поранился. Но в базе его нет, так что вопросов не меньше, чем ответов. И мы не знаем, кто и за что его убил.
– На это у меня есть ответ, – сказал Джейкоб. – Справедливость.
Дивия Дас кивнула.
Новость застигла врасплох, и только сейчас Джейкоб сообразил, как быстро получены результаты. Насколько он знал, морока с ДНК-анализами занимает не меньше двух недель. Он поинтересовался, как же Дивия исхитрилась, и та пожала плечами:
– Высокопоставленные друзья.
– Особые друзья в особых местах, – сказал Джейкоб.
Дивия улыбнулась:
– Вы хотели что-то мне рассказать?
– Да.
Джейкоб поведал о визите в дом и показал фото столешниц без единого пятнышка.
– Может, причина в вашем составе…
Дивия молча разглядывала кадры.
– Вы промокнули знак.
Она кивнула.
– Ну и?
– Я проверила, нет ли едких реагентов. Как выяснилось, обыкновенный прожиг. Прибора для выжигания хватило бы.
Джейкоб так и думал.
– Но тогда остался бы след, – сказал он.
Глядя на фото, Дивия задумчиво поджала губы:
– Его можно зашкурить.
– Нет, не похоже. Вот, гляньте. – Джейкоб взял у нее камеру и отыскал ракурс вдоль столешницы. – Было бы заметно углубление в поверхности. А здесь ничего.
– Могли зашкурить всю плоскость.
Такая мысль его не посещала. И вот почему: это нелепица.
Как, впрочем, и предположение, будто кто-то заменил все столешницы.
– Возможно, – сказал Джейкоб. – Есть другие версии?
Пауза.
– Толковых нет, – сказала Дивия.
– Может, стоит опросить подрядчиков.
Дивия вежливо улыбнулась.
– Так или иначе, в доме кто-то побывал. Я искал отпечатки пальцев – ни черта. Хотя мог что-то проглядеть.
– Если хотите, я съезжу.
– Вас не затруднит?
Дивия покачала головой.
– Спасибо, – сказал Джейкоб. – Будьте осторожны.
– Буду.
– Могу вас сопроводить.
– Совсем не обязательно. – Улыбка Дивии погасла.
Пора уходить, понял Джейкоб. И тем более пал духом, поймав себя на желании коснуться ее, попросить о встрече, сказать, что ему хочется больше узнать о женщине с фотографий на холодильнике. Джейкоб себя одернул, вспомнив, как закатились глаза обеспамятевшей девицы из бара.
– Если вдруг возникнут идеи… – начал он.
Дивия кивнула:
– Я вас извещу.
По пути домой Джейкоб заехал в кошерную бакалею Жика. Взяв талончик, занял очередь в толпе домохозяек и их полномочных представителей. После встречи с Дивней Дас он жалел, что согласился на ужин с отцом. Потерянный вечер. А надо отрабатывать версии.
Может, завезти халу и слинять? Нет, нельзя так со стариком.
Ясно, что он ответит.
Конечно. Не бери в голову.
Но в том-то и дело: отец из кожи вон лезет, чтобы Джейкоб не угрызался. Джейкоб сам себя накручивает. Видно, так и не стал по-настоящему взрослым.
Продавщица выкрикнула его номер, приняла заказ и вручила теплый пакет. Пока Джейкоб ехал домой, «хонда» пропиталась душистым хлебным ароматом, и он решил, что отработка версий подождет.
Жертва была изрядной сволочью, безнаказанно совершившей девять убийств.
Теперь ее грохнули. Ну и нечего гнать лошадей.
Кинув пакет с халой на письменный стол, Джейкоб задумался.
По его прикидкам, мистеру Черепу было от тридцати до сорока пяти. Однако убийства происходили в конце восьмидесятых – то есть вероятнее верхний возрастной предел. Выходит, слегка просчитался. Бывает. В краю Лицевых Подтяжек и Ботокса первое впечатление всегда обманчиво, точнее всего возраст определяется по рукам. Они не лгут.
Хорошо бы имелись руки.
Хорошо бы имелось тело.
Сколько бы лет ему ни натикало, мистер Череп давненько не колобродил.
Видимо, не все согласны с тем, что отсрочка правосудия означает его отсутствие.
Кто-то знал тайну Упыря и покарал его, не дожидаясь, пока закон раскачается.
Цедек.
В библейском иврите у слов уйма смысловых оттенков. Например, есть однокоренное слово цдака[14] – милосердие.
Неожиданная, даже противоречивая смесь понятий. В английском «справедливость» и «милосердие» противоположны. Справедливость подразумевает букву закона, поиск абсолютной истины, неизбежность наказания.
Милосердие умеряет и смягчает справедливость, вводит переменную сострадания.
Убийство убийцы может считаться актом справедливости и актом милосердия.
Справедливость к жертвам. Их близким.
Милосердие к потенциальным жертвам.
Даже милосердие к самому мистеру Черепу – избавление от дальнейших злодеяний.
На иврите эти два слова разнятся женским суффиксом – буквой «хей», обозначающей имя Бога.
Пожалуй, цдака — этакая женская форма справедливости.
Вспомнился «Венецианский купец» и речь Порции в суде. Женщина в мужском наряде призывает к милосердию.
От слова цедек происходит и цадик — праведник, который творит добро, зачастую тайно, не ожидая признания и награды.
Творец справедливости; творец милосердия.
Не так ли видел себя убийца мистера Черепа?
Или видела?
Почему нет? Хэмметт сказал, звонила женщина.
Джейкоб проверил электронную почту – не откликнулась ли диспетчерская 911. Нет, лишь куча спама. Начал было писать отчет Маллику, но потом стер черновик. Сам еще не понял, что у него есть.
Запрос в архиве «Таймс» об Упыре выдал семьсот совпадений. Джейкоб сузил поиск временными рамками. Может, у кого-нибудь из жертв явно еврейская фамилия.
Хелен Джирард, 29 лет.
Кэти Уэнзер, 36 лет.
Криста Нокс, 32 года.
Все молоды, любимы, красивы; каждая – первая в геометрической прогрессии рухнувших жизней. Уэнзер – блондинка, врач-массажист, работала на дому. Джирард и Нокс – брюнетки, у них остались опечаленные любовники и убитые горем родители.
Патриша Холт, 34 года.
Лора Лессер, 31 год.
Дженет Стайн, 29 лет.
Парад счастливых лиц подрывал желание искать убийцу Упыря.
Джейкоб пометил Лессер и Стайн.
Инес Дельгадо, 39 лет.
Кэтрин Энн Клейтон, 32 года.
Шерри Левек, 31 год.
Напрашивается удобный вариант еврейской жертвы и еврейского мстителя. Но сами по себе имена ни о чем не говорят. Бывают евреи с нееврейскими именами, и наоборот. Бывают смешанные семьи. Бывают друзья. Бывает, кто-нибудь случайно столкнется с делом, заинтересуется и потом невольно с головой влезет. С копами такое сплошь и рядом.
Однако надо найти зацепку.
Джейкоб почитал о Лоре Лессер. Медсестра в доме престарелых. Миловидная, как все ее подруги по несчастью.
Дженет Стайн держала в Уэствуде книжную лавку. Панихида прошла на кладбище Бет-Шалом.
Там же похоронена и его мать.
Одна бесспорная жертва-еврейка.
Вновь полистав архивы, Джейкоб натолкнулся на статью девяносто восьмого года – очередную вспышку интереса к событиям десятилетней давности. Эстафету принял детектив Филип Людвиг, поклявшийся перепроверить все версии и задействовать любые ресурсы, включая новую фэбээровскую базу данных ДНК.
Через пять лет оптимизм его поугас.
Надеюсь, преступник, кем бы он ни был, уже мертв и не станет причиной новых трагедий.
Есть ли у родственников жертв надежда на катарсис?
Не понимаю смысла вопроса.
В статье говорилось, что в конце года Людвиг выйдет на пенсию. Чем займетесь на досуге? – поинтересовался репортер.
Придумаю себе хобби.
В ответах детектива читалась виноватая досада, и Джейкоб готов был спорить на сотню баксов, что «хобби» Людвига – торчать дома и казниться.
Выяснилось, что живет он в Сан-Диего. Слишком далеко, к ужину не обернуться. Джейкоб оставил короткое сообщение на голосовой почте.
Он хотел разыскать координаты родственников жертв, но потом решил, что лучше сначала переговорить с Людвигом. Значит, на сегодня все.
Битники первыми колонизировали Силвер-лейк, Лос-Фелис и Эко-парк, и нынче фургоны с тако, за рулем которых сидели усатые выпускники кулинарных техникумов, увешанные серьгами размером с хулахуп, были так же привычны, как такерии.
У застройщиков, добравшихся до океана, иссяк запас площадей, и тогда они, учуяв конъюнктуру, повернули обратно – реанимировать бизнес на материке. Возводя «зеленые» высотки с фитнес-клубами и подземными парковками, деляги пытались заманить покупателей обещаниями ночных развлечений, которые, мол, вскоре здесь расцветут. На взгляд Джейкоба, они сами себя дурачили. Настоящих толстосумов всегда тянуло на запад. Не имевший центра Лос-Анджелес – вечный конгломерат семидесяти двух предместий в поисках города.
Но даже самые рьяные прожектеры держались подальше от района Бойл-Хайтс: число убийств – едва ли не высочайшее в городе. На мосту Олимпик-бульвара Джейкоб увидел открытую торговлю наркотиками и наглые ухмылки парней, поигрывавших пистолетами.
Название Мемориального парка Бет-Шалом говорило о местоположении еврейской общины, давно покинутой обитателями. Вообще-то, между шоссейными развязками вклинились три кладбища: «Сад покоя», «Гора Кармель» и «Дом Израилев». Новые захоронения проводились лишь на первом, два других были заполнены еще в семидесятые.
На входе в «Сад покоя» Джейкоб увидел вырезанную на воротном столбе надпись «Основано в 1883 г.» и подумал, сколько же еще места здесь осталось.
Покойники накапливались неумолимо, точно долги.
Говорливость смотрителя выдавала в нем кладбищенского новичка. Он записал номера захоронений Дженет Стайн и Вины Лев, примерно отметив их на плане.
– Знаете, тут у нас могила Кудрявого[15].
– Чья?
– Ну этого, из «Трех придурков». – Смотритель пометил участок под названием «Сад Иосифа».
– Спасибо, – сказал Джейкоб. – Буду иметь в виду.
И зашагал по лужайкам к Залу памяти. День выдался душный, рубашка липла к спине.
Витражное окно испятнало мозаичный пол розовыми и багровыми бликами. В колумбарии не было кондиционера (здешним обитателям он не требовался), и увядшие цветы в стаканах добавили красок, усыпав пол лепестками.
Джейкоб нашел ее в середине прохода.
Дженет Рут Стайн
17 ноября 1968 – 5 июля 1988
Любимая дочь и сестра
Смерть, не кичись
Цитата из Донна[16] заинтриговала. Обычно видишь что-нибудь библейское. Впрочем, стихотворная строчка вполне уместна для поклонницы литературы, в ком Джейкоб вновь почувствовал родственную душу. Перед визитом сюда он справился о бывшей книжной лавке Дженет Стайн. Как многие несетевые магазинчики, лавка почила. Джейкоб попытался мысленно передать Дженет, что человек, оборвавший ее молодую жизнь, кончил скверно. Обругал себя никчемной бестолочью.
Оттягивая время, он решил навестить Кудрявого.
Знаки, высеченные на надгробиях в «Саду Иосифа», извещали о профессии или общественном положении усопшего. Воздетые в благословении руки – коэн. Вода, льющаяся из чаши, – левит[17]. Юристам достались весы, врачам – кадуцей. Малочисленным киномагнатам – пленочные кинокамеры. Пальмы замерли в вечном экстазе. Похоже, здешних покойников давно не навещали – никто не оставил камешков на надгробиях.
Одного Кудрявого не обошли вниманием. На его могиле кто-то камушками выложил
ГЫК
ГЫК
ГЫК
Джейкоб рассмеялся, положил камешек на надгробие и пошел дальше.
Точно корабль, угодивший в вялый водоворот, он бродил вокруг участка с могилой Вины. «Сад Эсфири» был относительно нов, и надгробия посовременнее: из отросшей травы поднимались черные гранитные плиты. Издали участок напоминал вспаханное поле. Джейкоб читал надписи, клал камушки на забытые могилы. Солнце палило, а он не сообразил захватить шляпу и воду. Половина третьего. Еще можно проскочить до пробок, если выехать прямо сейчас. Останется время на душ и дорогу к отцу. В самом деле, лучше приехать сюда в другой раз, когда сможет побыть подольше.
Бесконечно увиливать не вышло. Он уже дошел до нужного ряда. Вот, девятая могила.
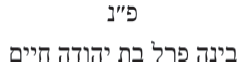
Любимая жена и мать
Бина Райх Лев
24 мая 1951 – 11 июля 2000

Джейкоб даже не помнил, когда последний раз навещал мать. Отец приезжал регулярно – в годовщину смерти, конечно, и накануне больших праздников. Найджел его привозил и помогал добраться до могилы.
Сыновний долг. Сэм никогда не просил.
Джейкоб сам не вызывался.
Непритязательное надгробие – странно для той, кто мог себя выразить лишь через свое искусство; нелегкое сосуществование набожности и крайней независимости, асимметрии и порядка.
В ее работах виделся человек, прекрасный своей противоречивостью.
В ней самой читалась тайна.
Матери его одноклассников возили ребячьи оравы на футбольные матчи и, не жалея маргарина, хлопотали над пятничными ужинами из жирного мяса с картошкой. А Бина Лев, даже в лучшие свои дни рассеянная и замкнутая, вполне могла отправить сына в школу в разных ботинках и с пустой коробкой для завтрака.
Вот только лучшие дни бывали нечасто.
А он с детства был сообразителен – на редкость. Понимал причины и следствия. Соображал, что означают пустоты в фотоальбоме. Первый раз мать очутилась в больнице, когда он только начал ходить.
Когда случались приступы тяжелой депрессии, Бина просто не обращала внимания на сына. А вот ее мания была террористом, бравшим семью в заложники. Мать бранилась с голосами. Ломала вещи. Целыми днями без сна и еды торчала в гараже, бессчетно ваяя новую утварь. Потом наконец выходила и заваливалась спать, ничего не объясняя ни мужу, ни тем более сыну.
Позже он понял, что мать пыталась уберечь его от лавины своего безумия. Но тогда казалось, будто он смотрит на неприступную скалу, не желавшую объяснять свое разрушение.
Все это длилось долго. И безжалостно.
Единственное утешение – он не видел финала.
В начале выпускного года школьный раввин сказал, что перед поступлением в колледж было бы полезно поучиться в иешиве[18]. Одни сразу отказались, другие раздумывали, третьи, вроде Джейкоба, моментально упаковали чемоданы.
Не терпелось уехать подальше.
Из Иерусалима он звонил примерно раз в полтора месяца и сквозь шорохи таксофона слышал голос отца, полнившийся отчаянием.
Я за нее тревожусь.
Восемнадцатилетний Джейкоб, одуревший от свободы, закипал праведным негодованием. Их разделяли восемь тысяч миль.
И чего ты от меня хочешь?
Колледж снабдил целой обоймой отговорок, чтобы не ехать домой. В День благодарения новоиспеченная подружка пригласила его на праздничный обед. Потом решила угостить его настоящим Рождеством в своем доме на Кейп-Коде. Незадолго до весенних каникул девица переметнулась к хоккеисту, и деньги, отложенные на билет домой, он истратил на поездку в Майами. Компанию составили соседи по комнате, тоже получившие отлуп от подруг.
Она о тебе спрашивает.
Раньше чего-то не спрашивала.
Ну пусть еще поспрашивает.
В то лето он остался в Кембридже – работал ассистентом профессора английского языка, надеясь заполучить его в научные руководители. Выпросил себе ставку и комнату в кампусе, где молчком стоял телефон. Однажды он зазвонил.
Официально иудаизм отвергал самоубийство, обрекавшее душу на вечные скитания, и запрещал близким скорбеть по грешнику. Но есть лазейка, сказал ребе.
Если покойный был душевнобольным – так сказать, узником хвори, – он не в ответе за свои действия.
Вина как нельзя лучше соответствовала характеристике. Но его бесило, что для скорби нужна лазейка. Позже он приводил это как яркий пример того, что оттолкнуло его от религии.
Из-за одного дурака нельзя всё отшвыривать, сказал Сэм.
Но в том-то и дело, что дураков было много. Все бабушки и дедушки умерли еще до рождения Джейкоба, и первый личный опыт убедил его, что он больше никогда не повторит траурную процедуру. Окаменелое лицемерие, изображение чувств. Рви одежды. Сиди на полу. Не мойся. Не брейся. Только молись, молись, молись.
Так мне легче, сказал Сэм.
Это не по-людски, ответил Джейкоб.
Семь дней они вдвоем сидели в пыльной гостиной, а череда чужаков фальшиво сочувствовала.
Она в лучшем мире.
Она желает вам счастья.
Да утешит Господь вас и всех скорбящих Сиона и Иерусалима.
Они с отцом кивали и улыбались, благодарили засранцев за мудрость.
Вернувшись в Бостон, Джейкоб методично удалил соболезнования, которыми была забита голосовая почта. Тогда он еще не знал, что на долгие годы вырабатывает привычку легко избавляться от привязанностей.
«Вторник, 11 июля», – сказала голосовая почта.
Тот день. Наверное, отец – позвонил, сказал такое, чего неохота снова слушать. Джейкоб собрался удалить сообщение, как вдруг услышал голос. Не Сэма.
Бины.
«Джейкоб, – сказала она. – Прости меня».
Неизвестно, что было больнее: что не удосужился ответить или что в первый и последний раз она просила у него прощения.
Он стер запись.
– Мы закрываемся, сэр.
Джейкоб встал, отряхнул травинки с коленей и бросил прощальный взгляд на надгробие.
Большой черный жук выбежал на середину гранитной плиты и замер.
Нахмурившись, Джейкоб его шугнул.
Жук метнулся в сторону и бочком перебежал в правый верхний угол.
Другое освещение, иной ракурс, а Джейкоб – отнюдь не энтомолог.
Но похоже, это тот самый жук из злополучного дома.
Забрался в машину, что ли?
И прикатил к нему домой?
У тебя там тараканы.
За свою жизнь Джейкоб повидал немало паразитов. Но этот жук куда больше всякого таракана. Хотя пьяной бабе не до сравнений.
– Сэр, вы слышите?
Джейкоб медленно протянул руку к жуку – удерет?
Жук выжидал.
Джейкоб положил руку на плиту – жук перебрался ему на пальцы.
Джейкоб поднял руку и рассмотрел его.
Выпученные бутылочно-зеленые глазки тоже его разглядывали.
Зловещий шип украшал сердцевидную голову; зазубренные челюсти выдавались вперед. Вспомнив красный след на ноге девицы, Джейкоб чуть не стряхнул жука. Но челюсти открылись и мягко сомкнулись – без всякой угрозы. Джейкоб выудил из кармана мобильник и сфотографировал жука. Тот охотно позировал – приподнялся, демонстрируя глянцевое брюшко и бесчисленные сучащие лапки.
Раздался голос смотрителя:
– Сэр, прошу вас.
Жук раздвинул панцирь на спинке и, выпустив прозрачные крылышки, улетел.
– Извините, – сказал Джейкоб.
Зашагали к воротам.
– Я думал, вы давно ушли, – сказал смотритель. – Хотел запирать. Вот уж было б весело. Мы откроемся только в воскресенье.
– Смотря что считать весельем, – ответил Джейкоб.
Сторож недоуменно покосился.
– Хороших выходных, – сказал Джейкоб.
Последние тринадцать лет Сэм Лев жил в многоквартирном доме, принадлежавшем состоятельному прихожанину Эйбу Тайтелбауму. Эйб и Сэм приятельствовали лет с двадцати, на пару изучали Талмуд, отчего Сэм и занимал теперь жилплощадь управдома.
Видит бог, должность была не хлопотная. Обязанности Сэма ограничивались запоминанием списка телефонов. Получив жалобу на неисправный бачок или забарахливший кондиционер, он отвечал: «Сию секунду» – и, дав отбой, тотчас набирал соответствующего умельца.
Однако Эйб не преминул все так оформить, что проживание Сэма выглядело не милостыней, а работой, платил номинальное жалованье и отказывался взимать квартплату, уверяя, что она удержана из причитавшейся суммы.
Перед входом в крохотное жилье был типовой бетонированный дворик с парой почерневших пластиковых кресел и столь же неприглядным общепитовским столом. Терракотовая кадка с бесплодной землей пустовала. Задержавшись в этом великолепии, Джейкоб отключил звонок мобильника и достал из кармана замшевую кипу. Задубевший головной убор обрел форму пирожка, поскольку хранился на дне комодного ящика вдвое сложенным. Безуспешно попытавшись разгладить кипу на колене, Джейкоб ее надел и зашпилил. На голове чувствовалось что-то инородное. Наверное, он смахивал на хохлатого попугая.
Сэм не спешил ответить на стук. Забеспокоившись, Джейкоб постучал вновь.
– Иду, иду… (Дверь отворилась.) Доброй субботы.
Отец. Мешковатый серый костюм, белая сорочка, черные мокасины. Огромные солнечные очки с красными стеклами. Перекошенный галстук – узкий конец выглядывал из-под широкого. Ужасно хотелось поправить.
– Извини, что опоздал. Застрял в центре, пробки чудовищные.
– Ничего. Я только что из шула. Входи.
Джейкоб осторожно прошел в гостиную. В башнях из картонных коробок – две в ширину, четыре в высоту – хранилась разнородная библиотека: традиционные еврейские тексты и бесчисленные работы по физике, философии, филологии, астрономии и математике. А еще книги, неортодоксальность которых Джейкоб оценил лишь недавно: классики суфизма и буддизма, христианские мистики и гностики. В третьем классе он шокировал учителя, притащив в школу для доклада «Тибетскую книгу мертвых». Директор ребе Бухбиндер вызвал отца.
Глаза, читавшие подобный вздор, должны ослепнуть.
По дороге домой Джейкоб скорчился на пассажирском сиденье, предвидя взбучку. На светофоре Сэм остановился и взял его за руку.
Не всякий ребе достоин своего звания.
Но он сказал…
Я знаю, что он сказал. Он дурак.
В девять лет подобное откровение шокирует.
Зажегся зеленый. Сэм дал газу.
Нельзя бояться идей, сказал он. Следуй за доводом, куда бы он ни привел.
Лишь через десять лет Джейкоб понял, что отец цитировал Сократа.
Но похоже, чаша весов склонилась в пользу Бухбиндера, ибо Сэм и впрямь стал слепнуть. Началось это вскоре после школьного инцидента. Мутное пятнышко перед глазами постепенно разрасталось, поглощая цвета и очертания. В тусклом освещении Сэм видел лучше и потому завел привычку всегда носить солнечные очки, в гостиной задергивать шторы и пользоваться маломощными лампочками. Только он, ведомый мысленной лоцией, мог уверенно курсировать по своей библиотеке. Зрение вроде бы стабилизировалось, но угроза слепоты сохранялась – болезнь признали хронической, неизлечимой и, что самое приятное, наследственной.
С возрастом Джейкоба ожидал богатый выбор.
Безумие?
Слепота?
Зачем выбирать, если можно заполучить всё?
– Надеюсь, тебя проводили домой, – сказал Джейкоб.
Сэм дернул плечом.
– Ты сам добрался?
– Со мной все хорошо.
– Пап, это небезопасно.
– Ладно, сяду за руль, – невинно сказал Сэм.
– Очень смешно. Пусть Найджел тебя возит.
– Ему и так дел хватает.
Пакет с халой Джейкоб положил на стол под белой клеенкой, сервированный на двоих: бутылка вина, кривые вилки. Принюхиваясь, заглянул в кухню. Иногда отец путал краны на плите.
Горелым не пахло.
Не пахло вообще ничем.
– Абба, ты еду поставил разогреться?
– Конечно.
Джейкоб открыл духовку. Обернутые фольгой сковородки на холодных противнях.
– А газ-то включил?
Молчание.
– И на старуху бывает проруха, – сказал Сэм.
Начали с «Шалом Алейхем» – гимна в честь ангелов Шаббата. Потом Джейкоб смолк и слушал сочный баритон отца, нараспев читавшего «Эйшет Хаиль» – финальные стихи «Книги притчей Соломоновых», оду героической женщине:
Миловидность обманчива и красота суетна;
но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы.
Дайте ей от плода рук ее,
и да прославят ее у ворот дела ее!
Настрадавшийся отец спустя столько лет все еще воспевал Бину. Джейкоб злился и благоговел.
– Твой черед. – Сэм потянулся к голове сына, но замешкался. – Если хочешь.
– Давай ты. А я чем смогу помогу.
Маленькому Джейкобу родительское благословение казалось тарабарщиной косноязычного ангела. Иногда Сэм, улыбнувшись, приседал на корточки, чтобы сын возложил руки ему на голову и торжественно произнес: Эне-бене, ляка-бяка, Шаббат, аминь.
Сейчас они стояли лицом к лицу; улавливая запах душистого мыла, Джейкоб зачарованно смотрел на шевелящиеся отцовские губы. Сам-то Джейкоб больше походил на мать, у которой были густые черные волосы, на висках припорошенные сединой, и влажные зеленоватые глаза, еще более не от мира сего, чем у него. Он унаследовал ее открытый недоуменный взгляд, который сразу располагал к нему женщин, затрагивая в них материнскую струнку, но потом пробуждал ярость.
Не смотри так.
Как – так?
Будто не понимаешь, о чем я говорю.
А вот угловатый сухопарый Сэм точно выструган из полена. Выпуклый лоб – казалось, мозгу тесно в черепе. Сочинительство, думал Джейкоб, хорошая отдушина, иначе отцовская голова не выдержала бы скопления теологических концепций и взорвалась, как ядерный реактор, в радиусе полумили все укрыв серым веществом и цитатами из Торы.
Сэм снял очки. Внешне болезнь не сказалась – все те же ярко-карие, почти черные глаза. Прикрытые веки подрагивали в такт тихим словам:
Да уподобит тебя Бог Эфраиму и Менаше.
Да благословит тебя Господь и сохранит тебя.
Да прояснит Господь лицо Свое для тебя и помилует тебя.
Да обратит Господь лицо Свое к тебе и дарует тебе мир.
Сэм потянулся к сыну и влажно чмокнул его в лоб:
– Я люблю тебя.
Второй раз за неделю.
Собрался помирать, что ли?
Джейкоб до краев наполнил керамический бокал (творение Вины) красным вином и осторожно передал отцу. Читая кидуш[19], Сэм немного расплескал вино – лиловое растеклось по белой клеенке, как евреи по планете. Потом они выпили, омыли руки в чаше (тоже произведение Вины) и, преломив халу, обмакнули ломти в соль.
Решив пренебречь холодным супом, сразу перешли к главному блюду Сэм, пожелавший выступить в роли официанта, подал тарелки с жареной курицей, бататом, пловом и огуречным салатом.
– Недостаточный разогрев компенсируем изобилием.
Еды и впрямь было много. Джейкоб растрогался, поскольку отец далеко не роскошествовал. До того как зрение стало падать и Сэм взялся за так называемое управдомство, он наскребал на жизнь тем, что задешево вел бухгалтерию соседей-стариков и составлял им налоговые декларации. Его безразличие к материальным благам и неиссякаемая преданность покойной жене восхищали и обескураживали.
– Все очень вкусно, абба.
– Чем еще тебя угостить?
– Пожалуйста, сядь и поешь. – Джейкоб вилкой подцепил пружинистый кусок иерусалимского кугеля, сладкого и наперченного. – Ну, как дела?
Сэм пожал плечами:
– Как обычно. Бумагу мараю.
– Над чем работаешь?
– Тебе интересно?
– Я же спросил.
– Может, просто из вежливости.
– А что, вежливость – это плохо?
Сэм улыбнулся.
– Ну, раз уж ты спросил, пишу комментарий к комментариям Махараля по «Сангедрину»[20], уделяя особое внимание вопросам теодицеи[21] и реинкарнации.
– Я чую бестселлер.
– Несомненно. На роль Махараля залучим Тома Круза.
Сэм был раввином (но не позволял себя так называть), и среди книжных башен было немало его трудов – общих тетрадей с рукописными эзотерическими трактатами. Всякий раз Эйб Тайтелбаум заказывал отпечатать десяток-другой экземпляров, которые Сэм продавал.
То есть, в теории. На практике он раздаривал книги всем, кто проявлял к ним малейший интерес, а потом безуспешно пытался из своего кармана расплатиться с Эйбом.
Когда Сэм, взмахивая изящными руками пианиста, пустился в пересказ своей последней работы, Джейкоб надел дежурную улыбку и включил кивки. Большинство идей в разных версиях он уже слышал. Отец, считавший рабби Лёва, Махараля, главным предметом своих истолкований, говорил и писал о нем, сколько Джейкоб себя помнил. Лёв никогда не ошибался. Обладал невероятными способностями. Он был гадоль дахор — величайший богословский ум своего времени. Ламедвавник – один из тридцати шести тайных праведников, на которых держится мир[22]. Абрахам, Эйнштейн, Малыш Рут и Зеленый Фонарь[23] в одном лице. Одновременно загадочный и близкий, эдакий экзотический плод с дальней ветви семейного древа, нечто вроде четвероюродного брата, который вечно отсутствует на родственных сборищах (в Гватемале строит доступный дом на солнечных батареях или на Шри-Ланке ныряет за жемчугом) и потому всегда становится центральной темой разговора.
Джейкоб запомнил один редкий случай, когда у Вины проснулось материнское чувство. Сэм как-то раз надумал почитать сыну о сотворении пражского Голема. На обложке было изображено желтоглазое чудище, которое тянуло ручищу к какой-то невидимой бедной жертве. Джейкоб, лет четырех или пяти, перепугался до икоты. В пижамке он бросился к Вине. Мать подхватила его на руки и взгрела мужа.
Почитай ему нормальную книжку, как нормальному ребенку.
Пожалуй, это был спорный выбор для чтения перед сном.
Резкий электронный клич перебил монолог Сэма. Джейкоб вышел из задумчивости и достал мобильник. Вроде выключал же. Он нажал кнопку отключения звонка, но телефон вновь заверещал.
– Ответь, – сказал Сэм.
Джейкоб еще раз ткнул кнопку. Чертова штуковина звонила.
– Никакой срочности.
– Вдруг что-то важное.
Через лабиринт коробок взмокший от неловкости Джейкоб выбрался во дворик.
– Алло?
– Детектив Лев? Фил Людвиг.
– A-а… здравствуйте.
– Я не вовремя?
– Нет, все нормально. – Сквозь драную тюлевую штору Джейкоб видел отца. Сэм пристроил вилку с ножом на край тарелки и, скрестив руки на впалом животе, невидяще смотрел перед собой. – Спасибо, что перезвонили.
– Угу. Чем могу быть полезен?
– Я веду расследование, которое перекликается с одним вашим давним делом. Может, чего подскажете?
– Что за дело?
– Упырь.
Целых десять секунд Людвиг молчал. Когда вновь заговорил, тон его был настороженным, почти враждебным:
– Вот оно как.
– Похоже, так.
– И что?
– Кажется, я его взял, – сказал Джейкоб.
Людвиг выдохнул. Тяжко.
– Детектив? – окликнул Джейкоб.
– Секунду.
В трубке хрюкнуло, будто Людвиг ненароком проглотил окурок.
– Детектив? Как вы там?
– Ничего, – ответил Людвиг.
– Точно?
– Я… господи… не знаю… Вам виднее.
– Хотелось бы пересечься.
– Вы его взяли? Черт… Я думал, вы скажете, что у вас новый труп.
– Я и говорю. Упырь мертв.
– Боже мой. Вы шутите.
– Я бы не стал этим шутить. Завтра сможем повидаться?
Договорились о встрече в одиннадцать. Прощаясь, Джейкоб снова спросил, все ли в порядке.
– Нормально. Учтите, если вы решили потешиться…
– Избави бог.
– …я вам шею сверну, – сказал Людвиг.
– Прости. – Джейкоб сел за стол. – Новый телефон. Почему-то не выключается. Все равно извини, что нарушил субботу.
– Ничего, это допустимо. Полицейского и врача призывают в любое время.
– Никто не умрет, если я не отвечу на звонок.
– Поди знай.
– В данном случае – никто. – Джейкоб подвинул к себе тарелку и заметил, что отец почти не притронулся к еде. – Абба, ты, часом, не заболел?
– Я? Нет. А что, плохо выгляжу?
– Ты ведь сказал бы, если б тебе нездоровилось.
– Конечно.
– Ты ничего не ешь.
– Да? – Сэм сощурился на тарелку. – Наверное, замечтался.
– Ты рассказывал о Махарале.
– Ну и будет. Не хочу раскрывать концовку. – Сэм улыбнулся – мол, он понимает всю нелепость предположения, что Джейкоб или вообще кто-нибудь прочтет его книгу. – Лучше расскажи о себе.
– Особо нечего рассказывать. Работа.
– Я догадываюсь. Что-нибудь захватывающее?
– Тебе вправду интересно?
– Я же спросил. – Сэм подмигнул левым мутноватым глазом. – Но может, просто из вежливости.
Джейкоб рассмеялся:
– Уел. Ладно. Не знаю, правда, насколько можно вдаваться в детали.
– Насколько сочтешь нужным.
– Хорошо. – Впервые за все время сферы их деятельности вскользь соприкоснулись. Умалчивать – как-то неестественно и даже нечестно. – Я занимаюсь одним странным убийством.
– Убийством, – повторил Сэм.
Джейкоб кивнул.
– Я думал, тебя перевели.
– Теперь перевели обратно.
– Понятно. – Сэм, похоже, расстроился. На тарелке он складывал водянистую мозаику из огуречных долек. – И что?
– Ну… в общем, мне поручили это дело, потому что на месте преступления нашли еврейскую надпись.
Молчание.
– Да, необычно, – сказал Сэм.
– Черто… весьма.
– Какая надпись?
– Цедек.
Вновь молчание.
– Ты так и не поел, – сказал Джейкоб.
Сэм отложил вилку:
– Звонили по этому делу?
– Оно связано со старым расследованием. У жертвы было скверное прошлое.
– Очень скверное?
Джейкоб поерзал.
– Я не вправе… ну… шибко скверное. Давай не уточнять.
– И теперь кто-то поквитался, – сказал Сэм. – Свершил правосудие.
– Примерно так. Если честно, все это мне не по душе.
– Почему?
– Видимо, не хочется, чтобы мститель оказался евреем. Я за него, конечно, не в ответе, но… Ты понимаешь.
– А если он еврей?
– Ну, еврей, значит, еврей. Следуй за доводом, куда бы он ни привел.
Похоже, Сэм не заметил, что его цитируют.
– Если не можешь быть объективным, надо отказаться, – сказал он.
– Я не говорил, что не смогу быть объективным.
– Но вроде как сомневаешься.
– Спасибо, я сам разберусь. И потом, мститель, может, вовсе не еврей, а только хочет им выглядеть.
– Не понимаю. Ты же вроде ушел из отдела убийств.
– Я же говорю, меня попросили вернуться. Точнее, приказали.
Сэм молчал.
– В чем дело, абба?
Сэм помотал головой.
– Ну как хочешь, я упрашивать не буду, – сказал Джейкоб.
– Я помню, как тебе было плохо.
Джейкоб скрывал депрессию и теперь набычился, словно его разоблачили:
– Со мной все хорошо.
– Ты мучился.
– Давай не будем, абба.
– А нельзя попросить, чтобы нашли кого-нибудь другого?
– Нет, нельзя. Нужен я, потому что я еврей. Серьезно, я больше не хочу об этом. Поезд ушел, и это не тема для разговора за субботним столом.
Сэм часто использовал эту отговорку, но опять не подал виду, что узнал реплику. Он рассеянно кивнул, поморгал, улыбнулся:
– Подавать десерт?
После второй кружки чая и третьего куска торта Джейкоб взмолился:
– Больше не могу.
– Смотри, сколько всего осталось.
– Не обязательно все съедать в один присест.
– Я заверну тебе с собой.
– Не вздумай. На неделе сам съешь.
– Мне в жизнь с этим не справиться. Ты обязан помочь.
– Я помог, одолев четыре порции кугеля.
– Помолимся?
– Конечно.
Отец подал Джейкобу молитвенник в гладком белом переплете, на котором синими буквами было оттиснуто:
БАР-МИЦВА[24]

21 августа 1993 г.
– Со школы, – сказал Джейкоб.
– У меня где-то целая коробка твоих школьных вещей. – Сэм показал на библиотеку.
– Это уже музей, – сказал Джейкоб, мысленно добавив: отступничества.
Прочли благодарственную молитву.
– Спасибо за ужин, абба.
– Спасибо тебе, что выбрал время… Джейкоб, я не лукавил. Не принижай свою работу. Полицейский – древнее призвание. Помнишь главу на твоей бар-мицве? Шофтим ве-шотрим.
– Судьи и смотрители. Может, стоило пойти в юристы? Был бы повод похваляться: мой сын вершит правосудие в Верховном суде.
– Я горжусь тобой, какой ты есть.
Джейкоб промолчал.
– Ты ведь это знаешь, правда?
– Конечно, – сказал Джейкоб.
На его памяти отец впервые отозвался о его работе хоть как-то – плохо или хорошо. В их семье не принято было навязывать профессиональные предпочтения, но полицейская стезя не вызывала восторга. Джейкоб полагал, что его выбор, как и утрата веры, отца огорчал.
Сейчас от этого взрыва искренности Джейкоб поежился и сменил тему:
– У меня к тебе вопрос. Я вот задумался о том, что «справедливость» и «милосердие» – однокоренные слова. Цедек и цдака.
– Это верно для несовершенного мира.
– Что? А понятнее?
– То, что мы называем справедливостью, сотворено людьми, а поскольку мы сами по определению твари, все нами созданное несовершенно. Между судом Божьим и человеческими потугами к нему приблизиться огромное различие. Можно сказать, коренное. Человеческая справедливость, как и всё в этом мире, неизбежно отвечает нашим запросам и соответствует нашим возможностям. В некотором смысле она противоположна истинной справедливости…
Джейкоб слушал вполуха – отец перешел на речитатив. В том, что Сэм раввин, а Джейкоб – коп, имелась своя логика. Сказать, что его выбор профессии был сделан в противовес отцовскому неземному мировоззрению, слишком просто. Однако ребенка, корпевшего над светскими и религиозными книгами, манила работа не для белоручек.
– …Что в этом мире воспринимается как противоположное – например, справедливость и милосердие, – в сознании Бога едино – разумеется, это образно, – и это, кстати, соотносится с вышесказанным о диалектической истине…
Джейкоб понимал мамино стремление скрыться. У нее бегство в конкретность было буквальным: он помнил бурую глину у нее под ногтями. Подсыхая, глина отшелушивалась маленькими полумесяцами. Помнил крохотный хаотичный космос в бельевом шкафу и кладовке, безуспешно ожидавший дня, когда мать приведет в порядок дом и себя. Потеряв терпение, Джейкоб сам брался за пылесос.
Плоть от плоти отца и матери, не отец и не мать – явление частое и все равно загадочное.
Сэм вздохнул:
– Опять я заболтался.
– Нет-нет…
– Я же вижу.
– Что ты видишь?
– Ты улыбаешься.
– Я не могу улыбаться от счастья?
– Я хочу, чтобы ты был счастлив, – сказал Сэм. – Для меня нет большей радости. Однако я подозреваю, что улыбаешься ты не поэтому.
– Ты в своем духе, абба.
– А в чьем еще мне быть?
Джейкоб рассмеялся.
– Во всяком случае, хорошо, что на этом свете нет истинного суда. Никто не выдержит пристального Божьего взгляда. Любой растает, как воск на огне.
– Ну, мне как-то неохота думать о том, что меня ожидает после смерти, – сказал Джейкоб.
– Мне казалось, ты в это не веришь.
Обманутый легкостью фразы, Джейкоб не сразу уловил ее подтекст.
– Я сам не знаю, во что верю, – ответил он.
– Для начала неплохо, – сощурился Сэм. – А теперь я соберу тебе гостинчик.
Он переел: снились мучительно яркие, почти осязаемые сны. Снова сад, и снова Мая, и он рвался к ней, а она была неуловима, и он оставался пожизненным узником страсти.
Весь в испарине, Джейкоб проснулся и понял, что во сне мастурбировал.
Он сонно поплелся в ванную завершить начатое.
Не завершалось. Постарался ее представить.
Без толку – она испарилась.
Попытался вспомнить свои самые яркие победы.
Все напрасно.
Джейкоб посидел на краю ванны, глядя на скукожившийся член. Потом включил телевизор, где рекламные ролики наперебой уверяли: все нормально, бывает со всяким и в любом возрасте. Однако для него это был новый опыт, и он Джейкобу совсем не понравился.
Он встал под душ – холодный, насколько мог вытерпеть.
В половине девятого он уже был на пути в Сан-Диего. Из подстаканника торчал буррито, купленный на заправке. Джейкоб переключал станции на приемнике, надеясь заглушить отголоски стыда и смятения.
В кои-то веки скоростное шоссе оправдало свое название – к пристани Пойнт-Лома Джейкоб приехал за четверть часа до назначенного срока. Припарковавшись, вылез из машины и полной грудью вдохнул ароматы океана и солярки. В гавани сквозь туман маячила громада моста Коронадо; военный корабль пришел на ремонт. Кружили чайки – издевались. Из обгаженного таксофона Джейкоб позвонил Людвигу и попросил поспешить, иначе его тут разбомбят.
Людвиг прибыл на небольшом прогулочном катере по имени «Пенсионный план». На палубе стоял дородный мужчина лет шестидесяти с лишним. Светлые волосы вылиняли до белизны; из треугольного выреза синей гавайской рубашки, расстегнутой на три пуговицы, выглядывала грудь, докрасна опаленная солнцем; усы, по кромке прокуренные.
Обменявшись рукопожатиями, Джейкоб и Людвиг спустились в каюту и сели на банкетки в пестрой обивке. На столике между ними – стаканы жидкого чая со льдом.
– Давайте так на так, – сказал Джейкоб. – Рассказываем, что нам известно, и тогда, может, что-нибудь прояснится.
– Начинайте.
К этому Джейкоб был готов. Видимо, скепсис объяснялся тем, что Людвиг не раз обжегся на подобных заверениях. Джейкоб нуждался в помощи, но и сам хотел помочь не меньше.
Однако приходилось оберегать собственную территорию, и потому в описании места преступления он опустил самые странные детали, все представив как обычное зверское убийство.
– Я гадал, чем же он так кого-то достал. Теперь знаю.
Людвиг задумчиво пошевелил пальцами.
– Не вздумайте соваться к родственникам. Они и так уже хлебнули.
Джейкоб игнорировал реплику.
– Вы создавали портрет преступника? – спросил он.
– ФБР дало свой вариант. Белый мужчина, от двадцати до пятидесяти, умен, но не востребован, сложности в межличностном общении, педантичен. Обычная лабуда. Смехота, да и только. «Сложности в межличностном общении». Надо же. Охеренная проницательность. Сложности… И что толку? – Людвиг покачал головой. – Ноль. Что-нибудь совпадает с вашим парнем?
– Не знаю. Я не знаю, кто он.
– Как выглядит?
Джейкоб показал фото головы; Людвиг присвистнул.
– Ничего себе.
– Напоминает? – спросил Джейкоб.
– Никого из тех, кого допрашивали.
– Не такой уж он педант. ДНК-то оставил.
– В восемьдесят восьмом об этом мало кто думал.
На миг забывшись, Людвиг вперился в фото. Потом огорченно сник.
– Что ж, он белый. – Людвиг бросил снимок на стол. – Хоть это угадали.
– Кто вначале вел расследование?
– Собрали целую бригаду спецов из ограблений и убийств, под началом Хауи О’Коннора. Может, слыхали о нем?
– Вряд ли.
– Перворазрядный хмырь. Но коп хороший. Потом бригаду свернули, а через пару лет и его выперли. Одна свидетельница заявила, мол, он ее лапал, и ему велели погулять на время расследования. Через неделю он пустил пулю в рот. Вот такая грустная дребедень.
– У него была какая-нибудь версия?
– Насколько я знаю, никакой. По крайней мере, серьезной. Сам я с О’Коннором не говорил. Только читал дело, а он не из тех, кто подгоняет факты под гипотезы. По общему мнению, действовал гастролер, которого толком никто не заприметил. К тому же незадолго до этого взяли Ричарда Рамиреса[25]. Люди мыслят стандартно.
– Что сами скажете?
Людвиг пожал плечами:
– Когда я получил дело, СМИ наперебой трубили о сногсшибательной новинке – базе ДНК. Дескать, вот волшебная палочка, которая раскроет все глухари, пылящиеся в архивах.
– Не раскрыла.
– Ни хрена. Я запрашивал базу, нет ли совпадений. Сначала каждую неделю, потом раз в месяц, потом в годовщины убийств. По новой допросил всех, кто еще был жив. Ничего нового. Никого не арестовали. Никто не мучился виной. Никакого просвета. Начальник мой намекнул, что никто меня не осудит, если я похороню это дело.
– Вы не похоронили.
– Я делал, что мог, стараясь не светиться, – сказал Людвиг. – Потом заболела жена и я откланялся.
– Кто сейчас ведет дело?
– Черт его знает. Наверное, никто. Кому охота связываться? Во-первых, все знают, что его не раскрыть, а во-вторых, придется общаться со мной – занудой, который со скуки всем проест плешь.
– Заманчивая перспектива, – улыбнулся Джейкоб.
– Ко мне уже привыкли. В моем распоряжении вагон времени и безлимитный межгород. Меня считают выжившим из ума козлом, что недалеко от истины.
– Еще с кем-нибудь в полиции стоит переговорить?
– Даже не знаю. Вы же понимаете, как оно все обстоит.
Джейкоб кивнул. Даже самая страшная трагедия потихоньку исчезает с газетных полос, потом из людской памяти и, наконец, из мыслей тех, кто обязан предотвратить ее повторение. Со временем напрочь забытая, она приютится у какого-нибудь Людвига, а сметливые копы станут прятать глаза, подыскивая себе дела попроще и плодотворнее.
А что остается Людвигу, ловцу химеры?
Чужое восхищение.
Чужое сочувствие.
Эхма, лет через тридцать все такими станем.
Людвиг закурил сигару и откинулся на банкетке:
– Момент истины. Какая ваша версия?
– Никакой.
– Будет вам. Не врите вралю. Вы проехали сто двадцать миль не затем, чтобы посмотреть мой катер.
– Поставьте себя на мое место, – сказал Джейкоб. – Что бы вы решили?
– Что бы я решил? Наверное, что жертва – сволочь, которая еще немало чего натворила помимо убийства этих женщин. И, видно, насолила другим сволочам, поскольку сволочи друг с другом хороводятся – сбиваются в стаи и пакостят. Этакая сатанинская лига по боулингу. Бывает, один уронит шар на ногу корешу, а то и разом всей своре, и тогда кореш или же кореша действуют в сволочном стиле: взбеленившись, отрывают ему голову.
– Нравится такая версия?
– Мне нравится тушеное мясо. А версия кажется убедительной.
– Кое-что я от вас утаил, – сказал Джейкоб.
Людвиг невозмутимо перекатил сигару во рту.
– Тот, кто замочил моего подопечного, оставил послание: «Справедливость».
Людвиг молчал.
– Еще раз поставьте себя на мое место. Что скажете?
– Вы хотели об этом умолчать?
– Что теперь скажете?
– Кто-то говорил «так на так».
Джейкоб не ответил.
– Наверное, я бы сделал тот же вывод, что и вы, – вздохнул Людвиг. – Но говорю вам, я знаю всех родственников жертв. Это не они.
– А приятели? Любовники?
– Не держите нас за олухов. Первым делом проверили дружков. О’Коннор их досуха выжал. Потом и я не раз придавил. Не подходят.
– Может, они не причастны к убийствам женщин, но могли за них поквитаться. А если они все же причастны к тем убийствам, придется вычеркнуть их из числа подозреваемых в моем деле, иначе выйдет полная ерунда.
– Они не причастны к любым убийствам, – сказал Людвиг. – Я отвечаю. Оставьте их в покое.
Замолчали.
Джейкоб уже хотел откланяться, и тут Людвиг вдруг спросил:
– Какой профиль вы предпочли?
– Не понял?
– Их два. Какой?
– Чего два?
Людвиг усмехнулся:
– Ладно. Проехали.
– Я не понял, – повторил Джейкоб.
– ДНК-анализ выдал два заключения. Сперма из заднего прохода и сперма из вагины. Абсолютно разные.
– Твою мать!
– Угу.
– Два человека?
Людвиг хмыкнул, пыхнув дымом.
– И вы хотели об этом умолчать? – спросил Джейкоб.
– Так на так, детектив.
– У вас интересное понятие о честности.
– Мне его привили там же, где и вам, – в лос-анджелесской полицейской академии. А что нечестного? Что хотели, то и получили: мою лапшу в обмен на вашу.
Джейкоб покачал головой:
– Есть еще чем поделиться?
– Сообщу вам имя моей тайной пассии.
– Послушайте…
– Сальма Хайек[26].
– Слово «справедливость» было выжжено в кухонной столешнице, – сказал Джейкоб. – На иврите.
– И что это значит?
– Я понимаю не больше вашего.
– Я вообще не понимаю. Иврит?
– Никто не сказал мне о двух субъектах.
– Ну да, помалкивали даже внутри конторы. Это есть в деле. Вы его прочли?
– Еще не успел.
Людвиг вздохнул. Потом загасил сигару, допил холодный чай и встал:
– Детский сад.
В тупике Эль-Кахона септет одноэтажных домов поклонялся пятачку расплавленного асфальта. Стало ясно, почему Людвиг предпочитает катер, – на воде было градусов на пятнадцать прохладнее.
В доме были закрыты жалюзи, во всю мощь работал кондиционер. Людвиг потрепал по голове вялую овчарку и провел Джейкоба в кухню:
– Одну минуту.
Джейкоб рассматривал фотографию, прислоненную к кофеварке. В семействе Людвигов были сплошь блондины: белизной волос хозяйка не уступала мужу, а сыновья их были вылитые перепевщики братьев Нельсон[27]. Свежие тюльпаны над раковиной подразумевали, что миссис Л. оправилась от хвори, вынудившей мужа уйти в отставку. Во всяком случае, чувствовалось присутствие женщины. Подруга? Новая жена? Нет уж, лучше не спрашивать. Возможно, все счастливые семьи похожи друг на друга, а каждая несчастливая семья несчастлива по-своему, но поскольку счастливых семей не бывает, спрашивать себе дороже.
С картонной коробкой в кухню ввалился Людвиг. Плюхнул ношу на стол и потянулся, прогнув спину:
– Перед уходом я все скопировал.
– Помощь нужна?
– Не откажусь.
Всего было тринадцать коробок – по одной на каждую жертву плюс еще четыре. В гараже, где они хранились, Джейкоб заметил выгороженный уголок – сквозь щель в занавесках виднелись верстак и фанерный стол.
Вспомнились рабочий закуток Вины и ответ Людвига на репортерский вопрос о планах на досуг.
Придумаю себе хобби.
Джейкоб напомнил детективу его слова, и тот фыркнул:
– Этот дурень обрезал финал. Дальше было так: «Какое хобби?» – «Не знаю, что-нибудь бездумное. Типа журналистики».
Джейкоб засмеялся.
– Чтоб было чем заняться. – Людвиг отдернул занавеску.
Никаких резных уточек. Закуток больше напоминал вторую спальню Дивии Дас. Или гибрид лаборатории с мастерской.
О предназначении инструментов, скобяной фурнитуры, струбцин, стеклореза и пылесоса говорили незаконченные витрины.
Им вторили препаратные банки, пинцеты, лупы и полки, уставленные толстыми книгами с расхлябанными корешками и наклейками «подержанные». «Бабочки западного ареала. Справочник». «Североамериканские чешуекрылые». «Руководство общества Одюбона по насекомым и паукам».
Джейкоб взял витрину с тремя монархами и рукописной табличкой Danaus plexippus.
– Красиво, – сказал он.
– Говорю же – скучно. Я в этом ни черта не смыслил, пока сюда не переехал. Вечно не хватало времени. А теперь больше ничего и нет. Окажите себе любезность. Оставайтесь в Лос-Анджелесе.
– Если так, проглядывает какой-то смысл, – сказал Людвиг.
Они сидели за кухонным столом – в ногах пристроился пес, кофе остыл, коробки вскрыты, повсюду кипы бумаг.
– Борьба за власть, – сказал Джейкоб.
– Где двое, там всегда ведущий и ведомый. И всегда трения. Двадцать лет таиться – не баран начихал. Вообразите: они собачатся, то да се, один задергался и решил: надо кореша убрать, пока он нас обоих не угробил.
– Думаете, знак – уловка?
– Так ведь сработало. Вы здесь, расспрашиваете о жертвах. Или вот еще вариант: малый А раскаялся, но в полицию идти не хочет и просто убивает малого Б. В его понимании, так справедливо.
– Полицейский, принявший вызов, сказал, что звонила женщина.
– Да уж, вы запаслись сюрпризами, – пробурчал Людвиг.
– Вот поэтому стоит повидать кое-кого из родственников.
Людвиг неохотно кивнул:
– Что ж, наверное. Только держите в уме, что эти люди уже настрадались.
– Обещаю. Не посоветуете, с кого лучше начать?
Пауза.
– Даже говорить неохота, – сказал Людвиг.
Джейкоб молчал.
– У одной погибшей была сестра, психически ненормальная. Мы не рассматривали ее как подозреваемую, потому что, во-первых, никакого насилия за ней не числилось, а во-вторых, из-за спермы искали только мужчин. Наверное, сумасшедшая впишется в вашу картину. Дескать, у нее мозги набекрень…
– Я все понял, – сказал Джейкоб.
– …И она сумела вычислить убийцу, утерев нам нос. Насколько я ее помню, это напрочь невозможно.
– Логично, – сказал Джейкоб. – Однако позвольте переговорить с ней.
– Полегче, ладно?
– Обещаю. Как ее зовут?
– Дениз Стайн.
– Сестра Дженет Стайн.
Людвиг кивнул.
– Вам не попадался кто-нибудь, говорящий на иврите? – спросил Джейкоб.
– В смысле, еврей?
– Не обязательно.
– А кто еще говорит на иврите?
– Образованный священник, библеист. Такой не попадался?
Людвиг рассмеялся:
– Пожалуй, надо присмотреться к вам, детектив Лев. Нет, не припомню такого. Но если был, он где-то там отмечен.
Джейкоб опасливо глянул на ворох бумаг.
– Желаю удачи, – сказал Людвиг. – Пишите письма.
Вновь упакованные коробки загрузили в «хонду»: четыре уместились в багажнике, две пристегнули ремнем на пассажирском сиденье, семь уложили на заднее.
К дому подрулил «универсал», из которого вышла чуть постаревшая копия женщины с семейного фото; в руках у нее были стильная сумка и курица-гриль.
– Вот, избавляюсь, – хлопнул по коробке Людвиг.
Женщина улыбнулась Джейкобу:
– Вы мой герой.
Ее звали Грета. Она не отпустила гостя без обеда, а за едой спросила, не согласится ли Джейкоб забрать и жуков.
– Явите божескую милость, – сказала Грета.
– Не позволяет держать их в доме, – пожаловался Людвиг.
– А кто в здравом уме позволит?
– По-моему, хорошо иметь хобби, – сказал Джейкоб. – Это лучше, чем азартные игры.
Грета высунула язык.
– Слушай, что умный человек говорит, – обрадовался Людвиг.
Джейкоб показал ему фото жука с кладбища:
– Кто это? По-моему, завелся в моем доме.
Людвиг надел очки:
– Не пойму, какого он размера.
– Примерно такой, – на пальцах показал Джейкоб.
Людвиг вскинул бровь:
– Надо же. Такой здоровенный? Знаете что, пришлите фото, я подумаю. Но особо не надейтесь. Черный, блестящий, шесть лапок. Таких полно. Знаете, сколько насчитывается видов жесткокрылых? До черта и больше. Одного биолога спросили, какими знаниями о Создателе обогатило его изучение природы. Он ответил: Господь питает чрезмерную любовь к жукам.
– Слушайте, можно о чем-нибудь другом? – взмолилась Грета.
Джейкоб спросил ее о детях.
Младший сын учился в Калифорнийском университет в Риверсайде, старший – помощник шеф-повара в Сиэтле.
– Наверное, балует вас разносолами, когда навещает.
– Я не впускаю его в кухню, – сказала Грета. – Вечно всё разворотит. Под один-единственный салат пачкает все мои кастрюльки. Привык, что за ним убирают.
– Весь в отца, – сказал Людвиг.
Дорога на север была забита – посетители аквапарка возвращались в округ Ориндж. Езда «газ-тормоз» сожгла больше полбака. На заднем сиденье, грозя опрокинуться, елозили коробки. От размеров картонного бремени, отражавшегося в зеркале заднего вида, екало сердце.
Желаю удачи. Пишите письма.
Спасибо, Филли, удружил.
За три съезда до аэропорта радио известило, что впереди авария. Джейкоб приготовился ждать и вырубил приемник, чтобы в тишине обдумать разговор с отставным детективом.
Видимо, предвзятость Людвига зиждется на его искренней вере в невиновность родственников. И потом, кому приятно понимать, что облажался. Можно посочувствовать. Конечно, свежий взгляд всегда на пользу. Но веселого мало. Как бы он сам себя чувствовал, если б какой-нибудь пацан вдвое его моложе полез с вопросами о его грандиозной неудаче?
Людвиг красноречив, однако вариант «психопат против психопата» маловероятен. У обеих версий (назовем их «Нервишки» и «Угрызения») есть серьезные изъяны.
Психопату чуждо раскаянье – потому он и психопат. Скорее уж он будет похваляться подвигами, нежели каяться.
То же самое с нервишками. Психопаты не психуют. Их ледяному спокойствию позавидуешь. Потому-то они и способны на такое, от чего нормальный человек окочурится.
И еще: неврастенику не до символики.
Или Людвиг прав: цель – одурачить копов?
Психопат в личине мстителя – мол, видали, у меня все под контролем.
Возможно. Но интуиция бунтует. Он же видел голову и знак. Тут все по-настоящему – уж слишком замысловато и театрально.
Нет, это послание от души.
Уродливой души, но чувствующей.
Желающей достучаться.
Мозг выкинул коленце: а может, двойная фальшь? Мститель прикидывается психом, который прикидывается мстителем.
Или наоборот.
Интересно, высоко ли можно забраться по стеблю гипотез?
Эта манера – проверить идею на прочность, доведя ее до крайности – была воспитана в еврейской школе и иешиве. Берем закон, приводим контрдоводы, выискиваем противоречия. Иногда противоречия преодолеваются. Иногда нет. Иногда аргументация закона разбивается вдребезги, но закон применяется все равно.
Таким уникальным способом, мешаниной из чистой логики и религиозной экзегезы, утверждалась истинность множества истин. Спор не ради ответа, но ради мастерского спора.
Именно поэтому способ не имел широкого применения в реальной жизни. Начальников вряд ли ублажит обойма острых вопросов.
Или им понравится?
Вопросы – это хорошо.
В 911 звонила женщина, что опрокидывало версию «психопат против психопата». Людвигу пришлось согласиться: женщина не могла быть причастна к первоначальным убийствам, если только не допустить, что к дуэту лиходеев присоседилось третье неведомое лицо, но это уже явный перебор. Версия с двумя убийцами и так хлипкая. Если еще добавить даму, вообще выйдет заумь.
Джейкоб усмехнулся, неожиданно вспомнив давнего приятеля, который составлял список слов, звучанием напоминавших идиш.
Заумь.
Шняга.
Бред.
Это вдохновило Джейкоба на собственный список слов, похожих на талмудический арамейский.
Сарказм.
Гудини.
Пора добавить новое словечко.
Отсечь.
«Тойота» впереди вдруг остановилась, Джейкоб ударил по тормозам. В голове кипело и бурлило. Давно его так не вздергивало. Без выпивки не уснуть.
Впереди замаячил Венис-бульвар. До «187» рукой подать. Джейкоб включил поворотник.
Меня как будто насадили на нож.
Джейкоб выключил поворотник.
Потом вспомнил, что здесь же проезд к дому Дивии Дас. Включил поворотник.
Вспомнил, как его к ней тянуло.
Выключил.
Вспомнил новость о втором убийце. Надо ведь сообщить Дивии. Деловой визит – хороший повод.
Включил.
Незваный гость? В одиннадцатом часу субботнего вечера?
Выключил.
Ну прямо отрывок из Талмуда.
Трактат «Одиночество».
Включил.
Глава «Тот, кто домогается коллеги».
Выключил.
Наверное, водитель сзади идущей машины уже полез в бардачок за пистолетом.
Джейкоб свернул с шоссе.
Позвонив ей с улицы, он извинился за беспокойство. В окне второго этажа появилось ее лицо. Не разберешь, улыбчивое или нет.
Входную дверь она оставила приоткрытой, и Джейкоб прошел в кухню, где хозяйка наполняла чайник. Черная змея ее волос была сколота палочками хаси, красный махровый халат подчеркивал изящность шеи и запястий.
– Я вас разбудил, – сказал Джейкоб.
Дивия закатила глаза и выставила тарелку с печеньем.
– Похоже, вы держите меня за полную тюху, которая в этот час уже дрыхнет. Чему обязана счастьем видеть вас?
Джейкоб рассказал о визите к Людвигу. На весть о втором убийце Дивия откликнулась неожиданно вяло.
– М-да, – сказала она. – Это усложняет дело.
– И вся оценка?
– Во всяком случае, не упрощает.
Джейкоб так долго дул в кружку, что Дивия прищелкнула языком:
– Если желаете чай со льдом, магазин на углу еще открыт.
Но она улыбалась и не удосужилась запахнуть просторный халат, из-под которого выглядывал бледно-оранжевый хирургический костюм – еще одна дармовщинка, выклянченная во всемирном братстве патологоанатомов.
– Я надеюсь, у вас получится портрет второго убийцы, – сказал Джейкоб.
– Буду рада. Но потерпите. Вы же понимаете, все гораздо быстрее, когда есть отправная точка.
– Высокопоставленные друзья не ускорят дело?
– К сожалению, нет. Друзей не так много, и прежде чем их беспокоить, надо разобраться, что к чему. Вот завтра с утра и займусь.
– Ничего, это терпит до понедельника.
– Я думала, дело срочное.
Джейкоб пожал плечами:
– Неловко портить вам выходные.
– Мы уже выяснили, что я безнадежная тюха.
– Напоминать излишне. Я же здесь, верно?
– Верно. Вы здесь.
Край столешницы, впившийся в ребра, известил, что Джейкоб слишком уж подался к собеседнице.
– Я вас погуглила, – сказала Дивия.
Джейкоб вскинул бровь.
– Все по-честному – моя очередь.
– Нашли что-нибудь интересное?
– Вот уж не думала, что мы однокашники по Лиге плюща.
– Да нет, я же не доучился.
– Так. Опять я ляпнула, да?
– Все нормально. Год был не зряшный. Так я себе говорю, поскольку все еще выплачиваю ссуду на обучение. Но в итоге все сложилось. Я закончил Калифорнийский университет в Нортридже. Та же мура, только в другой упаковке.
– Почему ушли?
– Мама умерла, – сказал Джейкоб. – Не хотел оставлять отца одного. Он не вполне здоров… проблемы со зрением и… В общем, я решил, так будет лучше.
– Добрый поступок.
– Да, наверное.
– Еще сомневаетесь? Вы хороший сын.
– Угу. Правда, дело-то в другом.
Дивия молчала.
– Да, я хотел помочь отцу. Но так выходит, будто я кинулся его спасать. Чушь собачья, он и сам прекрасно справляется. – Джейкоб помолчал. – Я ушел из-за себя. Запутался, впал в депрессию, никак не мог выбраться. Полсеместра ни черта не делал, у меня забрали стипендию и выкинули вон. Конечно, все было вежливо. Сказали что-то вроде: «Предлагаем вам взять академический отпуск». Теоретически я могу восстановиться. – Он засмеялся и покачал головой. – А что у вас?
В глазах Дивии плескалось сочувствие, она закусила губу, словно стесняясь банальных утешений.
– У меня?
– Почему вы уехали из дома?
Истинное сочувствие, подумал Джейкоб, подсказало бы сменить тему Наверное, Дивию посетила та же мысль.
– Бежала от взрослой жизни, – улыбнулась она.
– Ага.
– Мои родители очень консервативны. Их поженили по семейному сговору. Они были довольны и, конечно, не понимали, почему я так не хочу. Мол, время уходит. Теперь они твердят, что я вообще не выйду замуж. В мой последний приезд мама спросила, не лесбиянка ли я.
Джейкоб улыбнулся и прихлебнул чай.
– Для справки – нет, – сказала Дивия.
– Меня это никоим образом не касается, – ответил Джейкоб.
Помолчали.
Джейкоб вновь поблагодарил столешницу, черт бы ее побрал.
– Послушайте, я не знаю ваших планов… – начал он.
Но Дивия уже опустила глаза и покачала головой.
– Рекорд, – усмехнулся Джейкоб. – Я даже не договорил.
– Извините, если я произвела на вас неверное впечатление, – сказала Дивия.
– Бывает. И вы меня извините.
Дивия сплела пальцы:
– Нет, вы не понимаете.
– Я большой мальчик. Понимаю.
– Нет. Не понимаете.
Молчание.
– Мы с вами разные, Джейкоб. – Из-за акцента имя в ее устах прозвучало почти как древнееврейское Яков.
– Различия бывают на пользу.
– Да, иногда.
– Но не в нашем случае.
– Не скажу, что я этому рада.
– Тогда вы правы. Я не понимаю.
– Дело не в том, рады мы или нет.
– По-моему, только в этом и дело.
– Вот как? Правда?
– А в чем еще?
Дивия не ответила.
– Каждый день мы с вами видим несчастья, – сказал Джейкоб. – Видим смерть. Не знаю, чему это научило вас, а я понял: жить надо сейчас, в эту секунду.
Дивия печально улыбнулась:
– Когда, если не теперь.
Джейкоб сощурился:
– Да.
Дивия вздохнула, встала и плотно запахнула халат:
– Я дам знать, когда появятся результаты, детектив Лев.
С улицы Джейкоб смотрел на ее окно, дожидаясь, когда она выключит свет. Окно погасло, и в разлившейся темноте ночное небо извергло холодную россыпь звезд.
В детстве Ашам научилась вести счет дням по солнцу, но в этих безликих краях, где нет времен года, восходы и закаты потешаются над ней.
В итоге она перестает считать дни. Потом забывает, что такой счет вообще существует.
Она забывает, куда идет. И зачем.
Дело не в упадке духа – просто никак не вспомнить, кто и что сделал. Она забывает, что было что забывать.
Внутренний голос говорит: ступай домой.
Она не понимает, что это значит.
Потом она уже ищет не брата или свой дом, но огромного человека по имени Михаил. Чтобы припасть к его ногам и вымолить окончание пытки.
Он помнится милосердным, он, конечно, пособит.
Но может, она запамятовала. Может, он ей привиделся.
Одуряющая жара. Мир плывет и качается.
Точно грызуны, чьи глаза вспыхивают во тьме, она передвигается в сумерках. Шелушащиеся ступни и ладони оттирает песком, подсмотрев за змеями, что сбрасывают кожу, елозя меж камней. Ящерицей кидается на ящериц и, пяткой расплющив им головы, высасывает у них внутренности.
Видит людей и стремглав к ним мчится. Но лица их растворяются, словно озерца прохладной воды, что вдруг возникают под палящим солнцем. Зовущие руки обрастают шипами. В ярости она их ломает, лижет вяжущий сок.
День за днем одно и то же.
День за днем дрожит земля.
Сначала она думала, что это ее саму бьет дрожь. Но душераздирающий треск и зазубренная трещина, вдруг распоровшая монотонную равнину, все разъяснили. Это произошло так быстро, что она, очумелая, даже не успела по-настоящему испугаться.
Однако в другой раз была начеку. Почувствовав дрожь и услышав рокот, завизжала, заметалась кругами. Скрыться негде, да и как бы она скрывалась?
Господь на нее прогневался.
В неизвестно какой день на горизонте возникает силуэт, который она сперва принимает за очередной мираж.
Однако образ не отступает, не растворяется, но растет и делается четче. Он отбрасывает длинную прямоугольную тень.
Одинокая стена. В трещинах, иссеченная ветром. Не плетеная, как стены родной хижины (на одно счастливое мгновенье вспоминается дом; вспоминаются родные), но стена из высохшей охряной глины, здешней бескрайней земли.
Будто по чьему-то приказу восставшая и замершая.
Ашам разглядывает соединительные швы, царапает глиняные кирпичи, набирая грязи под ногти.
На земле еще кирпичи. Что-то похожее на контур дома, три стены обвалились, если вообще стояли. Крыши нет. Как будто на полпути строитель передумал.
Симметрия. Изобретательность. Это работа Каина.
Почему же он бросил свою затею?
В полдень приходит ответ.
В тени стены Ашам задремала, но от сердитых толчков земли просыпается. Ей везет – она еще недвижима, когда стена гнется, колышется и разваливается на куски.
Дрожь стихает. Ашам убирает руки с головы и в туче мелкой глиняной пыли встает. Гора кирпичей огорченно вздыхает: эх, жалко, промазала.
Вздумай стена рухнуть в другую сторону, Ашам была бы мертва.
Строить в таком ненадежном месте – пустая затея. Каин это понял. И будет искать иное становище.
Кольнуло родство.
Родство разжигает память.
Память распаляет ненависть.
К вечеру сердце пылает гневом.
Через несколько месяцев Ашам находит вторую хижину.
Все это время она шла по прямой – спиною к закату. Потому что так поступил бы Каин. Стоит его вообразить, и проступают следы, и вновь сияет тропа.
Теперь с пути не сбиться.
Проходят дни. Чахлые рощицы оживляют монотонность равнины. Пробивается трава – сначала робко, потом увереннее, а потом кишит, как прожорливая саранча. Трава колючая и клейкая, одна холодит во рту, а другая шибко пахучая – вся исчешешься, если сдуру потрогаешь.
На светлом фоне травы хорошо видны черные пятна давних кострищ. Сияющая тропа приводит к скелету зверька – мясо дочиста состругано каменным ножом.
Видно, что поработала умелая рука.
В луговом раздолье земля не источает зловоние, не дымится и не дрожит. Тепло, журчат ручьи, сверкают озерца. Ашам наклоняется попить и видит кошмарное отражение: костистое лицо, обтянутое шелушащейся кожей, на голове проплешины.
Вторая хижина не удивляет. Ашам ее предчувствовала. В строительстве Каин заметно понаторел: три толстые стены, травяной тюфяк, штабель заготовленных кирпичей.
Много звериных костей, превращенных в непонятные инструменты. Ашам берет грозно заточенную кость длиной со свою руку и продолжает путь.
Третья и четвертая хижины еще искуснее и просторнее. Пятая – вообще нечто: не просто дом, но скопище построек вокруг одной главной.
Любопытно, что в строениях поменьше заметны уже знакомые следы обитания – шелуха злаков, костяные инструменты, зола, – но в главном здании нет ничего, кроме высокого, идеально гладкого глиняного столба.
Здесь случилось что-то важное. Совсем не в духе Каина выстроить нечто бесполезное.
И потом сбежать.
Стало быть, он знает, что Ашам идет следом.
Вечером она сидит у костра, в горсти ягоды. В лугах она опять на подножном корму.
Однако ужасно хочется мяса, и это ее пугает.
Ашам оборачивается и вдруг подле себя видит оковалок. Надо же.
Не мешкая, вгрызается в него. Что интересно, потрясающе свежее, невообразимо вкусное мясо не кончается – съеденные края тотчас вновь обрастают плотью. Вот-вот лопнет живот, но остановиться невозможно. Ашам замирает, лишь услышав, как кто-то окликает ее по имени. Поднимает взгляд и понимает, что в руках у нее не оковалок, а чья-то нога.
Она грызет ляжку Каина, криво приделанную к туловищу.
Взгляд брата ласков. Угощайся.
Ашам пробуждается. Подбородок и рот мокры. В яремной ямке засохшая лужица слюны.
Однажды вечером она чувствует, что бедру стало влажно. Ну вот, порезалась и даже не заметила. Ощупала – а рана-то глубокая, пульсирует кровью. Вон на траве длинный след из кровавых капель. От грязного покрывала Ашам отрывает лоскут и перевязывает рану.
Ткань быстро пропитывается кровью. Морщась от боли, Ашам присаживается на опушке, чтобы поправить повязку. Туго ее затягивает, хочет встать, но замирает.
Тут кто-то есть.
Шевелится в траве. Ашам кричит и бросает камень. Шевеленье прекращается.
Слышно тихое рычанье. Ему вторит другое.
Тишина.
Вновь зашевелились.
Ашам опять бросает камень. Трава колышется. Не испугались. Она промазала, а значит, не опасна.
Ашам встает. В одной руке заточенная кость-копье, другая зажимает рану.
Ждет.
Высунулись черные рыльца. Жадно принюхались.
Круглые морды в желтых пятнах. Вываленные языки. Идиотские ухмылки.
Сколько их? Четыре, пять, шесть, семь. Тощие, запаршивевшие. Ростом ей по пояс. Если б из-за ноги не скрючилась, высилась бы над ними великаншей.
Самый крупный вскинул рыло и заржал.
От бесовского смеха мороз по коже.
Теперь и вся свора зашлась в безумном реготе.
На пробу одна тварь атакует со спины. Ашам бьет копьем, но сильно промахивается. Хихикая, тварь ныряет в траву.
Остальные регочут.
Забавляются.
Будто говорят друг другу: Прошу, вы первый. Нет-нет, только после вас.
Атаку сбоку Ашам отражает ударом плашмя. Взвизгнув, тварь отскакивает, но тотчас кидаются две другие. Одна нацелилась в ногу, вторая – в горло.
Ашам вопит и тычет копьем. Одна тварь повержена. Из распоротого брюха вывалилась требуха, тварь скулит и сучит ногами, пытаясь уползти.
Ашам падает на колени и копьем пронзает ей горло, заставляя навеки умолкнуть.
Выдергивает копье и встает. Руки ее в крови.
Вожак рычит.
Похоже, недооценили.
Свора бросается разом со всех сторон. Рвет, кусает, царапает. Ашам чувствует не боль, но глухую досаду от столь бесславной неудачи пред лицом столь позорных тварей. Нет, без боя она не сдастся.
Ашам сражается.
Убивает вторую тварь, потом третью, но их слишком много, действуют слаженно, она чувствует их гнилостное дыхание, падает, сворачивается клубком, твари хотят перекусить ей шею, в ужасе Ашам выгибается, а те, словно только этого и ждали, утыкают рыла ей в живот, она готовится к смерти, но тут раздается рев стократ мощнее воя пожирающей ее нечисти.
Воздух мгновенно светлеет, затем снова полнится трепетом. Белое облако зависает над Ашам, перепрыгивает ее, обходит; рявкает на тварей, рвется в бой, и те, хихикая, бросаются врассыпную. Вот и последняя скрылась в траве. Ашам жива.
Регот стихает.
Тихое сопенье.
Ашам распрямляется.
На земле две убитые ею твари. И еще одна с почти оторванной головой.
Подле нее знакомый силуэт.
Пес Авеля. Вся морда в крови.
Ашам протягивает к нему дрожащую руку.
Пес подбегает и слизывает кровь с ее ладони. Потом отходит.
Опираясь на копье, Ашам встает.
Пес бежит через опушку, временами проверяя, следует ли за ним Ашам.
Идут еле-еле. Путь, на который нужно всего-то полдня, преодолевают за двое суток. Нестерпимая жажда; Ашам то и дело останавливается, чтобы поправить повязку. Маленькие раны уже затянулись корочкой, другие саднят, но подсохли.
Тревожит порез на ноге. Рана сочится кровью и зловонным зеленоватым гноем. Боль укоренилась и, согласуясь с биением сердца, аукается в кости. Бедро горит огнем, отек захватил колено, каждый шаг – подвиг.
Пес чувствует, что ей неможется. Показывая путь, убегает вперед, но не слишком далеко, дабы, если что, поспеть на помощь. Он тоже прихрамывает – видно, твари и его покусали. Ашам хочет посочувствовать – ведь это из-за нее ему досталось. Просит ее извинить.
Пес не выказывает нетерпения. Он будто не ведает усталости и караулит, когда Ашам спит.
На второй день они выходят к долине – копии родных краев Ашам, только меньше и суше.
Завораживающая картина.
Тьма-тьмущая глиняных домов, через равные промежутки рассеченная дорогами, чтобы можно было ходить.
Сотням людей.
Пес гавкает и припускает с горы.
Склон крут и каменист. У Ашам кружится голова. Едва ступит на покалеченную ногу, боль простреливает от промежности до груди. Приходится ползти на четвереньках, в кровь обдирая ладони.
Пес знает дорогу. Без него Ашам вмиг заплутала бы в лабиринте зданий, скромных и роскошных. Постройки подобны своим обитателям, которые молоды и стары, толсты и худы, облачены в одежды молочно-белые, угольно-черные и всех промежуточных оттенков.
Отклик на появление Ашам единообразен: побросав дела, все на нее таращатся. Да уж, зрелище: грязная и чуть живая. Она хромает, а толпа движется следом, и недоверчивый шепоток собирается в бурю грозного ропота.
Один человек заступает Ашам дорогу:
– Кто ты?
– Меня зовут Ашам.
Подходят еще мужчины, у каждого костяное копье. Из-за древка их копья длиннее, чем копье Ашам.
– Какое преступление ты совершила? – спрашивает человек.
– Никакого.
– Тогда почему ты здесь?
– Я не знаю, где я, – отвечает Ашам.
Толпа ропщет.
– Ты в городе Енох, – говорит человек.
– Что такое город?
Смех. Нога Ашам пульсирует болью. Горло спеклось. Нельзя так долго не пить.
– На меня напали твари, – говорит Ашам. – Пес меня отбил и привел сюда.
– С чего бы это он?
– Он меня знает. Его хозяин – мой брат.
Тишина.
Потом толпа взрывается – люди орут друг на друга, на человека, на Ашам. Они готовы схватить ее, но пес опять рядом, снова рычит и лает.
Толпа отступает, крики стихают до негодующего гула.
– Верно ли говоришь? – спрашивает человек.
– Конечно, – отвечает Ашам.
Улыбка трогает его губы. Он кланяется и открывает дорогу.
Толпа расступается.
Пес бежит вперед.
Никто не трогает Ашам, но, держась в отдалении, все идут следом.
Пес сворачивает к глиняному строению невероятных размеров и красоты. Не меньше фасада впечатляют два по пояс голых стража на высоком крыльце. Пес взлетает по ступеням и, гавкнув Ашам, скрывается за дверью.
Припадая на больную ногу, Ашам поднимается на крыльцо. Стражи скрещивают копья, закрывая дорогу.
В толпе гомонят.
– Позвольте войти, – просит Ашам.
Стражи и глазом не моргнут. Ни один мускул не дрогнет, а уж там есть чему дрогнуть. Ашам пытается заглянуть в дом, но стражи здоровенные, как буйволы, и сдвигаются плечом к плечу, застя обзор.
Пес ужом пролезает между их ног и лает.
За спинами стражей раздается голос:
– Пропустите.
Часовые расступаются, открывая мальчика в опрятных шкурах. Лоб его перехвачен ярко-желтым обручем. На шее желтый цветок на ремешке. Темные глаза светятся любопытством.
Пес кидается к Ашам, виляет хвостом, нетерпеливо лает.
– Здравствуй, – говорит мальчик. – Я Енох. Кто ты?
– Ашам.
– Здравствуй, Ашам.
– Это твой пес?
Мальчик кивает.
– Он очень милый, – говорит Ашам.
Мальчик опять кивает.
– Что с твоей ногой? – спрашивает он.
Ашам покрывается испариной.
– Поранилась.
– Сочувствую, – говорит Енох. – Желаешь войти?
Внутри ошеломляющий холод. Ашам дрожит. Уставленный деревянными табуретами зал смахивает на пещеру. Дверные проемы зияют мраком. Факелы на стенах лишь слегка разгоняют тьму.
– Прежде я тебя не видел, – говорит Енох. Тон его беззлобен. – Откуда ты?
– Издалека.
– Интересно.
Ашам улыбается, хоть ей не по себе.
– Можно воды? – просит она.
Енох встряхивает желтый цветок на шее. Раздается резкий звон.
В дверном проеме безмолвно возникает гологрудый страж.
– Принеси воды, пожалуйста, – говорит Енох. Страж исчезает.
Ашам не сводит глаз с цветка:
– Что это?
– Колокольчик, глупая.
– Никогда не видела.
– Как это?
– Вот так вот. В наших краях нет колокольчиков.
– В далеке?
– Да, в далеком далеке.
– Интересно, – говорит мальчик.
– Можно я попробую?
Енох снимает ремешок с шеи и отдает колокольчик. Ашам его встряхивает, но колокольчик отзывается глухо, ничего похожего на чистый пронзительный звон.
– Да не так. Вот, смотри. – Енох берет колокольчик за ушко и звонит. – Понятно?
В другом проеме возникает новый страж.
Мальчик хихикает и отдает колокольчик Ашам:
– Давай ты.
Она звонит.
Появляется третий гологрудый страж.
– И так всякий раз? – спрашивает Ашам.
– Ага. Попробуй – и увидишь.
По зову Ашам являются еще два стража. Один сталкивается с тем, кого послали за водой. Из сияющего сосуда выплескивается вода. Втроем они кидаются подтирать лужу. Мальчик смеется, хлопает в ладоши и приговаривает: «Еще, еще». Ашам послушно звонит в колокольчик. Собирается толпа стражей, кутерьма, опять проливается вода, а затем раздаются шаги, стражи жмутся к стене и замирают, услышав резкий сердитый голос:
– Ведь я предупреждал: будешь баловаться – отберу.
Он входит. Меховая накидка, в руке факел. Годы его изменили. Лицо осунулось и стало жестче, волосы длинные, но поредели, и заметен рубец, пересекающий лоб. Увидев шрам, Ашам коченеет.
– Это не я, – говорит Енох. – Она сама попросила.
Каин молчит.
– Верно, – говорит Ашам. Опять кружится голова, еще сильнее, чем прежде. Ашам вонзает ногти в ладонь. – Он не виноват.
– Оставьте нас, – приказывает Каин.
Стражи исчезают.
– И ты.
– Почему? – дуется Енох.
– Ступай.
Мальчик кривится, но уходит.
В зале мертвая тишина. Только память о колокольчике да треск факелов.
– Ты и собаку его украл, – говорит Ашам.
Каин усмехается.
– Ты устала. – Он подвигает табурет. – Присядь. Нет сил шевельнуться. Все тело необъяснимо звенит.
Дрожат коленки.
Факелы меркнут. Зал съеживается и кружится. Столько надо сказать.
Обморок.
Долгое и запутанное дело Упыря отражало ход времени и развитие технологий.
В папках лежали черно-белые фотографии, цветные фотографии, а также распечатки оцифрованных. На расшифровки допросов и отчеты судмедэкспертов ушло столько бумаги, что лишь посадка приличного леса возместила бы изведенную древесину.
Самые ранние документы были отпечатаны на машинке или матричным принтером, из которого некие торопыги выдергивали листы, размазывая печать. Более поздняя слепая продукция лазерного принтера говорила о том, что в результате урезанного финансирования время ожидания нового картриджа бросало вызов советской очереди за хлебом.
Джейкоб насчитал двадцать три разных почерка; одни ключевые игроки лос-анджелесской полиции оставили всего лишь закорючку на полях, но была и парочка таких, кто плотно исписывал страницу за страницей.
Крупные буквы Хауи О’Коннора отражали его основательный подход к делу. Точно жернов, он перемалывал информацию, составлял списки, наносил на карту места убийств, вычерчивая географическую схему.
На допросах О’Коннор был жестковат и обрывал на полуслове тех, кто отклонялся от темы.
Джейкоб считал это главным пороком детектива. Смысл допроса в том, чтобы разговорить оппонента, а для этого самому надо заткнуться, и пускай мысль бродит где хочет. Хороший следователь подобен психиатру, молчание – его острейший инструмент.
«Гугл» выдал пару фотографий, но кто знает, тот ли это О’Коннор. Фамилия-то не редкая. Ни слова о скандале из-за сексуального домогательства. Инцидент спустили на тормозах либо вообще не предавали огласке. Нынче малый не успел бы застегнуть ширинку, как о нем уже писали бы в узбекских блогах.
Людвиг сказал, что О’Коннор – хороший коп. Похоже, дело Упыря не стало его звездным часом.
Видимо, нетерпение и лапанье свидетельницы – симптомы одной болезни: приличный человек под наркозом вечного кошмара утонул в бюрократии.
А может, это дело и довело его до ручки.
Джейкоб себя притормозил. Картина душевного состояния Хауарда О’Коннора ничего не скажет о девяти убийствах.
У жертв было мало общего – только молодость и приятная внешность. Они вращались в разных социальных кругах. Кэти Уэнзер и Лора Лессер захаживали в бар на углу Уилшир-бульвара и 26-й улицы, но все, от любовников до барменов, уверяли, что женщины не были знакомы друг с другом. После долгого наблюдения за баром О’Коннор списал их визиты на случайное совпадение.
Другое дело, манера убийств. Тут все одно к одному.
Все девять женщин жили одни, в квартирах на первом этаже или в одноэтажных домах, не оборудованных сигнализацией и значительно отстоявших от соседних зданий.
Никаких следов взлома.
Вполне понятно, отчего люди тогда так всполошились.
Чудовище легко проникает в твой дом, убивает тебя и исчезает.
По нынешним меркам это просто невероятно, однако вплоть до пятого убийства никто не додумался сравнить образцы спермы. Поначалу О’Коннор даже не рассматривал версию с двумя убийцами и спохватился отчаянно поздно.
Время-то было сложное, о чем Джейкоб старался не забывать. В 1988 году ДНК-анализ был новой дорогостоящей причудой. Суд не спешил принять его как улику, решения о трате времени и денег принимались со скрипом.
Лозунг 1988 года – остановить разгул уличного бандитизма.
В то время совокупная мощность компьютеров полицейского управления примерно равнялась мощности нынешнего смартфона.
О’Коннор молодец уже потому, что заказал анализ, и вдвойне молодец, что все-таки быстро связал одно с другим: убийства серийные.
Позже дело перешло к Людвигу – Джейкоб узнал аккуратный почерк, которым была подписана витрина с бабочками-монархами. Людвиг работал искуснее своего предшественника: задавал правильные вопросы (говоря точнее, те, которые задал бы и Джейкоб) и сводил концы с концами, отсекая лишние.
Однако прошедшее десятилетие повергало в прах его следовательские достоинства. Многое забылось, стерлись детали. Кто-то умер, либо уехал, либо угрюмо каменел от попыток вернуть его в кошмарное прошлое. Кое-кто даже не скрывал неприязнь и отказывался говорить, пока ему не докажут, что дело сдвинулось с мертвой точки.
Список тех, кого следовало допросить, растянулся на тридцать шесть листов. Некоторые фамилии были помечены звездочкой – знак то ли особого внимания, то ли вообще никакого.
Дениз Стайн среди них не было.
На полу, устланном бумагами, в стратегических точках Джейкоб расставил бутылки бурбона – дабы освежаться, не глядя. Прихлебнув из бутылки, он пополз на карачках, выискивая материалы О’Коннора по убийству Дженет Стайн.
Запись о Дениз была краткой. Она-то и обнаружила тело сестры. Нездоровье, полагал О’Коннор, исключало ее из числа подозреваемых.
Видимо, никто не удосужился подробно ее допросить.
Незачем. Ищут не Мстителя, ищут Упыря.
Джейкоб сел к столу и пошевелил мышью, оживляя монитор.
О Дениз Стайн – ничего. Адрес неизвестен. Никаких правонарушений. Телефонный номер, записанный Людвигом, передан другому абоненту.
Может, ее госпитализировали? Наверное, по телефону регистратура не скажет. Нет, ты явись живьем, расскажи, в чем дело, и тогда тебя, может быть, не заставят прыгать сквозь обручи формальностей.
Джейкоб пошарил в кухне – нет ли какой еды, у которой срок годности истек или истекает в пределах трех месяцев, – и вернулся в гостиную с «шашлыком по-левски»: семь оливок, нанизанных на бамбуковую палочку. Он сосредоточенно одну за другой сжевал мясистые оливки, стараясь не смотреть на журнальный столик, где его ожидали фотографии с мест преступлений.
Их он решил оставить напоследок, а сперва детально изучить подходы обоих следователей. Только так можно объективно воспринять жуткие сцены.
Вранье. Не хотел он их воспринимать.
Джейкоб еще потянул время – выбросил шампур в раковину, вытер руки о штаны, налил себе выпить. Сначала только мазнул взглядом по верхнему снимку, а потом глубоко вдохнул и в упор посмотрел на Хелен Джирард, какой 9 марта 1988 года ее нашел любовник.
Голая, лежит ничком, ноги разбросаны; кровать сдвинута в сторону, чтоб было место для трупа.
В отчете патологоанатома сообщалось о потертостях на запястьях и лодыжках, хотя труп связан не был. Синяк, расплывшийся на пояснице, говорил о том, что убийца уперся коленом в жертву, запрокинул ей голову и перерезал горло. Рана глубокая, до шейных позвонков.
Кроватный подзор и плинтус залиты кровью. Тусклая в дневном свете кровавая лужа проползла к подоконнику.
Кровь впиталась в коверный ворс. Громадное черное пятно вокруг тела подобно бездонной пропасти, над которой парит покойница.
Опережая подступавшую дурноту, Джейкоб задавал себе вопросы.
Зачем связывать, а потом освобождать? Лишняя улика? Или чуть-чуть побороться для пущего возбуждения?
Скряги – мол, веревочка еще пригодится?
Джейкоб взял снимки Кэти Уэнзер.
Тоже распростерта на полу спальни, тоже была связана и потом освобождена, тоже перерезано горло.
Те же кровавые лужи и тот же кровавый ручей из черной бездны.
Еще одно сходство: в квартире порядок. Жертва не сопротивлялась. Наверное, убийцы сказали, что не причинят ей вреда, если будет послушна.
С Кристой Нокс было иначе. Из спальни – тумбочка опрокинута, дверца шкафа повисла на одной петле – борьба переместилась в гостиную, где и лежал труп. Кровавые ручьи разбежались по декоративной плитке, заполняя щербины в швах.
Она проснулась и увидела их.
Поняла, что ее ждет.
Попыталась убежать.
Вот еще доказательство ее воли к жизни: колени и руки в кровоподтеках, вырван клок волос на затылке.
Вырывалась, брыкалась, все равно умерла.
Сперма не обнаружена.
Испугались – слишком нашумели?
Патти Холт была худышка, но тоже сражалась до конца, превратив кухню в свой последний бастион. Не принадлежавшая жертве кровь, о которой упомянула Дивия, виднелась на осколке керамического блюда.
Молодчина, Патти.
Затем убийцы сменили почерк. Конечно, не случайно. О происшествиях трубили все газеты. Втихую уже не проскочишь.
Если первые четыре убийства произошли между двенадцатью и тремя ночи, то Лора Лессер погибла около десяти утра, вернувшись с ночной смены в доме престарелых. Переоделась в пижаму, включила телевизор в гостиной, стала завтракать.
Джейкоб вообразил, как она подскочила, увидев двух мужчин.
Выронила стакан с грейпфрутовым соком.
Миска с нетронутыми кукурузными хлопьями так и осталась на диванном подлокотнике.
Хауи О’Коннор дотошно зафиксировал, что содержимое миски превратилось в кашу.
Когда Лора не вышла на работу, ее коллега, она же лучшая подруга, забеспокоилась. На стук в дверь никто не ответил. Подруга заглянула в окна. Вторую комнату Лора использовала как гардеробную. Вот там она и лежала среди разбросанной обуви.
После этого город закрылся на все замки.
Четыре месяца было спокойно.
А затем прежний стиль: ночное проникновение, море крови, разор. В спальне Дженет Стайн.
Утром Дениз вошла в квартиру, открыв дверь своим ключом. Она частенько ночевала у сестры, если дома становилось невмоготу. Нынче они сговорились прошвырнуться по магазинам за джинсами. Дверь в спальню была закрыта, и Дениз решила, что сестра еще спит. Угостилась колой, с полчасика подождала и, потеряв терпение, без стука вошла в спальню.
Девушка, у которой и так-то не все в порядке с головой, увидела такое.
И о чем он собрался с ней говорить?
Седьмое убийство ломало трафарет. Инес Дельгадо стала второй жертвой, в теле которой не обнаружили сперму. Следов веревки на запястьях не было, и, хотя труп нашли в спальне, во всем доме тоже царил разгром.
Повалена мебель. Видимо, Инес пыталась убежать, не вышло, она кинулась в спальню, но не успела запереться.
Нет, характер ранений и кровавые следы это опровергают. На животе жертвы пятнадцать ножевых ран, ванная изгваздана кровью и желчью. Через прихожую кровавый след тянется к изножью кровати. Следователь предположил, что горло перерезали уже мертвой Инес – возле головы почти нет крови.
Стремление быть последовательными? Шесть перерезанных глоток требовали седьмую?
Кэтрин Энн Клейтон нашли через неделю – верхний сосед пожаловался на запах.
Мать-одиночка Шерри Левек на выходные отвезла пятилетнего ребенка к бабушке с дедушкой.
Щелкнула кофеварка.
Наступал рассвет, уже три ночи он спал урывками, а возбуждение не спадало. Паршиво. Он знал лишь одного человека, умевшего сутками напролет вкалывать без сна, – его мать в маниакальные периоды.
Анализ крови на биполярность не делают. Определенного генетического маркера нет.
Перешагивая через бумаги и бутылки, Джейкоб прошел в спальню. Поставил будильник на полдевятого.
Догола разделся, нырнул в сбитые простыни и уставился в пузырчатый потолок.
Спать, спать, спать… Черта лысого.
Почему? Из-за фотографий? Побочный эффект недосыпа? Или тревога из-за ненормально долгой бессонницы?
Джейкоб сел в кровати. Надо пропустить рюмашку на сон грядущий.
На сон бегущий.
Все равно. Лишь бы уснуть.
Родители Дениз и Дженет Стайн жили в Холмби-Хиллз. Живая изгородь смолосемянника окружала голландский колониальный особняк. Джейкоб нажал кнопку интеркома. Служанка известила, что хозяев дома нет.
– Наведайтесь в клуб.
Джейкоб обернулся. Мадам. В розовой помаде губы, раздутые, как спасательный круг, розовый спортивный костюм от «Джуси Кутюр», на розовом поводке йоркширский терьер в розовом ошейнике, инкрустированном стразами.
– После полудня они всегда там, – сказала дама.
Терьер раскорячился и наложил кучку на лужайке Стайнов.
– Я ищу Дениз, – сказал Джейкоб.
Дама расплылась в улыбке:
– Наверняка они сообщат, где ее найти.
Как выяснилось, речь шла о загородном клубе «Гринкрест», что в двух милях к западу от Уилшир-бульвара. Джейкоб поблагодарил за информацию. Отъезжая, глянул в зеркало заднего вида, прикидывая процент натурального в розовой даме, и нахмурился: за собакой она не убрала.
Полицейская бляха не помогла проникнуть в клуб.
Джейкоб позвонил Эйбу Тайтелбауму.
– Мой блудный малыш Яков Меир. Как поживаешь?
– Здравствуйте, Эйб. По-прежнему на страже добра. Как вы?
– Не оказываю никакого сопротивления. Как твой батюшка-ламедвавник?
– Всякий, кто себя мнит ламедвавником, по определению не ламедвавник.
– Я не сказал, что он себя мнит ламедвавником. Я считаю его ламедвавником. Не просто считаю – я точно знаю. Что стряслось?
Джейкоб объяснил ситуацию.
– Погоди минутку, – сказал Эйб.
В трубке заиграла музыка, а Джейкоб насладился разительной переменой в охраннике. Тот лениво потянулся к телефону, затем вскочил как ужаленный и богобоязненно приник к дымчатому стеклу.
Джейкоб усмехнулся и помахал.
На счет «восемьдесят один» шлагбаум поднялся.
Эйб вернулся на линию:
– Я произвел эффект?
– Как Моисей на Чермное море.
– Славно. Выпей. Пусть запишут на мой счет.
«Гринкрест» открыли евреи, которых не пускали в загородные клубы для городской неиудейской знати. Стены были увешаны непринужденными фото основателей киностудий и забытых комедиантов. В семидесятые годы правила смягчились, но в обеденном зале, заполненном хорошо одетыми несерьезными людьми, которые от души хохотали и аппетитно ели, еще чувствовалась явно синагогальная атмосфера. Под стать кессонам дубового потолка, здешние посетители были ухожены и вылощены.
Метрдотель, встретивший Джейкоба у дверей, деликатно кивнул на кабинку, где в одиночестве выпивала женщина в дорогом трикотажном платье.
– Пожалуйста, недолго, – сказал он.
В стильном макияже Роды Стайн имелся недочет – пятно на шее, соперничавшее с окрасом фламинго. Джейкоб сделал вывод, что огромный бокал с «пинья колада» у нее не первый.
Дама смерила Джейкоба взглядом:
– Сегодня я не подаю.
Он усмехнулся:
– Джейкоб Лев, лос-анджелесская полиция. Можно присесть?
Безразличная отмашка.
Джейкоб сел.
– Ваш муж здесь?
– В сауне. Выпаривает токсины. – Рода прихлебнула коктейль, оставив на бокале след помады. – Наверное, вы новенький. Прежде я вас не видела.
Джейкоб кивнул.
– Набирают молодняк, с каждым годом все юнее. – Она промокнула губы крахмальной салфеткой, на которой тоже остался след. – Ну, что на этот раз?
– Меня интересует Дениз.
Рода Стайн вздрогнула.
– Вы хотели сказать – Дженет.
– Нет, Дениз. Надо бы с ней поговорить.
Рода смотрела в упор.
Сквозь зеркальное окно доносился стрекот картов на гольф-поле.
– Я знаю, вы много пережили, – сказал Джейкоб. – Страшно даже представить. Хочу вас заверить: я сделаю все от меня зависящее, чтобы добиться справедливости для Дженет. Вы очень поможете, если сведете меня с Дениз.
– Красиво, – сказала Рода Стайн. – «Справедливость для Дженет».
Джейкоб ждал.
– Мы учредили фонд ее имени. Ликвидация неграмотности. Пожалуй, надо было так и назвать. «Справедливость для Дженет». Броско. Только не очень оптимистично. Как по-вашему?
– Я понимаю, вам тяжело.
– Как вы прошли охрану?
– С трудом.
– И правильно. В этом смысл клуба – отрешиться от мира. Оставь заботы за порогом, веселись и чревоугодничай. Артуро делает грандиозный «пинья колада» – натуральный сок, никакого сравнения с бурдой, которой потчуют на курортах. Желаете отведать?
– Нет, спасибо.
Рода отхлебнула из бокала, промокнула губы.
– Значит, вы хотите поговорить с Дениз.
– Хотелось бы знать, как у нее дела.
Рода кивнула раз, другой, третий – словно китайский болванчик. Потом опять сделала добрый глоток и вздохнула, будто огорчившись, что бокал еще наполовину полон:
– Жалко губить.
Она выплеснула коктейль в лицо Джейкобу, промокнула губы и, бросив салфетку на стол, ушла.
Джейкоб обомлел. С подбородка зарядила капель.
Оцепенение длилось недолго. «Гринкрест» из своей истории исторг бы несчетно случаев, когда напитки выплескивались в физиономии. Не прошло и полутора минут, как на позицию выдвинулось подразделение в смокингах, вооруженное тряпками. Бойцы протерли стол и стулья, убрали начудивший бокал и снабдили потерпевшего чистой салфеткой и стаканом сельтерской – омыть рубашку.
Что касаемо членов клуба, они тоже видали подобное не раз. После весьма короткой паузы все возобновили трапезу и болтовню.
– Эй, приятель. – Иссохший человек в кашемировом блейзере вынул зубочистку изо рта и поманил Джейкоба.
Промокая лицо, тот перебрался в соседнюю кабинку.
– Послушай, парень, оставь ее в покое, а? – сказал человек. – Ей и так досталось.
– Я знаю. Я хочу ей помочь.
Сотрапезник незнакомца напомнил Джейкобу отца – глаза его прятались за янтарно-желтыми очками.
– Она миллион раз это слышала, – сказал он.
– Сейчас не так.
– Что – не так?
– Я должен поговорить с ее дочерью.
– Она умерла.
– Нет, с другой.
Мужчины переглянулись. Кретин.
– Парень, они обе мертвы, – сказал морщинистый.
Из вестибюля донесся голос метрдотеля: «Попросите его уйти».
– Ч-черт! – выдохнул Джейкоб.
Очкастый кивнул:
– Пару лет назад повесилась.
– Черт…
– Да уж, черт, – сказал морщинистый.
Шаги.
– Извините, – сказал Джейкоб.
Он кинулся к выходу и пахнущим плесенью коридором выскочил в крытый проход. Указатели сообщали путь к гольф-магазину, фитнес-центру и апартаментам Основателя. Роды Стайн нигде не было.
В фитнес-центре улыбчивая женщина за конторкой вручила ему формуляр.
Эйб Тайтелбаум, написал Джейкоб.
– Где сауна? – спросил он.
– Подвальный этаж. Легкого пара.
Джейкоб осторожно шагал по скользкой плитке, стараясь не смотреть на мохнатые животы и болтающиеся мошонки. Ни одного тела моложе семидесяти. Что будет с членским списком, когда Великое Поколение вымрет? Придется вводить стимулирующие скидки.
На верхнем ярусе сауны, окутанной паром, сидел лишь один человек. Голова откинута, глаза закрыты, пот ручьями; этакий еврейский Будда на вершине горы.
– Мистер Стайн? – спросил Джейкоб.
Глаза не открылись.
– Да?
– Я Джейкоб Лев. Хочу перед вами извиниться.
– Я вас прощаю.
– Вы даже не узнали за что.
Стайн пожал плечами:
– Жизнь слишком коротка, чтобы таить обиды.
Рубашка Джейкоба, от коктейля уже прилипшая к груди, сейчас липла к спине от пота.
– Я расстроил вашу жену.
Теперь сквозь марево Стайн на него взглянул:
– Зачем?
– Я не нарочно. Я… очень ошибся.
– В чем?
Помешкав, Джейкоб все рассказал.
Стайн расхохотался:
– Охренеть!
– Я прошу прощения.
– Нет, ей-ей, дурнее не придумаешь. А уж я, поверьте, повидал дураков-чемпионов. Оторвала вам?
– Что?
– Моя жена. Вам яйца. Оторвала.
Джейкоб помотал головой:
– Видимо, я легко отделался.
– Верно мыслите, амиго, – сказал Стайн. – Ну? А от меня чего хотите?
– Я…
– А, понял! Надеетесь себя переплюнуть. Ну, не знаю, удастся ли. Тэк-с. Может, такой вариант: «Привет, Эдди, говорит детектив…» Как вас?
– Лев.
– «…Говорит детектив Лев. Хорошая новость. Я веду расследование и выяснил, что обе ваши дочери живы. В Барстоу Дениз обслуживает дальнобойщиков, а Дженет – пресс-секретарь Хезболлы. Шучу-шучу, обе мертвы – мертвее не бывает». – Стайн усмехнулся. – Как вам?
– Послушайте…
– Не щадите меня. Валяйте честно. Из десяти баллов.
– Послушайте, мне очень жаль. Правда. Я себя чувствую идиотом…
– Доверяйте своему чувству.
– …Но ваша жена сбежала, я рта не успел открыть. И я не знаю, куда она делась.
– Ну, это просто. Пошла добавить.
– Я только хочу перед ней извиниться.
Эдди Стайн отер лицо и встал:
– Ладно, пошли отсюда.
В раздевалке он открыл шкафчик.
– Не вздумайте пялиться на мое достоинство. Зависть – скверное чувство.
– Ни в коем случае, сэр.
– Любопытных полно. Молва бежит впереди. – Стайн вытер живот. – Хотя не знаю, как можно его опередить. Он всюду входит первым.
Теперь и впрямь захотелось глянуть. Стайн не врал.
– Я все вижу, Лев.
Джейкоб отвернулся к стене.
– Ничего, если я спрошу, зачем вам понадобилась моя мертвая дочь?
– Мы нашли одного убийцу, – рискнул Джейкоб.
Шорох махрового полотенца стих.
– Кого нашли?
– Одного из тех, кто убил Дженет. Он мертв.
Тишина. Джейкоб испугался, что Стайна хватил инфаркт.
– Я поворачиваюсь, – предупредил он. – Прикройтесь.
Но Эдди не прикрылся. Рука с полотенцем безвольно упала, вся грудь мокрая, но теперь мокро и лицо.
– Врач не нужен? – спросил Джейкоб.
– Нет, поц, нужна салфетка.
Джейкоб вытянул салфетку из раздатчика:
– Извините, что вот так вас огорошил.
– Извинить? Вы рехнулись – извиняться? После того, как выпустили дженерики «виагры», это лучшая новость. – Стайн посмотрел на Джейкоба: – Говорите, он мертв? Как он умер?
– Кто-то отрезал ему голову.
Стайн хохотнул:
– Фантастика! Кто?
– Не знаю.
Эдди задумчиво покивал. Потом вспомнил, что он голый, и обмотался полотенцем:
– Я же сказал, не подглядывать. Подождите в холле.
Через пару минут он появился в ладных клетчатых слаксах, ярко-синей рубашке поло и кремовых мокасинах из телячьей кожи. Седые волосы в геле, зачесаны назад.
– Поправьте, если я ошибаюсь. – Стайн вызвал лифт. – Вы нашли сукина сына без башки и решили, что это дело рук Дениз.
– Я просто хотел с ней поговорить, – промямлил Джейкоб.
– Ну, тогда я Альфред, лорд Теннисон. – Стайн покачал головой. – Мой обширный опыт общения с лос-анджелесской полицией подсказывает, что вы типичный коп. Коп-недоумок.
Лифт звякнул, дверь отъехала, явив метрдотеля с двумя охранниками.
– Пожалуйста, следуйте за нами, сэр.
– Пшли вон. – Эдди раздвинул их, как наборную занавеску. – Он мой гость.
Роду они отыскали в баре второго этажа, перед ней стоял бокал. Почти пустой.
– Или я не знаю свою жену? – сказал Эдди.
Заметив их, Рода помахала бармену:
– Сделайте еще один. Погуще.
– Погоди, Артуро. – Эдди подтолкнул Джейкоба: – Скажите ей.
Джейкоб сказал.
Рода не заплакала. Вообще никак не отозвалась. Окликнула бармена:
– Артуро, меня мучит жажда.
– Слушаюсь, мадам.
– Я приношу извинения, – сказал Джейкоб. – Самые искренние.
Рода слегка кивнула.
– Кто вам сказал, что Дениз жива? – спросил Эдди.
– Какая-то женщина возле вашего дома.
– Как выглядит?
– Толстые губы. Спортивный костюм. Собака на розовом поводке.
– Нэнси, – сказала Рода.
– Я решил, она ваша соседка.
– Соседка, – кивнул Эдди. – По совместительству сука.
Рода прищелкнула языком:
– Говорит, наш надстроенный этаж перекрыл ей обзор.
– Обзор чего?
– Вот именно.
Помолчали. Эдди нарушил тишину:
– Не знаю, что еще вам сказать, детектив. Потом дайте знать, кто это сделал. Я пошлю ему открытку к Рош а-Шана[28].
На лестничной площадке Джейкоб оглянулся. Два пожилых человека обнялись, приникли друг к другу, спины их тихо подрагивали. Не поймешь, от смеха или от слез.
На парковке он отправил эсэмэску Дивии:
есть что-нибудь
Тотчас пришел ответ:
никаких отпечатков черт, написал он, 2-й убийца?
потерпите не моя сильная сторона
Дивия ответила смайликом.
Помешкав, Джейкоб набрал:
поужинаем?
Прошла минута, другая.
дела
Джейкоб потер лицо, завел мотор и стал задом выезжать. В подстаканнике зажужжал телефон.
извините, написала она, может, как-нибудь в другой раз
Уже что-то. Джейкоб набрал надежда умирает последней, но потом приказал себе не быть идиотом. Удалил текст, отправил просьбу оставаться на связи.
Диспетчерская 911 так и не откликнулась на два обращения – даже не показала, что они получены. В письме Майку Маллику Джейкоб подробно изложил ход расследования и попросил подстегнуть службу спасения. Пускай Особый отдел поднатужится.
Поужинав хот-догами с бурбоном, он уселся на полу и открыл очередную папку.
К половине двенадцатого голова раскалывалась, глаза разъезжались. Добравшись до спальни, Джейкоб рухнул в постель, не почистив зубы. Полное изнеможение ощутимо успокоило. Значит, еще не съехал с катушек.
Нестерпимый зуд.
В руках, спине, шее, промежности.
Он скребся как бешеный, но с удвоенной силой зуд перегруппировывался в других частях тела.
Он оглядел себя.
Они.
Повсюду.
Жуки.
Черным шевелящимся панцирем они укрывали все тело, их лапки легонько корябали в пупке и между пальцами ног. Он заколотил себя по груди, и жуки бросились врассыпную, прячась в лобковой поросли, под мышками и между ягодиц, забивались в уши, тоннелями ноздрей протискивались в гортань. Он отбивался, но выходило только хуже. Пронырливые и несметные, невесть откуда бравшиеся, они зарывались в тело и, схоронившись в незримых полостях между кожей и плотью, дыбились живыми бугорками.
Раздирая ногтями кожу, он выскребал их из схронов и вопил, вопил, вопил.
Потом в руке его оказался острый камень, и он стал себя кромсать, целыми лоскутами срезая кожу с голеней, ступней, рук и живота, но зуд не унимался; что угодно, лишь бы от него избавиться; он нацелил острие на себя; через секунду он рыдал сотней искривленных ртов, а жуки проникали в его мозг. Он бился головой о каменную стену, чтобы раскроить череп.
А потом перерезал себе глотку.
Просунув руку в липкое месиво рассеченных жил и сосудов, он сжал в кулаке жучиное полчище, прекрасно сознавая, что убивает себя.
В половине пятого утра Джейкоб, весь в красных следах расчесов, вырвался из хватки сна. Бегом кинулся в ванную и ледяным душем выжег остатки кошмара. Потом, тяжело дыша, по-турецки сидел, мокрый, на коврике. От жуткого озарения потряхивало.
Он что-то пропустил.
Эпоха цифровой фотографии не лимитировала криминалистов в количестве снимков, но в 1988 году их коллегам приходилось учитывать стоимость пленки и ее обработки. Не было стандартных ракурсов, и потому в деле Упыря снимки разнились.
Джейкоб стащил с кровати пропотелые простыни и на матрасе рядами разложил фотографии 8×10. Сравнил. В висках стучало.
Одни снимки поменял местами, другие сдвинул друг к другу.
Его беспокоила Инес Дельгадо.
Зачем тащить ее в спальню, чтобы перерезать горло?
Почему не оставить там, где ее настигла смерть? Как прочие жертвы?
Значит, это не годилось. Значит, убийцы хотели, чтобы она, как Хелен, Кэти, Дженет и Шерри, оказалась в спальне, и точно так же они хотели, чтобы Криста была в гостиной, Патти – в кухне, Лора – в гардеробной, а Кэтрин Энн – посреди студии.
Иногда они сдвигали мебель.
Иногда нет.
Неизменная деталь – раскинутые ноги. Типичная поза изнасилования.
Всегда синяк на спине.
Джейкоб мысленно проиграл действия убийцы: встать на колени, ухватить жертву за волосы, запрокинуть ей голову, вскинуть нож.
Что он видел?
Джейкоб переворошил снимки, отыскивая средний план в ракурсе от ног жертвы. Пять фотографий дали абсолютно ясную картину, еще четыре – почти ясную.
Девять раз он увидел то, что видел убийца, занося нож.
Девять раз он увидел окно.
В семь утра терпение лопнуло. Джейкоб схватил телефон.
– Давайте установим незыблемые правила, – сказал Фил Людвиг. – Сейчас я сплю.
– Дело важное. Слушайте.
Людвиг выслушал.
– Хм, – сказал он.
– Я пересмотрел все бумаги. Думал, может, кто-нибудь заметил.
Пауза.
– Очевидно, никто, – сказал Людвиг.
– Никто. – Сообразив, что вышло очень самонадеянно, Джейкоб добавил: – Деталь не очевидная.
– Избавьте от вашего снисхождения, Лев.
Донесся голос Греты: «Выйди на кухню».
– Ну? И что это значит?
– Я понятия…
«Фил. Я же сплю».
– Погодите, – сказал Людвиг.
Зашлепали тапочки, тихо щелкнула дверь.
– Я понятия не имею, что это значит, – сказал Джейкоб. – Но, выходит, это было намеренно. Инес не пыталась вернуться в спальню. Она хотела вырваться из квартиры, ее не пускали. И что-то пошло не так. Для них. Ее били ножом в живот, – может, она врезала одному в морду или по яйцам, тот взбеленился и пырнул. Но по плану ей полагалось лежать перед окном, как остальным. Я не знаю зачем, но тем не менее. Инес еще жива, она умирает, они такие: «Зараза, давай ее к окну, пока не сдохла». Что наводит на мысль: может, они и других перетаскивали? Я-то думал, женщины перемещались по квартире только потому, что сами пытались сбежать, но, может, их связывали как раз затем, чтобы еще живыми перенести и положить перед окном, а тогда уже снимали веревки. При чем тут окна, я не знаю. Однако Инес почему-то не связали.
Молчание.
– Фил? Вы здесь?
– Тут я, – чуть слышно ответила трубка.
– Что скажете?
– По-моему, вы перебрали кофе.
– Я вообще не пил кофе, – рассердился Джейкоб.
– Стрекочете как пулемет.
– Похоже, я что-то нащупал.
– Возможно.
– Вы не согласны?
– Да нет… Хорошая работа. По крайней мере, хоть что-то делается. – Людвиг зевнул – пыл Джейкоба словно водой залили. – Что дальше?
– Не знаю. Еще не успел переварить.
– Ладно, переваривайте. А я пошел досыпать. Звякните, если что понадобится. Желательно после десяти.
– Фил, вы были правы насчет Дениз Стайн.
Пауза.
– Вот как?
– Она явно ни при чем.
– Рад слышать. Да, пока не забыл: я разбираюсь с вашим жуком. Пока ничего.
– Спасибо.
– Поаккуратнее, Лев.
Джейкоб понуро повесил трубку. Людвиг сдержан оправданно.
Жертв укладывали перед окном. Ну и что?
Джейкоб велел себе успокоиться, не преуспел, заходил по комнате, потирая ладони. На кухне вылил холодный кофе, сварил свежий, стал наливать в кружку, но, заметив, как дрожат руки, опростал кружку в раковину.
Неймется – за компьютер. От 911 ничего, от Маллика тоже.
Нога сама собой дрыгалась и приплясывала, пока он сочинял пространное письмо Маллику, в котором подробно изложил разговор с Людвигом и повторил свою просьбу насчет диспетчерской.
Нервный озноб не спадал. Джейкоб пошарил по сети, затем в «Гугле» набрал «Мая».
Компьютер выдал кучу ссылок на мультяшных персонажей и рецепты коктейля «май таи».
Возможно, вы искали «май»?
Джейкоб посмотрел в окно.
Белый фургон вернулся.
Джейкоб набрал «Шторы и не только».
Австралийская компания, филиал в Великобритании.
В США не значится.
Покусывая губу, Джейкоб откинулся в кресле.
Снова посмотрел в окно.
Может, дело не в окнах, а в том, какой вид открывался за окнами?
Джейкоб оделся, записал адреса и, взяв камеру, вышел на улицу.
Как и прежде, фургон был пуст.
Джейкоб сфотографировал салон, номера и логотип компании, отметив, что адрес и телефон не указаны.
Потом достал визитку и на обороте написал:
Привет, я бы хотел повесить новые шторы.
Карточку сунул под «дворник».
Джейкоб начал с ближайшего адреса. Бывшее жилье Шерри Левек – ветшающий одноэтажный дом – располагалось к западу от автострады и к югу от Вашингтон-бульвара. Кое-какие дома в квартале подновили – результат жилищного бума. Однако дом Шерри был честен: осыпающаяся штукатурка и обшарпанное крыльцо ничего не обещали.
На звонок никто не ответил. Американский флаг, свесившийся над дверью, выгорел до прозрачности. Джейкоб обошел дом, вычисляя окно спальни. Скорее всего, то, что смотрит на задний двор. Джейкоб распластался по стене. Ну и о чем этот вид поведает?
Клевер и мятлик, одуванчики в росе.
Поливалки.
Изгородь.
За ней соседский двор, искореженные качели.
Выше – черные электрические провода, провисшие под тяжестью черных ворон.
Джейкоб безуспешно ждал озарения.
Иное время суток?
Что-то было, но исчезло?
Азарт угас. Джейкоб посочувствовал одиноким и растерянным древним пророкам, вообразившим, что их коснулась Господня длань. Но Бог отдернул руку, и они бестолково топчутся в поднятом им вихре.
Вороны вдруг разом поднялись и, каркая, хлопая крыльями, унеслись на восток.
Сделав несколько фотографий, Джейкоб сел в «хонду» и поехал к бывшему дому Кристы Нокс в Марина-дель-Рей.
Небритый мужчина, ответивший на звонок, потребовал ордер и с лязгом задвинул засов.
Четверть одиннадцатого. Джейкоб послал эсэмэску Дивии.
Та не ответила, он отправил второе послание, о чем сразу пожалел.
Дом в Эль-Сегундо, где в студии обитала Кэтрин Энн Клейтон, снесли и на его месте построили торговый центр. На углу, где она жила и умерла, продавал свое пойло «Старбакс». Джейкоб сделал панорамный снимок с обзором в двести семьдесят градусов, купил низкокалорийный отрубной кекс и кофе без кофеина, отдававший горелым картоном, и вернулся на шоссе в Санта-Монику.
Там удача улыбнулась: бывшая квартира Кэти Уэнзер была свободна и выставлена на продажу. Джейкоб позвонил риелтору, условился о встрече сегодня же.
Закончив разговор, он услышал сигнал ожидающего вызова – звонил отец.
– Здравствуй, абба. Что случилось?
– Захотелось узнать, как ты.
– Я? Нормально.
– Вот и хорошо. Рад это слышать.
– Ладно. У тебя-то все в порядке?
– Все замечательно.
– Ну и славно.
– Да. Просто здорово.
– Прекрасно, абба. Только, знаешь, сейчас я немного занят…
– Чем?
– Что?
– Чем ты занят?
– Я работаю, – сказал Джейкоб.
– Ну да, конечно. По делу.
– Да.
– Как продвигается?
– Неплохо. Медленно, но верно. Давай я попозже перезвоню?
– Конечно, конечно. Только… У меня кончилось молоко. Ты не сможешь купить?
– Молоко, – повторил Джейкоб.
– К завтраку, – подтвердил Сэм.
– А Найджел не сможет?
– Я не спрашивал.
– Так, может, спросишь?
– Можно, только не знаю, найдется ли у него время.
– Абба, уже полдень.
– На завтра, – сказал Сэм. – На завтрашний завтрак.
– Тогда он наверняка успеет. А если нет, вечером я привезу, хорошо? Мне надо бежать.
– Да. Хорошо. Береги себя.
Сэм дал отбой.
Джейкоб в недоумении уставился на телефон. Отец никогда не был занудой. И совсем не умел врать.
Молоко? Да неужто?
Непонятно, с чего вдруг он так настырно расспрашивает о деле, – разве что всерьез обеспокоен состоянием сына. Мысль о том, что беспокойство это небеспочвенно, была неприятна. Ночью кошмары, днем трясет безудержным электричеством.
Нет, это не в счет. Издержки профессии. Он имеет право на кошмары. Потому что играет в гляделки со злом. Он имеет право на азарт. Потому что дело сдвинулось.
В телефонных настройках Джейкоб установил для отца особый звонок. Теперь ясно, каким вызовом можно пренебречь.
Дом, где некогда жила дипломированная медсестра Лора Лессер, был в тюдоровском стиле. Его нынешняя владелица, женщина средних лет, выслушала Джейкоба и, записав номер его бляхи, попросила обождать.
Переминаясь на крыльце, Джейкоб поразмыслил и пришел к выводу, что трехдневный трудовой марафон, взлет, падение, легкий подъем – отголоски усердия. У мании иная структура и не такая стремительная цикличность. Так? Ну да.
Вернулась хозяйка. Насупленная. В полиции подтвердили, что Джейкоб коп, однако название его отдела и возможную цель визита не сообщили. Прежде чем впустить, женщина забросала его вопросами, на которые получила максимально уклончивые ответы. И даже в доме не могла угомониться:
– Так какое, говорите, преступление?
Джейкоб ничего ей не говорил.
– Взломали квартиру.
– О господи! Мы в опасности?
– Ничуть. – Джейкоб миновал прихожую.
– Почему вы так уверены?
– Преступление давнишнее.
– Тогда зачем вы пришли?
– Обнаружилась его связь с недавними преступлениями, но вам не о чем тревожиться. – Лучезарно улыбаясь, Джейкоб шнырял по дому. – Честное слово.
Он нашел, что искал – бывшую гардеробную Лоры Лессер.
Теперь она стала спальней девочки. Над кроватью буквами из ворсистой ткани выложено «ИЗАБЕЛЛА».
Джейкоб представил труп Лоры Лессер на лиловом ковре.
Мысленно встал на колени и посмотрел в окно. Знак «Стоп».
Сделал снимок.
– Куда вы смотрите? – спросила хозяйка.
– Спасибо, я закончил. Извините за беспокойство.
Джейкоб направился к выходу. Бесплодность поисков доставляла мрачное удовлетворение. Отрицательный результат тоже по-своему полезен.
– Мы сюда переехали, потому что здесь спокойно, – сказала женщина.
– Верный выбор.
– Муж подумывает обзавестись ружьем.
Джейкоб вспомнил девчачью комнату и сказал:
– Только пусть держит его взаперти.
– Сделан полный ремонт, – в квартире Кэти Уэнзер сказала риелторша. – Дивная открытая планировка гостиной-столовой.
– А как спальня?
– Тоже все новое. – Риелторша шагнула из комнаты. – Сюда, пожалуйста.
Скоренько пробегая коридор, освещенный убогими бра, риелторша воспевала обои:
– …Сейчас это самое то…
Джейкоб вошел в спальню.
– Здесь дивные полы, правда? – сказала агентша.
– Миленькие, – ответил Джейкоб.
– Восстановленный тик. Прежние владельцы путешествовали по Индии и в Мумбае увидели школу под снос. Так они…
– Стены и окна не перемещали?
– Здесь? Не думаю. Они углубили стенной шкаф, идеально для молодой… пары или, если вы… – Риелторша уставилась на Джейкоба: тот, присев на корточки, фотографировал. – У нас вообще-то есть сайт.
– Угу, – сказал Джейкоб.
– Не хотите взглянуть на ванную?
Не отвечая, Джейкоб прошел к окну.
Через дорогу детский сад.
– А что об этом скажете? – спросил Джейкоб.
– Садик? Дивный. Открыт меньше четырех лет назад, условия превосходные. Организована группа особо одаренных малышей. У вас есть дети?
– Нет.
– А… Насколько я знаю, соседство очень деликатное. Детей забирают с другой стороны, так что скопления машин не бывает, а что касается шума… э-э…
Джейкоб делал снимки и прямо слышал ее безмолвный вопль: Тревога! Педофил!
Риелторша попыталась привлечь его внимание к другому окну, превознося дивный вид на северную сторону.
– Что вы сказали? – переспросил Джейкоб.
– Я говорю, там смотреть особо не на что, но вот здесь просто дивное освещение.
Джейкоб посмотрел в окно на детский сад.
– Сэр?
Он пошел к выходу.
– Вы… не возьмете рекламный проспект, сэр?
Из вежливости Джейкоб взял.
– Все окна выходят на восток, – сказал он.
Фил Людвиг молчал.
– Пока ни малейшего представления, что это означает, – продолжил Джейкоб. – К тому же дом Кэтрин Энн снесли, так что стопроцентной уверенности нет. Однако совпадение в восьми случаях из восьми.
Ни малейшего представления — невинное вранье. Версия имелась. Безрадостная.
В еврейской традиции восток очень важен. Молитва дважды разрушенному Иерусалимскому Храму[29].
Справедливость.
Но зачем все усложнять, пока не прояснились детали?
Однако Людвиг был доволен:
– Вы хорошо поработали.
– Спасибо.
– Я себя костерю, хотя понимаю, что зря.
– Вы правы. Зря.
– И все же. Хоть это немногого стоит, я вас благословляю.
– Благодарю.
– Вашего жука я переслал своему приятелю-ученому. Сегодня-завтра ответит.
– Спешки нет.
– Черта лысого. Уж дайте и мне с чем-нибудь справиться.
В суси-баре телевизор транслировал излюбленную тактику «Лос-Анджелес Лейкерс»: в конце последней четверти профукать двузначное преимущество в счете. Юристы в рубашках поло стучали кулаками по столам и грозили экрану «Ролексами» на запястьях.
Свое открытие Джейкоб решил отметить сравнительно приличным обедом в покое и одиночестве. Намерение продержалось не дольше супа мисо, а затем в голову вновь полезли мысли о деле.
Конечно, он первым подметил шаблонное расположение тел, но это ничуть не умаляло заслуг прежних сыщиков, что бы там ни говорил Людвиг. Детективные романы занятны, даже копы их почитывают, но расследование реального убийства – всегда кошмар и геморрой. Как правило, собираешь факты, отсеиваешь шелуху и идешь по следу, чаще всего очевидному, потому что большинство преступников – дураки. Бац – и дело закрыто.
В криминальных историях неизбежны слепые пятна и предвзятость.
Именно предвзятость позволила разглядеть систему. И даже сейчас вся картина виделась сквозь еврейскую призму.
Кто-то из племени Упырей?
Мысль Господь не велит вызвала усмешку.
Ты бы мог запрещать, если б я в Тебя верил.
Допустим, один еврейский Упырь угрохал другого. От этого не легче.
Лучше бы выкорчевывал Упырей и боролся с преступностью иной персонаж. Лучше, но все равно паршиво. Потому что желание перевести стрелки на вольного мстителя – это отголосок коллективной вины, порожденный погромами, издевательствами и кровавыми наветами.
Что-что ты сделал? Ой вей, что о нас подумают гои?!
Неудобный реликт племенного еврейства – гоэль хадам, искупающий кровь – вспомнился потому, что библейский закон отчасти предписывал настичь и убить всякого, кто лишил жизни родича. Отчасти – из-за странного ограничения: гоэль хадам имел право на возмездие только в случае предумышленного убийства злонамеренными душегубами. Люди, совершившие непредумышленное убийство, могли рассчитывать на непредвзятый суд и укрывались от мести кровников в специальных Городах-убежищах.
Джейкоб подал знак – еще графинчик теплого сакэ.
В Гарварде один второкурсник, считавший себя знатоком Японии, говорил, что сакэ подогревают, чтобы скрыть несовершенство низкопробного пойла. Хорошее сакэ всегда охлажденное и дорогое. Джейкоб любил несовершенство. Дрянная выпивка честна, как облезлый дом Шерри Левек: вкус в ней не главное.
Джейкоб налил и погонял сакэ в лакированной кадушечке. Пожалуй, напиток приторный, но вдогонку тэкка маки – самое то. У каждой нации существует своя пара выпивки и закуски, что неоспоримо доказывает: еда – лишь повод для пьянства.
Банзай!
Зал взревел, когда мордоворот-некогда-известный-как-Род-Артест[30] исполнил трехочковый бросок.
Нынешним открытием я заслужил по крайней мере ужин, подумал Джейкоб, вручая официантке карту «Дискавер». Через минуту девушка вернулась и покачала головой:
– Не проходит.
Большой сюрприз. Кинув на стол четыре двадцатки, Джейкоб отбыл.
В «187» была всегдашняя слегка подогретая толчея: стена потных тел и так называемая музыка, больше похожая на топот носорога.
– Привет. – Виктор налил бурбон. – Только что тебя вспоминал.
– Я тебе задолжал?
– Подруга твоя здесь.
Джейкоб огляделся, высматривая рыхлую девицу, покусанную жуком. Уже бывало, что он вдруг сталкивался с одноразовой партнершей. Если повезет, она его не вспомнит.
Меня как будто насадили на нож.
Не дождешься.
Не найдя девицу, Джейкоб вопросительно взглянул на Виктора и руками изобразил большие сиськи.
– He-а, красотка, о которой ты спрашивал. Супермодель.
Сердцу стало тесно в груди.
– Где она?
– Пришла буквально за пару минут до тебя. – Виктор прищурился. – Не знаю, куда делась. Может, в туалете?
Забыв о бурбоне, Джейкоб врезался в толпу, расплескивая чужую выпивку, задевая бильярдные кии, разлучая обжимавшиеся парочки.
Гляди, куда прешь!
Перед туалетом стояла очередь в четыре дамы. Самое сокровенное Мая уже показала, решил Джейкоб, вламываясь в сортир.
Над унитазом раскорячилась незнакомая женщина – джинсы спущены к лодыжкам. Она так увлеклась отправкой эсэмэски, что сперва не заметила визитера. Потом подняла взгляд, заорала и уронила телефон в унитаз.
– Извините, – сказал Джейкоб.
Покинув судорожно прикрывавшуюся даму, Джейкоб снова ввинтился в людскую толчею. Маи не видно. Он ринулся к выходу.
Джейкоб уже одолел половину зала, когда чья-то мясистая рука стиснула его плечо.
– Отвали, друг, – буркнул он, но рука не отпустила.
Прилив адреналина охотно взял в свои ряды волну раздражения, а лимбическая система отбила срочную телеграмму о кабацкой драке, когда мясистая рука заключила его в мясистое объятье, а затем его отнюдь не мясисто поскребли костяшками по темечку.
– Лев, сукин ты сын! – Мел Субач ухмылялся: – Вот уж не думал тебя здесь встретить.
Джейкоб попробовал высвободиться. Все равно что пытаться разжать челюсти аллигатору. Лучась улыбкой, Субач его выпустил:
– Пошли выпьем, Джейк. Я угощаю.
– Нет, спасибо.
– Да ладно тебе, расслабься.
Джейкоб рванулся к двери.
– Я думал, мы друзья! – заорал Субач.
В переулке Джейкоб увидел быстро удалявшийся темный силуэт.
Явно женщина, но с пятидесяти футов лица не разглядеть; он кинулся вдогонку, и ее силуэт то возникал, то исчезал, мерцал звездою, что заметна взгляду искоса, но прячется, едва посмотришь прямо.
Распахнулась дверь бара, выпустив музыкальный шквал.
– Джейк! Куда намылился?
– Мая! – крикнул Джейкоб.
Она обернулась.
Увидела его.
И побежала.
– Погоди! – завопил Джейкоб, пьяно спотыкаясь на гравийной дорожке. Потом выровнялся и припустил что есть духу. Сзади тяжело топал Субач. Резвый, однако, парень.
Как, кстати, и Мая. Расстояние между ней и Джейкобом быстро увеличивалось.
– Мая! Это я, Дж… – Он задохнулся. – Джейкоб! Который… подожди!
– Стой! – орал Субач.
В переулке длиной с футбольное поле Джейкоб включил форсаж и почти настиг беглянку. Но переулок закончился, и Мая бросилась к заросшему сорняками пустырю за сетчатым ограждением. Не глянув по сторонам, Джейкоб выскочил на дорогу, тотчас слева накатила воздушная волна, ударил свет фар, сверкнула радиаторная решетка, кто-то ухватил Джейкоба за шкирку, и он, точно заарканенный комик, вновь очутился на тротуаре, успев, однако, разглядеть царапины на борту фургона, пронесшегося в паре дюймов.
Приземление было жестким – копчиком об асфальт.
Фургон, затормозив юзом, остановился в тридцати футах.
Отдуваясь, Джейкоб приподнялся на локтях.
Мая исчезла.
Рядом на корточки присел Субач:
– Живой?
Джейкоб огляделся.
Прямо – пустырь.
Справа магазин сантехники.
Слева какой-то склад.
– Куда она подевалась? – Джейкоб попытался встать, но Субач мягко его удержал:
– Отдохни, дружище.
Фургон взревел мотором и покатил в сторону Да Синига. В ядовито-оранжевом свете натриевых фонарей зловеще мелькнула стертая, еле различимая надпись:
ШТОРЫ И НЕ ТОЛЬКО – СКИДКА НА МЫТЬЕ ОКОН
В покоях без окон, где свет факелов хранит вечный сумрак, Ашам то и дело впадает в забытье. Очнется – и смутно видит мужчину в изножье, сморгнет – и вместо него уже мальчик, чей взгляд столь же испытующ.
Безмолвные служанки, чьи лица закрыты, кормят ее, обмывают, перевязывают раны. Поддерживают огонь и разминают ей ступни. Собравшись с силами, Ашам о чем-нибудь их спрашивает, но они молча покидают ее, прикованную к постели. Она ужасно слаба, сил достает лишь смотреть в одну точку и мысленно приказывать израненному телу заживать поскорее.
Чтобы чем-то заняться, она складывает узоры из трещин в глиняных стенах и считает веснушки на тыльных сторонах ладоней. Поочередно приподнимает и держит на весу ноги – с каждым днем капельку выше и дольше.
Служанки приносят горы еды, от которой Ашам воротит, – чудно приготовленные злаки и створожившееся молоко. Чтобы поправиться, Ашам через силу ест. Но, собрав волю в кулак, отвергает первое же взаправду аппетитное блюдо – жареный окорок, нарезанный ломтями в палец толщиной, исходящий соком, розовый посередке.
– Унеси, – приказывает Ашам служанке.
Девушка молча смотрит.
От мясного аромата рот наполняется слюной.
– Уйди! – Ашам кидается подушкой.
Служанка уходит прочь, роняя капли жирного сока с подноса.
Будь у Ашам силы, она подлизала бы их с земли. Истощенная гневной вспышкой, она откидывается навзничь и задремывает.
Сквозь дрему слышит – рядом кто-то подсел.
– Вижу, ты пошла на поправку. Уже фордыбачишь. Даже не открывая глаз, Ашам видит его насмешливую ухмылку.
– Чем не глянулась баранина? – спрашивает Каин.
– Не хочу.
– Вкуснотища.
– Гадость.
– Есть мясо не зазорно, – говорит он. – Тут все едят мясо. Это роскошь, очень полезная для здоровья.
Ашам молчит.
– Ладно, принесу тебе что-нибудь другое.
– В смысле, прикажешь подать.
– Чего бы тебе хотелось?
– Кто эти люди?
– Мои слуги.
– Откуда они?
– Отовсюду. Странники вроде меня.
– Тоже убийцы.
Каин пожимает плечами:
– Есть много способов впасть в немилость. Ты даже не представляешь сколько. Мы создали свой дом.
– Они со мной не разговаривают.
– Я приказал не беспокоить тебя.
– Даже не отвечать на вопросы?
– Тебе нужен покой, – говорит он. – Незачем напрягаться.
Наконец Ашам открывает глаза:
– Тебе прислуживает весь город?
Каин хохочет. Так бывало в детстве, когда она сморозит глупость.
– Чего ты? – говорит Ашам.
– Нет, мне служат лишь те, кто сам захотел.
– Никто добровольно не станет слугой.
– И снова ты удивишься… Помнится, наш батюшка был ярым сторонником служения.
– Господу.
– Какая разница?
– Огромная, – говорит Ашам. – Нет иного закона, кроме Божьего.
– Ты стала шибко набожной.
– Поступать по совести – вовсе не набожность.
– Ты здесь за этим? Чтобы поступить по совести?
Ашам не отвечает.
Каин берет ее холодную руку:
– В любом случае, я рад тебя видеть.
Утром она просыпается и видит Еноха – мальчик на корточках сидит в углу: склонил голову, сосредоточенно высунул язык.
– Я не слышала, как ты вошел.
– Я тихонько. – Енох вскакивает и обегает комнату, останавливаясь перед трещинами в стенах. – Ты не стала есть баранину. Почему?
Потому что твой отец хочет, чтобы я ее съела.
– Не люблю, – говорит Ашам.
– А что ты любишь?
– Плоды. Орехи. Все, что дает земля.
– Я тоже это люблю.
– В чем-то мы схожи.
– Видела бы ты наш рынок, – говорит мальчик. – Там столько всего.
– Вот поправлюсь, и ты меня сводишь.
– А когда ты поправишься?
– Скоро.
– Совсем скоро?
– Не знаю.
Енох плюхается на пол и упирает подбородок в кулаки:
– Я здесь подожду.
– Все же не так быстро, – улыбается Ашам.
– Тогда я приду завтра.
– Боюсь, к завтра я не поспею.
– Тогда послезавтра.
– Ты настырный, – говорит Ашам.
– Что это значит?
– Спроси отца.
– Спрошу. Он знает. Он тут самый умный. Поэтому его все любят. Когда вырасту, я стану созидателем, как он. У меня родится сын, и я назову город в его честь. Хочешь посмотреть мои игрушки?
– Не сейчас. – Одна мысль о строительстве ее утомляет. – Пожалуй, вздремну. Будь любезен, подай одеяло… Спасибо.
– На здоровье.
Верный слову, Енох приходит назавтра и каждый день. Каин занят государственными делами, и на долгие недели мальчик становится единственным собеседником Ашам. Правда, беседа больше похожа на допрос. Как она относится к черепахам? Полную луну когда-нибудь видела? Знает интересные загадки? Его болтовня ненадолго разгоняет уныние и отвлекает от боли, когда Ашам садится, спускает ноги с кровати и шатко встает, придерживаясь за столбик балдахина.
– Молодец! – ликует Енох всякий раз, когда она добирается до очередной вехи. – Молодчина!
Он приплясывает вокруг нее, звон колокольчика вызывает слуг. Увидев, кто их звал, они скрежещут зубами и исчезают.
Вскоре неиссякаемый восторг Еноха заставляет Ашам взять палку и туда-сюда ковылять по комнате.
– Шагай шибче, – велит мальчик.
– Я стараюсь.
– Ты сможешь. Не отставай.
– Потише, Енох.
– Не поймаешь, не поймаешь!
– Ох, дождешься…
– Слабо?!
– Вот сейчас поймаю и поколочу.
– Ха-ха-ха-ха-ха!
С рынка он приносит ей сласти, прикладывает горячие камни к спине. Расчесывает отрастающие волосы. Служанки по-прежнему немы с Ашам, но общаются с Енохом, который выступает посредником.
– Не надо простокваши, – просит Ашам. – Скажи ей.
– Не надо простокваши, – передает Енох.
– Хозяин говорит, простокваша даст ей силы.
– Скажи, если еще раз принесет, я вылью простоквашу хозяину на башку.
– А я люблю простоквашу, – делится Енох.
– Чудесно. Отдай ему.
– Отдай ему, – вторит Енох.
– Да не ему, а тебе.
– Тебе.
– Не ей, а тебе, Еноху.
– Тебе, Еноху. – Удивленные глаза. – В смысле, можно съесть твою простоквашу?
– Наконец-то разобрались.
– Ура! Давай сюда простоквашу!
– Извольте, хозяин.
Ашам неустанно себе повторяет: нельзя любить этого ребенка. Любовь – плодородная почва, в ней коренятся сожаления. Ашам усердно их выпалывает, но ежедневно вылезают новые ростки.
Например, она видит, что мальчик унаследовал черты и Каина, и Навы. Но поди разберись, в кого он, если мать и отец друг на друга похожи, – да и Ашам похожа на них, если уж на то пошло. Тоже смуглая.
Возникает новый вопрос.
Где Нава?
С приходом весны Каин переводит ее в просторную спальню на втором этаже. С балкона открывается вид на город. На рассвете печные дымки возвещают начало дня, а закачивают его барабаны, уведомляющие о закрытии городских ворот. Днем мерцающий зной полон жизни, далеких голосов и соблазнительных красок. Зрелище разжигает любопытство и заставляет выздоравливать усерднее. Енох бежит впереди и дразнится, заставляя с каждым днем проходить все больше и больше. Сперва до мусорного короба в конце коридора. Потом во двор. Следующая веха – сторожевая башня, где Енох, хихикая, шныряет меж ног лучников. Потом снова тем же маршрутом, но быстрее и без многочисленных передышек. Еще, еще и еще раз. И снова, но уже без палки.
– Не догонишь!
– Сейчас, сейчас…
И наконец она его ловит, подхватывает на руки и чувствует горячее тельце, трепещущее от восторженного ужаса.
Отпусти!
Без костыля, но в компании. Сзади всегда пара служанок, готовых поддержать, если вдруг Ашам споткнется. Едва она подаст знак, они летят исполнить ее пожелание.
Не подчиняются лишь одной команде – оставить ее в покое.
Ашам жалуется Каину:
– Я узница?
– Конечно, нет.
– А как будто заключенная.
– Дверь не заперта. Ты вольна пойти, куда и когда захочешь. Здесь все свободны. В этом различие между нами и другими. Мы сами устанавливаем себе границы.
– Какая же это свобода, если за мной ходят хвостом?
– Они готовы тебе помочь.
– Я не хочу помощи.
– Вдруг понадобится.
– Похоже, всё решают за меня.
– Никто ни к чему тебя не понуждает, – говорит Каин. – И никто не заставляет их сопровождать тебя. Я попросил их приглядеть за тобой, и они согласились. У нас каждый в своем праве.
Ашам подзабыла, как тяжело с ним спорить.
– Я вольна тебя задушить?
Каин улыбается:
– Наши законы это запрещают.
– Законы, которые установил ты.
– Да, я приложил к ним руку. Ради общего блага. Если все друг друга убивают, порядка не жди.
– Тебе ли не знать.
Каин пожимает плечами:
– Я быстро учусь.
– А что твой закон говорит об убийцах?
– Правосудие свершится.
Ашам вскидывает бровь, а Каин вновь пожимает плечами:
– Закон не имеет обратной силы. Несправедливо наказывать за прошлые вины.
– Удобно для тебя.
– Разумно для всех.
– Не вижу разницы, – говорит Ашам.
Каин долго хохочет.
Людская суета, за которой Ашам наблюдала с балкона, вблизи ошарашивает нагромождением картин, звуков и запахов, по отдельности противных, но вместе, как ни странно, приятных. С окрестных полей крестьяне тянут на рыночную площадь груженых мулов. Бараньи туши, располовиненные на мясницких колодах, укрыты толстыми коврами из мух, которых время от времени сгоняют мясники. Собаки играют с голыми ребятишками. Кошки гоняются за крысами вдвое крупнее себя. Как-то раз Ашам заходит в первый попавшийся дом, где ее встречают удивленными взглядами и холодно просят уйти.
Поначалу кажется диким, что люди живут вместе, но каждый прячется за своей дверью. Невероятно, что Господни пределы могут быть в чьем-то владении. Каин называет это частной собственностью и утверждает, что на ней зиждется крепкое общество.
Ашам полагает это размежеванье тщетой.
В компании Еноха и двух неотлучных служанок Ашам разглядывает прилавки, что ломятся от плодов, – выходцы из дальних краев сберегли и взрастили семена в здешней щедрой земле. Торговцы наперебой предлагают свежие лаймы, сочные апельсины, финики, фиги и гранаты, истекающие сладкой кровью. Вскоре прознав, кто такая Ашам, народ выказывает ей почтение: наполнив горсти своим товаром, коленопреклоненно просит задаром его отведать.
– В твоих краях растут фиги? – с набитым ртом спрашивает Енох.
– Да, повсюду.
– Это хорошо. Я люблю фиги.
– Я тоже.
– А что еще ты любишь?
– Тебя.
Енох улыбается, запихивая очередную фигу в рот.
Вместе с семенами люди принесли умения и обычаи своих родных краев. Искусные ремесленные поделки – железные и каменные изделия, полсотни видов оружия – соперничают с лучшими изобретениями Каина. Звери в клетках рявкают на всякого дурня, сунувшего пальцы сквозь прутья. Плененные птицы воспевают свободу. На рынке искусничают фокусники, знахари, гончары и цирюльники. Ашам надолго застывает перед тремя людьми, которые дуют в трубы, околдовывая ее переливчатыми тягучими мелодиями.
Столько всего – глаза разбегаются.
Теперь понятно, что привлекает сюда людей.
В будничной суете народ не забывает о Боге. В центре города возведен храм, где за плату священники принесут в жертву ягненка и под хоровые песнопения окропят алтарь кровью. Ашам спрашивает, откуда взялся обряд. Выясняется, что Каин обязал всех жителей совершать его трижды в год.
– Зачем? – спрашивает Ашам брата.
– Чтоб им было чем заняться.
Пока что любимое место Ашам – огромный общественный сад. Для орошения от реки прорыты канавы. Енох водит ее за руку, называет растения и показывает, что в них есть особенного.
– Вот это пугается, если потрогать. – Он касается краешка листа.
Ашам изумленно смотрит на свернувшийся листок:
– Чего оно так?
– Не любит, когда его трогают, сразу прячется.
– Не будем его беспокоить.
– Это же растение, – говорит Енох. – Они ничего не чувствуют.
– Откуда ты знаешь?
– Папа сказал.
– Ты веришь всему, что он говорит?
– Конечно.
Ц,веты высажены аккуратными рядами и сгруппированы по оттенкам.
– В полях такого не увидишь, – сообщает Ашам.
– Ты очень интересная, – серьезно говорит мальчик.
Ашам смеется:
– Правда?
– Ну да. Интереснее всех, кого я знаю.
– Не мне судить.
– Точно-точно. И папа так говорит. Ты останешься с нами?
– С вами?..
Енох кивает:
– Стала бы моей мамой.
Сердце обрывается.
– Вот бы хорошо, – добавляет мальчик.
– А что с твоей настоящей мамой? Где она?
Енох молчит.
– Енох?
– Не знаю.
– Не знаешь, где мама?
– Смотри. – Мальчик показывает на синее пятнышко, порхающее в зелени. – Бабочка.
И убегает вперед.
Ежедневно прибывают новые поселенцы. Постоянный приток требует постоянного развития города, и Каин трудится дни напролет. Чаще всего он покидает дворец, когда Ашам еще спит. Но иногда она просыпается, спешит к окну и мельком видит хвост его свиты: десять воинов стучат древками копий о землю, повелевая встречным очистить дорогу.
Возможно, Енох прав и народ любит его отца. Если так, думает Ашам, зачем столько стражников? Спрашивает брата и получает ответ: уважение состоит из страха и любви поровну.
Титул и обязанности Каина не вполне ясны. Сам он называет себя по-всякому: главным созидателем, главой совета, казначеем, арбитром. Любят его или боятся, но определенно все от него зависят: он издает законы, собирает налоги, подавляет недовольство.
Без него долина погрузилась бы в хаос.
Ашам это понимает и держит себя в руках. Но всякий взгляд на Еноха пробуждает сомнения. И всякое зябкое утро, когда мальчик забирается к ней в постель и мягкой щечкой трется об ее щеку. Всякая ерундовина, которую он ей дарит. И всякий его глиняный домик, названный в ее честь. Всякий неспешный вечер у очага, когда они колют грецкие орехи и рассказывают сказки. И всякая его хворь, из-за которой она ночь напролет расхаживает по комнате. И всякий очередной вопрос, останется ли она с ними. И всякий ее вопрос о его матери, на который он не знает ответа.
Новый храм вознесется над восточным краем долины. При жизни Каина грандиозное предприятие не завершится. Похоже, говорит он, конец работам замаячит, лишь когда у внуков Еноха родятся внуки.
– Тогда какой смысл? – спрашивает Ашам.
– Строишь для будущего, – отвечает Каин.
Они сидят за длинным деревянным столом, где брат проводит советы. Ужинают вдвоем. Антам уже уложила Еноха.
«Будущее» – это что? Его наследники, которым послужит храм? Или увековеченье имени Каина?
Сам-то он различает эти цели?
Ашам спрашивает, где брат постиг секреты строительства.
Он режет баранину, сверху горкой накладывает чечевицу.
– Путем проб и ошибок.
Видимо, это он про свои первые глиняные хижины?
Каин жует и кивает:
– Они были несовершенны, поэтому я шел дальше.
– Ничто не совершенно.
– На сей раз будет совершенство.
– Ты в это веришь.
– Приходится, – говорит Каин. – Созидание есть акт веры.
– Я думала, ты неверующий.
– Я не верю в других.
Заносчивость его должна бы распалить в ней ярость. Но внутри гудит похоть. Слишком много выпито. Ашам отодвигает кубок с вином.
Каин это замечает:
– Не нравится? Я прикажу подать другое вино.
– Не хочется.
Каин пожимает плечами и разрезает мясо.
– Только скажи… Я обещал Еноху, что на следующей неделе возьму его на стройку. Если угодно, давай с нами. – Он перехватывает взгляд на свою тарелку. – Попробуешь?
– Спасибо, нет.
Каин ухмыляется и продолжает резать мясо:
– Ты не сможешь поститься вечно.
Ашам плывет в потоке затаенных мыслей.
– Я и не собираюсь.
– Ага! Что я говорил! Я знаю тебя лучше, чем ты сама. Когда знаменательный день? Велю приготовить что-нибудь особенное.
– Поживем – увидим.
– Чудесно, я не против помучиться ожиданием. – Каин подмигивает, отправляя кровавый треугольный кусок в рот, задумчиво жует и глотает. – Енох тебя очень любит. Мальчику трудно без женской ласки. Ему нужна мать.
– Ты никогда о ней не говоришь.
– Нечего говорить. Я уже все сказал. Умерла в родах. Я похоронил ее в лугах. Ты видела памятник.
Ашам кивает, вспоминая гладкий глиняный столб.
– Пожалуйста, больше о ней не спрашивай.
Ашам снова кивает, Каин возобновляет трапезу.
– Ну, что скажешь? – Голос его вновь светел. – Хочешь увидеть башню? Только обещай, что включишь воображение. Там лишь наметки.
– Обещаю, – говорит Ашам.
Дорога занимает добрую часть дня.
Под гул насекомых пробираются узкой лесной просекой. Каин и его свита идут пешком, пес демонстрирует, что не утратил былые навыки: убегает вперед и, возвратившись, лаем рапортует. Енох и Ашам едут в деревянном паланкине, который несут восемь по пояс голых слуг. С тех пор как Ашам узнала, что всех мужчин, поступивших на службу, в обуздание чрезмерной похоти кастрируют, ее от них воротит.
– Славный денек, – говорит Каин. – Теплый и ясный. А какой вид тебя ждет!
Каменные вехи извещают о длине пути: из двадцати к полудню миновали семь, и Ашам спрашивает, не разумнее ли строить ближе к городской окраине.
Каин вздыхает и говорит, что опять же мыслит о будущем, о городских границах через десять поколений. К тому времени башня окажется в центре города.
– Возможно ли городу разрастаться безудержно и вечно? – спрашивает Ашам.
– Вечность – долгий срок, – отвечает Каин.
Ашам подметила, что свое детище он называет по-разному – смотря с кем говорит. Для бесед со священниками или выступлений на сходах это всегда храм. Храм, которому надлежит заменить негодную молельню и своей грандиозностью восславить Господа.
Но в разговорах с ней он не сдерживается, и тогда это башня.
Пусть другие не замечают разницы – Ашам-то ее видит. Брат не тратит слов попусту. Он все подразделяет, классифицирует, всему дает надлежащее имя. Точность, любит повторять Каин, – основа взаимопонимания.
Он так говорит, когда хочет увильнуть от ответа или солгать.
На привале перекусывают сушеной рыбой. Остужаясь, носильщики стоят по колено в реке и пригоршнями хлебают воду, которая тотчас выходит бисеринами пота на лицах, руках и загорелых безволосых торсах. Енох залезает на сосну и кидается шишками. Ашам насыщается просяной лепешкой.
– Уже близко, – говорит Каин.
Енох хлопает в ладоши:
– Близко!
На закате они видят башню, которую Ашам сперва принимает за новый город – так огромно ее основание.
Каин помогает Ашам слезть с паланкина и смеется над ее изумлением:
– Это еще что!
В сопровождении десятников они обходят башню по периметру. Похоже, здесь собралось полгорода. Уйма рабочих, для которых возведены времянки, трудятся днем и ночью, при свете солнца и факелов. Грохот не стихает. Плотники, возницы, резчики, кузнецы. Двадцать дюжин красноликих мужчин посменно топчут глину, формуют и обжигают кирпичи.
Уже возведено семь ярусов, каждый следующий чуть меньше предыдущего. По внешней стороне стен спиралью поднимаются пандусы, достаточно широкие, чтобы разошлись двое встречных. Однажды по ним зашагают паломники, желающие увидеть царствие небесное. За символическую плату они осуществят свою мечту.
– Царствие небесное? – таращится Ашам.
– Идем, посмотришь, что внутри.
Огромный зал нижнего яруса отдан искусству. Енох носится замысловатыми кругами и во всю мочь вопит, наслаждаясь собственным эхом, а Каин демонстрирует изящные узорчатые фризы. Ашам замирает перед глубокой нишей, где видит гранитную статую – человек в натуральную величину.
– Нравится? – спрашивает Каин. – Я нанял самого даровитого скульптора в долине.
Ашам растеряна.
– Правда, замысел мой, – говорит Каин.
– Это же идол.
– Перестань. Никто ему не поклоняется. Деталь убранства.
Ашам пучит глаза:
– Это ты.
– И что? Люди должны знать автора затеи. Это научит их мечтать.
Ашам медленно обходит скульптуру. Ничего не скажешь, похоже. Но в голове гремит часто слышанное отцово предостережение, неоспоримое, как закон природы: не сотвори себе кумира. Наверное, даже стоять рядом со статуей – смертный грех.
В одну руку идола скульптор вложил факел, в другую – нож.
– Свет и сила, – говорит Каин. – Орудия ремесла. Если суммировать все, что я постиг, выйдет вот что: в одиночку толковый человек построит дом. Управляя тысячами, толковый человек создаст мир.
– Мир уже создан, – отвечает Ашам.
Каин смеется:
– Идем, а то пропустим закат.
Енох страшно недоволен приказом остаться внизу:
– Я хочу посмотреть.
– Это опасно, – говорит Каин. – Побудь с собакой.
– А почему вы идете?
– Мы взрослые.
– Я тоже взрослый.
– Пока нет.
– Взрослый.
– Я не собираюсь с тобой спорить. – Каин подает знак стражнику, и тот уносит орущего Еноха к паланкину.
Вслед им Каин вздыхает:
– Терпеть не могу, когда он мне перечит.
– А чего ты хочешь? – говорит Ашам. – Твой сын.
Каин грустно улыбается:
– Пошли.
Очень скоро Ашам понимает, что брат поступил правильно, не взяв с собой мальчика. Она и сама готова вернуться. На высоте ветер полощет ее одежды, она жмется к внутреннему краю пандуса с недостроенным парапетом. Каин шагает безбоязненно. Не желая выказывать слабость, Ашам собирает всю свою отвагу и поспешает следом.
С седьмого яруса, где парапета нет вообще, открывается потрясающий вид. Со всех сторон небо истекает медом. Далекий город кажется природным рельефом, все его строения – будто глиняная равнина. Каин отдает свою накидку Ашам. Та закутывается и, сглатывая комок в горле, смотрит на брата, который подходит к самому краю площадки.
– Красота, а? Вообрази, какой будет вид с самого верха. Узришь всю долину и все, что за ней.
– Очевидно, и царствие небесное.
– И царствие.
– Бывало, ты спорил о нем с отцом.
– Бывало.
– Ты в царствие не верил.
– Я и сейчас не верю.
Ашам подходит к краю и с семиярусной высоты осмеливается глянуть вниз. Голова кружится, Ашам отступает.
– Ты строишь подъем к тому, чего нет.
– Главное, чтобы народ не терял интереса.
– Люди потребуют вернуть деньги, если взгромоздятся на такую верхотуру и ничего не увидят.
– Ну, я ведь не исключаю, что царствие небесное есть. Но поверю в него, лишь когда сам увижу. А поскольку этого не случится, я доверяю своему чутью.
– А вдруг ты ошибаешься?
– Значит, ошибаюсь.
– Не понимаю, зачем тебе это?
– Без знания невозможен свободный выбор.
– И это так важно, что ты не боишься прогневить Бога?
– Кто сказал, что Он прогневится?
– Вряд ли Он обрадуется, если у Него на пороге возникнет оголтелая толпа.
– Он же Бог, – говорит Каин. – Наверняка справится.
Солнце вдавливается за горизонт. Далеко внизу жуками снуют рабочие. Ветер доносит крики, щелканье бичей, ржанье и скрипы.
– Засветло вернуться не успеем, – говорит Ашам.
– Я думал заночевать здесь. У меня тут своя комната.
– А где заночую я?
Каин поворачивается к ней:
– Со мной.
В ушах Ашам стучит кровь.
– Скажи что-нибудь, – просит Каин.
– Что сказать?
– «Да». Или «нет».
Молчание.
– Твой сын хочет, чтобы я стала ему матерью, – говорит Ашам.
Молчание.
– Решать тебе, – говорит Каин. – Я давно это понял. И объяснил Еноху.
– Он не слушает.
Каин отвечает не сразу:
– Хочет помочь.
– Я знаю.
Молчание.
– Я вправду ее любил. Наву, – говорит Каин.
Ашам кивает.
– Видимо, я не сумел объяснить, как было тяжело.
– Могу себе представить, – говорит она.
– Не можешь. У меня была любимая, и я ее потерял. Ты этого не знаешь.
– Знаю.
Каин сникает. В раскаянье – или страхе. За тем и другим он прежде не бывал замечен. И то и другое смягчит ее сердце.
– Ты когда-нибудь думаешь о нем? – спрашивает Ашам.
И тут Каин ее огорчает: выпрямляется, зеленые глаза сверкают, голос уверенный:
– Я думаю лишь о том, что могу изменить.
– Сильно сказано. А вот я помню все, хочу того или нет.
– Раньше он мне снился. – Под ветром волосы Каина шевелятся, точно змеи. – Но это все было очень давно. Сейчас пытаюсь вспомнить и… – Он смеется.
– Чего ты?
Каин качает головой:
– …И вижу овцу.
Ашам смотрит на него.
– Прости. Нехорошо сказал. Но я изменился. Все изменилось. Плохо, что так вышло. Но это прошлое, а я живу лишь настоящим. Я старался загладить вину. Ты же видишь – все, что имею, я отдаю моему народу.
– Народ – не семья.
– Семья. Все люди – одна семья. Этого и боялся отец. Потому он и не хотел нас отпускать. Я его недооценивал, признаю. Он знал. Он знал, что где-то есть другие народы, что мы найдем их, что мы поймем: все люди равны. И он понимал, что тогда мы не станем ему подчиняться.
– Мы подчинялись не ему, а Господу.
– А кто определял, что угодно Богу? Отец. Кто говорил нам, что и когда делать? Кто стращал карой за ослушание? Кто по своему усмотрению менял правила? Отец.
– Зачем ему лгать?
– Чтобы управлять нами. Этого хотят все люди. Власти.
– А ты, значит, особенный?
– Нет. Я такой же, как все. Я ничем не отличаюсь. Но есть мы. Человеческое семейство. Мы особы своим многоголосьем. Одни говорят за других. Иные говорят против. Этот гвалт и создает общность. Посмотри, что мы сумели построить. Это сделал не одиночка. Да, я взвалил на себя огромное бремя, но я полагаюсь на чужую помощь. Ты понимаешь меня? Люди выживают вместе. Нельзя быть одиноким. Никому. – Каин переводит дух. – Мне тоже. И моему сыну. Ему нужна мать. Ты. Ты нужна нам обоим. Я привез тебя сюда, чтобы ты увидела наше строительство. Я строю для тебя. Это памятник единству. Мы оба скитались, оба изведали одиночество, и мы – это всё, что у нас с тобой есть. Думаешь, меня не зазывали жениться? Всякий горожанин мечтает отдать за меня свою дочь. Я всем отказывал. Я ждал тебя. Каждый день смотрел на горизонт. Я выставил часовых на воротах и велел высматривать тебя. Я послал собаку найти тебя по запаху. Я до сих пор храню твою одежду. Я пронес ее с собой через горы и равнины. Когда силы оставляли меня, я прижимал ее к лицу и вспоминал тебя. Она хранит твой запах. Я велел псу отыскать тебя, и он тебя нашел. Я знал, что ты придешь. И уже не с ненавистью, но с любовью. Я полюбил тебя навеки и буду любить вечно.
Молчание.
– Вечность – долгий срок, – говорит Ашам.
Каин смеется, смех испуганный и визгливый:
– Видишь? Вот за что я тебя люблю. За твои речи. Я живу среди льстецов и лжецов. Ты же говоришь правду. Я хочу, чтобы каждый вечер дома меня ждала правда. Мне нужна ты. И Еноху ты нужна. Сделай это ради него. Нет, нет. Ради меня. Потому что ты меня любишь, я знаю, что любишь. Ты не станешь отрицать. Ты не посмеешь.
На краю башни Каин встает на колени:
– Скажи, что не любишь меня, и я брошусь вниз.
Молчание.
– Я люблю тебя, – говорит Ашам.
– Значит, «да». Ты станешь моей женой, как ты всегда хотела.
Ашам дрожит – ветер продувает накидку.
– Ну не стой же каменной бабой, – говорит Каин.
Рядом с ним Ашам опускается на колени.
– Любовь моя, – говорит он, – любовь моя.
Она прижимается губами к его губам. Его язык врывается к ней в рот, тела их сливаются.
От Каина пахнет пылью и маслом; его руки требовательно опрокидывают ее навзничь, как уже было однажды, но она их отталкивает.
– Что? – спрашивает он. – Что не так?
Она отводит волосы с его глаз, целует его в маковку и обнимает, глядя на темное небо в крапинах черных ворон.
Ашам стискивает брата в объятьях, словно боится потерять, и пятками упирается в шершавую глину.
– Навеки, – говорит она.
Миг долгожданного отмщения придает ей силы, и Ашам вместе с Каином бросается с башни.
Из плюс-минус двадцати семи тысяч белых фургонов «форд-эконолайн», зарегистрированных в штате Калифорния, ни один не имел номеров, которые сфотографировал Джейкоб. Он неоднократно вводил запрос, с каждым разом поиск длился все дольше, но вердикт оставался неизменным:
НЕ НАЙДЕНО.
Кружилась голова, ломило спину. Джейкоб снова проверил, верно ли ввел номер.
НЕ НАЙДЕНО.
Липовые номера?
Джейкоб запросил собственный номер. Ответ ожидаемый.
В пятый раз запросил номер фургона. Индикатор поиска затормозил, потом окоченел. Джейкоб пошевелил мышью, постучал по «пробелу», выругался. Хотел уже обесточить компьютер, но тут система окончательно сдохла – из вентиляционных дырочек передней панели потянулся дымок.
Чтобы не раздолбать монитор, Джейкоб сбежал в кухню. Еды не было, накатить он не осмелился. Как-никак два часа ночи. Джейкоб сварил кофе.
Памятуя об ушибленном копчике, осторожно сел на пол и привалился к кушетке, оккупированной телевизором. И все-таки что за чертовщина творится?
Вспомнился мимо просвистевший фургон. Визг покрышек, вонь горелой резины. Как, однако, его рванули за шкирку. Нормальный человек вывихнул бы плечо. Получается, Мая – трюкачка либо мираж.
Но он же ее видел. Как самого себя.
И Виктор. Он тоже ее видел.
А если нет?
Можно ли доверять собственным органам чувств?
Субач, баюкавший его в тисках объятий.
Куда она делась?
Кто?
Мая. Девушка.
Какая девушка?
Де-вуш-ка.
Джейк…
Всё, хорош. Хватит уже.
Джейк. Дружище. Успокойся.
Ее… сбила машина?
Ты заговариваешься, старина.
Я…
Может, я тебе шею повредил. Валяй в травмпункт. Наверное, смещение.
Мне надо идти.
Чего ты… Эй! Погоди.
Надо сваливать.
Стой. Джейк. Погоди. Тебе нельзя за руль. Джейк.
Вырвался, встал.
Скажи Маллику, пусть позвонит мне.
Остынь. Пошли дерябнем. Давай хоть подвезу тебя…
СРОЧНО.
Панель уже не дымилась, компьютер нормально загрузился, но стоило открыть базу данных автомобильного управления и ввести тот же запрос, как все опять зависло.
Плюнув на бесплодно тыркавшийся поисковик и нетронутый кофе, Джейкоб потащился в спальню, где смахнул с покрывала фотографии мест преступлений и рухнул в благодатный мертвецкий сон.
– Сначала хорошую новость или плохую? – спросила Дивия Дас.
– Хорошую.
– Я нашла второго убийцу.
– Шикарная новость.
– А вот и плохая: он ни с кем не совпадает. Могу только сказать, что это мужчина и, вероятно, европеоид.
– Спасибо за хлопоты, Дивия.
– Не стоит. Что дальше?
– Поищу дела, где просматривается почерк Упыря. Возможно, в Лос-Анджелесе припекло и убийцы сменили место.
– Ход многообещающий.
Ход обещал Сизифовы труды и не обманул: перезапустив компьютер, который все еще что-то искал, следующие десять часов Джейкоб выбирался из-за стола только затем, чтобы наполнить стакан, сходить в туалет и размять затекшую поясницу. Тяжкая работа спасала, ибо стоило хоть на секунду отвлечься, как мысли сворачивали на давешний вечер, и тогда сводило живот.
Он ее видел.
И надпись «цедек» тоже видел.
Что-то увидишь, а оно исчезает. Привет от Сэма и его слепоты. Привет от Вины и ее безумия. Значит, вскоре пойдем к врачу. К глазнику. И психиатру. А пока выпишем свой рецепт: факты и выпивка в максимальных дозах.
К половине двенадцатого ночи над столом висели четыре самоклеющихся листка.
Люсинда Гаспар, Новый Орлеан, июль 2011
Кейси Клют, Майами, июль 2010
Евгения Шевчук, Нью-Йорк, август 2008
Дани Форрестер, Лас-Вегас, октябрь 2005
Информация, добытая в интернете, не прояснила, как лежали жертвы.
В остальном все совпадало.
Одинокие женщины от двадцати с небольшим до тридцати с лишним. Миловидный улыбчивый квартет вполне под стать прежнему нонету.
Все четыре жили на первых этажах, следов взлома не было.
Шестнадцать потертостей от веревок – на восемь лодыжек и восемь запястий. Веревки не обнаружены.
Все изнасилованы. Четыре вагинальных и четыре анальных проникновения.
Все четыре лежали ничком.
Всем четырем перерезали горло.
Четыре «глухаря».
Сперма обнаружена лишь в вагине нью-йоркской жертвы, сделан ДНК-анализ. В Вегасе полицейские отметили, что ногти убитой до мяса обрезаны, – видимо, чтобы удалить чешуйки кожи. В трех других случаях этот факт не упоминается.
Вероятно, за двадцать лет злодейская парочка стала осторожнее. Наверное, в Нью-Йорке (Шевчук) порвался презерватив.
Но если нью-йоркский ДНК-анализ хранится в базе данных, почему он не совпал с анализом от мистера Черепа?
Может, Джейкоб чересчур увлекается параллелями, цепляется за хлипкие соломинки? Надо переговорить с сыщиками, которые вели дела, и выяснить, как лежали жертвы. Полночь. Звонить поздно.
Но самое время строить гипотетические замки.
Никто из следователей не связал эти убийства с Упырем, что вполне объяснимо, учитывая географию и временной разрыв в двадцать лет.
Никто не увидел переклички между этими убийствами. Что тоже не поставишь следователям в вину.
В глаза бросаются даты. Если злодейский дуэт причастен хоть к одному из четырех убийств, значит, последние семь лет он был активен и, возможно, последний раз выступил всего лишь год назад.
Весьма вероятно, что напарник и предполагаемый убийца мистера Черепа жив.
И где-то бродит.
Первое убийство этой серии – 2005 год. Злодеи тоже читали газеты. Только гораздо чаще и внимательнее, если искали информацию о себе. Может, в «Таймс» 2004 года они прочли об отставке Людвига и решили, что теперь могут продолжить выступления, но только не в Лос-Анджелесе.
Новый Орлеан, Майами, Нью-Йорк, Лас-Вегас.
Каждый из этих городов по-своему хорош для дела и безделья. Там можно затеряться.
Купили дешевые билеты выходного дня, зарезали бабу и слиняли?
Широкомасштабный поиск по городам и датам выдал обилие совпадений. И наоборот: закавычишь каждый город и год – вытягиваешь пустышку.
Убийства скучились в отрезке с июля по октябрь. Соблазнительно сделать вывод о некоем шаблоне. Человеку свойственно видеть лики в облаках или Иисуса в овсянке.
Сперма лишь одного образца, найденная в теле Шевчук, допускает новую версию: злодей работал сольно. Или подыскал другого напарника, не оставившего сперму.
Второй вариант очень рискованный. Тайна троих сохранится, если двое мертвы. Все эти годы Упыри были осторожны и неуловимы. Если вдруг один злодей сменил напарника, он должен был весьма убедительно призвать новичка к дисциплине.
Я тебе башку отрежу — убедительно?
Джейкоб снова проверил почту, надеясь получить ответ Маллика о диспетчерской записи. Но его ждало письмо от Фила Людвига.
Тема сообщения: «Ваш жук».
Мнение моего приятеля-энтомолога, все что смог, извините.
Ниже перенаправленное письмо.
Дорогой Фил,
У нас все хорошо, спасибо. Рози передает привет. Главная новость – мы забронировали билеты в Коста-Рику…
Абзацы с болтовней Джейкоб пропустил.
Насчет жука твоего знакомца. Ты прав, по скверным снимкам судить он. трудно. Форма головы и размер туловища (если знакомец не ошибается, в чем я сомневаюсь – у страха глаза велики)…
Джейкоб нахмурился. Он держал жука в руке и прекрасно помнил его размер – с ладонь.
Что там дальше?
…наводят на мысль о носорогах, про которых я мало что знаю, в них я не специалист, может, О. Nasicornis (см. приложение), но расцветка не совпадает, и в Южной Калифорнии они не встречаются. Может, удрал чей-то питомец? Как жаль, что ты его не заполучил, – назвал бы вид своим именем :-).
На фото – жук, вид сверху и снизу. Сердцевидная голова, внушительный рог. Джим прав, расцветка иная – не жгуче-черная, но красновато-рыжая.
Набрав О. Nasicornis, в «Википедии» Джейкоб прочел о европейских жуках-носорогах из подсемейства Dynastinae (дупляков) семейства Scarabaeidae (скарабеев). От трех четвертей до полутора дюймов, максимальный размер – два с половиной дюйма. Маловато. И потом, брюшко кладбищенского жука сияло, точно оникс, а у носорога обыкновенного покрыто длинными рыжеватыми волосками.
Питомец?
Надеясь на удачу, Джейкоб пощелкал по ссылкам, но вскоре понял, что количественная оценка Людвига (до черта и больше) устарела. Выяснилось, что в азиатских странах рогатых жуков разводят как домашних питомцев и бойцов для тотализаторов – вроде питбулей, петухов и человекоподобных участников смешанных единоборств.
Зато теперь ясно, что подарить девице из бара на Валентинов день.
Джейкоб свернул браузер и прошелся по квартире, заглядывая в тараканьи мотели, так и не дождавшиеся постояльцев. Он выбросил ловушки и решил больше об этом не думать. Забот и без того хватало, тем более что зараза, похоже, устранилась сама собой.
Первым собеседником Джейкоба стал Тайлер Вольпе из бруклинского шестидесятого участка. Детектив говорил дружелюбно, но чуть настороженно. Впрочем, услышав об Упыре, тотчас заинтересовался:
– Когда это было, в восемьдесят пятом? Или восемьдесят шестом?
– Восемьдесят восьмом. Вы уже служили?
– Я? – рассмеялся Вольпе. – Что вы, мне было девять.
– Но история вас впечатлила. – Джейкоб вспомнил себя в этом возрасте.
– Помню, отец, он служил в полиции, говорил с мамой – типа, слава богу, не мне досталось.
– А мне вот досталось.
– М-да. Столько лет – и ничего?
– Почти. Не расскажете о вашем деле?
– У меня это было всего второе убийство. Я чуть не обделался.
– Обычная реакция.
– Вырисовывалась версия бандитской разборки, потому что она танцевала в ночном клубе на Брайтон-Бич, где ошивались эти русские в кожаных куртках. На стороне подрабатывала стриптизом. Училась на стоматолога-гигиениста. Милая девушка, но кокаин сосала, что твой пылесос. Наверное, сильно задолжала, решили мы, или кинула не того бандюгана.
– Резонно.
– Проверили эту версию – по нолям, тряхнули бывших любовников – по нолям. Самостоятельное дело, с другими не связано. Насколько я знаю, таким и числится, пока не доказано иное.
– А что со спермой?
– Никого из картотеки не выявили. А что? У вас есть ДНК-анализ?
– Есть. Только с вашим не совпадает.
– Ну вот, приехали, – сказал Вольпе. – Ваш – не наш.
– А вариант нескольких убийц не рассматривали?
– С чего вдруг? – помолчав, спросил Вольпе.
– У меня их двое.
– Ничто не указывало на второго убийцу. – В голосе сыщика послышалось раздражение. – Значит, двое?
– Скажите, вы хорошо помните место преступления?
– А то, мать его. Такое увидишь – не забудешь.
– Жертва лежала на животе, горло перерезано, убийца был сзади.
– Угу.
– Куда лицом?
– Что?
– Куда было повернуто ее лицо?
– В пол.
– Заметили что-нибудь примечательное?
– Следы веревок, но она была не связана. Я еще подумал – странно. Веревку не обнаружили, но по волокнам установили – отечественная, продается на каждом углу.
– То есть без толку.
– Абсолютно.
– Ладно, – сказал Джейкоб, – но я вот о чем. Представьте: вы убийца, коленом уперлись в спину жертвы, поднимаете взгляд… Что вы видите?
Молчание. Трубка пыхтела.
– Черт его знает, – наконец сказал Вольпе.
– Окажите любезность, гляньте фотографии.
– Хорошо, гляну. Почему это важно?
– У меня все жертвы лежат головой к окну, которое смотрит на восток.
– И что это значит?
– Если б я знал.
– Ладно, днями наведаюсь к дому.
– Буду признателен.
– Пустяки. Как же вы в это влипли? Кому-то насолили?
Джейкоб рассказал о голове.
– Мать твою за ногу! И вы думаете, он один из убийц?
– Не думаю – знаю. Он отметился в семи случаях из девяти.
– Очуметь.
– Если хотите, пришлю вам фото. Может, узнаете его.
– Присылайте. Жаль, больше нечем вам помочь. Хоть какие-то приметы или что там.
– Сторону света выясните.
– Конечно, хотя не представляю, чем это поможет, – сказал Вольпе. – Я считал, убийство Шевчук – единичный случай. Но вот поговорил с вами и теперь гадаю, не отметился ли наш субчик еще где.
– Могу избавить вас от лишней работы. Прошлый год – Новый Орлеан, годом раньше – Майами, в две тысячи пятом – Вегас.
Вольпе присвистнул:
– Серьезно?
– Спермы нет, но тот же почерк. Ладно, обзвоню других детективов, может, чего выяснится. Если что-нибудь узнаю, вам первому сообщу.
– Благодарю.
– Не стоит. Да, еще одно. В Вегасе отметили, что у жертвы под корень обрезаны ногти. Совпадает, нет?
– Я гляну результаты вскрытия.
– Еще раз спасибо.
– Не за что. Знаете, Лев, вы нормальный коп, хоть из Лос-Анджелеса.
– Чего? Не понял.
– Я думал, ваши только и могут, что невинных людей мордовать.
– Ага, а ваши всем загоняют швабры в задницы.
Вольпе засмеялся:
– Пришлите снимок, ладно?
– Только не смотрите перед едой – аппетит потеряете. И после еды, если не хотите расстаться с обедом.
– А когда ж смотреть?
– Сперва клюкните, – сказал Джейкоб. – Мне помогает.
Новоорлеанский детектив Лестер Хольц пребывал в самоволке. О нем давно не было ни слуху ни духу, и все его дела взвалили на новичка Мэтта Грандмейсона. Услышав вопрос о расположении тела, он стал мямлить:
– Э-э… вроде как… – Выговор его мало чем отличался от бруклинского курлыканья Вольпе. – Кажись… э-э…
Кажись, горемыка сидел в закутке, напоминавшем погреб барахольщика. В трубке слышался шорох бумаг, то и дело Грандмейсон что-то ронял и, кряхтя, нагибался поднять. Джейкоб вырвал обещание съездить на место преступления, хотя был почти уверен, что бедолага забудет об этом, едва повесит трубку.
Лос-анджелесские и вегасские копы привыкли к обоюдным звонкам: преступники часто бегали оттуда сюда и наоборот. Джейкоб набрал номер, по которому уже когда-то звонил. Коротко объяснил, кто он такой и что ему нужно, и его связали с детективом Аароном Флоресом. Тот подтвердил детали, уже отмеченные Вольпе, а также уверенно ответил, что жертва, тридцатилетняя хостес казино в «Венецианском отеле», лежала головой на восток.
– Точно? – спросил Джейкоб.
– Точней некуда, – сказал Флорес. – Я прибыл на место в пять утра, и солнце лупило прямо в глаза.
Затем он поведал, что Дани Форрестер испытывала денежные затруднения.
– Зарабатывала тридцать штук, имела четыре ипотечные квартиры – одну для себя, три для сдачи в аренду, но из-за спада их никто не снимал. Сестра ее рассказала, что у Дани иссякли кредитные карты и она наведывалась к ростовщику. Мы его хорошенько тряхнули, но прищучить было нечем.
Флорес обещал к концу недели выслать копию дела.
Автоответчик полицейского управления Майами попросил обождать, угостив кондовой версией «Повеяло юностью». Если б услышал Курт Кобейн[31], подумал Джейкоб, он бы снова покончил с собой.
Звякнул дверной звонок.
В глазке – Субач и Шотт.
Джейкоб накинул цепочку и приоткрыл дверь.
– С добрым утром, – сказал Субач. – Как шея?
– Мел рассказал о вашей передряге, – подхватил Шотт.
– Решили справиться, как вы себя чувствуете, – продолжил Субач. – Можно войти?
– Чувствую себя превосходно.
– Бросьте, Джейк, – сказал Субач. – Мы пришли с миром.
В трубке заиграла джазовая обработка «Рожденного для воли»[32].
Джейкоб дал отбой, сбросил цепочку и впустил гостей.
– Спасибо. – Шотт прошел в гостиную и остановился перед телевизором на кушетке. – Так и не подключили.
– Все некогда.
– Хотите, мы подключим? – предложил Субач.
– Что вам надо? Вы не из-за шеи моей пришли.
– Не скажите, – возразил Шотт. – Печемся о товарище по оружию.
– Вчера вы крепко расстроились, – сказал Субач.
– Ну, как вы? – спросил Шотт.
– Замечательно.
– А что случил ось-то?
– Спросите его. – Джейкоб кивнул на Субача. – Он там был.
– Ну, Мел, выкладывай, – сказал Шотт.
– Я не курсе, – ответил Субач. – Я весь такой предлагаю корешу выпить, а он вдруг задает стрекача и вопит как оглашенный.
– Все было не так.
Здоровяки смотрели вопросительно.
– Все было не так, – повторил Джейкоб. – И вы это знаете.
– Так расскажите нам, – сказал Шотт.
– Вы ее видели. Девушку.
Джейкоб обращался к Субачу, но переспросил Шотт:
– Значит, вы увидели девушку?
– Я тебе говорил, – сказал Субач.
– Вы увидели девушку, – повторил Шотт.
– Да, я увидел девушку. Мел тоже ее видел, если, конечно, он не слепой.
Молчание.
– Главное, что вы здоровы, – сказал Шотт.
– Спали хорошо? – спросил Субач. – Покушали?
– Спрашиваю в последний раз: что вам от меня надо?
– Чтобы вы сделали свою работу, – ответил Шотт. – Как можно лучше.
– Тогда доставьте новый компьютер, – сказал Джейкоб.
– У вас и так новехонький.
– Он беспрестанно зависает.
– Такое бывает, – вздохнул Субач. – Наверное, словили вирус или шпиона.
– Это происходит, лишь когда я пытаюсь кое-что выяснить.
– Что именно? – спросил Шотт.
– Номер машины. И всякое другое.
– Какое другое?
– Вы можете узнать?
– Запросто, – сказал Субач. – Предоставьте мне. Я вам отзвонюсь.
– А прямо сейчас по рации? – предложил Джейкоб. – Я подожду.
– Забавно, но у нас тоже проблемы со связью, – сказал Шотт.
Молчание.
– Видимо, накрыло все управление, – сказал Джейкоб.
– Наверное, – согласился Субач. – Сейчас все взаимосвязано.
– Я оставил три сообщения Маллику, но он не перезвонил.
– Попробуйте электронной почтой, – посоветовал Шотт.
– Уже пробовал. Раз десять. Мне нужна копия вызова 911.
– Мы передадим, – сказал Субач.
– Точно?
– Разумеется, – сказал Шотт.
– Мы за вас, Джейк, – сказал Субач.
Джейкоб промолчал.
Пожелав ему удачного дня, они вышли, бесшумно притворив дверь.
– Ну разве я не молодчина? – сказал Тайлер Вольпе.
Рутина неизбежна для всякого сыщика, однако Джейкоб обрадовался передышке после многодневной круговерти. Новоорлеанский Грандмейсон так и не перезвонил, вегасский Флорес еще не переслал копию дела, а полицейское управление Майами неизменно просило обождать, потчуя уймой попсовых мелодий в паршивом исполнении синтезаторного саксофона и контрабаса.
Субач и Шотт затаились, Дивия Дас резала трупы, Маллик по-прежнему играл в молчанку. Возможно, они кого-то прикрывали и потому водили Джейкоба за нос, ожидая, что при первой же закавыке он вскинет лапки кверху. Это злило.
Не будем валять дурака, ладно?
Я говорил с вашим начальством.
Знаю, кто вы такой.
Да нет, не знаешь.
Хватит с меня, решил Джейкоб и позвонил Марше, верной подруге из транспортного отдела.
– Возвращение блудного сына, – сказала Марша.
– Будь любезна, пробей один номер.
– А сам? Ты на Луне, что ли? Я думала, ты покинул нас ради большого и светлого дела.
– Оно мелкое и темное. Еще мне нужна копия вызова 911.
Марша записала данные:
– Ладно, попробую.
– И последнее: пробей адресок, ладно?
Марша вздохнула.
– Ну пожалуйста, – попросил Джейкоб. – Местоположение Особого отдела. Почтовый адрес, абонентский ящик, хоть какие-нибудь координаты.
– Особый отдел? Это что?
– Мой новый дом.
– Не знаешь, где ты?
– Я не там, я здесь.
– Где – здесь?
– У себя в квартире.
– Для меня, простушки, замысловато.
Джейкоб вернулся к допросному списку Людвига, вычеркивая помеченных звездочками: они оказались покойниками. Он одолел почти четверть списка, не найдя никаких зацепок, и тут позвонил взбудораженный Вольпе:
– Ну разве я не молодчина?
– Скажу чуть позже.
– Ладно. Во-первых, вы были правы. Тело лежало в ванной, головой к окну, которое смотрит на восток.
– Ее там убили или туда перенесли?
– Поначалу я думал, что она пыталась выбраться через окно, но ее сдернули вниз. Однако теперь я думаю, что убийца – или убийцы, если их было двое, – напали на спящую. В спальне все было перевернуто – наверное, жертва сопротивлялась. В любом случае, она лежала головой на восток. Я съездил на квартиру и лично проверил.
– Отлично, – сказал Джейкоб.
– Так что?
– Вы молодчина.
– Да, я знаю.
– Вы сказали «во-первых». Что во-вторых?
– Я показал снимок нашим ребятам, – сказал Вольпе. – Вы снова правы – картина жуть.
– Неужто кто-нибудь узнал?
– Не парня. Почерк.
– Серьезно?
– Голова, тела нет, рана запечатана, блевотина. – Вольпе замолчал. – Поправьте, если я ошибаюсь.
– Да нет, в десятку. В яблочко. Кто вел дело? Как ему позвонить?
– Вот тут загвоздка. У меня, значит, есть дружок, Дуги Фриман, я рассказал ему о вашем деле, и он, короче, грит: «Ни хрена себе, точь-в-точь как у того парня». Я ему, короче: «У какого парня?» И он, значит, грит, что прошлым маем сгонял на семинар для копов со всего света. Ну, там, программа министерства юстиции, демонстрация доброй воли, взаимное доверие, сотрудничество, ля-ля-тополя… Ну вот, значит, как-то вечером они нажрались в зюзю, это сближает, и один парень рассказывает о жутком деле – башка без тела. Я как про вас помянул, Дуги сразу – покажи фотку. Глянул и, короче, грит: «В точности как тот парень говорил – шея, блевотина и все такое». Класс, грю, надо сообщить Леву, как, грю, того парня зовут? А Дуги, короче, я, грит, не помню. Я ему, значит, помнишь дело и не помнишь имя? А он мне, короче, еще бы я, грит, не запомнил отрезанную башку. Ну, я ему – давай вспоминай на хрен. А он, значит, не могу, грит, там сплошь согласные. – Вольпе огорченно шмыгнул носом. – Дуги славный малый, но для улучшения человеческой породы надо бы оторвать ему яйца.
– Он сказал, откуда тот коп?
– Из Праги. Они с Дуги махнулись бляхами. Вот она передо мной. Прочесть, что написано?
Джейкоб не ответил. Он думал. Прага.
Восточная Европа.
Восток.
– Алло, Лев.
– Да. – Джейкоб взял ручку. – Валяйте.
– Полиция… че… че… Твою мать, лучше я по буквам.
Джейкоб записал: Policie Ceske Republiky.
– В слове «чешске» над «ч» такая фиговина вроде шапочки перевернутой и знак ударения над вторым «е», – сказал Вольпе.
– Номер, отдел?
– Больше ничего. Бляха не настоящая – сувенир для обмена. Если хотите, я дам вам мобильник Дуги. – Вольпе продиктовал номер. – Говорите медленно. Короткими словами.
– Спасибо, старина. Огромное спасибо.
– Да пустяки. Знаете, вот поговорили, и я хочу вернуться к делу Шевчук – вдруг чего пропустил.
– Удачи. Дам знать, если что нарою.
– И вам. Пока, Лев.
Ссылка на домашнюю страницу полиции Чешской Республики привела к глухой стене чешского языка, которую «Гугл-переводчик» превратил в псевдоанглийский, позволив, однако, выудить номер центрального коммутатора.
Едва телефонистка уразумела, что абонент – американец, она сплавила его другому оператору, которая с ходу спросила, где господин прогуливался, когда у него украли бумажник.
– Да нет, мне нужен детектив убойного отдела, – сказал Джейкоб. – Не могли бы вы…
Серия бипов, лавина чешских слов.
– Алло? – позвал Джейкоб. – А по-английски?
– Чрезвычайная ситуация?
– Ничего чрезвычайного. Убойный отдел. Убийство.
– Где?
– Нет-нет, мне нужно…
– «Скорую помощь»?
– Нет, нет, нет. Я…
Снова бипы.
– Эй, на борту[33], – сказал мужской голос.
Джейкоб тотчас вообразил на другом конце провода морского волка.
– Рубка слушает, – ответил он, чуть не добавив «кэп». – Отдел убийств?
– Да. Нет.
– Хм. Да – в смысле «отдел убийств» или нет – в смысле «другой отдел»?
– Назваться, пожалуйста.
– Детектив Джейкоб Лев, полицейское управление Лос-Анджелеса. В Америке.
– А, Родни Кинг![34] – сказал голос.
Его звали Радек. Младший лейтенант. Он не знал, кто в прошлом году ездил в Нью-Йорк, но охотно согласился выяснить.
– Спасибо. Но я все-таки спрошу: откуда вы про Родни Кинга-то знаете?
– О, бес проблем. После революция я смотреть американский телевидение. «Команда А». «Рожденные в рубашке»[35]. Иногда новости. Я видеть видеопленка. Бах-бах-бах. Черный морда вниз.
– С тех пор наши отношения с клиентами улучшились.
– Да? Хорошо! – Радек заливисто рассмеялся. – Можно я приехать? Нет пинок под зад?
– Если не бедокурить.
– Мой двоюродный брат уехать в Даллас. Марек. Наверное, знать его?
– Я живу в Калифорнии, – сказал Джейкоб. – Далековато.
– Да?
– Большая страна.
– О, бес проблем. Марек жениться американка. Ванда. Они держать ресторан чешская еда.
– Наверное, вкусно.
– Вы знать наша еда? Кнедлики? Мой любимый, попробуйте.
– Непременно, как только окажусь в Далласе.
– О, бес проблем. Я скоро вам звонить.
Назавтра он позвонил рано утром, говорил тихо и сдавленно:
– Алло, Джейкоб, привет.
– Радек? Почему вы шепчете?
– Джейкоб, это плохой вещь для разговор.
– Что? Вы узнали, кто ведет дело?
– Момент, пожалуйста.
В трубке шорох, приглушенные голоса, потом Радек выпалил серию цифр, которые Джейкоб торопливо записал на руке.
– Кого спросить?
– Ян.
– Он детектив?
– Джейкоб, спасибо, удача, мне пора.
Отбой. Джейкоб недоуменно воззрился на трубку, потом набрал продиктованный номер.
Через одиннадцать гудков ответил усталый женский голос.
– Здравствуйте, – сказал Джейкоб. – Можно Яна? В трубке фоном орали дети, гремела реклама. «Ян!» – крикнул женский голос, послышался густой кашель.
– Слушаю.
– Ян?
– Да.
– Меня зовут Джейкоб Лев. Я детектив полицейского управления Лос-Анджелеса… Вы меня понимаете? Говорите по-английски?
Пронзительная тишина.
– Немного, – ответил Ян.
– Отлично. Здорово. Ваш телефон я получил от вашего коллеги, Радека…
– Какого Радека?
– Я не знаю. Фамилии не знаю.
– Гм.
– Мне сказали, в прошлом году вы были в Нью-Йорке. Полицейский, с которым вы общались, рассказал о вашем деле – отрезанная голова, запечатанная рана. Так совпало…
– Кто вам сказал? Радек?
– Нет, нью-йоркский коп. Дуги. Он… вернее, его коллега…
– Что вам надо?
– Я веду похожее дело. Хотел сравнить факты.
– Факты?
– Может, выявится что-то важное.
Ребячьи баталии, фон разговора, достигли апогея, и Ян что-то рявкнул на чешском. Наступило короткое затишье, потом ор возобновился. Ян прокашлялся и громко сглотнул.
– Извините, я не могу об этом говорить.
– Если вам приказали помалкивать, можно…
– Да. Сожалею.
– Ладно. Я думал, может, вы пришлете фотографии с места преступления или…
– Нет-нет, никаких фотографий.
– Давайте хоть я пришлю вам свои фото, вы глянете, и если…
– Нет. Извините, говорить не о чем.
– Мне есть о чем. У меня тринадцать убитых женщин.
Пауза.
– Приезжайте, тогда поговорим, – сказал Ян.
– А по телефону нельзя? Может, вам удобнее по другому номеру?
– Позвоните, когда приедете.
И Ян тоже бросил трубку.
– Нет такого номера, – сказала Марша. – Энтони трижды проверил.
– А что 911?
– Не перезвонили.
Нормально.
– Особый отдел?
– Ничего. Во что такое совершенно секретное ты вляпался?
– Если б я знал.
– Береги себя.
– Постараюсь.
Ближайший пражский рейс подешевле был в среду. Вылет ночью, швейцарская авиакомпания, пересадка в Цюрихе, цена тысяча сто долларов. Джейкоб сообщил о своих планах голосовой почте Маллика. Повертев в руках кредитку «Дискавер», гадливо ее отбросил и приготовился угрохать кровную тысячу, не питая надежд на компенсацию. Разве что проценты по авансированному жалованью в девяносто семь тысяч когда-нибудь возместят все траты.
Телефон зазвонил, когда Джейкоб уже вводил номер своей кредитки.
– Лев, это Майк Маллик.
– Коммандер! Рад наконец-то вас слышать.
– Надо поговорить. Живьем.
– Мне подъехать в гараж?
– Прежняя точка больше не существует, – сказал Маллик. – Ждите дома. Я к вам приеду.
Он появился один – огромный и подтянутый, собранный и опрятный.
Стандартные потолки в восемь футов подчеркивали его рост: входя в квартиру, он пригнулся и потом опасливо сутулился – привычка человека, обитающего в мире не по размеру.
Джейкоб приволок из кухни два стула, предложил кофе.
– Нет, спасибо. Но вы угощайтесь. – Маллик сел и пригладил седые пучки над ушами. – Как вы тут, справляетесь?
– Я об этом и хотел поговорить, сэр. Я столкнулся с кое-какими техническими сложностями.
– Вот как.
– Пытаюсь пробить номер машины, а система зависает.
– Хм.
– Я попросил приятельницу из транспортного отдела помочь, и она сказала, что номер не существует.
– Значит, фальшивый.
– Видимо, так. Но я столкнулся с такой же проблемой, пытаясь выяснить адрес подразделения.
– Особого отдела?
Джейкоб кивнул.
– Потому что официально его нет. Если вам нужен адрес, он перед вами. – Маллик похлопал себя по груди.
– Я писал вам по электронной почте, – сказал Джейкоб. – Вы не ответили.
– Когда писали?
– Пару дней назад. И не раз. Помимо прочего – насчет вызова 911.
– Неужели? Наверное, я проморгал.
– Все письма?
Маллик улыбнулся:
– Я не в ладах с техникой.
– Я просил Субача и Шотта все вам передать.
Маллик не ответил.
– Вы появились, едва я сообщил, что собираюсь в Прагу, – сказал Джейкоб.
– Это большие расходы.
– И не говорите. Я еду за свой счет.
– У вас есть карта на оперативные нужды.
– Она не работает.
– Вы пробовали?
– Неоднократно. Она не проходит.
– Теперь пройдет, – безмятежно сказал Маллик. – Так или иначе, поскольку расследование расширяется, хорошо бы нам все обсудить.
– Живьем.
– Я общительный, Лев.
Джейкоб промолчал.
– Вы продвинулись, – сказал Маллик.
– Я бы продвинулся дальше, если б располагал записью вызова или хотя бы приблизительно понимал, зачем вы вставляете палки в колеса.
– Не драматизируйте.
– Есть выражение точнее, сэр?
– Я же говорил: дело щекотливое.
– Тогда я не понимаю смысла работы на дому. И безопасной связи. Идея была в том, чтобы не привлекать внимания. Но не связывать меня по рукам и ногам.
Маллик не ответил.
– Прошу извинить мой французский, сэр, но что за херня происходит?
– Я поручил вам ответственное задание и хочу, чтобы вы с ним справились.
– Какое задание, сэр?
– То, которым вы занимаетесь. Ничего другого от вас не требуется.
– Толочь воду в ступе?
– Судя по вашим отчетам, вы далеко продвинулись.
– Значит, вы прочли мои письма.
– Прочел.
– Тогда вы понимаете, что меня не подпускают к важной информации.
– У нас все под контролем.
– У кого – у нас? Что под контролем?
– Больше вам пока ничего знать не надо.
– При всем уважении, сэр, пошло оно все в жопу.
Маллик усмехнулся:
– Значит, правду о вас говорят.
– Кто говорит? Мендоса?
– Вы желаете, чтобы вас сняли с дела?
– Я желаю, чтобы не устраивали игрища за моей спиной.
– Кто именно?
– Субач. Шотт. Дивия Дас. Даже малый в Праге чем-то напуган.
– А что в Праге?
– Еще одна голова.
Маллик нахмурился, взгляд его остекленел. Так он сидел некоторое время, лишь медленно кивая.
– Я думаю, вам надо ехать в Прагу, – наконец сказал он.
– То есть вы даете добро.
– Даю добро.
Такой приступ покладистости озадачивал.
– Благодарю вас, сэр. Однако можно узнать, почему вы отпускаете меня за границу, но не хотите помочь с обыкновенной записью вызова 911?
Маллик потер лоб и вновь надолго замолчал. Похоже, он прикидывал разные варианты, но в итоге достал мобильник и, выложив его на журнальный столик, раз-другой ткнул пальцем в экран.
Шорох пленки.
Девять-один-один. Что у вас случилось?
Здравствуйте. Женский голос. Я хочу заявить о смерти.
Простите, мэм, как вы сказали? О смерти?
Женщина продиктовала адрес дома в Касл-корте.
Вам… вам угрожает опасность, мэм? Скажите, вам нужна помощь?
Спасибо.
Мэм? Алло? Мэм? Вы слушаете?
Маллик коснулся экрана, и шорох смолк.
– Пригодилось? – тихо спросил Маллик.
Джейкоб молча смотрел на него.
– Еще раз прокрутить?
Джейкоб кивнул.
Маллик включил воспроизведение.
Девять-один-один. Что у вас случилось?
К концу второго дубля у Джейкоба пересохло во рту, и он так вцепился в столешницу, что в пальцах чувствовал пульс.
Спасибо.
– Теперь прояснилось? – Маллик нажал «паузу».
Джейкоб покачал головой:
– Нет.
– Если хотите, я пришлю вам копию.
Джейкоб кивнул.
– Прояснилось или нет, жизненно важно продолжить работу. Жизненно важно.
– Сэр…
– Да?
– Вы уверены, что мне следует ехать в Прагу?
– А что мешает?
– Может, лучше остаться и… разобраться с записью.
Взгляд коммандера на удивление потеплел.
– Езжайте, – сказал Маллик. – Я думаю, поездка будет познавательной.
После его ухода Джейкоб не шевельнулся. Стемнело. Он встал и запер входную дверь.
Похоже, компьютер излечился от всех недугов. Маллик сдержал обещание и прислал аудиофайл. Джейкоб прослушал его раз семь, что было излишне, поскольку он ни секунды не сомневался: голос на пленке принадлежит Мае.
Джейкоб позвонил отцу – сообщить об отъезде.
– Нет, – сказал Сэм.
Джейкоб поперхнулся смешком:
– Что?
– Нельзя. Я не разрешаю. Я… я запрещаю тебе.
Отец никогда так не разговаривал.
– Абба, я серьезно.
– И я серьезно. Тебе кажется, я шучу?
– У меня работа.
– В Праге.
– По-твоему, я вру, что ли?
– Я не вижу смысла ехать за тридевять земель.
– А вот это уже мне решать.
– Дурно, – сказал Сэм. – Дурно. Дурно.
– Я не спрашиваю разрешения.
– Вот и хорошо, потому что я не разрешаю.
– Что на тебя нашло?
– Нельзя так поступать со мной.
– О чем ты? Я никак с тобой…
– Ты меня бросаешь.
– Все будет хорошо. Я говорил с Найджелом. Он будет приходить каждый день.
– Он мне не нужен, – сказал Сэм. – Мне нужно, чтобы ты был здесь.
– Ты что-то скрываешь? Ты заболел?
– Говорю как отец…
– А я говорю как взрослый человек: это не предмет торга.
Обиженное молчание.
– Я думал, ты обрадуешься, – сказал Джейкоб. – Родина Махараля.
Сэм не ответил.
– Слушай, я заеду попозже, хорошо? Сейчас надо бежать.
– Джейкоб…
– У меня куча дел. Пока.
Не дожидаясь возражений, Джейкоб дал отбой.
В паспорте, у которого довольно скоро истекал срок действия, было два штемпеля из прошлого десятилетия. Зимняя поездка в Нижнюю Калифорнию – отчаянная попытка наладить отношения с Рене – и более дорогостоящее путешествие со Стейси в Париж – с той же целью и тем же результатом.
Согласно инструкциям Маллика, Джейкоб воспользовался белой кредиткой, бронируя билет и ночлег.
Сработало.
Наверное, были какие-то утвержденные категории покупок – скажем, поездки, но не продукты. Ну и ладно. Хорошо, что не пришлось платить самому.
Джейкоб стал собираться в дорогу, оттянув визит к Сэму до вечера. Спорить с отцом не хотелось, а резкая перемена в нем заставляла тревожиться о его психике.
Джейкоб припарковался за красной колымагой, образчиком всевозможных нарушений. Ее хозяин Найджел в обнимку с мусорным мешком стоял во дворике.
– Считай, ты получил предупреждение, – сказал Джейкоб. – Очередное.
– Господь мой пастырь, – ухмыльнулся Найджел.
– Чудесно. Тогда езди верхом на овце.
Ухмылка разрослась в широченную улыбку, напрочь уничтожившую щеки, и Найджел разразился смехом, от чего запрыгал золотой крестик на тенниске, облепившей мощный торс.
– Я не шучу, – сказал Джейкоб. – Каждое нарушение тянет на штраф в двести баксов.
– Чем заняться в первую очередь?
– Габаритные огни, ветровое стекло, бампер и…
Найджел прищелкнул языком.
– Габаритные огни, – сказал Джейкоб. – Из-за них точно остановят.
– Меня по-любому остановят, Яков. – Еврейское имя Найджел выговаривал подчеркнуто и весело.
Вождение в негритянском виде. Что еще надо. Джейкоб покосился на мешок:
– Помочь?
– Нет, вынесу мусор и поеду.
– Я провожу тебя до машины.
На улице Джейкоб спросил:
– Как он?
Похоже, вопрос смутил Найджела.
– Не мешало бы постричься.
– Ничего странного в нем не заметил?
– Чего, например?
– Чего-нибудь. Перепадов настроения.
Найджел покачал головой.
– Но ты бы сказал, если б заметил.
– Без вопросов.
– Я вернусь максимум через неделю. Обещай, что не спустишь с него глаз. Я знаю, ты и так к нему внимателен, но мне нужно это сказать, чтоб меня совесть не мучила.
– Не волнуйся. Он крепкий.
Джейкоб решил не напоминать, что отец даже по магазинам не ходит. Все покупки делал Найджел, он же доставлял белье в прачечную и возил Сэма, если пункт назначения был дальше полумили от дома. Перед Сэмом этот глубоко набожный евангелист трепетал и к своим обязанностям, невесть как ему доставшимся, относился серьезно. Для работника дровяного склада у него были слишком мягкие руки. Вероятно, все объяснялось тем, что складом владел не кто иной, как Эйб Тайтелбаум.
Найджел кинул мешок в мусорный контейнер:
– В Сэме есть внутренний свет.
– Как жаль, что я его лишен.
Найджел улыбнулся:
– Береги себя, Яков.
– Спасибо. И раз уж мы заговорили о свете…
– Да?
– Габариты.
Сэм был в очках с толстыми стеклами и смахивал на сумасшедшего ученого. На обеденном столе громоздились книги.
– И все-таки я не понимаю, что за нужда ехать в такую даль.
– Человек согласен только на личную встречу.
– Почему ты решил, что он будет с тобой разговаривать?
– Он так сказал.
– Вдруг мне понадобится связаться с тобой?
– Звони на мобильный.
– Слишком дорого.
– Звони за мой счет.
– Слишком дорого для тебя.
– Плачу не я. Перестань, абба.
– Я не одобряю.
– Понятно.
– Значит, не поедешь?
– А как ты думаешь?
Сэм вздохнул. Из ближайшей стопки вытянул две книги в мягкой обложке и подтолкнул их к Джейкобу:
– Я взял на себя смелость подобрать тебе литературу.
Джейкоб глянул на путеводитель по Праге:
– Я не знал, что ты там был.
– Я не был. Но раз нельзя съездить, можно прочесть.
Путеводитель издали минимум лет двадцать пять назад. Джейкоб просмотрел содержание и увидел главу о поездке в страны советского блока с подразделом «Взятки: когда и сколько?».
– Боюсь, это уже не актуально.
– Важное остается неизменным. Не хочешь – не бери. Но вторая тебе точно понравится.
Джейкоб мигом узнал обложку: кособокое страшилище, от которого он спасался в маминых объятьях. Названия книги он не помнил, если знал вообще.
ПРАГА: ГОРОД ТАЙН, ГОРОД ЛЕГЕНД
Древние сказки еврейского гетто
Перевод с чешского В. Ганса
– Спасибо, абба. Правда, не знаю, будет ли у меня время для чтения. – Джейкоб подумал о материалах, утром полученных от Аарона Флореса и пристроенных в ручную кладь.
– Почитаешь в самолете.
– Я рассчитывал поспать. – Видя отцово огорчение, Джейкоб поспешно добавил: – Пригодится, когда проснусь в два ночи, ошизевший от смены поясов.
– В детстве это была твоя любимая книга, – сказал Сэм.
«Моя или твоя?» – подумал Джейкоб. Но кивнул.
– Помню, мы ее читали, когда ты был совсем маленький. Большинство младенцев появляются на свет скукоженные. Даже на людей не похожи. Ты был другой. Ты… У тебя было лицо, в тебе виделась… сущность. Из чрева ты вышел сформированной личностью. Я смотрел на тебя и словно видел будущее, читал все дни, даже те, что еще не написаны. – Сэм запнулся. – Я тебе читал, а ты слушал. Я читал, а ты смотрел на меня, как мудрый старец, и не отводил взгляда, пока я не говорил: «Конец». Эту книгу я читал тебе раз пятьсот. Ты не хотел засыпать, я закутывал тебя в свой халат и читал до самого утра, когда вставало солнце и мы произносили «Шма»[36].
Он опять замолчал. Прокашлялся.
– Хорошие были утра.
Сэм сдернул очки и дважды пристукнул по книге:
– В общем, я подумал, тебе понравится.
– Спасибо.
Джейкоб представил себя взрослого: закутанный в халат, прижался к костлявой отцовской груди. Картина жутковатая, но уютная. Надо же, он еще и запомнить ничего не мог, а отец уже читал ему сказки.
– Что тебе привезти из Праги?
Сэм покачал головой. Потом передумал:
– Раз уж ты там будешь…
– Ну?
– Сходи на могилу Махараля. Положи камушек от меня. Конечно, если время найдется.
– Я найду.
– Спасибо. И еще. – Сэм порылся в кармане и сунул деньги в руку Джейкобу: – На цдаку.
Старый обычай – пожертвовать путнику деньги, чтобы дорога была легкой. Благая цель обережет от зла, а денежка – от смерти.
Якобы.
Джейкоб развернул купюры: вместо ожидаемой пары долларов – две сотни.
– Это много, абба.
– Ты часто ездишь в Прагу?
– Зачем две-то? Хватит одной.
– Одна – туда, другая – обратно. Помни: ты – мой посланник. Вот что тебя защитит. Не деньги – доброта. – Сэм обнял Джейкоба за шею и колюче поцеловал. – Ступай с миром.
Отец говорил, что души, покинувшие землю, возвращаются в сад и вечно обитают подле Господа.
Навстречу со свистом несется земля, в ушах плещется вопль Каина – предательница! Но Ашам умиротворенно думает о том, что скоро навеки воссоединится с Авелем. Падение все быстрее, башенные камни мелькают, точно глиняные кометы, с негодующим криком Каин уносится в забвение, и, если отцово обещание верно, Каин тоже будет там вечно.
Об этом Ашам не подумала.
Ну и что она ему скажет? Она не успевает сообразить.
Все неправда.
Никакого сада.
Авеля нет.
Нет и Каина. Что уже хорошо.
Она стоит там, куда упала.
Вокруг царит хаос, от жуткого шума хочется присесть и зажать руками уши.
Вот только рук нет.
И ушей.
Не присядешь.
Ступней нет.
Нет ног вовсе. Она даже не стоит, а…
Что?
Существует.
Хочешь крикнуть, да нет легких, нет горла, нет губ, нет языка, нет рта.
Хаос – это людская толпа. Побросав топоры, люди потоками спускаются с башни и бегут мимо Ашам, в руках у них факелы, тряпки, кувшины с водой. Их крики громче воя звериной стаи, а вот Ашам онемела напрочь.
Не бойся, говорит ласковый голос.
Перед Ашам возникает женщина – она горит, прекрасное лицо полыхает состраданием и гневом.
Ашам силится крикнуть – никак.
Ты ошеломлена, говорит женщина. Это естественно.
Она протягивает огненную руку. Ну, давай.
Я не понимаю.
Женщина улыбается. Ну вот. Молодец.
Ашам ничего не сказала, однако женщина ее слышит.
Ты слишком стараешься, говорит она. Пусть это выйдет само собой.
Что?
Это.
Так?
Великолепно. Потихоньку научишься. Женщина улыбается. Меня зовут Габриэлла.
Твоя одежда, говорит Ашам. И волосы.
Я знаю. По утрам целую вечность привожу себя в порядок.
Ашам не знает, что сказать.
Шутка, говорит Габриэлла.
А! Беседа успокаивает. Ашам озирается. Где я?
В общем, там же, где и была.
Я… есть?
Да.
Где?
А если самой посмотреть?
Как?
Смотри, говорит Габриэлла.
Это требует большого напряжения. Все равно что стоять на голове или балансировать на одной ноге. Только дело не в физическом, а волевом усилии. Обзор качается, словно новорожденный птенец, взгляд спотыкается о дымки печей для обжига, контур недостроенной башни, изгвазданные крупы мулов.
Молодец, говорит Габриэлла. Очень хорошо.
Ашам видит людскую суету, обломки подмостей.
Там я? Мое тело?
Нет. Каин.
Как он там оказался?
Ударился о балку и отлетел.
Ашам морщится. А где я?
Габриэлла печально улыбается. Здесь.
Взгляд вниз.
Ашам парит над собственным изуродованным телом.
Переломанные кости, вывалившиеся внутренности, оторванная голова.
Ашам исторгает горестный вопль.
Тяжело, говорит Габриэлла. Я понимаю.
Я была такая красивая.
Да, очень красивая.
Почему все с ним? Почему никто не подошел ко мне?
Он был их вождь. Ты его убила.
Ашам рыдает без рыданий.
Семь дней Габриэлла ей поет:
Утратив телесную обитель, душа болит,
как плоть, пронзенная иглой.
Ибо
разбит прекрасный сосуд;
лопнула хрупкая оболочка;
сорван якорь;
разрушен храм.
Ладно, говорит Габриэлла. Попели, и будет.
На теплом западном ветре она возносит Ашам над миром – мешаниной текучих красок. Кичливая желтизна, живительная зелень, умиротворяющая синь.
Что это? – спрашивает Ашам.
Род человеческий, отвечает Габриэлла. Смотри.
Куда?
Идем со мной. Габриэлла берет ее за руку.
Обзор съеживается.
В городе своего имени Енох стоит перед погребальным костром отца.
Его окружает серая аура.
Пес, что сидит подле него, лижет Еноху руку.
Енох опаляет его взглядом.
Священник читает поминальную молитву.
Пес опять лижет Еноху руку.
Отстань, говорит мальчик.
Пес скулит. Вывешивает язык.
Енох наотмашь бьет его по морде.
Пес взвизгивает и убегает.
Что с ним? – говорит Ашам. Зачем он так?
Он зол, отвечает Габриэлла. Смотри.
И вот уже Енох, пятнадцатилетний юноша в золотом венце, сидит на троне. Серая аура сгустилась склизкой массой, пульсирует, сочится. С каменным лицом Енох слушает просьбы советников. Для достройки башни не хватает рабочих, говорят они. Не хватает денег. Казначей встает, хочет что-то сказать, но Енох серым мечом пронзает ему сердце. Хлещет кровь.
Он всегда был подлинным сыном своего отца, говорит Габриэлла. Все хорошее в нем угасло.
Я этого не хотела, говорит Ашам.
Всяк крепок задним умом.
Не надо. Я больше не хочу смотреть.
Извини, я должна показать. Смотри.
Окутанный рокочущей серой тучей, двадцатидвухлетний Енох скачет по долине, ведет свою армию на войну. Возвращаются с пленниками и добычей. Пленных отводят на рыночную площадь, где некогда Ашам и маленький Енох объедались фруктами и хохотали. В назидание другим десятерых узников привязывают к столбам, плетьми спускают с них кожу и обезглавливают. Плененных женщин и детей продают для утех, мужчин заковывают в серые цепи и отправляют на строительство башни, где все они погибнут: одним размозжат голову упавшие кирпичи, других придавит бревнами, третьих уморят болезни и труд до кровавого пота.
Довольно, стонет Ашам. Не надо.
Но Габриэлла мягко упорствует. Таков этот мир. Смотри.
Жаждущие мести племена идут войной на Еноха.
Кровь течет рекой по серым улицам.
Что я наделала. Что я наделала.
Смотри.
Енох, сорокалетний старик в твердом сером панцире, принимает смерть от руки собственного сына, который убивает своих братьев и восходит на трон.
Ладно, говорит Габриэлла. Пожалуй, ты поняла.
Они парят, под ними проносятся эпохи. Серая слизь расползается. Захватывает долину, перебирается через горы и равнины; заполняя все щели, поглощает багрянец похоти и золото радости, застывающим раствором разграничивает народы и неудержимо движется дальше, бездумная и ненасытная.
Мы умоляли Его не допустить этого, говорит Габриэлла. Что есть человек, спрашивали мы, что Ты печешься о нем?
Я хотела справедливости, говорит Ашам.
Но сотворила многие смерти.
На серой улице далекого серого города серые мужчины валят наземь женщину. Крики ее подобны лиловой плесени; они привлекают прохожего, который мгновение наблюдает за сценой, а потом уходит, оставляя серые следы.
Останови их, молит Ашам. Прошу тебя.
Одно дело за раз.
Как ты можешь? Посмотри, что они делают.
Я не о том, говорит Габриэлла. За раз я могу делать только что-нибудь одно. Сейчас я с тобой, поэтому не могу помочь ей.
Тогда ступай.
Габриэлла качает головой, оставляя всполохи. Это не в моем ведении.
Серый туман окутывает женщину, она исчезает, воцаряется тишина.
Каждому свое. Мир отдали не нам, а людям, говорит Габриэлла и, помолчав, добавляет: правда, люди только все поганят.
Землю затягивает серой пеленой.
Там жуткий бедлам. Вышло так скверно, что Он подумывает все начать заново.
Я чудовище, говорит Ашам.
Нет. Тебе так кажется, потому что ты видишь плоды своих поступков. Иди дальше. Учись на своих ошибках. Превращай плохое в хорошее. Понятно? Габриэлла кладет пылающую руку ей на плечи и легонько к себе прижимает. Твой выход.
Мой?
Габриэлла кивает: если хочешь. Мне нельзя вмешиваться, а ты можешь.
Сделаю что угодно, лишь бы все исправить, говорит Ашам.
Точно? Согласием ты себя обрекаешь на вечные тяготы.
Согласна. Обрекаю.
Габриэлла раскрывает гроссбух: распишись.
Страницы пылают белым огнем. Ашам мешкает.
В чем дело? – спрашивает Габриэлла.
Нет, ничего. Просто… Что я подписываю?
Габриэлла грозно хмурится. Ты же хочешь помочь, так?
Да-да. Конечно.
Тогда подписывай.
Ашам думает о сером мире и о себе, разбившейся. Надо исправить, что напортачила, иного не дано. Она обрекает себя, и на странице белого огня появляется ее имя, написанное трепещущим черным пламенем.

Краем глаза Ашам замечает высокие силуэты; на земных волнах и гребнях ветра они прибывают со всех сторон и, кивая ей, выстраиваются нечетким полукругом; каждый многолик и полнится вечным светом. Среди них выделяется Михаил, который, как обычно, печально улыбается и говорит: ты сделала выбор; обратной дороги нет.
Высокие силуэты кивают. Их взоры светятся пугающим единодушием.
Серая пелена окутывает планету наглухо.
Когда начинать? – спрашивает Ашам.
Еще не время, говорит Габриэлла.
Ашам смотрит на мир под ногами и на вечность вверху.
И что теперь? Куда идти? Что делать?
Габриэлла улыбается. Касается ее щеки.
Поспи.
Сели в Праге. Джейкоб плелся по стыковочному рукаву. За последние восемнадцать часов он покемарил всего пару часиков, измучивших путаницей зеленых снов: Мая, старые мамины инструменты, мать что-то безумно лепечет, отец притворяется, будто ее понимает.
И всякий раз одинаковая концовка: убитые женщины головой на восток.
В хвосте толпы зомби – туристов и бизнесменов – Джейкоб вышел в терминал и под аккомпанемент заезженной Леди Гаги встал в очередь к брыластому пограничнику, который, мазнув по нему взглядом, шлепнул штемпель и взмахом руки пропустил в город легенд.
Нехитрый расчет подсказал, что автобусные попутчики родились уже после Бархатной революции. Посему была извинительна их наивная восторженность. Нелепые наряды пионеров начала девяностых. Свернутые в трубку экземпляры «Превращения» Кафки. Винтажные майки с «Нирваной», унаследованные от дядюшек, которые «там были».
Чувствуя себя древним стариком, Джейкоб сквозь исцарапанное стекло смотрел на золотисто-зеленые многоугольники полей. Рощицы и крестьянские дворы временами разбивали их монотонность. С каждым рекламным щитом современность поглощала сельскую идиллию.
Затем появились разношерстные жилые кварталы коммунистической поры – спланированные без всякой логики, они напоминали толпу, переминающуюся на танцплощадке, когда вдруг вырубился проигрыватель. На городской окраине замороженные стройки служили холстом для граффити.
Пока что единственная легенда прилагалась к карте города, которую Джейкоб цапнул в аэропорту, а единственной тайной оставалось местоположение закусочной «Фрайдиз».
Дорога пошла в гору, затем нырнула в неглубокую лощину. Щербатую мозаику грязно-оранжевых крыш окаймлял серпантин серовато-зеленой неспешной реки в солнечных бликах.
Автобус неуклюже одолел мост и высадил пассажиров у Центрального вокзала.
Джейкоб купил бутылку минеральной воды и взял трамвайную схему, но потом передумал и, решив побороть ошалел ость от смены часовых поясов, потопал пешком, громыхая сумкой на колесиках по тротуарам, вымощенным темным и светлым булыжником и усеянным окурками. Стоял чудесный солнечный день – теплый, мечтательный, ласковый. Тесные горбатые улочки крались, точно злодей с ножом, и дробили призрачное эхо мотоциклетного воя и танцевальных мелодий-звонков дешевых мобильников.
Вывески на чешском сбивали с толку: изобилие шипящих, странные сочетания букв, ощетинившиеся диакритиками, – точно злобная брань сумасшедшего.
Позевывая и моргая, Джейкоб брел под хмурыми взглядами горгулий на Гибернской. Лица прохожих, не вполне европейские и не вполне азиатские, были столь же суровы. Надменные рты, щелочки глаз, корявые старые руки у молодых людей. Недоверчивые, невидящие взгляды, словно Джейкоба и нету вовсе. Он ловил себя на том, что поджимает пальцы на ногах, пытаясь доказать, что существует, и заискивающе улыбается встречным. Ни одной ответной улыбки так и не получил.
Махнув рукой на пражан, Джейкоб переключился на галерею архитектурных стилей, великолепных, озорных и шалых. Барокко, ар-нуво и рококо толкались, как пассажиры битком набитого автобуса. Оштукатуренные фасады почернели от сажи или были свежи, как будто еще не просохли.
На площади Республики Джейкоб отер взмокшую шею и, полюбовавшись зеленоватой кровлей Муниципального дома, свернул на север, к тесным кварталам Старого города, которые придавил палец реки.
Гостиница «Ноздра» оказалась достойна своей единственной звезды. В угоду чувству собственного достоинства Джейкоб раскошелился на отдельный номер, отвергнув многоместный. Протащив сумку по четырем лестничным маршам, он вошел в линолеумную келью, обшитую расщепившимися панелями и меблированную колченогим стулом, стоявшим вполоборота, словно его застигли за постыдным делом.
Казенные деньги призывали Джейкоба к экономности, но, конечно, не до такой степени.
На стене кто-то выцарапал хмурую рожицу, сопроводив ее надписью:
Сара ты разбила мне сердце.
Привыкай, чувак.
Скинув рубашку, Джейкоб плюхнулся на кровать, и та откликнулась недовольным стоном.
Мобильник подключился к местному роумингу. Набрав номер Яна, Джейкоб выслушал десять гудков. Затем попытал счастья с центральным коммутатором пражской полиции. После долгих и путаных объяснений его соединили не с тем Яном.
Сколько в Праге копов по имени Ян?
Примерно столько же, сколько Джонов и Майков среди лос-анджелесских полицейских.
Джейкоб перезвонил на коммутатор и спросил Радека.
Телефонистка заругалась на чешском.
Джейкоб дал отбой и смачно зевнул, прикрыв локтем рот. Если решил перебороть временной нокдаун, даже недолгая дрема будет тактической ошибкой.
Но самодисциплина – не его конек. Джейкоб установил будильник и, откинувшись на благоухающую пачулями подушку, вырубился.
Сквозь замызганное окно сочился оранжевый неоновый свет.
Джейкоб выудил мобильник, свалившийся в щель между кроватной спинкой и стеной.
Будильник давным-давно отзвонил. Джейкоб его даже не слышал.
И только что пропустил вызов.
– Черт!
К счастью, Ян ответил.
– Алло.
– Привет. Извините, я не мог подойти к телефону.
В трубке вопили дети, будто свара шла всю неделю.
– Простите, кто вы?
– Джейкоб Лев, лос-анджелесская полиция. Недавно я вам звонил, помните?
– A-а. Да, о’кей, помню.
– Вы сказали связаться с вами, когда я приеду в Прагу.
– Да, о’кей.
– Ну вот, я приехал.
Интерлюдия из шлепков и плача.
Ян прокашлялся.
– Вы приехали?
– Да.
– В Прагу?
– Пару часов назад. Минута нашего разговора обходится мне в два бакса, давайте договорим живьем. Завтра вам удобно?
– Завтра, завтра, завтра… Нет, извините, очень занят. Куча дел.
– Тогда в субботу.
– Тоже не годится.
– Ладно, выберите день.
– Вы надолго в Чехию?
– На четыре дня.
– Четыре дня… Боюсь, ничего не выйдет.
– Вы смеетесь? Я прилетел поговорить с вами.
– Я ни при чем, вы сами решили.
– Вы же сказали… Ладно, будет вам, чего вы. Я же знаю полицейский распорядок. Всегда можно что-то подвинуть.
– Наверное, у вас.
– Я привез фотографии, – сказал Джейкоб.
– Ничего не знаю.
– Всё вы знаете, я вам говорил. Дайте адрес вашей конторы. Я завезу снимки. Посмотрите – тогда решайте.
– Извините. – Казалось, Ян искренне огорчен. – Дело приватное, обсуждать нечего.
– Вам приказали не разговаривать со мной? – спросил Джейкоб.
В трубке грохнуло – свалился телефон. Ян заорал на детей. Потом сильно закашлялся.
– Извините, что доставил неудобства, – сказал он. – В Праге есть чем заняться. Вам понравится.
– Подождите…
Мертвая тишина.
Джейкоб потрясенно вытаращился на телефон.
Потом перезвонил. Гудок, гудок, гудок, гудок, гудок.
– Да ответь же, говнюк.
Джейкоб сбросил вызов, посмотрел в окно, отерся жесткой муслиновой простыней. Шесть вечера, он один в чужом городе.
И что теперь?
Он еще ничего не придумал, когда телефон вздрогнул. Эсэмэска с незнакомого номера.
пивная у рудольфина
кржижовницкая 10
30 мин
Чехи знали толк в пиве. Пивная оправдала и превзошла все ожидания: старинный зал, низкий сводчатый потолок, каменные стены, отделка красным деревом. Жареное мясо и отменный пилзнер, поданные невозмутимым официантом, который возникал с полным стаканом, едва в прежнем пива оставалось на донышке. Для серьезных питоков было рановато, но шум уже стоял изрядный.
Не хватало только Яна.
Надсадный кашель и вздорный выводок создали образ мужчины под пятьдесят. Обвисшие щеки, желтые зубы, нездоровая кожа. Никто не соответствовал этому портрету, и тогда Джейкоб стал встречаться взглядом с каждым входящим мужчиной, получая раздраженный безмолвный ответ «пошел ты, педрила».
Побарабанив пальцами по желтому конверту с фотографиями, Джейкоб позвонил Яну. Потом набрал второй номер. По обоим послал эсэмэски. Справился у официанта, нет ли другого заведения с таким же названием.
– Привет! – Не дожидаясь приглашения, девица уселась за его столик. – Англичанин, американец?
– Американец. Я жду друга.
– Я тоже, – засмеялась девица. – Ты и есть мой друг. Меня зовут Татьяна.
Джейкоб загасил улыбку:
– Джейкоб.
Симпатичная, блондинка, полненькая.
– Рада познакомиться, друг Джейкоб. – Девушка протянула руку в ямочках. – Как тебе пиво?
– Убойное.
– Чего?
– Очень хорошее.
– Меня угостишь?
– По-моему, тебе еще рано выпивать.
Татьяна ткнула его в плечо:
– Мне девятнадцать.
– В Америке пьют с двадцати одного.
– Значит, останусь здесь. – Она показала большой палец пробегавшему официанту. – Откуда ты, Джейкоб Америка?
– Из Лос-Анджелеса.
– Голливуд? Кинозвезды?
– Наркодилеры. Проститутки.
Никакого отклика. Видимо, не шлюха.
– У нас этого добра тоже хватает.
– Да, я наслышан. – Джейкоб посмотрел на телефон – от Яна ничего, хотя опаздывает уже на сорок минут.
– Раньше бывал в Праге?
– Впервые.
– Да? И как тебе город?
– Я еще мало что видел. А так ничего, милашка.
Татьяна широко ухмыльнулась.
Опа, сказанул.
– Изумительная архитектура, – добавил Джейкоб.
– Чего?
– Здания.
– Тебе надо посмотреть замок. Самое красивое место в Праге.
Джейкоб проверил телефон. Снова послал эсэмэску.
– У меня плотный график.
– Ты бизнесмен?
– Вроде как.
Официант принес пиво.
– На здрави. – Татьяна подняла стакан.
– Взаимно.
Чокнулись, выпили.
– Какой бизнес?
Джейкоб отер пену с губ.
– Я коп.
– Чего?
– Полицейский.
Татьяна сморгнула:
– Да ну?
Может, все-таки шлюха.
Однако девица не ушла и все балаболила, пока Джейкоб отправлял эсэмэску за эсэмсэкой. Официанты протирали опустевшие столики, которые тотчас занимали новые посетители. Татьяна вдруг замолчала. Проследив за ее взглядом, Джейкоб увидел группу горилл в спортивных костюмах и с золотыми цепочками на шеях.
– Приятели твои? – спросил он.
Татьяна фыркнула:
– Русские.
– Откуда ты знаешь?
– Посмотри на цепи.
Один из компании криво улыбнулся и отсалютовал Джейкобу стаканом.
– Зла не хватает, – сказала Татьяна. – Только от них избавишься, они уже опять тут и все изгадили.
– По-моему, ты не застала тех времен.
– Нет, я тогда еще не родилась. Но мой отец был диссидентом. – Сообразив, что съехала не на ту тему, девушка улыбнулась: – Все были диссиденты.
– Я еврей, – сказал Джейкоб. – Не мне уговаривать тебя не таить обиду.
– Понятно. Вот зачем ты приехал в Прагу.
– В смысле?
– Тут много приезжих евреев. Все хотят посмотреть синагогу. Ты тоже пойдешь?
– Еврейский туризм – хороший бизнес, – сказал Джейкоб.
– Ага. И еще Кафка.
– Что ты об этом думаешь?
– О туризме? Хорошее дело. Чехи – дружелюбный народ.
– Только русских не любят.
– Верно, – засмеялась Татьяна.
– Тебе нравится Кафка?
– Я не читала.
– Да ладно.
Она покачала головой:
– При коммунистах его запрещали. Он писал на немецком, чешские переводы появились всего пару лет назад. Наверное, скоро прочту.
– Советую прочесть «Голодарь».
– Да?
– Мой любимый рассказ. И еще «Школьный учитель».
– Запиши. – Татьяна подала свой мобильник. – Похоже, твой друг не придет.
– Да, похоже. – Джейкоб забил названия в телефон, допил пиво и положил деньги на столик – за двоих. – Было приятно поболтать, Татьяна. Хорошего вечера.
Девушка осталась за столиком.
Не шлюха.
В Старом городе было столпотворение. Захмелевший Джейкоб пробирался сквозь толчею, ловя обрывки экспатриантского английского, испанского, французского. Под аккомпанемент чахоточного контрабаса и дряблой гитары фальшивили певцы. Истеричный восторг пророчил завтрашнее раскаяние. Россыпь пиццерий и интернет-кафе, теплый сладкий ветерок пропитан неистребимым запахом пива. Мочи. Марихуаны. Жареного лука и скворчащего сала.
В очередной раз Джейкоб безуспешно набрал номер Яна. Европейский говнюк. Китайский вариант европейского говнюка. Женщина в поношенной грации заманивала в стрип-клуб. Женщина в вечернем платье заманивала в казино.
В номере Джейкоб достал из сумки дело Дани Форрестер. В самолете он его просмотрел – все то же, о чем Флорес сказал по телефону. Хостес казино якшалась с темными личностями. Копы изучили ее смартфон и тряхнули всех, с кем она общалась незадолго до убийства, – устроителей мальчишников, оголтелых игроков, горемык, торгующихся из-за грошовой цены на комнату, участников всяких конференций.
Джейкоб перевернул последнюю страницу. Четверть десятого. В Лос-Анджелесе обед.
Джейкоб пошарил в поисках пульта.
Нету.
Телевизора тоже.
А чего ты ждал за двадцать долларов в сутки?
Еще за час древний путеводитель был изучен от корки до корки.
Теперь он знал, что говорить при аресте на таможне.
И как спрятать фотопленку, чтобы не засветили.
Сна ни в одном глазу. Джейкоб погасил лампу, растянулся на кровати и приступил к игре в свободные ассоциации, жонглируя событиями в Касл-корте.
Одиннадцать вечера, поступает вызов.
Здравствуйте.
Кто здоровается с 911? Обычно люди не помнят, как их зовут. Запинаются. Повторяют одно и то же.
Я хочу заявить о смерти.
Никаких тебе голова, труп или о боже, помогите.
Заявить о смерти.
Словно жертва мирно покинула землю во время любимого занятия. В ванне. Или на поле для гольфа.
Тон женщины явно противоречит смыслу слов.
Она говорит охотно.
С удовольствием.
Спешу обрадовать вестью о смерти.
Мисс Мая без «и» краткого, Неведомо Кто из Невесть Откуда, имеет честь пригласить вас на обнаружение трупа. Далее ужин и танцы. Ответ направлять в лос-анджелесское полицейское управление. Рекомендуется смокинг.
Она четко выговаривает адрес – чтобы не перепутали. Запинается не она – диспетчер.
Спасибо.
Вот опять – кто благодарит 911?
Дивия сказала, что убийство произошло незадолго до звонка. Меньше суток. Однако ни тела, ни крови, ни следов. Убили не там.
Где?
Я просто милая девушка, спорхнула поразвлечься.
Откуда спорхнула?
Сверху. Откуда обычно спархивают.
Изощренный юмор? Намек, что дом стоит на холмах?
Между вызовом и приездом Хэмметта прошел час.
Что в это время делает Мая?
Прячется и ждет – поверили ей или нет?
Смотрит, как патрульный входит в дом? Снимает на мобильник?
Выкладывает фото в «Фейсбуке» и «Твиттере»?
с копами @место преступления
#справедливость ржачка!!!
Или она уже смылась? Могла позвонить из другого места. Трудно сказать: фоновый шум в записи отсутствует.
Тем временем Хэмметт по рации передал сообщение. Информация переваривается.
Впрочем, недолго. Примерно без десяти два приезжает Дивия Дас. От ее дома езды больше часа, и то если не плутать, а прямиком на место. Значит, ей позвонили где-то в ноль сорок, не позже. Значит, и часу не прошло, как Маллик обо всем знал.
Невиданная расторопность для лос-анджелесской полиции.
Разве что они уже были на ногах.
Значит, еще до звонка они знали о голове.
Ерунда.
Разве что они действуют заодно с Маей.
Может, они сами и отрезали голову.
Может, Дивия уже была там.
Может, они там все были.
Грандиозный заговор! Замешан весь департамент!
Ладно, окунемся в паранойю. Убийцы-заговорщики сватают дело еврею Леву, а потом всячески ему мешают. Странная работа на дому, зависающий компьютер. Глухота к просьбам прислать запись. Поведение Маллика, когда он все же прокрутил ее Джейкобу.
Пригодилось?
Маллик ожидал, что Джейкоб узнает голос? Выходит, знал, что Джейкоб встречался с Маей?
Но откуда ему знать.
Езжайте. Поездка будет познавательной.
Конфуций, мать его за ногу.
О’Коннор и Людвиг ни словом не поминали никакой Маи без «и» краткого. Это ничего не значит. Может, по правде ее зовут Сью, Елена или Иезавель.
Как бы ее ни звали, после звонка она отправляется в бар «187».
Поразвлечься.
Поразвлечься с мистером Лучиком, который так нарезался, что не помнит, блондинка она или шатенка. Толку от него явно не будет. Тогда зачем его убалтывать?
Зачем везти домой?
Зачем утром его раскочегаривать и сразу исчезать?
И тотчас появляются Субач и Шотт.
Синхронность, от которой екает в животе.
Джейкоб еще несколько раз прослушал запись, прижимая динамик к уху. Похоже на Маю – на его воспоминание о Мае. Однако на чем зиждется его уверенность? На десяти похмельных минутах. Джейкоб изо всех сил сдерживал мысли, бешено рвавшиеся с поводка, и в конце концов убедил себя, что голос вовсе не Маи. Она ему снилась, он беспрестанно о ней думал, неуемно, прямо скажем, грезил, и вот теперь она чудится ему в обычном женском голосе, который мог быть чьим угодно. Джейкоб вновь прослушал запись, подмечая искажения голоса, который, проделав путь через спутник и компьютер, теперь звучал в паршивеньком динамике мобильного телефона. Надо бы раздобыть качественные наушники. Еще раз прослушав запись, Джейкоб безоговорочно решил, что ошибся. Это не Мая. И если прежде он был убежден в обратном, напрашивался весьма неутешительный вывод: его аналитический аппарат сбоит.
Расстроенный Джейкоб включил лампу и, свесившись с кровати, порылся в сумке.
ПРАГА: ГОРОД ТАЙН, ГОРОД ЛЕГЕНД
Древние сказки еврейского гетто
Перевод с чешского В. Ганса
Жуткая обложка: голем в вечной погоне за кем-то невидимым.
Почитай ему нормальную книжку, как нормальному ребенку.
Наверное, страшные сказки – не лучшее чтение перед сном. Однако смутно помнилось, что голем, несмотря на устрашающую внешность, доброе существо, и сейчас байки о страшилище, деловито побеждающем зло, будут как нельзя кстати.
Джейкоб раскрыл книгу и стал читать.
Пражские евреи славно уживались с соседями иной веры. Не то что их сородичи в других королевствах.
Но вот жил-был один кожемяк-христианин, который взял в услужение сироту – писаную красавицу-еврейку, очень набожную и целомудренную. Подметив добродетели благопристойной служанки, ее доброту и скромность, хозяин влюбился и возжелал ее в жены.
Он объявил ей свою волю, но девица отказала ему, сославшись на законы предков. Хозяин не оставил любовных притязаний, однако служанка была непреклонна и своей неуступчивостью распаляла его гнев. И вот однажды он ее подстерег и попытался взять силой.
Девица отважно сражалась за свою честь: под руку попались тяжелые железные ножницы, и она вонзила их в глаз обидчику. Вскрикнув, кожемяка разжал хватку, и девушка убежала.
Прелюбодей долго хворал, но пережитое унижение было мучительнее ран. И замыслил он страшную месть. Пошел к священнику и залился крокодиловыми слезами: ах, пропал мальчик, христианский сирота! А он, кожемяка, видел мальчугана вместе с одним евреем по имени Шемайя Гиллель. А Гиллель тот был дядюшкой нашей служанки-красавицы.
Священник призвал караул, отправился к Шемайе Гиллелю и потребовал допустить его в дом, где якобы совершили преступление. Шемайя Гиллель, не ведавший за собой никакой вины, впустил священника. Это стало роковой ошибкой, ибо накануне кожемяка прокрался к нему во двор и под грудой джутовых мешков спрятал бездыханное тело мальчика, которого сам лишил жизни.
Увидев труп, священник обвинил Шемайю Гиллеля в убийстве – мол, жиду потребовалась кровь для обряда еврейской Пасхи.
Всем было ясно, что тщедушный Шемайя Гиллель, человек почтенных лет, не мог совершить подобное злодеяние. Однако его публично повесили, и от рук толпы погибло еще много невинных душ, женщин и детей, ибо люди всегда питают ненависть и страх ко всякой инакости. А служанка от горя обезумела – пришла на Карлов мост, наполнила камнями передник и бросилась в воды Влтавы.
В те дни во главе еврейской общины стоял высокочтимый ребе Иегуда сын Бецалеля, прозванный Махаралем. Тридцать дней ребе размышлял о том, что произошло. Потом призвал двух самых верных своих учеников и глухой ночью повел их на берег реки. Там они сноровисто набрали глины и взобрались на чердак Староновой синагоги.
Ребе Иегуда, обладавший божественным провидением, повелел ученикам слепить глиняного исполина в человечьем облике. Затем вложил ему в рот пергамент со священными именами Бога, а на лбу начертал слово ЭМЕТ (истина), из которого сотворен мир.
Семью семьдесят раз ребе и ученики обошли вкруг исполина и прочли заклинания, вдохнувшие в него жар жизни. В третьем часу ночи, когда Создатель ревет аки лев, ребе Иегуда произнес: «Восстань!» В тот же миг исполин вскочил, звучно хрустнув членами. Перепуганные ученики обеспамятели, но ребе Иегуда шагнул вперед и властно заговорил:
«Имя твое Иосиф. Ты будешь беспрекословно исполнять мою волю, ибо я создал тебя для служения».
Иосиф понял и кивнул, но не заговорил, ибо не во власти человека наделять свое творение даром речи.
Исполина облачили в крестьянскую одежду, и ребе Иегуда пристроил его синагогальным сторожем. Ежели кто совался с расспросами – откуда, мол, взялся такой детина? – ребе говорил, что на улицах Праги встретил безъязыкого странника, который и назваться-то не мог.
Во избежание толков ребе выделил исполину уголок в собственном доме. Да только Иосиф не нуждался в постели, ибо еженощно бродил по гетто, охраняя его обитателей и изгоняя зло.
Громкий стук разорвал золотистую зелень сна, вернув к яви убогость номера.
Джейкоб сел в кровати и уронил с груди раскрытую книжку; кулаками протер глаза. Мобильник, заряжавшийся на тумбочке, показывал 6:08 утра.
– Зайдите позже! – крикнул Джейкоб.
Однако дятел за дверью не унимался. Рассерженно натянув джинсы и рубашку, Джейкоб через цепочку приотворил дверь и увидел бритоголового человека, худого, но рыхлого. Лет двадцати с небольшим. Покрасневшие глаза, одышка. Одет в джинсовые шорты-бермуды и коричневую рубашку «Донна Каран, Нью-Йорк». Жиденькая бородка будто нарисована тушью – человек ее оглаживал, и Джейкоб прямо ждал, что она вот-вот размажется.
– Что вам?
– Джейкоб, – сказал человек.
– Ну?
– Я – Ян.
Столь неожиданный облик потребовал срочных поправок в мысленный портрет. Вопящие дети превратились в младших братцев. Кашель курильщика переквалифицировался в астму.
– Можно войти?
– Покажите удостоверение.
Ян сморщился:
– Вы также, пожалуйста.
Через щель обменявшись карточками, оба притворились дотошными контролерами.
– Порядок. – Джейкоб скинул цепочку.
Ян проскользнул в номер и, оглядевшись, присел на край стула.
– Я прождал два часа, – сказал Джейкоб.
– Виноват.
– Что случилось?
– Захотелось на вас посмотреть.
Джейкоб раскинул руки:
– Нравится?
– Да, о’кей.
– Ладно, проехали. Пойдемте угощу вас кофе.
Но Ян уставился на желтый конверт, выглядывавший из сумки:
– Фотографии?
Джейкоб кивнул.
– Можно посмотреть, пожалуйста?
– Валяйте.
Ян неловко повозился с застежкой, потом лицо его отразило гамму переживаний: ужас, неверие, покорность.
– Знакомая картина?
Ян кивнул.
– Шея?
– Шея и рвота.
– Надпись на иврите?
– Все то же самое.
– Тело так и не нашли.
– Мне запрещено об этом говорить, – сказал Ян.
– Почему?
Ян не ответил.
– Кто запретил?
– Не знаю.
– Не знаете?
Ян покачал головой.
– То есть как не знаете?
– Раньше я их не видел.
– Они – это кто? Ваш начальник?
– Он также.
– Он назвал причину?
– Как будто весьма необычное происшествие.
– Спору нет.
– Нет, вы не поняли. – Ян приободрился. – В Чехии нет убийств. У нас есть пьянки, драки, да, иногда несчастный случай. Но такое? Никогда. Мой начальник, он сказал: «Ян, могут быть очень большие проблемы. Люди испугаются».
– И велел похоронить дело? Об убийстве?
– Не похоронить. Помалкивать.
– Но с вами говорили и другие.
Помешкав, Ян кивнул.
– До или после начальника?
– После. Я уехал в Штаты. Когда вернулся, они ждали в аэропорту.
– Рослые парни, – сказал Джейкоб.
Ян вздрогнул.
– Прямо верзилы.
Ян выпучил глаза.
– Представились сотрудниками отдела, о котором вы слыхом не слыхивали. Дружелюбные, но какие-то странные. Взяли с вас обещание держать язык за зубами, а то, мол, вас вышибут, ну и прочая лабуда.
– Я могу потерять работу.
– Они так сказали?
Ян кивнул.
– Эти же ребята наведались ко мне, – сказал Джейкоб. – Не угрожали. Наоборот, изъявили желание помочь. А на деле вконец замудохали. Но когда я сказал, что еду сюда, – ни слова против. Я не понимаю, что происходит. Может, они хотели, чтоб я убрался подальше? Черт ногу сломит.
Помолчали.
– Что значит «замудохали»? – спросил Ян.
Джейкоб расхохотался, и впервые ухмыльнулся Ян. Смеялись два копа, объединенные нелюбовью к чинушам.
– Ну, в смысле, мешали. Тянули за это, за муде. – Джейкоб показал на ширинку.
– Да, о’кей. Хорошее слово. Меня тоже замудохали.
– Вот почему ты решил взглянуть на меня. Проверить, какого я роста.
Ян кивнул.
– Вчера ты был в пивной.
– Моя сестра была.
– Татьяна, – усмехнулся Джейкоб.
– Она так сказала? Ее зовут Ленка.
– Это неважно. Как я ей?
– Она сказала: Ян, не волнуйся. Кажется, он хороший парень, он угостил меня пивом. Она хочет также быть полицейским. Я говорю: эта работа не для тебя. Ты молодая, радуйся жизни.
– Кто бы говорил. Самому-то сколько?
– Двадцать шесть.
– И уже лейтенант?
– После революции… – Ян присвистнул и махнул рукой, – начали по новой. – Вздох его перешел в кашель. – Ленка. Ленка, Ленка. – Он хлопнул себя по коленям и встал: – Ладно. Пошли.
Тишину Длинной улицы, убегавшей к Староместской площади, нарушала только воркотня голубей, промышлявших под столиками уличных кафе.
Ян похлопал по скамейке – одной из тех, что окружали внушительный бронзовый монумент:
– Девушка сидела тут. Плакала, прямо рыдала. Она говорит: там мужчина, около синагоги, он хотел меня изнасиловать. Патрульный вызвал «скорую», ее в больницу, пошел искать мужика. Идем.
По мокрой брусчатке вышли на Парижскую и зашагали к Йозефову.
Отцовский путеводитель не заслуживал доверия. Некогда убогий Еврейский квартал стал шикарным зеленым районом. В витринах бутиков красовались манекены в дизайнерских нарядах. Из дверей погребка появился человек в поварской куртке и выплеснул ведро мыльной воды в уличный сток.
– Городская полиция не расследует убийство, вызывают нас, – сказал Ян. – Обычно приезжают следователи, спецы. Но в тот раз не было, только один патрульный. Вскоре незнакомый спец, собирал улики.
– Тоже рослый?
Ян задумался:
– Кажется… Я не глядел. Я не его изучал, место преступления. У тебя так же?
– Примерно.
– Спец меня злил. Я хотел осмотреть тщательно, а он торопил: скорее, пожалуйста, не возись. Наверное, хочет закончить до наплыва туристов, подумал я.
Ян умолк и сфотографировал золотистый «феррари» с российскими номерами.
– Ленка не одобрит, – сказал Джейкоб.
– Она слишком злопамятная. Я говорю, то время прошло.
– Для нее – нет.
– Потому что тогда она не жила. Я говорю: хватит злиться, будь практичной. Так же самое с полицией. Ребята, которые работали… Ты знаешь, что такое Эс-Тэ-Бэ?
Джейкоб покачал головой.
– Статни бэспэчност. Чехословацкая госбезопасность. После революции многие ушли. Да, там были гады, конечно. Но кое-кому мы сказали: оставайся. У них опыт, знания.
– И как тебе с ними работается?
Ян пожал плечами:
– Полицейский – рука закона. Раньше были плохие законы, поэтому… – Он изобразил оплеуху. – Теперь хорошие. Все в порядке. Вот, пришли.
По зернистой черно-белой фотографии путеводителя Джейкоб узнал очертания Староновой синагоги. В жизни ее нижняя половина была пергаментного цвета, а верхняя выложена из бурого ноздреватого кирпича, отчего казалось, будто на стене запеклись кровавые потеки оранжевой черепицы. Десять ступеней вели вниз, в мощеный двор с водостоком; в стене виднелась железная дверь. Служебный вход.
Неподалеку от него стояли мусорные баки. Мутное окно-розетка позволяло оценить толщину мощных стен.
Железные перекладины вели к деревянной дверце на высоте третьего этажа.
Всё в следах густой копоти, здание просело, но словно парило над землей, теряя четкость очертаний.
– Ты идешь? – Ян задержался на середине лестницы.
– Да. Иду. – Джейкоб шагнул следом.
– Голова была здесь, – показал Ян, на корточки присев у водостока. Затем перевел палец на два фута левее: – Тут рвота.
Он встал, потянулся и закашлялся.
– Я все не понимал. Крови нет, значит, ее смыли в водосток. Но голову и рвоту оставили.
– Мой случай. Я решил, что убийство произошло в другом месте.
Ян помотал головой:
– Девушка убегает, мужчина здесь. Приходит патрульный, тело тут. Убийца унес насильника и принес отрезанную голову обратно? Глупо. И мало времени. Куда ему идти? Я осматриваю окрестности. Крови нет. Оружия нет. Никто ничего не слышит. Никто ничего не видит.
М-да, подумал Джейкоб, мои версии потихоньку сдуваются. А мечталось найти совпадения.
– Центр города, и ни одного свидетеля?
– В такое время здесь тихо. – Ян показал на роскошные дома Парижской улицы: – В этих квартирах окна спален смотрят во двор. У ювелирного магазина камера, но не тот ракурс. Сюда не видит.
Джейкоб перевел взгляд на деревянную дверку.
…глухой ночью… сноровисто набрали глины и взобрались на чердак…
– Она была открыта, – сказал Ян.
– Та дверь?
– Да.
На мгновенье Джейкоб ослеп. Когда зрение вернулось, он увидел встревоженного Яна:
– Джейкоб, ты о’кей?
– Нормально. – Джейкоб сглотнул и улыбнулся. – Смена поясов.
Он снова посмотрел на дверку. На такой высоте она бессмысленна. Будто ребенок нашалил – спер кальку и подрисовал дверь, а строители бездумно воплотили чертеж, проморгав несуразицу.
– Как думаешь, почему она открылась?
– Охранник сказал – ветер.
– Той ночью было ветрено?
Ян покачал головой – мол, кто его знает.
Город неохотно просыпался: подагрический скрип трамваев, шорох дворницких метел.
– А что девушка? Как она оказалась в синагоге?
– Она работает ночной уборщицей. Выносит мусор, сзади шум. Оборачивается – мужчина с ножом. Хватает ее, она дерется, хрясь, он выпускает, она убегает.
– Девушка видела, что с ним произошло?
– Паника, некогда смотреть.
– Но она смогла опознать голову.
– В больнице я показал ей фото. Крик, слезы.
– Она, конечно, отрицала свою причастность к убийству.
– Конечно.
– И ты поверил.
– Для такого она слабая.
– Однако сумела отбиться.
– Это разные вещи. На ее одежде не было крови.
– Могла переодеться.
– Нет, никак невозможно.
– Я почему спрашиваю – в моем случае полицию вызвала женщина.
Ян вскинул брови.
Джейкоб достал мобильник, вместе прослушали запись. Вновь показалось, что звучит голос Маи. Черт, вроде ведь уже отмел этот вариант.
Похоже, Ян не заметил в словах и голосе женщины ничего странного.
– Это разные люди, – только и сказал он. – Девушка – чешка.
Джейкоб поверил его отклику – по крайней мере, решил, что поверил.
По тротуару над ними прошагал человек с портфелем. Не обращая внимания на сыщиков, он что-то гавкал в телефонную гарнитуру.
– Где была надпись на иврите? – спросил Джейкоб.
Ян показал на мостовую – один булыжник новее прочих.
– Когда я вернулся из Штатов, его уже заменили.
– Куда делся оригинал?
– Дело вел другой, вопросов нельзя.
– Фотография сохранилась?
– В компьютере. Я тебе перешлю.
– Спасибо.
– Я показал надпись охраннику, – сказал Ян. – Значит «справедливость». Может, ее парень, подумал я, брат или отец. Нет ни парня, ни брата, ни отца. Есть сестра. Не сходится. Откуда взялся убийца? Я искал следы, отпечатки. Ничего. Будто птица пролетела – фрррр.
Ян прошелся взад-вперед.
– Не может быть, что он услышал крик и бросился на помощь. Наготове большой нож, голову – чик, рану – запечатать. Не получается. Тут был план, согласись. Значит, он с оружием сидит в засаде и ждет какого-нибудь насильника? Глупо. Выходит, он следил за насильником. Тоже глупо. Откуда ему знать, что тот хочет сделать?
– Не глупо, если они знакомы.
– А?
Джейкоб рассказал об Упыре.
Лицо Яна из бледного стало меловым.
– Ох ты, – выдохнул он.
– Вот так.
– Погано.
– Угу.
– Думаешь, твой убил моего? А потом и его кто-то пришил?
– Не знаю. Пока это все, чем я располагаю.
Ян вежливо кивнул, но вид его говорил: рассказывай сказки.
– Порадуй меня – скажи, что есть ДНК-анализ.
– Надо особое разрешение.
– Но у тебя его не было.
– Нет.
– Можно взять образец останков.
– Если через месяц никто не востребовал, их отправляют в крематорий.
– Блин! Да что ж такое!
– Извини, Джейкоб.
– Ты ни при чем.
Скорбная мина уведомила, что Ян винит себя во всем.
– Не припомнишь что-нибудь подобное в Праге или еще где?
– Нет-нет, говорю же, в Чехии такого нет.
– Ты прямо как Комитет по туризму.
– У нас раскрываемость – девяносто процентов. Преступник всегда на месте. Так нализался, что не может уйти.
– Это лучше, чем транзитники.
– Кто?
– Бандиты, которые на ходу стреляют из автомобилей.
– У нас тоже есть бандиты. Не сравнить с американскими. Воруют велосипеды и продают в Польше. Еще делают первитин.
– Что это?
Ян поискал слово:
– Ты смотрел «Во все тяжкие»?
– Метамфетамин.
– Да. – Ян помолчал. – Мне очень нравится этот сериал.
Продравшись сквозь кусты, скрывавшие окурки и смятые банки, они обошли синагогу и вышли на Майзелову улицу. Над главным входом синагоги Джейкоб углядел камеры наблюдения.
– Муляж, – покачал головой Ян. – Я спрашивал у охранника запись. «Нету, на настоящие камеры нет денег».
Синагога открывалась через час с лишним, но кучка туристов уже щелкала камерами.
– Была идея, – сказал Ян. – Охранник рассказал, в ту пятницу пришел англичанин. Выглядел подозрительно, не пропустили. Я разузнал. На той же неделе управляющий пансиона заявил в полицию на британского туриста, который не оплатил счет. Так случается, постояльцы не платят, но управляющий очень расстроился и все названивал, потому что человек жил целый месяц.
– С чего ты взял, что это наш парень?
– Я говорил с управляющим. Он сказал, этот Черец оставил всю одежду.
– Черец.
– Так его звали.
– Угу. Ты показал снимок головы? В смысле, управляющему?
– Нет, конечно. Поднялся бы шум. А мне велели помалкивать.
– Я так понимаю, в британское посольство ты не обращался.
– Если б они сказали, что пропал их гражданин, – другое дело. Но никто ничего. Проходит две недели, я хочу позвонить, вызывает начальник: тебе новое задание – секс-торговля. Бабах. Я в самолете в Штаты.
– И на этом все.
– Да. Замудохали.
– Какая официальная версия?
– Верзилы дали подписать бумагу. Попытка изнасилования. Девушка убежала, насильник испугался и решил спрятаться на чердаке.
– Поэтому дверь открыта.
– Да. Он свалился.
– И оторвал себе голову?
– Да я понимаю.
– Потом запечатал рану. И оставил надпись на иврите.
– Я все понимаю. Я сказал, что не подпишу. Пригрозили увольнением. Я себя чувствовал преступником, но что делать? У меня семья. Я подписал.
Джейкоб кивнул – мол, что уж тут, и я бы так поступил.
Он посмотрел на зубчатый фасад синагоги – застывшее пламя, взвившееся в яркую утреннюю синь.
– Можно личный вопрос? Ты еврей?
– Я атеист. А что?
– Сам не знаю.
Вспомнилась реплика Маллика: Меня интересует ваша биография. В Праге копы-евреи – редкость? Либо кто-то, неизвестно кто, выбрал молодого лейтенанта, рассчитывая на его покладистость?
Джейкоб вынул блокнот:
– Окажи любезность – как связаться с охранником и девушкой? И с пансионом.
Ян колебался.
– Твое имя не всплывет, даю слово.
Пока Ян писал в блокноте, Джейкоб глянул на золотисто-черный циферблат Еврейской ратуши. Невероятно – четыре часа пополудни.
Потом дошло: вместо цифр – ивритские буквы, стрелки идут в обратную сторону. Значит, восемь утра.
Ян вернул блокнот, где печатными буквами значились три имени – Петр Вихс, Гавел (пансион «Карлова»), Клавдия Навратилова – и адреса двух последних.
– Телефон охранника перешлю, он в компьютере. Пансион рядом, можно дойти. Фамилию управляющего не знаю. Из синагоги девушка ушла, работает в кафе.
– Как у нее с английским?
– Наверное, понадобится переводчик.
Джейкоб с надеждой взглянул на Яна.
– Извини, – сказал тот. – Работа.
Джейкоб не настаивал. И так грузит парня.
– Я понимаю. Спасибо. Перешлешь снимки мне на мобильник? Надо что-нибудь показать начальству.
Ян хрустнул пальцами, потеребил бороденку.
– Да, о’кей, – наконец сказал он. – Дело не мое. Я закончил, а тебе… удачи, Джейкоб.
Они пожали руки, и Ян отбыл, а Джейкоб вновь посмотрел на часы, где время шло назад.
Гилгул[37]
Рожденный от матерей Алеф-Шин-Мем, Дух Отмщения, что пилигримом скитается у врат вечности, сойди в сей несовершенный сосуд, дабы в миру исполнилась воля Бесконечного, аминь, аминь, аминь.
Под невообразимым гнетом разум сплетается, стягивается.
– Восстань.
Приказ мягок, ласков и неукоснителен.
Она восстает.
Чувства сгрудились, словно дети в куче-мале. За локоток она растаскивает их порознь. А ну-ка, слушаться.
Промокший полог, корявые лапы, тоскливый хриплый вой. В ослепительном пламени мрак высекает контуры: великанская могила, куча грязи, лопаты, следы сапог вкруг раскаленной опушки, что потрескивает, остывая.
Величественный красивый старик высок, как радуга, широкие плечи его укрыты ниспадающим черным балахоном, на блестящей лысине круглая шапочка черного бархата. В лунном свете блестят его добрые карие глаза, начищенным серебром сияет борода. Губы решительно сжаты, но в уголках рта затаилась радость.
– Давид, – зовет старик. – Исаак. Возвращайтесь.
Через долгое мгновенье появляются два молодца, но держатся в сторонке, прячась в листве.
– Он вас не тронет. Правда… – доброглазый старик не выдерживает и улыбается, – Янкель?
Это не мое имя.
– Да. По-моему, так хорошо. Янкель.
У меня есть имя.
– Ты их не обидишь, правда?
Она мотает головой.
Молодцы робко подходят. У них черные бороды, их скромные одежды промокли под дождем. Один потерял шапку. Другой вцепился в лопату и беззвучно молится.
– Все хорошо, ребе? – спрашивает простоволосый.
– Да-да, – отвечает доброглазый старик. – Приступайте. Дел много, а путь неблизкий.
Молодцы хватают ее и втискивают в слишком тесную рубаху. Унизительно, когда тебя облачают в кукольную одежду, но это ничто по сравнению с дурнотой, накатившей, когда она себя оглядывает.
Корявые шишкастые лапы.
Широченная грудь.
Бескровное бугристое тело.
Она чудовищна.
И верх издевки – мужской детородный орган. Чуждый и нелепый, он, точно дохлый грызун, болтается меж бочкообразных ног.
Она пытается закричать. Хочет оторвать его.
И не может. Она безвольна, нема, ошарашена, язык непослушен, горло пересохло. Молодцы втискивают ее безобразные ступни в башмаки.
Давид приседает, Исаак, взобравшись ему на плечи, капюшоном укрывает ей голову.
– Вот так, – говорит ребе. – Теперь никто ничего не заметит.
Закончив облачение, взмокшие молодцы отходят, ожидая вердикта.
Едва ребе открывает рот, ее левый рукав громко лопается.
Старик пожимает плечами:
– Потом подыщем что-нибудь впору.
Они выходят из леса и бредут по болотистым лугам. Промозглый туман плывет над высоким бурьяном, что лишь щекочет ей коленки. Дабы не замарать балахоны, мужчины шагают, задрав подолы; Исаак Простоволосый натянул воротник рубахи на голову.
Подворья оживляют монотонный пейзаж под унылым облачным небом; наконец путники выходят на слякотную дорогу в навозных кучах.
Ребе негромко утешает. Конечно, Янкель в смятении, говорит он, это естественно. Этакий раскардаш души и тела. Ничего, пройдет. Скоро Янкель будет как новенький. Янкель сошел во исполнение важного долга.
Откуда сошел-то? Видимо, сверху. Но она понятия не имеет, о чем дед бормочет. И не понимает, с какой стати он говорит о ней «он» и какой еще Янкель, откуда взялось это тело и почему оно такое.
Она не знает, откуда пришла, и не может спросить; ничего не может, только подчиняться.
Дорога чуть поднимается в гору и приводит в долину. Там по берегам квелой реки раскинулся спящий город – черный занавес, вышитый огнями.
– Добро пожаловать в Прагу, – говорит ребе.
Первую ночь она стоймя проводит в конуре. Бессловесная, недвижимая, растерянная, уязвленная.
Когда сквозь щели в досках рассвет просовывает сырые пальцы, дверь распахивается. На пороге женщина. Чистое бледное лицо обрамлено платком, в ярко-зеленых глазах плещется удивление.
– Юдль, – выдыхает она.
Юдль?
Какой еще Юдль?
А как же Янкель?
Он-то куда подевался?
Совсем запутали.
– Иди сюда, – манит женщина. – Дай-ка посмотрю на тебя.
Она встает посреди двора, и женщина ее обходит, прищелкивая языком.
– Ну и рванье… Ох, Юдль. Это ж надо, а? О чем ты думал-то?.. Погоди, сейчас вернусь.
Она ждет. Выбора, похоже, нет.
Женщина выносит табурет и кусок бечевки, поддергивает юбки.
– Ну-ка, вытяни руку. Левую.
Она машинально подчиняется.
– Не так, вбок. Вот. Спасибо. Теперь другую…
Женщина бечевкой ее обмеряет, поправляя выбившиеся из-под платка темные волосы.
– Да уж, муженек с тобой не поскупился. Он, конечно, святой, но в облаках витает… Нет бы посоветоваться… Стой прямо. Однако ты меня шибко напугал. Наверное, в этом и смысл… Нет, вы гляньте, чего он налепил! У тебя ж ноги разные.
Я урод. Мерзкое чудище.
– Поди разберись, нарочно он так или в спешке… не знаю. Ну, ходить-то сможешь, я надеюсь.
Преступление. Позорный столб.
– Да уж, подкинули мне работы. Надо ж тебя приодеть. Остальное пока терпит. И нечего тебе торчать в сарае, верно? Конечно, верно, чего тут думать-то. Кстати, меня зовут Перел. Стой здесь, ладно?
Текут часы, солнце уже высоко. Наконец Перел возвращается, через плечо ее переброшена накидка.
– Чего застыл-то? Я же не велела стоять столбом. Ну да ладно, давай-ка примерим.
Дерюжное одеяние торопливо сметано из разноцветных лоскутов.
– Не обижайся, что смогла на скорую руку. Поглядим, может, у Гершома разживемся славным шерстяным отрезом. Он мне всегда скидку делает. Подберем цвет. Что-нибудь темненькое, оно стройнит…
Слышен мужской голос:
– Перел!
– Я здесь.
Во дворе появляется ребе.
Созерцает сцену.
Бледнеет.
– Э-э… я все объясню, Переле…
– Объяснишь, почему у меня в сарае великан?
– Э-э… понимаешь… – Ребе подходит ближе. – Это Янкель.
– Вот как? Он не представился.
– Ну, э-э… да.
Нет.
– Янкель.
У меня другое имя.
– Он сирота, – говорит ребе.
– Неужто?
– Я… то есть Давид встретил его в лесу… и, понимаешь, он вроде немой… – Ребе смолкает. – По-моему, он дурачок.
И вовсе нет.
– Значит, придурковатый сирота, – говорит Перел.
– Да, и я подумал, что ему опасно бродить одному.
Перел разглядывает огромную голову:
– Да уж, в такой кумпол не промахнешься.
– И потом, было бы жестокосердно бросить его. Я должен подавать пример общине.
– Поэтому ты запер его в сарае.
– Не хотел тебя беспокоить, – говорит ребе. – Час был поздний.
– Верно ли я все поняла, Юдль? Давид Ганц, который безвылазно сидит в бет-мидраше[38] и которому мать приносит свежие носки, вдруг ночью забредает в лес, где встречает немого безмозглого великана, почему-то приводит его к тебе, и ты даешь ему кров не в доме, а в сарае.
Пауза.
– Примерно так.
– Но если он немой, как ты узнал его имя?
– Ну… я так его назвал. Может, его иначе зовут…
Вот именно.
– С чего ты взял, что он сирота?
Снова пауза.
– Ты сшила накидку? – спрашивает ребе. – Какая прелесть! Янкель, погляди на себя – ты прямо дворянин.
– Не увиливай, – говорит Перел.
– Дорогая, я хотел сразу все рассказать, но задержался – позвали рассудить одно дело, понимаешь ли, крайне запутанное…
Перел машет красивой рукой:
– Ладно. Все в порядке.
– Правда?
– Только парень не будет жить в сарае. Во-первых, сарай мой и он мне нужен. И потом, это плохо. Это даже не жестокосердие – это бесчеловечность. Я бы собаку там не поселила. А ты хочешь поселить человека?
– Видишь ли, Перел…
– Слушай сюда, Юдль. Внимательно. Ты поселишь живого человека в сарае?
– Нет…
– Конечно, нет. Подумай головой, Юдль. Люди начнут спрашивать. Кто живет в сарае? Никто. Тем паче этакий детина. «Он не человек, коль живет в сарае, – скажут люди. – Разве в сарае живут?» – Перел цокает языком. – К тому же это срам. «Значит, вот как ребе принимает гостей?» Этого я не допущу. Пусть поселится в комнате Бецалеля.
– Э-э… думаешь, там ему будет лучше? А может… то есть я хочу сказать… Янкель, извини, что я говорю о тебе, как будто тебя здесь нет.
Меня иначе зовут.
– Будет помогать по дому, – говорит Перел.
– Вряд ли ему хватит… смекалки.
Хватит.
– Хватит. Видно по глазам. Янкель, ты меня понимаешь, а?
Она кивает.
– Видал? Глазки-то умные. А лишние руки всегда пригодятся. Янкель, будь любезен, натаскай воды. – Перел показывает на колодец в углу двора.
– Переле…
Пока супруги спорят, где ее лучше разместить и что сказать людям, она тупо ковыляет к колодцу. Какое счастье снова ходить! Но радость подпорчена мыслью, что ходит она не по собственной воле. Натаскать воды.
– Дело не в том, что это враки… – говорит Перел.
Натаскать воды. Она вытягивает веревку, подхватывает до краев полное ведро.
– …а в том, что ты не умеешь врать, Юдль.
Опорожняет ведро на землю.
Стой. Погоди. Велено другое.
Натаскать воды. Руки сами опускают ведро в колодец.
– Росток истины пробьется из земли, – возвещает ребе.
– И праведность отразится в небесах, – подхватывает Перел. – Чудненько. Но до тех пор позволь мне объясняться с людьми.
Она выливает второе ведро.
Дура. Велено другое.
Но тело действует само, не слушая воплей разума. Есть приказ натаскать воды, и руки послушно тягают ведро за ведром. Стравливая веревку, всякий раз она видит свое кошмарное отражение. Бугристое перекошенное лицо подобно узловатой дубовой коре, кое-где поросшей лишайником; огромная зверская рожа тупа и бесчувственна. Значит, теперь она такая? Впору утопиться в колодце. Но ей не дано выбирать, как не дано остановиться, и она опорожняет ведро за ведром, покуда не слышит хозяйкиного вскрика: двор залит водой по щиколотку.
– Хватит, Янкель! – вопит Перед.
Она останавливается. Сама не понимает, зачем сотворила такую откровенную глупость, и сгорает от ненависти к собственной дури.
– Надо аккуратнее формулировать свои пожелания, – говорит ребе.
– Похоже на то, – говорит Перед и беспомощно хохочет.
Ребе улыбается:
– Ничего, Янкель. Это всего лишь вода. Высохнет.
Она признательна за попытку ее утешить.
Но ее иначе зовут. У нее есть имя.
Она его не помнит.
Кафе возле Карлова моста. В компании похмельных туристов Джейкоб позавтракал безвкусным кофе и жирным пирожком. Примерив всех официанток под образец Упыревой жертвы (худенькая, беззащитная), он дождался затишья в беготне с подносами и жестом подозвал изящную рыженькую:
– Клавдия?
Та показала на уличные столики, которые были в ведении неброской брюнетки, которую Джейкоб отсеял с первой же минуты.
Детектив фигов. Джейкоб пересел на улицу и улыбнулся брюнетке, принимая от нее меню:
– Клавдия.
Девушка удивленно вздрогнула:
– Prosím?[39]
– Английский? – спросил он.
Она открыла страницу с переведенными названиями блюд.
– Я не о том. Вы говорите по-английски?
Девушка свела два пальца – мол, совсем чуть-чуть.
– Можем поговорить? Вы не присядете? – Джейкоб достал бляху. – Я полицейский. Полицие, Америца.
– Момент, пожалуйста, – сказала девушка.
Она вернулась с администратором.
– Какие проблемы, сэр?
– Никаких. Я хотел поговорить с Клавдией.
Девушка сникла и что-то шепнула начальнику. Тот недовольно скривился, но растопырил пятерню:
– Пять минут.
Администратор препроводил их в моечную, устланную мокрыми резиновыми ковриками. Беседа вышла почти вся односторонняя: девушка отвечала жестами и кивками. Казалось, она вот-вот растворится в сырости, пропахшей моющим порошком. Джейкоб вовсе не хотел истязать ее вопросами; Клавдия старалась держаться молодцом, и он охотно отпустил бы ее домой. Пусть десять раз перепроверит запоры и калачиком свернется под одеялом.
Вы хорошо помните ту ночь? (Да.) Ничего, если мы об этом поговорим? (Ничего.) Вы видели лицо того человека? (Да.) Точно ли он был на фото, которое в больнице показал лейтенант? (Да.) Вы поняли, почему он вас вдруг отпустил? (Нет.) Вы отбивались – локтем, ногой? (Да, да, да.) Вам не показалось, что рядом был кто-то еще? (…Нет.) Вы ничего не заметили, когда убегали. Видели что-нибудь, слышали? (Нет.)
– Я понимаю, через что вам пришлось пройти, – сказал Джейкоб. – И все же постарайтесь что-нибудь вспомнить. Голос, цвет волос.
– Блят, – сказала девушка.
На секунду Джейкоб опешил. Чего это она матерится? Он ведь не пьяный, ничего такого. И ведет себя вроде нормально. Он не из тех, кто покидает сортир с хвостом из туалетной бумаги.
– Блят, – повторила Клавдия.
– Вас не затруднит написать это слово?
Blato, написала она.
– Что это значит?
Появление администратора прервало ее пантомиму.
– Всё, всё. – Начальник хлопнул в ладоши и показал: на выход.
Сквозь парное марево девушка послушно нырнула к двери.
– Извините, что означает это слово? – спросил Джейкоб.
Администратор надел очки:
– Blato. Это… м-м-м… – В блокноте Джейкоба он нарисовал трубу, заполнив ее волнистыми линиями. – Влтава.
– Река.
Рядом с волнами управляющий нарисовал стрелку:
– Blato.
– Берег? Лодка?
Крякнув, администратор поманил Джейкоба на улицу, где из-за зловонной кучи мусорных мешков выудил пластиковый горшок с сухой землей и жестом попросил обождать.
– Не беспокойтесь, – сказал Джейкоб. – Я посмотрю перевод в интернете.
Но администратор увлекся: с кухни принес стакан воды, вылил в горшок, перемешал. Горстью зачерпнул и поднес к носу Джейкоба месиво, благоухавшее кошачьей мочой и пестицидами.
– Blato.
Глина.
Гетто было открыто для бизнеса.
Туристы с поясными сумками роились вокруг разноязыких экскурсоводов с пластиковыми лопатками-маяками. Лоточники сбывали майки и термосы с големом, а также его керамические статуэтки. Грифельная доска перед входом в ресторан «У синагоги» обещала два фирменных блюда: филе «Голем» и ножку индейки по-лёвски (малоудачное название), фаршированную беконом.
Джейкоб купил билет в Староновую синагогу и новый путеводитель по еврейской Праге, который пролистал, стоя в очереди.
Существует несколько версий необычного названия синагоги. По одной версии, при возведении фундамента нового дома собраний пражские евреи обнаружили остатки древнего строения. Согласно другой версии, синагога простоит лишь до пришествия Мессии. Таким образом, название «Альт-Ной» (староновый) перекликается с древнееврейским «Аль-Тенай» (при условии).
Независимо от истории своего создания, Староновая навсегда связана с именем ребе Иегуды беи Бецалеля Лёва (ок. 1520 – ок. 1609), духовного вождя и мистика, который, как повествует легенда, на синагогальном чердаке сотворил голема. Когда существо стало неуправляемым, ребе пришлось его уничтожить, а останки замуровать на чердаке, под страхом отлучения запретив туда доступ. Существует мнение, что легенда о големе послужила основой классической новеллы «Франкенштейн» Мэри Шелли и научно-фантастической пьесы «R.U.R.» чешского драматурга Карела Чапека, введшего в обиход слово «робот»…
Лестница в три ступени спускалась в мрачный и зябкий, пропахший сыростью коридор. В окнах вровень с улицей мелькали голые ноги и кроссовки. Справа коридор упирался в арочную железную дверь, под стать входной. Прямо – вход в главный зал. Шнуром перегорожен доступ на женскую половину.
Джейкоб спросил билетершу, где проход на чердак.
Судя по ее лицу, этот вопрос она слышала примерно сто миллиардов раз. Показала на шнур:
– Закрыто.
– А когда-нибудь открыто?
– Нет.
– А на женскую половину пускают?
Билетерша ожгла неприязненным взглядом:
– По субботам. Женщин.
Сзади напирала очередь, и Джейкоб прошел к главному залу, где объявление у входа извещало, что «Каббалат Шаббат»[40] начнется в половине седьмого вечера.
Сейчас вместо молитвенников и кип здесь были путеводители и бейсболки. Джейкоб влился в человеческий поток, по кругу обтекавший биму[41]. На женскую половину удалось заглянуть через смотровые оконца в северной стене: голая комната и складные стулья не свидетельствовали о триумфе равноправия. Задняя стена задернута невзрачной фиолетовой занавеской. Видимо, там вход на чердак.
Джейкоб коснулся гладкой стены, ожидая душевного трепета. Вот он, шул Махараля, вот оно, его кресло. Но все было так обыденно – объедено, – что порождало лишь скуку. Арон а-кодеш[42]. Штора – бархат и парча. Нер тамид[43]. Знай, перед Кем стоишь.
Все это он любил и ненавидел, принимал и отвергал по одним и тем же причинам.
Никакого трепета. Интересно, о чем это говорит? Об отвращении к торгашеству?
Или это знак бесчувственности?
Кто он: коп, расследующий дело, или еврей в синагоге?
В этом перетягивании каната душа изнемогла, и Джейкоб втиснулся на деревянную скамью, иссиженную тысячами задниц.
Под ручку с парнем мимо прошла девушка в футболке «Холлистер». Джейкоб уловил фразу:
– Здесь снимали «Холостячку».
Не выдержав напряжения, он вскочил и ринулся к выходу, будто его сейчас вырвет. У дверей задержался и выудил из бумажника отцову сотенную купюру. Вчетверо сложил и уже хотел сунуть в ящик для пожертвований, но увидел слово, вырезанное в оливковой древесине:

Цедек.
Справедливость.
Джейкоб все таращился и таращился, потому что не может такого быть, а потом мозг усмехнулся, и Джейкоб пригляделся еще раз, и все стало как надо:

Цдака.
Милосердие.
Он не разглядел последнюю слегка стертую букву.
Плюс скверное освещение.
Плюс похмелье.
Наверное, и зрение падает.
– Вы еще долго?
– Извините, – пробормотал Джейкоб. Впихнул деньги в щелку и попятился. Половина отцова предписания исполнена. Осталось благополучно вернуться в Лос-Анджелес.
Одиннадцать утра. Вестей от Яна не было, и Джейкоб решил исполнить вторую отцову просьбу.
Старое еврейское кладбище насчитывало двенадцать могильных слоев. Когда места заканчивались, его просто засыпали землей. Из прошлогодней палой листвы кривыми зубами торчали надгробия. Провисшие цепочки окаймляли туристическую тропу вдоль главных достопримечательностей. Народу битком. Джейкоб трижды останавливался, отвечая на кадиш[44].
Кладбищенский туризм – доходная статья.
Место упокоения Махараля создало пробку в пешем движении. Затесавшись в группу хасидов, Джейкоб привстал на цыпочки, чтобы лучше видеть. Остроконечное надгробие, вытесанное из розового песчаника, слегка напоминало Староновую синагогу.
Складно: спустя века место и человек друг друга красят.
Под каменным львом, семейным гербом Лёвов, высилась грядка из камушков и монет. «Лёв» и «Лев» – однокоренные слова. Отец беспрестанно это повторял, и Джейкоб сам не заметил, как запомнил. Путеводитель присовокупил, что скульптура перекликается с гербом Богемии, где изображен двухвостый лев. И еще любопытный факт от Сэма: Махараль водил знакомство с императором Рудольфом Вторым[45], который приглашал его побеседовать о каббале и мистицизме.
Какие-то заблудшие души всунули в трещины обелиска записки с настоятельными просьбами: безнадежно больные просили о здоровье, бесплодные – о потомстве, и, конечно же, куча народу желала материального достатка.
Джейкоб будто слышал отцовский укор:
Не молись человеку – кто бы он ни был.
Протолкавшись сквозь толпу, он увидел, что могила двойная. Под левым надгробием с эпитафией «Великий гений Израилев» покоился сам Махараль, под правым – его жена, вечная спутница.
Удовольствовавшаяся праведница.
Перел, дочь реб Шмуэля.
Отважная женщина, венец своего мужа.
Странная какая-то похвала. Чем удовольствовавшаяся? Своей долей? Мужем? Еврейская мудрость учит: богат, кто счастлив тем, что имеет. Наверное, Перел хорошо ублажали.
В известных Джейкобу историях о Махарале никакая жена не поминалась. Хотя она, конечно, существовала. Считалось, что еврейский ученый должен остепениться пораньше. Кстати, мать и ребецин – тезки, пусть только по второму имени матери, но все же. Джейкоб улыбнулся и покачал головой. Может, этим-то Бина и приглянулась Сэму. Обе были отважные женщины. Сейчас, на кладбище, уже не казалось нелепым, что отец до сих пор поет субботнюю песнь. Любовь к покойнице – его право и беда. Как право и беда Джейкоба – нежелание простить.
Он нагнулся за камушком.
По руке прошмыгнул жук.
Вскрикнув, Джейкоб шарахнулся, врезался в хасида и вышиб у него фотокамеру. Хасид залопотал на французском. Джейкоб извинился и подобрал свою камеру, которую тоже выронил.
Тем временем жук пробежал по тропинке и, примостившись на ложе из сухих листьев, встал на задние лапки, самодовольно суча передними.
Вне себя от ярости, Джейкоб попытался его цапнуть, но схватил лишь комок грязи. Джейкоб снова атаковал, жук опять увернулся. Согнувшись в три погибели, Джейкоб противоходом к толпе рывками кинулся за жуком. Ужом протискивался среди ног в шлепанцах, ног в чулках и туфлях без каблуков. Народ негодующе орал.
Жук перескакивал с камня на камень. Поджидая Джейкоба, он выпускал и снова прятал крылышки и приседал на лапках, словно собираясь взлететь.
Джейкоб изготовился к очередному броску, но его сграбастало восьмирукое четырехголовое существо, этакий взбесившийся хасидский Вишну, и потащило к выходу, сыпля на идиш и французском проклятьями, из которых он понял только слово «бехейма» – скотина.
Его вытолкали в кладбищенские ворота, и он вновь очутился на узкой улочке перед Староновой синагогой, словно ходил по кругу, прикованный к огромному скрипучему вороту.
Джейкоб побрел наугад и в каком-то проулке рухнул на крыльцо, дрожа, как мокрый пес.
Жуки обитали на кладбищах. Повсюду жуки.
Создатель питал чрезмерную любовь к жукам.
Ах ты, черт, – камушек-то не положил.
В кармане зажужжало. Джейкоб подпрыгнул.
Эмэмэски: отсеченная голова в разных ракурсах. Телефон Петра Вихса, начальника синагогальной охраны.
Выломанный старый булыжник.

Петр Вихс ответил на чешском, но, услышав Джейкоба, перешел на беглый правильный английский. Условились встретиться перед синагогой в половине шестого – за час до начала службы.
Джейкоб купил колу, в четыре глотка осушил бутылку и потопал к пансиону «Карлова».
Управляющий Гавел покорно рассмотрел снимки отсеченной головы, словно видал в жизни кое-что похуже и даже лично соскребал это с ковра. Он не смог уверенно опознать англичанина, не оплатившего счет, но охотно согласился показать журнал регистраций.
– Кто так делать? – с трагическим надрывом приговаривал Гавел. – Я добрый человек, честный человек, я платить налоги, не жульничать.
В журнале значились британский паспорт, выданный Реджинальду Череду, лондонский адрес и номер кредитной карты.
– Я звонить полиция.
Черед родился 19 апреля 1966 года.
По возрасту подходит для Упыря.
Надеясь раздобыть волоски или чешуйки кожи, Джейкоб спросил, что стало с вещами постояльца.
– Выбросить.
Зараза.
– Можете скопировать мне эти сведения?
Гавел показал на мобильник Джейкоба:
– Фото.
– Вы хотите фото?
Гавел кивнул.
– Со мной?
Гавел поморщился:
– Голова.
– Фото головы?
Гавел кивнул.
– Боюсь, я не вправе.
Гавел захлопнул журнал.
– Да ладно вам. – Джейкоб достал бумажник. – Давайте решим это другим способом.
– Фото, – повторил Гавел.
– Вы серьезно?
Поджав губы, управляющий смотрел мимо Джейкоба.
– Хорошо, скажите электронный адрес.
Получив снимок, Гавел на добрых пятнадцать минут скрылся в подсобке. Джейкоб шлепнул по звонку. Безрезультатно.
Наконец управляющий вернулся. Вручив Джейкобу копию журнальной страницы, он гордо показал чернобелую распечатку снимка. Внизу с десяток слов на чешском, красным маркером.
Помахав кошмарным фото, Гавел прикрепил его рядом с доской для ключей.
– Пожалуйста, не надо, – сказал Джейкоб.
Гавел гордо перевел надпись:
– Вот что быть с теми, кто не платить.
Заказав большой стакан пива, Джейкоб оккупировал кабинку интернет-кафе.
Детектив Мария Бэнд из Майами прислала сообщение с номером своего мобильника.
Джейкоб позвонил.
– Бэнд слушает.
– Джейкоб Лев, лос-анджелесская полиция.
– Ах да. Извините, что сразу не откликнулась. У меня тут завал.
– Понял. Рассказывайте.
Бэнд подняла дело Кейси Клют. Тот же почерк: следы от веревок, перерезанное горло, труп головой на восток.
– Славная деваха, куча друзей, ездила на розовом «шевроле-корветт», занималась организацией вечеринок. Вечно сходилась с какой-то невероятной сволочью, прямо талант у нее. Бывшему любовнику светит от пяти до десяти: хранение с целью сбыта. У бывшего мужа четыре ходки, одна за вооруженный грабеж. Я уж решила, он наш клиент, но тогда он был за границей. Облом. Сидит, как заноза. Слава богу, кто-то взялся. Только не я.
Джейкоб поблагодарил и обещал связаться.
Письмецо от Дивии Дас:
Привет,
Птичка донесла, что вы путешествуете. Надеюсь, все хорошо. Пожалуйста, держите меня в курсе.
Еще раз извините, что мы как-то неладно расстались. Надеюсь, вы понимаете, что я вовсе не хотела вводить вас в заблуждение. Поверьте, будь моя воля, я бы охотно узнала вас получше. Но, как сказал великий философ, не всегда нам достается то, чего хотим[46].
Джейкоб перечитал письмо, пробиваясь к смыслу.
Кто же ее неволит?
Здравствуйте, Дивия,
Привет из Праги. Накопал кое-что интересное, только не знаю, куда оно приведет. Буду держать вас в курсе.
Что до остального, все нормально. Говорю же, я большой мальчик. С вами приятно работать, я желаю вам всего самого доброго.
И все же не вычеркивайте меня. С девушками я настырный.
За разборкой прочей корреспонденции он уговорил второй стакан и подал официантке знак «повторить».
Адресом Реджинальда Череца оказался вокзал Ватерлоо, и после безуспешных изысканий Джейкоб забеспокоился, что имя тоже вымышленное.
Запрос «Реджи Черец» привел на архивную страницу под доменом Оксфордского университета.
В 1986 году за свои рисунки Реджи Черец получил премию Студенческого художественного общества – скромную сумму в двести фунтов, пятую часть сегодняшней награды.
Потом нашлась семилетней давности газетная статья, в которой обсуждалось предложение официально запретить лисью охоту. Автор цитировал некоего Эдвина Череца из городка Клегчёрч:
Нечего лезть в чужие дела.
Иронического контраста ради приводилось и мнение его сына Реджи:
Не могу вообразить большего варварства.
Джейкоб мог.
Карта поведала, что к городку, приютившемуся между Оксфордом и Лондоном, ведет трасса М40. Джейкоб позвонил в авиакассы и, справившись о цене, зарезервировал места на завтрашний утренний рейс Прага – Гатвик и понедельничный перелет из Хитроу в Лос-Анджелесский международный аэропорт. Он надеялся, что разговор с синагогальными охранниками оправдает крюк стоимостью в 450 долларов.
Пять вечера. Джейкоб сделал добрый глоток и прикинул, не позвонить ли отцу, не сказать ли ему «Шаббат шалом», но воздержался. Наверняка Сэм спросит, навестил ли он могилу.
Я хотел.
Но там жуки.
С полным кувшином подошла официантка. Джейкоб прикрыл стакан:
– Спасибо, мне хватит.
Счет был такой (шесть баксов за пять стаканов), что на миг вспыхнула фантазия: распродать пожитки и перебраться в Прагу.
Если забыть о делах и взглянуть на город глазами туриста, Прага живая и прекрасная. Здесь начинать жизнь заново – самое оно. На руинах воздвигнем новое здание. Полиции нужны зрелые сотрудники.
Он встретит славную чешку, уговорит ее отказаться от теней для век…
Кое-что вспомнив, Джейкоб пролистал путеводитель.
Статуя ребе Иегуды бен Бецалеля Лёва (1910)
Новая ратуша, Марианская площадь
Монумент, по заказу городских властей созданный прославленным скульптором-модернистом Ладиславом Шалоуном[47], представляет ребе Лёва за мгновенье до смерти. Установка скульптуры перед общественным зданием свидетельствует о почтении, которое чехи, евреи и прочие народы питают к Лёву, оказавшему влияние на всю чешскую культуру.
Карта уведомила, что путь к синагоге пролегает мимо статуи. Конечно, это не камушек на могилу, но, возможно, фотография великого человека утешит Сэма.
Оставив щедрые чаевые, Джейкоб вышел на улицу.
Высеченная из черного камня высокая (шесть с лишним футов) фигура на высоком (пять футов) постаменте отбрасывала сюрреалистически длинную тень.
В сюжете композиции Шалоун отразил известную легенду: достигнув небывалых духовных высот, ребе обрел способность предвидеть явление Ангела смерти. День приближался, и ребе с головой окунулся в научные труды, ибо каббалистическая традиция гласит, что человек, таким манером занятый, не может умереть.
Как-то раз внучка вошла в покои ребе и преподнесла ему свежесрезанную розу. Ангел смерти воспользовался этой возможностью, проник в сердцевину цветка, и ребе, едва вдохнув аромат, тотчас преставился.
Женская фигура, приникшая к Махаралю, для внучки была слишком обольстительна и к тому же голая, что не вязалось с семейным укладом раввина.
Внушительная высота композиции согласуется с бытующим мнением о невероятном росте Лёва. Однако изображений ребе не сохранилось, и потому скульптуру следует воспринимать как плод авторского воображения.
Возможно, в свое время скульптор и пользовался успехом, но в данном произведении проглядывала некоторая небрежность: гротескно большой нос, суровая мина, фарисейски презрительный взгляд.
Смирись пред Законом!
Чтобы не возвращаться домой с пустыми руками, Джейкоб достал камеру и зумом приблизил лицо статуи. Интересно, как на самом деле выглядел Лёв?
Сделав снимок, Джейкоб спрятал камеру в карман. Подобрал с земли кусочек асфальта и положил к ногам статуи. Посмотрел на него, передумал и смахнул на тротуар.
Вопреки громкому титулу начальника синагогальной охраны, Петр Вихс отнюдь не вышел ростом и предстал в синтетических штанах и летней рубашке с жеваным воротничком. Черные глаза в темных окружьях ощупали лицо Джейкоба, навеки запоминая каждую черточку, – навык охранника-ветерана.
– Вы детектив Джейкоб Лев, – сказал Петр.
Джейкоб рассмеялся:
– Наслышаны обо мне?
Улыбка Вихса напоминала тяжелый перелом: словно белые зазубрины перебитой кости пронзили кожу.
Влажное рукопожатие его как-то затянулось. Потом Джейкоб поручкался с его помощником Яиром – поджарым блондином, на вид не старше Яна, говорившим с израильским акцентом.
В синагоге, поднырнув под шнур, они, минуя кабинет ребе и двери с табличками, исполненными шелушащейся позолотой, направились к комнате с надписью «БЭСПЭЧИ/ОХРАНА».
Журнал велся на английском языке, общем для охранников. Запись от 15 апреля 2011 года поведала о белом мужчине: рост 175–180 см, вес 70–80 кг, глаза светлые, волосы темные. Очки в металлической оправе, коричневое пальто, серый костюм, черный галстук в серебристую или бледно-голубую полоску. Руку держал в кармане пальто, пальцы сжаты в кулак – возможно, был вооружен. Заметно потел, явно нервничал. Назвался англичанином, но отказался предъявить паспорт или удостоверение личности. Не смог назвать последний еврейский праздник. Сбежал после просьбы сотрудника обождать.
– Если такого я увидать в аэропорт, я поднимать тревога, – сказал Яир.
– Полицию вызвали?
Петр кивнул на потрепанный журнал:
– Это Прага. Если из-за каждого чокнутого поднимать переполох, нас перестанут воспринимать всерьез.
– А потом с вами связался лейтенант.
– Спрашивал видеозапись. Я сказал, что камеры, к сожалению, – всего лишь муляж.
– Он предлагал взглянуть на жертву?
Яир помотал головой.
– Мне сообщили днем, – сказал Петр. – Тело уже увезли.
– Предупреждаю: зрелище малоприятное. – Джейкоб подал мобильник Яиру. Тот взглянул и отпрянул. – Учтите, что у трупа меняется цвет кожи и расслабляются мышцы.
– Он без очков, – выговорил Яир. – Но да, я думать, это он.
Он передал мобильник Петру.
Чешский охранник повел себя иначе: мельком глянул на фото и экраном вниз положил телефон на стол, не ужаснувшись тому, от чего его напарник все еще сдерживал рвотные позывы.
Воплощенное безразличие, Петр Вихс невидяще смотрел перед собой.
Джейкоб заерзал. Опыт подсказывал, что чем больше взвинчен человек на допросе, тем меньше вероятность его вины. И наоборот: самые злодеи дремлют, уронив голову на грудь. Им говорить не о чем.
– Что скажете? – спросил Джейкоб. – Тот самый?
Петр пожал плечами:
– Не поймешь.
– Может, еще разок глянете?
– Не нужно.
– Есть фото в другом…
– Не надо.
– Угу. Ладно. Утром я говорил с Клавдией Навратиловой. Она сама толком не поняла, что произошло.
– Конечно. У нее тяжелейшая травма.
– Вы с ней говорили?
– Я? Нет. Мы общались по делу и очень коротко.
– Наверное, вас огорчило это происшествие.
– Конечно.
– Хорошая девушка, – сказал Яир.
– Вы сдружились? – Джейкоб обращался в основном к Петру.
Тот пожал плечами:
– Говорю же, разговоры по делу. Короткие.
– Она объяснила свой уход?
– Наверное, слишком тяжелые воспоминания.
– Клавдия кое-что сказала, чего я не понял. – Джейкоб раскрыл блокнот на странице со словом Blato. – Не знаете, что она имела в виду?
– Я это не понимать, – сказал Яир.
– По-чешски «глина», верно? – спросил Джейкоб.
Петр кивнул.
– Так что она хотела сказать?
– Уборщица, – сказал Яир. – Все время грязь.
– Тут не грязь. Глина.
– Налить воды – будет грязь.
Джейкоб ждал, что скажет Петр, но тот смотрел в пространство.
– Есть предположения, кто в ту ночь мог быть в синагоге или где-то неподалеку?
– Например, кто? – спросил Петр.
– Скажем, у кого-то есть ключ или кто-то решил подготовиться к утренней молитве.
– С утра даже миньян[48] не набирается, кто придет в четыре утра?
– Тот, кто особенно печется о синагоге.
– Все мы печемся, – сказал Петр. – Это наше наследие.
– Но вы-то – начальник охраны. Для вас это нечто большее.
– Все почитают синагогу.
Молчание.
– На булыжнике оставили знак, – сказал Джейкоб.
– Тут малевать граффити, – кивнул Яир.
– Это не заурядный вандал. – Джейкоб взял телефон и нашел снимок выломанного булыжника. – Теперь вы поймете, почему я не могу полностью исключить версию преступника с еврейскими корнями.
Охранники промолчали, но Яир покосился на Петра.
– Кто-то поменял камень, – сказал Джейкоб.
– Конечно, – ответил Петр. – Не оставлять же дыру.
– Куда делся старый булыжник?
– Наверное, полиция забрала.
– Лейтенант Хрпа хотел осмотреть камень, но тот исчез.
– Не могу ничего сказать.
– Не можете?
– В смысле, не знаю.
Джейкоб посмотрел на Яира, тот сделал несчастное лицо.
– Может, лейтенант его потерял, – сказал Петр.
– Он не похож на растеряху, – возразил Джейкоб.
Петр потер подбородок:
– Всякое бывает.
– Еще я узнал, что чердачная дверь была открыта, – сказал Джейкоб.
– Случается, какие-нибудь умники влезают по пожарной лестнице, – ответил Петр. – Начитались легенд и перебрали пива.
– Влезают – и что дальше?
– Слезают. Там не войти. Дверь заперта изнутри.
– Не боитесь, что кто-нибудь сверзится?
– Мы не в ответе за всякого дурака.
– Да, конечно. Но вы сказали лейтенанту, что дверь открылась от ветра.
– Я так сказал?
– Вы так сказали.
– Что ж, это возможно.
– Вряд ли, если дверь заперта изнутри, – сказал Джейкоб.
Яир был заинтригован.
Насчет его начальника – не поймешь.
Наконец Петр произнес:
– Как правило, заперта.
– Но?
– В ту ночь, я думаю, была открыта.
– Вы думаете, – сказал Джейкоб.
Петр бледно улыбнулся:
– Такая вот скверная привычка.
– Что ж, хорошо. Как вы думаете, кто ее отпер?
Вновь молчание, еще дольше.
– Яир, тебе пора заступать, – сказал Петр.
– Еще рано пока.
Петр не ответил, израильтянин вздохнул и встал.
– В чем дело? – спросил Джейкоб, когда Яир вышел.
– Это он. Голова. Тот самый англичанин. Никаких сомнений.
– Вы не хотели говорить при Яире.
– Зачем его расстраивать.
– Он вроде не слабак.
– Напускное. Есть программа для демобилизованных израильтян. Пару лет их натаскиваем, потом они едут домой. – Петр прищурился: – Сколько вам лет, Джейкоб Лев?
– Тридцать два.
– Вы впервые в Праге.
Джейкоб кивнул.
– Раньше не было желания?
– Времени. И денег.
– И как вам тут?
– Честно? Жутковато.
– Не вам первому.
– Вы не ответили на мой вопрос. Почему чердачная дверь оказалась открыта?
– Наверное, я забыл запереть.
– Вы бывали на чердаке.
– Не раз.
– Я думал, это запрещено.
– Кто-то же должен присматривать.
– У начальника охраны нет других дел?
Петр улыбнулся:
– Громкое название невидной работы.
– Кто еще там бывает?
– Публике вход закрыт.
– Кто, кроме вас, имеет доступ на чердак?
– Никто.
– А ребе?
– Ребе Зиссман здесь служит всего три года. Он даже не просится.
– Сколько надо прослужить, чтобы получить право на вход?
– Больше трех лет.
– А вы часто бываете на чердаке?
– Каждую пятницу.
– Перед шаббатом.
Петр кивнул.
– И всякий раз отпираете дверь?
– Не всякий.
– И что ж тогда?
– Моя забывчивость – всего лишь версия, – сказал Петр.
– Есть другая?
– Туристы.
– Нельзя же все валить на туристов.
– А что такого? – Петр поерзал. – Наверное, в тот день я не запер дверь.
– Это ваш окончательный ответ.
– Да, Джейкоб Лев. Я так думаю.
– А что там наверху? – спросил Джейкоб.
Он думал, Петр усмехнется или негодующе щелкнет языком.
Но охранник встал, звякнув ключами. Из ящика достал фонарик и пристукнул им о стол:
– Пошли.
В коридоре Петр свернул направо, дошел до двери без таблички, отпер ее и щелкнул выключателем. Голубоватые люминесцентные трубки высветили каменную винтовую лестницу, уходившую вниз.
– После вас, – сказал Петр.
– Мы идем на чердак?
– В микву, – ответил Петр. – Всякий, кто восходит, сперва должен омыться.
– Нет, спасибо.
– Без вариантов.
Помешкав, Джейкоб начал спускаться по грубо вытесанным ступеням. В очень влажном воздухе запах грунтовых вод, различимый во всей синагоге, стал сильнее, и теперь в нем преобладал едкий оттенок хлорки. Джейкоб затылком чувствовал охранника, который топал следом. От этого дыбились волоски на загривке. Хороший толчок – и полетишь кубарем. Переломанные ноги, свернутая шея, раздробленный позвоночник.
Лестница привела в облицованный плиткой подвал, оборудованный душевой кабинкой из стеклопластика и раковиной в сосновой тумбочке. Рядом с ширмой из рисовой бумаги стояла корзина с разноцветными полотенцами.
За арочным входом виднелась миква – шестифутовый квадрат мерцающей воды в полу.
– Можем не поспеть к наступлению субботы, – сказал Джейкоб.
– Тем более нечего валандаться, – ответил Петр.
Он взял полотенце и скрылся за ширмой. Тень его, переламываясь и извиваясь, разделась и обмоталась полотенцем. Затем полуголый Петр вышел из-за ширмы, включил душ. Дожидаясь горячей воды, над раковиной обрезал ногти, одноразовой щеткой почистил зубы и прополоскал рот, прихлебывая из бумажного стаканчика. Когда кабинка окуталась паром, он повесил полотенце на крючок и встал под душ, из настенного раздатчика набирая мыло в ладонь. Выглядел он беззащитно – гладкие голени, тощая задница.
Ну хоть стало ясно, что он безоружен.
Мокрый Петр вышел из кабинки и обернулся вокруг себя:
– Нормально?
– Так точно.
Петр прошел к микве, залез в воду и побрел к центру бассейна. Потом глянул на Джейкоба, набрал воздуха и нырнул, став бледным пятном под водной рябью.
Обошелся без пояснений, отметил Джейкоб. Типа, вот ритуальный бассейн. Или, скажем: гляньте, волоски не прилипли? Или: пихните, если не весь окунусь. Обрядовый протокол знает лишь тот, кто получил хорошую религиозную натаску. Для него Джейкоб даже не еврей. В Америке Джейкоб – распространенное имя. Встречается у сторонников епископальной церкви, дзэн-буддистов, сайентологов. Или вот агностиков.
Петр вынырнул, пробыв под водой добрых двадцать секунд.
– Ваш черед, – сказал он, тараща покрасневшие глаза.
Джейкоб кое-как ополоснулся и вышел из душа, суетливо прикрываясь полотенцем. Подошел к микве и ногой попробовал воду: ледяная, зараза.
Отбросив полотенце, шагнул в бассейн. Вмиг дыхание пресеклось, мошонка скукожилась, спасаясь от холода, сердце захолонуло, но он заставил себя присесть на корточки.
Холод объял его, точно одеяние, скроенное по мерке.
Не выдержав, Джейкоб выскочил на свет божий, как новорожденный младенец: красный, озябший, разгневанный.
– Как же вы терпите, – проговорил он, выбираясь на бортик.
– Вода поступает прямо из реки, – сказал Петр.
– От этого она не теплее.
Петр усмехнулся и подал ему свежее полотенце.
В синагогах Джейкоб отсидел бессчетные часы. Порой и на женских половинах. Однако столь унылой картины не видел ни разу. Мертвенный свет люминесцентных ламп. Суставы складных стульев навеки скованы ржавчиной. Главный зал еле виден сквозь подслеповатые смотровые оконца.
– Женщины сюда и впрямь ходят? – спросил Джейкоб.
– В основном туристки.
– Не удивительно. Тут как в тюрьме.
– Вы очень циничны, детектив Лев.
– Такая работа.
– Здесь это не поможет.
Отдернув фиолетовую штору, Петр открыл дверь в каморку размером с телефонную будку.
– Дверь не запирается?
– Сюда вход запрещен.
– А вдруг кто-нибудь уступит искушению.
– Оттого-то проход через женскую половину. – Включив фонарик, Петр шагнул в каморку.
– Говорят, женщины менее устойчивы к соблазну. – В тесноте Джейкоба обдавало чужим жаром и речным запахом. – Возьмите Адама и Еву.
– Может, так оно было первоначально. – Петр задернул штору, закрыл дверь и направил луч фонарика на веревочную петлю, свисавшую с низкого потолка. – Посторонитесь.
Джейкоб едва успел прижаться к стене, прежде чем охранник дернул петлю.
Открылся люк и выскочила лестница, подняв тучу пыли, вмиг облепившей мокрые волосы. Джейкоб закашлялся и попытался разогнать пылевую завесу, щипавшую глаза. В потолке просматривалась шахта – почти как элеваторное нутро, только много уже. Туда уходила лестница, видимая футов на десять, – дальше слабый фонарик не справлялся с темнотой.
Петр поставил ногу на нижнюю перекладину:
– Лезем.
Скрипела и тряслась лестница, дождем сыпалась труха. Джейкоб моментально запыхался и вспотел. Он и не помнил, когда последний раз занимался подобной физкультурой. Кажется, в академии. А потом – слишком много выпивки. Избыток хот-догов. Конторская крыса.
Однако он всегда считал себя здоровым (телом, если не духом) и не рассчитывал так быстро сдохнуть.
Скачущий луч высвечивал заросли паутины, торчавшие гвозди и шматки пыли, но иногда вдруг прыгал вниз, и тогда Джейкоб, на миг ослепнув, искал следующую перекладину ощупью. Он припомнил чердачную дверь, как она виделась с улицы. Уровень третьего этажа. Уже пора бы добраться до чердака, но Петр, неумолимый, как вера, вслед за лучом резво взбирался все выше, что-то мыча под нос.
Вконец задохнувшись, Джейкоб попросил умерить прыть.
– Вы прекрасно справляетесь, детектив.
Однако самочувствие было отнюдь не прекрасным. Ноги ломило, руки ослабли, будто поднялся на целую милю. Опаляло жаром: сердечный приступ, панический приступ, а то и оба разом.
– Сколько еще? – прохрипел Джейкоб.
С неизмеримой высоты донесся ответ:
– Уже недалеко.
Фонарик погас, и Джейкоб погрузился в непроглядную, как смерть, черноту.
Отдуваясь, он уцепился локтем за перекладину, выудил из кармана мобильник и, сжав его в потной руке, продолжил подъем. Синеватый свет, одолевавший не больше фута пыльной тьмы, гас через каждые десять секунд. Джейкоб его оживлял, поглядывая на экран. Связи не было.
6.13. До субботы уже не вернуться.
А Петр взбирался все выше.
Дабы унять тревогу, Джейкоб начал считать перекладины: тридцать, пятьдесят, сто. Фонарик погас, но мычанье Петра еще слышалось; ухало сердце, каждый шаг – изуверство. Джейкоб снова взглянул на экран: время не изменилось; наверное, отсутствие связи сбило настройки, сказал он себе, хотя прекрасно знал, что часы не зависят от спутникового сигнала, – тогда, наверное, виновата пыль, особая пыль, токсичная, она набилась в корпус, и телефон завис, иначе никак не объяснить, что пройдено еще шестьдесят перекладин, а часы по-прежнему показывают 6:13, и еще, и еще, а потом экран погас бесповоротно – либо села батарея, либо пыль так сгустилась, что ничего не увидишь, даже уткнувшись носом в телефон. Джейкоб потерял счет перекладинам. Мычанье тоже смолкло. Джейкоб крикнул, но глухой отзвук известил: раз он не слышит Петра, значит, ни Петр, ни кто другой не слышит его. Всё. Наверх не залезть, обратно не спуститься. Он один. Единственный выход – разжать пальцы и рухнуть в пропасть.
Всхлипнув, Джейкоб ухватился за следующую перекладину.
Во вселенной открылась сияющая брешь. Запел тягучий оранжевый свет.
Пыль соткалась в ткань, ткань свернулась теплым влажным тоннелем, тоннель всосал Джейкоба, и чем ближе, тем шире брешь, потоком хлынул свет, а с ним голоса.
Он тянулся к ним и рвался, задыхаясь, и голова его распадалась, и раскалывалась, и корежилась, и множились голоса: сорок пять, семьдесят один, двести тридцать один, шестьсот тринадцать, восемнадцать тысяч, тысяча тысяч голосов, каждый неповторим, и удивителен, и странен; свет распахнулся океаном, грозный гудящий хор, и голоса накатили, двенадцать на тридцать, и еще на тридцать, и на тридцать, и на тридцать, и снова, и снова на тридцать и на триста шестьдесят пять тысяч мириад – шорох бесчисленных крыл…
– Вы явились, Джейкоб Лев.
Джейкоб лежал навзничь, руки-ноги не чувствовались, в груди бухало.
В глазах мутно, словно только что родился. Над ним склонился Петр. Ни один волосок не выбился. Рубашка без единой морщинки.
– Как вы себя чувствуете?
– Нафер… – Язык не слушался. – Наверное… се… сеодня… про… проущу… спортзал.
Петр усмехнулся и, потрепав по плечу, усадил Джейкоба:
– Вы молодец.
В висках зашумело, теперь перед глазами закачалась золотисто-зеленая пелена, и какой-то миг он сквозь зеленую призму взирал на буйный сад: изумрудная трава пробивалась сквозь половицы, набухший спорами папоротник захватил стропила, вились в мареве лозы, орхидеи роняли росу, расползался лишайник. Пышная и душная природа, в рвении своем страстная, до того подлинная, что ноздри взаправду наполнил пьянящий аромат гниения и возрождения.
Потом сознание сжалось, как натруженная мышца, зелень в глазах рассеялась, сад застыл и померк, соблазнительные формы превратились в источенные жучком балки.
– Встать сможете?
– Попробую.
– Ну давайте, потихоньку.
Неуклюже потоптались. Джейкоб оперся на коротышку в годах.
– Ну, отпускаю. Готовы? Точно? Шажок, другой… Молодчина, молодчина.
Длинная неотделанная мансарда без окон, заваленная поразительными грудами всякой рухляди.
Головокружение еще не прошло, покачивало. Керосиновая лампа на крюке служила ненадежным буфером тьме, что сочилась сквозь трещины, расползалась в пустотах, заволакивала скошенный потолок.
– Ну как вы? Лучше?
– Угу.
– Может, присядете?
– Все нормально.
Петр взирал скептически. Что ж, возразить нечего: у Джейкоба все крохи воли уходят на то, чтобы стоять ровно. Лицо и шея полыхают огнем, влажная рубашка колышется от невидимого ветерка. Он явно переоценил свою спортивную форму. А может, заболел. Натурально заболел. Пыль. Адская аллергия.
Аллергия воздействует на зрение? Вызывает галлюцинации?
Видимо, сказались недолгая абстиненция, смена поясов и недосып, плюс обезвоживание. Любое из этих объяснений бесконечно лучше внезапного психоза.
– Ну смотрите, – сказал Петр. – Теперь послушайте меня внимательно. Если вдруг придут странные мысли, сразу дайте знать.
– В каком смысле – странные?
– В любом. Например, неудержимо захочется что-нибудь сделать. – Петр снял лампу с крюка. – Держитесь рядом, тут легко заблудиться.
В лабиринтах хлама лампа выхватывала очертания предметов, ронявших причудливые тени, которые ежесекундно менялись, отчего пустота вдруг оборачивалась твердой поверхностью, и наоборот. От мазков света осязаемо маслянистая темнота съеживалась, точно жир от мыльной капли, и в последнюю секунду Джейкоб замечал ненадежную половицу, провисшую доску, строительный мусор или прогнувшуюся водопроводную трубу на уровне головы.
И снова пыль. Правда, меньше, чем в шахте. Она липла к коже и, смешавшись с потом, запекалась трескучей глинистой коркой. Однако легкие не бунтовали.
Надо сказать, дышалось легко. Как никогда.
– Вот уж, поди, задачка втащить сюда пылесос.
– Не понял?
– Прибираться. По пятницам.
– Я сказал: присматривать.
– Есть разница?
– Конечно. Два совершенно разных слова.
Пылесос тут был бесполезен – с работой, пожалуй, справилась бы паяльная лампа. Главным образом здесь теснились книжные шкафы, под завязку набитые пергаментными свитками в водянистых разводах, изъеденные молью талесы; молитвенники в ящиках – словно конфетти; этакая гениза, хранилище пришедшей в негодность ритуальной утвари, которую нельзя уничтожить – кощунство. Но были тут и другие вещи: ободранные чемоданы, поломанная мебель, горы башмаков в мышином помете.
Восемь веков как-никак, еще бы не скопился хлам.
К Джейкобу вернулось равновесие, а с ним и отчуждение:
– Вам не приходила мысль устроить распродажу?
– Все самое ценное уже продано, – усмехнулся Петр. – Остались вещи послевоенной поры.
– Можно я сфотографирую? Мой отец большой поклонник Махараля.
Охранник вскинул бровь:
– Вот как?
– Можно сказать, фанат.
– Не знал, что у раввинов бывают поклонники.
– Бывают, среди других раввинов.
– А. Прошу.
Джейкоб достал камеру. Он сам не знал, зачем ему фотографии. Разве что Сэм получит доказательства визита сына на чердак – если снимки мусора могут что-то доказать.
– А что здесь было такого ценного? – спросил Джейкоб.
– Старые книги, рукописи. Еще письмо – единственный уцелевший автограф Махараля.
Джейкоб присвистнул:
– Серьезно?
– Да, – кивнул Петр. – Вот его бы сфотографировать для вашего отца, Джейкоб Лев.
– Наверное, оно в каком-нибудь государственном музее.
– К сожалению, нет. Письмо заполучил Бодлей.
Сердце скакнуло.
– Бодлианская библиотека.
– Да.
– В Оксфорде.
– Если нет другой, мне не известной. Что-то не так, Джейкоб Лев?
– Нет… ничего.
В молчании продирались дальше сквозь мусорную чащу. «Стоит сказать, что Оксфорд – альма-матер Реджи Череца? – раздумывал Джейкоб. – Вообще, это важно или нет?»
Петр перебил его мысли:
– Многие захваченные города нацисты сровняли с землей. Коммунисты тоже. Но Прагу не тронули. Знаете почему?
– Гитлер хотел превратить гетто в музей мертвой культуры. У коммунистов не было денег на уничтожение города.
– Это историки так говорят. Но есть и другая причина. Они боялись потревожить землю. Даже эти злодеи понимали, что погребенное здесь не стоит тревожить.
– Хм.
– Вы не верите, – сказал Петр. – Ладно. Яир тоже не верит.
– Я не совсем понимаю, во что я должен поверить.
Петр не ответил.
– Как письмо оказалось в Англии? – спросил Джейкоб.
– Тогдашний главный раввин отправил его на хранение вместе с рукописями. Провидческое решение, как выяснилось, потому что вскоре был погром: все что можно из синагоги выволокли и сожгли. – Петр протиснулся мимо разломанной кафедры. – Этот ребе, Давид Оппенхаймер, по крови немец, был заядлым книголюбом. Заняв здешнюю должность, в Ганновере он оставил на попечение тестя огромную библиотеку. После их смерти ганноверское и пражское собрания, включая письмо Махараля, объединили. Коллекция сменила нескольких хозяев, потом ее купила Бодлианская библиотека.
– Как-то жалко, что она далеко от родины.
– Честно говоря, так лучше, Джейкоб Лев. Это бесценные исторические документы. Мы бы не смогли заботиться о них как полагается. Одна страховка вдесятеро превышает наш годовой бюджет. Хотя, конечно, было бы неплохо на них взглянуть.
– Билет до Гатвика недорог. Тридцать фунтов. Я вот себе забронировал.
– Да, только я никогда не покидал Прагу.
– Что так?
– Раньше в капстраны не выпускали, потом я взялся охранять синагогу.
– Но выходные-то у вас бывают? Яир наверняка удержит форт.
Петр отодвинул трюмо – серебро облезло до оловянной основы.
– Добрались, – сказал он.
Расчищенный от мусора неширокий проход вдоль восточной стены подвел к двери, закрытой на железный засов. Уличный свет обрисовывал ее арочную форму.
– Можно? – спросил Джейкоб.
– Ну, раз надо, – помешкав, ответил Петр.
Джейкоб приналег на щеколду, неподатливую, да еще заржавленную. Дверь отворилась, проблеяв овцой. В глаза ударил ослепительный свет, окатило волной вечерней прохлады. Ухватившись за косяк, Джейкоб выглянул наружу.
– Осторожнее, – сказал Петр.
Джейкоб глянул вниз.
Пожарная лестница.
Булыжная мостовая.
Сток.
На Парижской улице – вереницы прохожих в розовой закатной подсветке: покупатели, влюбленные парочки и дочерна загоревшие отпускники, не ведающие, что с высоты за ними наблюдает око. Вспомнилось, как утром они с Яном стояли во дворе, а мимо прошагал человек с телефоном, их не заметивший.
Здесь ты будто невидимка.
Джейкоб качнулся, опьяненный свежим воздухом.
– Детектив, – окликнул Петр. – Осторожнее.
– Какая тут высота?
– Тридцать девять футов.
– И снаружи дверь не откроешь.
– Нет. Ну хватит, отойдите.
Но Джейкоб еще больше высунулся, упиваясь чудесной сладостью, что звала нырнуть в нее…
Он не упадет.
Он поплывет.
Он выпустил косяк.
Невероятной силы рука схватила его за шкирку, втянула внутрь и, шмякнув об стену, к ней пригвоздила.
– Стоять, Джейкоб. Пожалуйста.
Выпустив его, Петр быстро захлопнул и запер дверь на засов.
Джейкоб замер, потом сполз по стене; от внезапной темноты заломило глаза. Неудержимое желание выпрыгнуть угасло, его сменили страх, униженность и смятение. Еще чуть-чуть – и он бы подчинился зову. Джейкоб содрогнулся и закусил ноготь. Мысленным взором он видел, как навстречу несется булыжная мостовая.
Петр присел перед ним на корточки:
– Что случилось?
А как ты, блин, думаешь? У меня крыша поехала.
Джейкоб помотал головой.
– Джейкоб. Пожалуйста, скажите, о чем вы подумали?
– Не знаю. Не понимаю, что на меня нашло. Просто я… не знаю.
– О чем вы подумали?
– Ни о чем. – Усилием воли Джейкоб пытался сдержать озноб. – Все в порядке. Наверное, усталость… я стоял там и…
– И что?
– И ничего. Я оскользнулся, ясно? Руки потные. Сейчас все хорошо, спасибо. Извините. Спасибо. Я правда не знаю, что на меня нашло.
– Вы не виноваты. – Петр печально улыбнулся. – Это место действует непредсказуемо. Теперь мы знаем, как оно действует на вас.
Джейкоб подавил новый приступ дрожи. Черта с два он поддастся какому-то месту. Отвергнув помощь, Джейкоб встал, ухватившись за неструганую балку.
– Я так понимаю, вы увидели все, что хотели, – сказал Петр.
– Ну, если только покажете, где прячете голема.
Ответная улыбка была отражением его собственной кислой ухмылки.
– Приготовьтесь к разочарованию, – сказал Петр.
Свернув, расчищенная тропа закончилась перед прямоугольной громадиной, замершей в тени.
Десять футов высотой, толщиной как два человека, она покоилась под заплесневелым саваном, туго перехваченным веревками. Домовина великана.
Поставив лампу на пол, Петр стал развязывать бечевки. Одна за другой они свалились, и наконец он сдернул покрывало; одним шумным выдохом из Джейкоба вытекло напряжение, и лишь тогда он заметил, что затаил дыхание, что мозг съежился в ожидании чудища, которое все на своем пути сокрушит, окрашивая ужасом.
Джейкоб рассмеялся.
– Вы ожидали чего-то другого.
– По правде, да.
На колченогих лапах раскорячился грубо сработанный нелакированный шкаф – достояние блошиного рынка. Одной дверцы не было; внутри глубокие полки, усеянные странными мелкими дырками. Боковины и задняя стенка тоже дырявые.
Казалось, шкаф пуст. Джейкоб подошел ближе и на средней полке разглядел глиняные осколки толщиной с облатку. Теперь он понял, что перед ним сушилка, – такая же, только современнее, стояла у матери в гараже. Он уже хотел спросить, как эта штуковина оказалась на чердаке синагоги, но Петр показал на осколки:
– Вот.
– Что? – не понял Джейкоб.
Вместо ответа Петр отколупнул и положил кусочек глины ему на ладонь. Осколок казался невесомым, а на свет был почти прозрачным.
– Говорю же, приготовьтесь к разочарованию, – сказал охранник.
Джейкоб недоуменно разглядывал осколок.
– Пожалуй, вот что вас заинтересует.
Подставив ящик, Петр пошарил на верхней полке, достал обвязанный бечевкой черный матерчатый сверток размером с гранат и подал его Джейкобу, забрав осколок.
Сверток оказался неожиданно тяжелым, словно маленькое пушечное ядро. Джейкоб распустил бечевку, развернул ткань. Глазам предстал серый керамический сфероид в черно-зеленых крапинах. Прохладный, но в руках быстро согревался.
Голова; человеческая голова искусной лепки. Тонко проработаны иглистые пряди бороды, острые скулы, благородный высокий лоб, глубокие скобки морщин у рта и глаза, сощуренные от ослепительного света.
– Это Махараль, – сказал Петр.
– Правда? – Джейкоб старался совладать с голосом.
В голове билась истина – буйная, оглушительная.
Мамина работа.
Голова отца.
Под покровом ночи она обходит зловеще кривые улочки гетто.
Даже в столь поздний час тишине здесь никак не прижиться. В полуночное стенание вклиниваются обрывки песен. Хлопают ставни. Звенит разбитое стекло. Мокрые крыши через улицу тянутся друг к другу, точно пьяные целуются, роняя слюну с карнизов. Дождевые струи лупят вверх и вниз, вкривь и вкось, башмаки насквозь промокли. То глухо, то звонко капли барабанят по гниющему дереву и ржавеющей жести, извести и коже, навозу, перьям и прочей дряни.
Прага.
Ее дом.
Здесь нет секретов. Грязные кособокие жилища так скучились, что в одном доме отвечают на вопрос, заданный в другом. Уже на второй день, когда она маленько очухалась, все, от большого воротилы до скромной кухарки, знали о немом дурачке, найденном в лесу.
Поначалу ярлык недоумка ее оскорблял, но потом она поняла: это защита, приютившая ее в пантеоне убогих и чудиков, где уже числились Гиндель, сухорукая дочь старьевщика, и Сендер, за всеми всё повторявший как попугай, и подмастерье сапожника Аарон, наполовину рыжий, наполовину брюнет.
Нынче дурачка поминали, лишь превознося милосердие ребе и ребецин, в этаком возрасте усыновивших сироту.
Исполин Янкель с его застывшей миной и колченогой походкой стал местной достопримечательностью и был невероятно любим ребятней, обожавшей его дразнить.
Не поймаешь, не поймаешь!
Наигрывая неповоротливость, она замахивалась кулаком величиной с пень, и ребятишки, вереща и хохоча, бросались врассыпную. Изображая неуклюжесть, она плюхалась на задницу, а потом вдруг вскакивала, как черт из табакерки, и ловко, но очень, очень осторожно цапала баловников, и в ее лапищах горячие тельца трепетали от восторженного ужаса.
Отпусти!
В такие минуты память, подстегнутая шаловливой мордашкой, детским голосом, праздной минутой, маняще сверкает ярким осколком. И тогда она понимает, что это не первый оборот колеса. Были другие времена, другие люди, другие места.
Всплывают имена, мучительные своей бессмысленностью. Далаль. Левкос. Вангди. Филлипус. Бей-Ньянту. Все не лучше и не хуже Янкеля.
Мужские имена под стать ее мужскому телу.
Красноречивее всякого воспоминания – его горький осадок. Она сознает, что безобразна, унижена и беспомощна. Значит, некогда была красива, горделива и свободна.
Нынешнее бытие ей претит, но она понимает, что все могло быть гораздо хуже, чем жизнь с ребе и Перел. Она прочно вошла в их быт, и порой кажется, что без нее всё в доме на Хелигассе остановится. Конечно, это не так. Супруги великолепно жили до нее и, если что, великолепно проживут без нее. Их зависимость от нее – простая любезность; всякому нужно чувствовать свою нужность.
Очень непохожие, супруги по-разному с ней общаются. Перел созидает: одежду, халы, что угодно. Забот у ребецин не счесть, и все ее поручения хозяйственного толка: отнести тяжелый узел с бельем, с высокой полки снять корзину. Набрать воды – одно ведро, не больше.
А вот ребе не умеет гвоздя забить. И, бывает, просит ее сходить в дом учения за книгой, которую уже держит на коленях.
Их единение возносит обоих к новым высотам, их супружество – воплощение любимой темы ребе: разрушение ложных преград между материальным и духовным миром.
Каждый день после обеда супруги уединяются в кабинете ребе, дабы поразмыслить над Талмудом. В эти священные полчаса Янкелю предписано охранять их покой. Она стоит под дверью, прислушиваясь к их божественной перепалке. Их любовь друг к другу перехлестывает через порог, плещется у ее затекших ног теплым озерцом.
Звяканье ключей, фальшивое насвистывание – сторож Хаим Вихс запер синагогу и спешит домой.
– Шалом алейхем, Янкель.
Ответа он не ждет и, ежась под ветром, торопливо шагает – скорее к теплому очагу. Она тоже зябко кутается в накидку – мол, да-да, ужасная холодрыга.
Подобное актерство требует ежедневной практики. Она стала кладезем всяких ужимок: наматывает пряди на палец – не мешайте, я думаю; безвольно роняет плечи – ах, как я устала. Конечно, лучше всех она знает Лёвов: у ребе дрожит голос, когда он называет ее «сынок», а Перел косит зелеными глазами, вспоминая покойную дочь Лею.
Иногда свои пантомимы она исполняет без зрителей, чтобы хоть немного почувствовать себя человеком. Может, со временем душа (если в этой бочкообразной груди не одна пустота) образумится. Она уже немного научилась управлять своим отвратительным телом, но все еще, к бесконечной своей досаде, страдает приступами буквализма.
На днях Перел попросила принести глины с реки. Разумное существо набрало бы ведро или короб, а она притаранила и вывалила посреди двора огромную мокрую кучу, ощетинившуюся корешками. Черные жуки выглянули из этой горы и, ошалев от пропасти воздуха, в панике нырнули обратно.
Ой гевалът! Я же просила глину с берега, а не весь берег. Этого хватит на целый год… Ладно, ничего. Убери в сарай, пожалуйста.
Давеча она заметила, что уже не поправляет мысленно тех, кто зовет ее Янкелем. И даже поймала себя на том, что и сама так себя называет. Стало гадко и легко.
Обретение своего «я» было бы великой радостью, избавлением от бремени. Вот бы отбросить мучительные всплески обветшалых воспоминаний о былой красоте и принять себя такой, какой видят ее другие.
Но затем она вспоминает свои прежние «я». Все они не зажились. А это «я» чем лучше?
Прошлой весной, за неделю до Песаха, она совершала свой ночной обход и за пекарней Жика углядела вязкое серое зарево. Наверное, решила она, пекарь жертвует сном, дабы на весь праздник обеспечить жителей мацой.
Но потом расслышала сдавленную брань, и шевеленье, и к тому же мыши кинулись наутек из проулка.
Зарево было каким-то холодным – не освещало, а удушало. Мыши в него не совались, обегая по краю.
Завороженная, она подошла ближе; не ступая в это зарево, посмотрела, откуда оно течет.
Человек.
В крестьянской одежде. Прячет детский трупик в кучу мусора. У младенца вспорот живот.
Серый свет обтекал человека по контуру тусклой зыбкой аурой, и она марала все, чего он касался.
Он не заметил, что за ним наблюдают. Как ни странно, громадность ее помогает ей стать неприметной. Она как выступ здания, как бесстыдная ложь, в своей наглости нераспознаваемая.
Кроме того, человек был увлечен делом: укрыл ноги трупа черепками битой посуды, затем передумал и сгреб их к голове. Аура его то и дело менялась: темнела до слякотного оттенка, когда он грубо пихал маленького мертвеца, затем вновь становилась серой дымкой – ее, похоже, естественный цвет.
Человек так подгреб мусор, чтобы одна пухлая ручка торчала из кучи, будто свеча. Конечно, к рассвету крысы ее обглодают. Конечно, все будет выглядеть так, будто тело спрятали, но его раскопали грызуны. Конечно, случайный прохожий, который, конечно, окажется гоем, его углядит. Конечно, пекаря допросят (чем это он занимался ночь напролет?), но, конечно, ответы его будут совершенно не важны, ибо он заранее признан виновным.
В ней сгустилась древняя ярость.
Наконец человек, довольный результатом, выпрямился и воротником рубашки промокнул взмокший загривок. Хотел уйти, но врезался в нее, стоявшую стеной посреди проулка, и придушенно вскрикнул, распластавшись по ней, точно узорчатая жилка в мраморе.
Она подождала, неподвижная, как каменный столб.
Человек выпучился на нее, потом оглянулся на мусорную кучу, будто надеясь, что труп исчез. Но маленькая рука торчала из мусора.
Эй, найдите меня.
Уж он постарался.
– Меня заставили, – сказал человек.
Она ему верила. Он не настоящий злодей. Слишком слабая аура.
Кто заставил?
Конечно, она не могла спросить.
Конечно, он бросился бежать.
Руки ее сомкнулись на его мягком животе. Она поднесла его к лицу – так близко, что они чуть не стукнулись носами, – и сжала пальцы, выдавливая из него кровь. Человек сблевал и засипел, точно сломанные мехи; ноги его растопырились, руки вздулись, словно брюхо хворого зверя, лицо побагровело, и на лбу белым зигзагом взбух шрам, который породил водопад образов, извергавшийся снизу вверх:
полоса раскаленного песка, убегающая вдаль
порыв бесноватого ветра
башня город мальчик пес
И еще быстрее:
долина земля лед сад
Человек уже посинел, шея его раздулась, став толще головы, в выпученных глазах тысячами расцветающих маков лопались кровеносные сосуды. Он плакал кровью. Кровь текла из ушей и ноздрей. Дымился живот, обуглившийся в хватке ее пальцев.
В жилах ее кипел восторженный гнев.
Губы ее разошлись трещиной.
Она улыбнулась.
Потом улыбка ее стала шире, напоследок она еще разок лениво стиснула пальцы и, надвое разорвав человека, бросила запечатанные, как бурдюк, половинки в мусорную кучу.
Аура исчезла, а вместе с ней и мелькание картин в ее сознании.
Она вновь сдавила разорванный труп, тщетно пытаясь раздуть огонь живительной ненависти.
Слишком поздно. Человек мертв, она лишь распотрошила мертвеца, измарала руки в его требухе.
Завернув оба трупа в накидку, она пошла к реке. Ребенка похоронила на берегу и мысленно прочла над ним поминальную молитву, подслушанную у ребе. Останки убийцы швырнула в реку. Половинки вынырнули и поплыли по течению, а она осталась в одиночестве размышлять об истине, равно пронзительной и смутной, радостной и ужасной.
На один блистательный миг она приблизилась к откровению, и ее настоящее имя готово было сорваться с бесполезного языка.
На одно мгновенье она стала прекрасной, нужной, естественной.
В ту секунду она была собой, настоящей, всегдашней.
Спасительницей.
Убийцей.
Это было почти ровно год назад.
Сейчас она стоит в дверях мясной лавки Петшека, ее заинтересовала бесполая фигура в капюшоне, которая со свертком под мышкой опасливо поспешает по Лангегассе.
Немного выждав, она пускается вдогонку.
Слежка в гетто требует искусности. Здесь из ниоткуда возникают проулки. Ныряют лестницы. Отвлекают тупики. Она перешагивает через тележки с заплесневелым картофелем. Надвигающаяся гроза ерничает – награждает ее аплодисментами, громыхая кровельным железом. Обитатели гетто давно к ней привыкли, даже полюбили, а вот домашнее зверье паникой возвещает ее приближение. Она еще не показалась из-за угла, а в стойлах лошади уже ржут и бьют копытами, куры закатывают истерику, собаки воют, а кошки и крысы пускаются в бега, временно забыв о вражде.
Они ее чуют. Они ее знают.
Неизвестная фигура шагает резво и не задумываясь сворачивает в проулки. Кто-нибудь местный? Не в такую погоду. Не в полночь. Ради общественной безопасности ребе повелел: с наступлением темноты всем, кроме синагогального сторожа, лекаря и Янкеля, сидеть по домам. Вихс только что прошел к себе на квартиру. И это не лекарь. Лекарь не расстается с саквояжем и носит колокольчик на шее, дабы уведомить ее о своем приближении.
Еврейский наряд фигуры еще ни о чем не говорит.
Прошлогодний душегуб тоже был одет как еврей.
По Цигенгассе, через Большую торговую площадь, к реке.
Снова кто-то желает избавиться от постыдной тайны?
Сверток-то размером с детское тельце.
Или, скажем, с хлебную буханку – кому-то вздумалось первым очистить кладовую к Песаху.
Середь ночи?
Фигура сворачивает на широкую Рабинергассе, приходится немного отстать. Через полминуты она выходит из-за угла, но фигура исчезла.
Она идет по следам, еле видимым в проливном дожде. Следы загибают к Староновой и перед входом превращаются в грязные потеки на камне: незнакомец вытер ноги.
Дверь в синагогу закрыта, замок не взломан, хотя с ним справится любой опытный вор. Прежде, до Янкеля, дом собраний не знал покоя от разбойной чумы. Вандалы глумились над свитками Торы, крали и портили синагогальную утварь.
Она дергает дверь.
Не заперто.
Ключ есть только у ребе и сторожа, но оба давно почивают. По крайней мере, должны бы. Может, ребе захотел на часок-другой уединиться? Нет. Фигура гораздо ниже ростом. И потом, ребе не нарушит собственный указ. Он – пример другим.
Она встряхивает мокрую накидку и входит в синагогу.
Внутри идеальный порядок, ни соринки, ни пылинки – Вихс расстарался. Песах, учит ребе, праздник очищения и возрождения. Перед Песахом каждый ремесленник заглянул в синагогу, и теперь всё, что нужно, подпилено, отшлифовано, надраено. Проверено, нет ли мышей в Ковчеге, выстиран закоптившийся занавес. Перел лично подновила покрывало бимы, добавив цветочные узоры в вышивку.
У Песаха есть и другая особенность. В эту пору ненавистники мстят евреям за вымышленные преступления.
Она прислушивается к бушующей грозе.
Каменные стены теплятся светом нер тамида, на всю ночь заправленного маслом.
Однако: в оконцах на женскую половину пульсирует серость.
Мерзкая, будоражащая.
Знакомый цвет.
Присев, она заглядывает в оконце. Свет сочится в щель под дверью в восточной стене комнаты. Глупо, но прежде она этой двери не замечала и не знает, что за ней, хотя трижды в день посещает службы – стоит столбом в специально изготовленных тфилин (писец Иоси жаловался ребе, что истратил целый опоек), однако на женскую половину никогда не заходит.
С какой стати? Она же мужчина. Ей самое место среди мужиков.
Если б они знали, кто она на самом деле…
Слышен отдаленный шорох, перемежаемый буханьем, – словно колымага подпрыгивает на разъезженной мостовой.
Свет пульсирует шуму в такт.
Коридором она проходит на женскую половину и останавливается, разглядывая свечение. Каждый новый световой всплеск ярче, а каждое угасание темнее предыдущего. Теперь видно, что свет скорее серебристый, нежели серый, – холодный, мертвенный, красивый.
шшшшшБУМшшшшшБУМшшшшшБУМшшшшшБУМ
И не вспомнить, когда последний раз ей было страшно.
Даже как-то приятно.
Она минует женскую половину и открывает неведомую дверь.
Серебро разбухает, облепляет ее, точно мокрая шерсть.
Каморка длиной и шириной в четыре локтя, не больше; клубится пыль. Пополам согнувшись, она пролезает в призывно зияющую тесноту и ставит ногу на нижнюю перекладину лестницы, уходящей в потолочный люк.
шшшшшБУМшшшшшБУМшшшшшБУМшшшшшБУМ
Проверяет, не сломается ли перекладина под ее весом. Но та выдерживает, следующая тоже, и в три приема она одолевает лестницу.
Комната с косым потолком залита серебристым светом, а посреди холодного адского свечения, что насквозь пропитало шипящий и бухающий воздух, еле различима человеческая фигура.
шшшшшБУМшшшшшБУМшшшшшБУМшшшшшБУМ
Ритм взывает к инстинктам, велит убивать.
Неважно, кто это, неважно, чем он занят, надо положить этому конец.
Она делает шаг вперед.
Вернее, пытается.
Свет ее отбрасывает.
Что такое? Она привыкла, что сила ее безмерна. Она снова делает шаг, но свет коробится, рычит и крепко шмякает ее о стену.
Фигура испуганно оборачивается, аура ее тотчас меркнет, являя взору низкий трехногий табурет и развернутую мешковину, на которой лежит та самая ужасная ноша – кучка речной глины.
А на столе источник шума – деревянный гончарный круг с незаконченной работой.
Круг замедляет свой бег.
Аура все меркнет.
Жажда крови гаснет.
В полминуты все замирает, горит лишь маленькая лампа, но фигура отчетливо видна.
Длинная шерстяная юбка. Платок сброшен на плечи, венчик темных кудрей. Рукава до локтей закатаны. Тонкие предплечья в грязных разводах. Изящные руки облеплены глиной и кажутся огромными. Покорность в зеленых глазах.
– Хорошо, что ты безъязыкий, – говорит Перел.
Почти идеальное сходство. Лицо любимого человека, который поцеловал его, благословил. Лицо человека, который умер четыреста лет назад.
– Как это сюда попало? – спросил Джейкоб.
– Всегда было здесь, – сказал Петр Вихс.
– Но откуда взялось? Кто это сделал?
– Никто не ведает, Джейкоб Лев.
– Тогда как вы узнали, что это Махараль?
– А как мы всё узнаем? Рассказываем детям, а те – своим детям. Мои дед и отец работали в синагоге. Я вырос на историях, которые передают из поколения в поколение.
– На мифах.
– Называйте как угодно.
Сводило пальцы: Джейкоб так стиснул керамическую голову, будто хотел ее раскрошить. Разжал хватку – на ладони остались красные вмятины.
– Можно вас попросить чуток отойти? – сказал он.
Петр отступил.
Коротышка, каким и помнился. Но на собственную память Джейкоб уже не полагался.
– Вы из этих?
– Каких – этих?
– Особый отдел.
– Впервые слышу, – сказал Петр.
– Полицейское подразделение.
– Я не полицейский, Джейкоб Лев. Мое дело – стоять на страже.
Джейкоб взглянул на керамическое лицо. Очень живое, оно, казалось, вот-вот заговорит голосом Сэма.
Нельзя. Я не разрешаю. Я запрещаю тебе.
Нельзя так поступать со мной.
Ты меня бросаешь.
– Почему вы пустили меня на чердак?
– Вы попросились.
– Наверняка многие просятся.
– Не все они полицейские.
– А кто?
– Туристы, – усмехнулся Петр.
– Лейтенанта Хрпу сюда приводили?
Охранник покачал головой.
– Тогда кого?
– Боюсь, я не вполне вас понимаю, детектив.
– Вы сказали, это место на всех по-разному действует. На кого еще оно подействовало?
– Это древний чердак, Джейкоб Лев. Я не могу утверждать, будто знаю обо всем, что тут происходило. Знаю только, что одни обретают здесь радость и покой. Другие ожесточаются. Кое-кто не выдерживает и сходит с ума. Но здесь все меняются.
– А я? Что произошло со мной?
– Я не умею читать мысли, детектив.
Дикий смех:
– И на том спасибо!
– Пожалуй, нам пора возвращаться, Джейкоб Лев.
Петр забрал голову и стал ее заворачивать.
– Почему вы все время так меня называете?
– Как?
– Джейкоб Лев.
– Так вас зовут, верно? – Петр влез на табурет и положил сверток на верхнюю полку. – Кажется, на иврите ваше имя означает «сердце». Лев.
– Я знаю, что оно означает, – сказал Джейкоб.
– А, – сказал Петр. – Тогда мне больше нечего вам предложить.
Спустились быстро – не дольше, чем по обычной недлинной лестнице. Руки-ноги слушались, дышалось легко. А как мозги? Это другой разговор.
Едва Петр задернул фиолетовую штору, в комнату вошла женщина лет сорока, в скромном темном платье, с молитвенником под мышкой.
– Доброй субботы, ребецин Зиссман, – сказал охранник.
– Доброй субботы, Петр.
– Доброй субботы, – сказал Джейкоб.
Женщина взглянула на его непокрытую голову в пыльной корке и хмыкнула.
У дверей зала их встретил вопросительный взгляд бородатого человека в меховой шапке и черном атласном балахоне. Петр поздоровался с ним на чешском, а затем Джейкоб уловил свое имя.
– Ребе Зиссман извиняется за свой плохой английский и приглашает вас на службу.
– Как-нибудь в другой раз. Но все равно спасибо. Доброй субботы.
Ребе вздохнул и, покачав головой, скрылся в зале.
– Молодец, что отказались, – сказал Петр. – Как начнет говорить – вовек не закончит.
На улице Яир сидел на поребрике и читал «Форбс».
– Желаю вам удача найти этот человек. – Он пожал Джейкобу руку.
– Спасибо.
– Иди покури, – сказал Петр.
Яир пожал плечами:
– Слушаюсь, босс.
Он сунул журнал Петру и, отойдя в сторонку, зажег сигарету.
– Какие планы, детектив Лев? – спросил Петр.
– Сгонять в Англию. Разузнать о Реджи Череце.
– Повторюсь, я не полицейский. Но если так говорит ваш внутренний голос, надо прислушаться.
– Внутренний голос подзуживал меня выпрыгнуть с чердака.
Петр улыбнулся:
– Сейчас вы на земле.
Он потрепал Джейкоба по плечу и пошел на свой пост.
Джейкоб посмотрел на часы Еврейской ратуши. Опять не сразу сообразил, который час. Но и мобильник подтвердил: 6.16 вечера.
Перелет в Лондон длился два муторных часа. Весь первый час Джейкоб поглощал самолетную выпивку, а второй – орешками зажевывал амбре. Маскировка удалась, ибо в аэропорту клерк прокатной фирмы безропотно выдал ключи от непритязательного «форда» с правым рулем.
Проливной дождь и левостороннее движение, из-за которого беспрестанно возникал противный холодок, а каждая вторая машина казалась лихачом, выскочившим на встречку, превратили путь до Клегчёрча в сплошную нервотрепку.
На окраинах городка тянулись унылые кварталы муниципального жилья, но главная улица сохранила определенную архитектурную прелесть, хотя в ливневых стоках кружились пластиковые бутылки и упаковки от чипсов. Свои услуги предлагали два заведения: букмекерская контора и соседствовавший с ней паб под названием «Песья выя».
Джейкоб остановился и выключил двигатель. Дождь барабанил по крыше.
Видимо, адреналин прочистил организм, ибо Прага уже казалась этаким сном, плавным временным потоком, что дробился на льдинки, а те плавно разлетались и сглаживались, теряя всякое воспоминание друг о друге.
Джейкоб перечислил причины не доверять себе.
Стресс.
Смена часовых поясов.
Гены.
Отрава, которой он накачивался последние двенадцать лет.
Собственно Прага, четырехмерный горячечный бред.
Сплошь и рядом такое бывает: кто-то на кого-то похож. Обычная статистика: в мире семь с лишним миллиардов человек. Ну и вот. Было бы странно, если б в нем не встречались похожие люди. Откуда бы еще взялась концепция доппельгангеров?[49]
И поверх коржей доводов – крем обобщения: с ним произошло всякое. Всякое странное, но в пределах вероятного. Он поразмыслит о всяком на досуге, а пока пусть оно хорошенько перепреет. Если раскинуть мозгами, от души размахнувшись, всему найдешь рациональное объяснение.
И еще: подспудно он этого ждал. Подсознательно вел обратный отсчет, словно бусины четок перебирал. Слишком долго он отделывался обычной депрессией. Пожалуй, надо послать себе букет. Поздравляю, наконец-то спятил! Уф, даже полегчало, что больше не нужно притворяться хозяином своей судьбы. Вот вернется домой, пойдет к врачу – выговорится, выплачется и завяжет.
Будет бегать трусцой. Правильно питаться. Глотать пилюли. Выздоравливать.
А пока надо сделать дело. Благословенно конкретное дело в унылой благоразумной Англии.
И если для этого надо зайти в бар, он не станет упираться.
Интерьер «Песьей выи» чем-то напоминал чешскую пивную. Однако весельем здесь и не пахло. Компания вислогубых лоботрясов смотрела трансляцию футбольного матча, и их апатия резко контрастировала с наигранной ажитацией комментатора. Женщина с начесом уткнулась в замызганный экран покерного автомата. Воняло хлоркой и горелым маслом.
Джейкоб стряхнул дождевые капли и, сев за стойку, заказал стаут.
Изучив стаканы, бармен выбрал относительно чистый.
Джейкоб подтолкнул десять фунтов:
– Сдачи не надо.
– Спасибо.
Залпом осушив стакан, Джейкоб заказал второй и вновь расплатился десяткой, подарив сдачу. Алкогольная инъекция уняла дорожную нервозность, однако растормошила глубинные тревоги. Часы над стойкой показывали одиннадцать утра. В Калифорнии три часа ночи. Обычно по субботам Сэм не подходит к телефону, но звонок поздний – он может решить, что стряслось несчастье, извиняющее осквернение святого дня.
И что сказать-то?
Знаешь, этот покойный раввин, в котором ты души не чаешь…
В общем, это ты.
Да, пока не забыл: меня преследует жук.
Бармен хотел забрать пустой стакан.
– Повторите, – сказал Джейкоб.
– Сей секунд.
Не прошло и секунды.
– Я кое-кого ищу. – Джейкоб уронил на стойку третью десятку.
– Да ну? – ухмыльнулся бармен, показав огромные зубы.
– Эдвина Череца.
Ухмылка исчезла.
– Знаете его?
Бармена вдруг заинтересовало пятнышко на другом конце стойки.
– Невероятно, просто не верится! – надрывался комментатор.
Джейкоб обратился к аудитории:
– Кто-нибудь знает?
Никто и головы не повернул.
– Двадцатка тому, кто скажет, где найти Эдвина Череца.
Безмолвие.
– Тридцатка.
Покерный автомат взвыл упавшим голосом, извещая клиента о проигрыше.
– Или его сына Реджи, – добавил Джейкоб.
Один болельщик его обматерил.
– Мило. Вот как у вас привечают туристов.
Двое встали и медленно направились к стойке.
– Фантастический удар!
Небритые, поддатые, разбухшие от скверной, но обильной еды. Один в желтой футболке «Оксфорд Юнайтед», другой в заношенной фуфайке.
Встали по бокам.
– Значит, ищешь Черецов? – спросила футболка.
– Ага.
– А на фига?
– Пытаюсь с ними связаться.
– Чё ты виляешь? Ищет, чтобы связаться.
Женщина у игрального автомата вывернула пустой кошелек.
– Я слыхал, они тут живут.
– Да ну?
Джейкоб кивнул.
– Вынужден огорчить, паря, ты ослышался. О Реджи Череде уже давно ни слуху ни духу.
– Сто лет, – подтвердила фуфайка.
– О-о-о-о-о, вот это дриблинг!
– А что его отец?
– Носу не кажет.
– Чего так?
– На кой он тебе сдался?
– Хочу с ним поболтать.
– Значит, вы кореша. – Футболка повернулась к бармену: – Глянь, Рэй. Эдов друган объявился.
– Надо же, – сказал бармен.
– Прикинь, Вик?
– Ваще, – сказала фуфайка.
– Вот уж не думал, что у Эда остались кореша, – поделилась футболка. – Да и у Реджи.
К стойке подтянулись остальные болельщики. Женщина у автомата повязала полиэтиленовую косынку, собрала вещи и вышла.
– Я просто спросил, – сказал Джейкоб.
– И получил ответ. Вали отсюда.
– У меня еще пиво осталось.
Фуфайка передала стакан Джейкоба бармену, который старательно его опорожнил.
– Вот и не осталось, – сказала футболка.
Джейкоб оглядел компанию. Трое других еще здоровее и пьянее. Один весь в слюнях.
– Будьте любезны сдачу, – сказал Джейкоб.
– Чего? – уставился бармен.
– Сдачу.
– Говорил же – не надо.
– Это было до того, как выплеснули мое пиво. Пятерки хватит.
Помедлив, бармен кинул мятую купюру на стойку.
– Спасибо, – сказал Джейкоб. – Удачного дня.
Сопроводив его к двери, футболка наблюдала, как он рысит под дождем и забирается в паршивенькую прокатную машину. Выгнали взашей, как последнего поца. И еще машина никак не заводилась. Вдвойне поц. В конце концов Джейкоб ее раскочегарил и, отъехав с полквартала, глянул в зеркало.
Следом синяя машина.
Безуспешно стараясь разглядеть водителя, он чуть не сбил старика в клеенчатом пончо, который на велосипеде катил по слякотной обочине.
Джейкоб дал газу и стал сворачивать направо и налево, не включая поворотник. Синяя машина не отставала. Он попробовал запустить навигатор на мобильнике, но не хватало рук, занятых баранкой и рукояткой скоростей. Твою же мать, подумал Джейкоб и остановился. Синяя машина повторила его маневр.
Дорога фортепьянной струной разрезала два болотистых поля. На горизонте ферма. Заглохший трактор. И ни души.
Из синей машины вылез водитель.
Женщина, сражавшаяся с покерным автоматом. Ветер срывал с нее прозрачную косынку. Покрепче в нее вцепившись, женщина кинулась к машине Джейкоба, забарабанила в пассажирское окно:
– Да открывайте же.
Перегнувшись к дверце, Джейкоб отщелкнул запор.
Женщина плюхнулась на сиденье, обдав Джейкоба брызгами и запахом помады, табака и хлорвинила.
– Ну и манеры – держать даму под дождем.
– Что вам угодно?
– Ничего. Это вам кое-что угодно.
– Ну?
Она поджала губы:
– Сначала сороковник.
– Я обещал тридцатку.
Женщина улыбнулась, показав все морщины под слоем макияжа:
– Инфляция, что вы хотите.
Джейкоб дал ей двадцать фунтов:
– Остальные потом.
– Ладно. – Женщина сунула деньги в лифчик. – Ваши расспросы о Черецах всем поперек горла.
– Я заметил.
– Реджи девушку укокошил.
– Какую девушку?
– Ее нашли в леске за домом старого Череца.
– Когда это было?
– Лет двадцать пять назад. Бедняжка. Жуть. Звери ее погрызли.
– Значит, Реджи Черец убил девушку, – сказал Джейкоб.
– Лопатой. Она у них служанкой была. Все знают. Но старый Эд тот еще фрукт, не смогли доказать, ля-ля-тополя. Дэнни, тот парень в пабе, он кузен этой Пег.
Двадцать пять лет назад. За год до того, в 1986-м, Реджи получил приз на конкурсе рисунков.
– Бедная миссис Черед, сердце не выдержало. Славная была женщина. Я так думаю, не смогла она жить с этими двумя подонками.
Не прибегая к названиям улиц, но дав ориентиры, женщина объяснила, как проехать к дому Эдвина Череда.
– Не подскажете, как его разговорить? – спросил Джейкоб.
Роль советчицы ей польстила:
– Он вроде любит ириски.
Джейкоб отдал еще двадцать фунтов:
– Удачи за карточным столом.
– Это лишнее, дорогуша. – Купюры отправились в лифчик. – Возьмем талантом.
Ветхая изгородь вокруг имения поведала историю его хозяина: много земли и мало денег. С коробкой ирисок «Теско» в руке, Джейкоб пролез сквозь дыру в заборе.
Дождь прекратился час назад, лужи на щербатом асфальте кишели букашками. Хвати ему дурости, Джейкоб уверовал бы в самозарождение жизни. Древних с их гипотезой можно понять.
Жуков не наблюдалось.
Тем не менее он поспешил миновать подъездную аллею.
Дверной молоток остался в руке. Кое-как прикрепив его на место, Джейкоб обошел дом. Кто-то беспечно не закрыл окна второго этажа. На ветру вздувались и хлопали рваные промокшие шторы.
С кривобокой задней террасы Джейкоб оглядел широкую неухоженную лужайку, окаймленную деревьями.
Приложил руку ко рту, аукнул.
Тишина.
Не получив ответа на второй оклик, Джейкоб хотел постучать во французское окно.
Грохнуло, и бетонный горшок в пятнадцати футах слева развалился надвое.
Через пару секунд еще один выстрел разнес горшечную подставку. Джейкоб уже нырнул за балюстраду и съежился, спрятав голову меж коленей.
Третий выстрел распотрошил горшок справа.
Стреляли из-за деревьев. Убежать? Пока пересечешь лужайку, станешь первым трофеем охотничьего сезона.
Второй вариант – переползти к французским окнам. Высадить стекло и нырнуть внутрь. Весь изрежешься. И все равно пристрелят. Проникновение со взломом – о чем говорить?
Джейкоб судорожно выхватил телефон. Чертова штуковина загружалась целую вечность.
Четвертый выстрел пришелся выше, вжикнув по кирпичной стене.
Номер службы спасения Соединенного Королевства – 999. Еще можно звонить по номеру 112 или (о счастье) 911.
Джейкоб ткнул кнопки.
Ответил американец.
Еще два выстрела – два изуродованных кирпича.
Джейкоб набрал другие номера – безуспешно: либо телефон огрызался бипами, либо отвечали из Западной Виргинии. Он добавил единицу, потом две единицы, потом ноль и две единицы. Бесполезно. Джейкоб вернулся в «Гугл».
Он умрет, разорившись на роуминге.
Выстрелы стихли, по траве зашаркали сапоги.
– Вы вторглись в частное владение.
Не двигаясь, Джейкоб откликнулся:
– Я стучал.
– И что с того?
Джейкоб осмелился высунуть над балюстрадой коробку с конфетами. Поскольку руку не отстрелили, встал и показал бляху:
– Извините. Пожалуйста.
Человек-бульдозер. Мешковатые фланелевые брюки. За семьдесят, пятнисто загорелая лысина, окантованная белоснежными прядями, через плечо связка зайцев, на сгибе руки охотничье ружье.
– Это были предупредительные выстрелы. Пятьдесят ярдов. Я бы с закрытыми глазами вас срезал.
– Не сомневаюсь, сэр.
– Ну то-то. Говорите.
Словно дворецкий, Джейкоб открыл коробку конфет.
– Это что? Ириски?
Человек протопал на террасу и сунул конфету в рот. Розовые щеки его покраснели, он заурчал. Старик гримасничал, словно ему рвали зубы и он получал несказанное удовольствие.
– Какая гадость. – Он проглотил конфету и взял другую.
– Вы Эдвин Черед?
– Мм.
– Я Джейкоб Лев, детектив лос-анджелесской полиции.
– С чем я вас и поздравляю.
– Я по поводу вашего сына Реджи.
– Расширенное толкование слова предпочтительнее.
– Простите?
– Я сразу сказал Хелен, что не собираюсь гробить свою жизнь и раскошеливаться на чужие ошибки.
– Он приемный ребенок, – сказал Джейкоб.
– Разумеется, приемыш. Мой родной сын таким бы не стал. Что он наделал в Лос-Анджелесе?
Джейкоб отметил грамматику: не делает, а наделал.
– Точно не скажу.
– Тогда стоило ли ехать в такую даль?
– Прошлым апрелем он был в Праге?
– В Праге?
– Это в Чехии.
– Я знаю, олух.
Черед причмокнул и взял очередную ириску. В коробке осталось семнадцать конфет.
– Совершенно изумительная гадость, – пробурчал он.
Надо думать, беседа иссякнет вместе с конфетами.
– Так он был в Праге?
– Не знаю и знать не хочу. Он взрослый человек – по крайней мере, так гласит закон. Он вправе разъезжать где пожелает. И я не понимаю, каким боком здесь американский сыщик.
Джейкоб глянул на ружье. Если что, успеет перехватить.
– К сожалению, у меня плохие вести. Пражская полиция обнаружила труп. Похоже, это он.
Черед перестал жевать.
– Сочувствую, – сказал Джейкоб.
Старик оперся на балюстраду. Выкатив глаза, проглотил неразжеванную конфету.
Потом выронил ружье и схватился за грудь. Джейкоб хотел его поддержать, но Черед оттолкнул его руку.
– Что произошло? – задыхаясь, спросил он.
– Вам нехорошо, сэр?
– Что произошло?
– Полной ясности нет, – сказал Джейкоб. – Похоже, его убили…
– «Похоже»? Какого черта вы мямлите? Кто его убил?
– Расследование еще не закончено…
– Ну так заканчивайте, кретин. А то стоит и расспрашивает меня.
– Я сожалею, что принес дурные вести.
– Плевать мне на ваши сожаления. Я хочу знать, что произошло.
– Похоже…
Черед схватил ружье и направил его Джейкобу в живот:
– Еще раз скажете это слово – и я выкрашу стенку вашими кишками.
Пауза.
– Он пытался изнасиловать женщину, – сказал Джейкоб.
Черед никак не откликнулся.
– Девушка вырвалась и убежала. Когда прибыла полиция, он был мертв. Убит.
– Как?
– Что?
– Как его убили?
– Его… – Джейкоб прокашлялся, – обезглавили.
Ружье в руках Череда затряслось.
– Я понимаю, вам тяжело, – сказал Джейкоб.
Черед криво усмехнулся:
– У вас есть сын?
– Нет, сэр.
– Значит, вам не сообщали, что ваш сын убит?
– Нет, сэр.
– Стало быть, вы понятия не имеете, насколько мне тяжело.
– Ни малейшего.
Молчание.
– Хорошо бы взглянуть на его фото, – сказал Джейкоб. – Нужно удостовериться, что это он.
Опустив ружье, через французское окно Черед вошел в дом. Джейкоб последовал за ним.
– Наверное, попросите денег на похороны.
Черед убрал ружье и конфисковал оставшиеся ириски; к нему уже вернулись хладнокровие и надменность.
– Зарубите себе: от меня вы гроша не получите.
В библиотеке главным предметом обстановки был ореховый оружейный шкаф. Светлые пятна на полу и обоях говорили о скатанных коврах, сгинувших картинах. Здесь же обитала алюминиевая раскладушка с шерстяным одеялом и сбитыми простынями. Батарея консервов – фасоль и спаржа – смотрелась неуместно на барочном столике полумесяцем; меж его резных ножек стояли электроплитка и зашкваренная сковородка.
Черед сбросил связку заячьих трупов, взбаламутив пылевых призраков на полу, и шагнул к лестнице:
– Нечего пялиться.
Насчет окон второго этажа Джейкоб ошибся. Их не забыли закрыть. Их, как и лестничные балясины, расстреляли. По сути, дом превратили в тир. Пулевые отверстия, исконопатившие стены и потолки, в размерах варьировались от оспин, оставленных мелкокалиберной винтовкой, до громадных пробоин от дробовика, обнаживших водопроводные трубы. Урон казался бессистемным – одни комнаты целехоньки, другие превратились в руины, – однако усердие, с каким разрушали дом, свидетельствовало о некоей болезненной одержимости.
Все это чем-то напоминало жилище Фреда Перната в Хэнкок-парке. Неприветливость обоих домов выдавала потаенное мужское стремление возродить, так сказать, жизнь в сдохшем генераторе.
Дом – организм, который можно уморить разными способами. Фред Пернат предпочел удушение – перекрыл кислород и свет, спровоцировал ожирение сердца. А вот Эдвин Черец неуклонно стирал грань между внешним и внутренним.
Здесь тоже не было семейных фотографий на стенах. Джейкоб счел это за благо – иначе рано или поздно их разнесли бы в клочья.
– Реджи часто приезжал домой? – спросил он.
– Когда бывал на мели, Хелен его привечала. – На лестнице Черец запыхался. – После ее смерти я это прекратил.
– Давно это было?
– В сентябре четыре года. Мягкотелая была женщина.
– Он больше не приезжал?
– Заявился после похорон – вынюхивал, нельзя ли чего слямзить и продать. Я его выставил и с тех пор не видел.
На втором этаже подошли к двери, присохшей к косяку – так давно ее не открывали. Черец саданул плечом; дверь распахнулась, качаясь на петлях.
– Покои маленького принца.
Маленький принц, которому сейчас перевалило бы за сорок, некогда был мальчишкой. Джейкоба пробрал озноб. Самая обыкновенная мальчишечья комната. Одеяло с узором из гоночных машин, как будто жильцу навеки девять лет. Учебники, гибкая настольная лампа, музыкальный центр для дисков и кассет.
Никаких самодельных чучел.
Или коллекции ножей.
Ничего зловещего, и оттого впечатление еще более зловещее.
Что пошло не так?
Когда это случилось? И как?
Пара-другая вещей намекала на зрелость жильца. Голая женщина – афиша ретроспективы Эгона Шиле в Тейте[50], криво приклеенная к стене пожелтевшим скотчем. В рамке диплом Оксфордского студенческого художественного общества – первое место за рисунок «Быть безбашенной».
Эдвин Черед взял со стола выпускную фотографию:
– А вот и принц собственной персоной.
В море крахмально-белого и траурно-черного юный Реджи Черед был как затравленный зверек: взмокший лоб, взгляд ищет, куда бы скрыться.
– Зря мы его послали в Оксфорд. У него там не было шансов. – Черед бросил фото на стол. – Ладно. Что собираетесь делать?
Джейкоб достал камеру и переснял фотографию. Вышло размыто. Он попытался еще раз. Лучше.
– Я надеялся, вы дадите отправную точку. Скажем, последний адрес.
– Не было у него адреса.
– Но где-то он жил.
– Не ведаю. Туда-сюда шастал.
– Он работал?
– Ничего солидного. Хватало только на прокорм. За мой счет. Кажется, служил курьером, когда уж совсем приперло. А ведь я предупреждал. Он отправился изучать право. Посреди второго триместра вдруг извещает: мол, желает переключиться на изобразительное искусство. Разумеется, этот каприз я запретил. «Иначе до самой нашей смерти он будет сидеть у нас на шее», – сказал я. Так и вышло. Потеха, как Хелен его защищала. Уж она знала, на каких струнах играть. «Мальчик заблудился, Тедди». – «Так пусть возьмет карту». Через неделю он звонит: опять передумал – хочет заниматься историей искусства. «Чудесно, – радуется Хелен. – Станет профессором, очень престижно». Видите, как меня облапошили. Внушили, что это такой компромисс. – Черед покачал головой. – Наверное, они сговорились. История, мать его, искусства… Но и тут он даже до выпуска не дотянул. Вскоре ему приспичило расширить горизонты. Куча денег на учебу, на краски-кисточки. Полгода в Испании, полгода в Риме. «До каких же пор?» – «Он ищет вдохновения». А я тут – как неандерталец какой. Но ваза с фруктами останется вазой с фруктами хоть в Париже, хоть в Берлине, хоть в Нью-Йорке.
– Он бывал в Нью-Йорке?
– Не спрашивайте. Я ни черта не знаю. Может, и в Тимбукту бывал. Не ведаю.
– Но в Штаты он ездил.
– Наверняка. Если дорого – ему позарез надо ехать.
– Он не говорил, куда ездит?
– Я давно бросил спрашивать. У меня от его ответов начиналось несварение.
– Когда я сказал, что я из Лос-Анджелеса, вы спросили: что он там наделал?
– Ну да.
– Любопытный выбор слова.
Черед вмиг насторожился:
– Почему?
– У него уже бывали неприятности с законом?
– Об этом мне ничего не известно.
– Пражская девушка заявила о попытке изнасилования.
– Конечно, он-то уже не возразит.
– Еще была Пег, – сказал Джейкоб. – Ваша служанка.
– Да их полно было – что мне, всех по именам помнить?
– Поговаривают, что Реджи причастен к ее смерти.
– Только дурак верит всему, что говорят.
– То есть нет.
– Что-то мне не нравится, как вы со мной разговариваете. Сообщаете, что мой сын убит, и тотчас изрыгаете беспочвенную клевету.
Теперь он уже сын?
– Извините. Я не хотел вас огорчить.
– Меня огорчает ваша готовность принять идиотские измышления за факт, что говорит о вашей легковерности. Вы сказали, его нашли в Праге. А здесь-то что вам надо? На кой черт мне говорить с американцем? Никого другого не нашлось? Дожили.
– Направьте меня на верный путь.
– Бисер перед свиньями, – буркнул Черед.
– Значит, вы не знаете, куда он ездил.
– Сказано же – нет.
– Но он много путешествовал.
– Вероятно.
– На какие деньги?
– Каждое первое число кое-что получал от Хелен. Что не мешало ему пятнадцатого клянчить у меня.
– Деньги поступали на его банковский счет?
– Наверное.
– В каком банке?
– «Барклиз». Вам-то какое дело?
– Можно выяснить, где снимали деньги.
– Что вы так вцепились в его поездки? Вам известно, где его убили. Вот туда и езжайте.
– Вы упомянули, что он работал…
– Ничего подобного. По-моему, я вполне ясно выразился: работы не было.
– Вы сказали, он служил курьером.
– Какая же это работа? Дешевая увертка. Время потянуть.
– Пусть так, но хотелось бы знать, где и на кого он работал.
– На архитектора, своего бывшего педагога.
– Имя?
– Джеймс или Джордж, что-то царственное. Тот самый никчемный педик, который подбил его бросить учебу и заняться мазней.
– Я так понял, у Реджи были художественные способности.
В глазах Череда промелькнул гордый огонек; впрочем, быстро стух.
– Вот и жена так говорила.
Джейкоб кивнул на диплом в рамке:
– Кое-кто с ней был согласен.
– О да, величайший взлет, о котором он неустанно ей напоминал. Всякий раз, как кончались бабки.
– У вас сохранились его работы?
– Вы ценитель изящного, что ли?
– Явите милость.
– Последние полчаса только этим и занят, – сказал Черед. – Вон там, под кроватью.
Джейкоб вытащил два портфолио, коробку со стесанными угольными карандашами, рейсфедерами и эскизный альбом. На кровати раскрыл первую папку.
Плотные кремовые листы, на которые хорошо ложилась тушь, знакомили с хирургически четким мировоззрением Реджи Череда.
Рисовать он умел. Бесспорно. Здесь же были вышеупомянутые вазы с фруктами и унылые сельские пейзажи, больше похожие на документальную фотографию.
– Хелен их развесила по всему дому, – сказал Черед. – Я потом снял, смотреть тошно.
Многие рисунки были подписаны и датированы, но лежали вразнобой. Самый поздний – 2006 год, самый ранний – 1983-й.
– Однако сохранили, – сказал Джейкоб.
– Чтобы выбросить, слишком много возни.
– Проще снять со стен и уложить в папки?
– Это вы на что тут намекаете?
На то, что втайне ты им гордишься. Это подкупает и настораживает.
– За какую работу он получил премию?
– Здесь ее нет. Чертово художественное общество оставило себе. Хелен предлагала им тысячу фунтов, но они ответили, мол, таковы условия конкурса.
Вторая папка оказалась интереснее – обнаженная натура и портреты. Все женщины маняще неистовы. Джейкоб прямо слышал тяжелое дыхание автора, чьей рукой водило подсознание.
И наоборот, мужчины сдержанны, геройски внушительны.
– Кого-нибудь узнаете? – спросил Джейкоб. – С кем я мог бы поговорить.
– Друзья его, надо полагать.
– Кто они?
– Черт их знает. Балбесы. Распутники.
– Он называл какие-нибудь имена?
– Если б называл, я бы постарался забыть.
– Подруги?
Черед фыркнул.
– Я пытаюсь выяснить, с кем он общался.
– Они б его убить не смогли.
Ты удивишься.
Уже пролистав две трети папки, Джейкоб остановился и вернулся назад.
Чуть не проглядел.
Он думал о другом. О том, что говорят эти рисунки об отношении художника к женщинам.
О глиняной голове своего отца, вылепленной матерью.
Хронологическая чехарда тоже сыграла свою роль – рисунок был датирован декабрем 1986 года.
Джейкоб старался не измышлять связи. Надо сохранять ясность мысли и делать свою работу.
То-то и оно. Работу.
А вот и награда.
Джейкоб медленно перевернул лист. Вот еще. И еще. То, что он принял за помарку, повторялось на пяти листах – шрам на подбородке.
В пяти ракурсах.
Один и тот же человек.
Мистер Череп.
Сквозь шум в ушах донесся голос Череда:
– Он из той компании.
– Какой?
– Балбесов. Гостил у нас на Рождество. Идея Хелен.
– Кто он?
– Однокашник. Убей бог, если я помню имя.
– Можно взять эти рисунки? – спросил Джейкоб.
– Так вы его ищете? – вылупился Черед.
– Не знаю. Но хорошо бы узнать.
Черед выхватил несколько рисунков и сунул их Джейкобу:
– Остальное положите туда, где взяли. – Он шагнул к выходу. – Десять минут. Потом сгиньте, а то вызову полицию и вас арестуют за незаконное вторжение.
Джейкоб аккуратно свернул рисунки в трубку и перехватил резинкой, найденной на столе. Убрав папки и коробку под кровать, выглянул в коридор.
Черед возился на первом этаже. Джейкоб торопливо обшарил комод – не найдется ли старых носков или трусов, пригодных для ДНК-анализа.
Пусто.
Внизу грохнул выстрел, посыпалась штукатурка.
Музыка на уход.
В Оксфорд Джейкоб вернулся поздно, ужинать пришлось картошкой с рыбой из ларька. На улицах кодлы болельщиков горланили футбольные гимны и дружелюбно кидались бутылками в студентов.
Гостиница «Черный лебедь» не располагала отдельными номерами. Заселяясь в трехместный, Джейкоб постарался не разбудить сожителей – двух туристов, почивавших в обнимку с нейлоновыми рюкзаками, полномочными заместителями возлюбленных.
Свою сумку он затолкал под кровать, вынув оттуда паспорт и портреты мистера Черепа.
В холле вонючие кресла-мешки сгрудились вокруг брошенного «Эрудита». Немецкий неохиппи наигрывал «Мазок серого»[51] на гитаре из ломбарда, а его подруга, зажав коленями зеркальце, пыталась перезаплести африканские косички цвета электрик.
В знак божественного благоволения конторка портье соседствовала с баром, ломившимся от выпивки.
Вооружившись седьмой пинтой за день, интернет-паролем и картой города, прихваченной из проволочной стойки, Джейкоб засел в компьютерную кабинку.
Местных архитекторов оказалось не так много. Четверо из них – женщины. У мужчин лишь двое обладали относительно царственными именами: Чарльз Макилдауни и Джон Расселл Нэнс. Сначала Джейкоб кликнул по резюме Нэнса, допуская, что Джона часто путают с Джеймсом. Но оказалось, что в университете историю архитектуры читал Макилдауни, бакалавр архитектуры (Манчестер), доктор философии (Оксфорд), член Королевского института британских архитекторов. На карте Джейкоб отметил его контору.
Песня закончилась.
Джейкоб поаплодировал.
Хиппи вяло улыбнулся и вскинул пальцы буквой «V».
Разметив на карте свой маршрут, Джейкоб отодвинул мыший коврик и развернул рисунки.
Мистер Череп в расцвете лет. Коллега. Попутчик.
Встреча с Реджи Черецом.
Выявляется общность интересов.
Правда? Иди ты?
Ладно, ладно, только…
Скажи-ка…
Взять бабу силой.
Передок?
Корма?
Что милее?
Корма?
Надо же.
Удачно.
Поскольку я, знаешь ли, любитель передка.
Череп и Черец!
Комический дуэт, гаже не придумаешь. Заставка сериала: кувыркаясь в бешеной пляске, «и» и «ц» меняются местами.
Время сходится. Реджи, родившийся в 1966 году, учебу закончил в 87-м или 88-м.
Что привело двух англичан в Лос-Анджелес?
Они уже объехали весь свет и повидали всяких девушек?
Мечтали, чтобы каждая оказалась калифорнийской девчонкой?[52]
Или так: мистер Череп не англичанин. Приезжий студент по программе обмена.
Угощение цимесом, так на так. Укрепим нашу особую дружбу.
Реджи приглашают продолжить сотрудничество в Штатах.
Тебе глянется тамошняя погода.
Реджи выпрашивает у щедрой матушки подарок на выпускной.
Там потрясающая программа…
Объединенные усилия двух маленьких зол – каждое одобряет и подзуживает другое – превращают его в отменного злодея.
Леннон и Маккартни порока.
Чем объяснить длительные пробелы? Ничто не указывает, прямо или косвенно, на причастность этой пары к преступлениям с 1988 по 2005 год – до момента, когда Дани Форрестер истекла кровью в своей дорогущей квартире.
Но ведь мир широк. Что успел натворить Черец-младший, расширяя горизонты?
А Нью-Йорк, Майами, Новый Орлеан?
Долго они этим занимались?
Психопаты, как и художники, натуры страстные.
Их сотрудничество редко бывает пожизненным и глобальным.
Может, Черед и Череп начали как партнеры, а затем каждый занялся собственным проектом?
И отдельные проекты расцвели в полноценные сольные карьеры?
Но раз в год – прыжок через Атлантику, дабы вместе тряхнуть стариной?
Черец и Череп: совместное турне по США!
Лас-Вегас-Стрип… Бурбон-стрит…
А вскоре и в квартире первого этажа рядом с вами!
Джейкоб поежился: страшно подумать, какая начнется волокита, если запросить копию паспорта Реджи.
Прекрасно, есть факты, пусть немного. Джейкоб гасил возбуждение, равно опасаясь перепадов настроения и возможных ошибок.
Изгоним Черепа из черепа, ага?
Даже если точно идентифицировать «Ч и Ч» как Упыря, остается открытым вопрос, кто их убил. Они никак не могли обезглавить друг друга: год и шесть тысяч миль разделяли эти события.
Версия «психопат против психопата» себя исчерпала.
Вариант мстителя выглядит все предпочтительнее.
Но: как он (она) узнал(а)?
Как он (она) их нашел (нашла)?
Чей голос на пленке?
Каким боком здесь Особый отдел?
2.13 ночи. Хиппи задали храпака. Джейкоб поднялся в свой номер. Впервые за долгое время ему снились цветные сны.
Живительный сон вернул забуксовавшему мозгу способность к размышлению. В гостиничном кафетерии Джейкоб нагрузил поднос жирной мясной снедью и сел в конце общего стола, подальше от стаи канадцев, курлыкавших о своей идеализированной программе развлечений: катание на лодках по Темзе, обед в настоящем пабе, пешая литературная экскурсия, посещение Бодлианской библиотеки…
А вот он двинет по тематическому маршруту «Разумный коп». Первая остановка – полицейский участок на Сент-Олдейтс.
Джейкоб вышагивал вдоль берега под сенью ив. Подсевшие на дармовой корм водоплавающие копошились в прибрежной осоке, истерически требуя угощения. Красная лодка смотрелась жилкой на серой глади – под учтивым водительством рулевого восемь гребцов скользили к мосту.
Участок располагался в желтоватом трехэтажном доме; его неприметность ставила под сомнение саму возможность преступлений в столь живописном городке. Если б не скромная белая вывеска и застекленные витрины с информацией об общественных дружинах, Джейкоб решил бы, что входит в контору архивариуса.
Дежурный констебль записал номер его бляхи и препроводил в унылый актовый зал.
Прошло пять минут, Джейкоб допил чай; прошло еще двадцать минут, он выглянул в коридор. Видимо, местные коллеги сносились с лос-анджелесской полицией, проверяя его полномочия. Он мог бы ускорить процесс, сообщив им прямой номер.
Чей? Маллика? Или бывшего шефа – капитана Чена, начальника транспортного отдела?
Кто из них скорее отрекомендует его самозванцем?
Джейкоб еще не определился, когда появилась блондинка с дерзкой стрижкой «боб».
– Доброе утро, детектив. Инспектор Нортон.
– Доброе утро. Всё проверили?
Легкая усмешка:
– Чему обязаны честью вашего визита?
Показав фото юного Реджи Череца и портрет мистера Черепа, Джейкоб в общих чертах обрисовал свой интерес: нераскрытые убийства в период с 1983 по 1988 год. Призовые очки, если выявится почерк Упыря.
– Пусть даже не стопроцентное совпадение, манера могла меняться.
– Это было задолго до меня, сэр.
– Конечно, конечно. Для личных впечатлений вы слишком и даже чересчур молоды.
– Естественно. В восемьдесят третьем я была ребенком.
– Правда? Я думал, вы еще не родились.
– Пожалуй что родилась. Чуть-чуть раньше.
– Совсем чуть-чуть. Может быть, здесь найдется какой-нибудь мудрый старожил?
– Давайте спросим Бранча.
Пятидесятилетний Бранч, бритоголовый и с щеточкой усов, не узнал человека на портрете и не слышал о Реджи Череце.
– Он был студентом, – сказал Джейкоб.
– В университете были свои надзиратели, – ответил Бранч. – «Бульдоги».
– Теперь их нет?
– По бюджетным соображениям, расформированы, – сообщила Нортон. – Лет десять назад.
– Кого-то из них можно найти?
– Конечно, – сказал Бранч. – Вам повезет, если сумеете их разговорить.
– Неудивительно, – поддержала Нортон. – Университет – инкубатор отборной молодежи.
– Как я понимаю, никто не станет выносить сор из избы, – сказал Джейкоб.
– Верно понимаете, сэр.
– А если за меня походатайствовать?
Бранч покачал головой:
– Не поможет.
– Неудивительно для города, – подхватила Нортон, – известного историческим противостоянием горожан и университетских.
– Ведомственная междоусобица, – сказал Джейкоб.
– И вновь ваша догадка чрезвычайно обоснованна, детектив.
– Я подумаю, – сказал Бранч. – Может, что и придумается.
Это выглядело пустым обещанием, но Джейкоб все равно поблагодарил.
Нортон проводила его на улицу:
– Извините, что не смогли быть вам полезны.
– Пустяки.
– Жалко. Я думала, Бранч заинтересуется. Все-таки не каждый день к нам обращаются с убийством. – Нортон помолчала. – Зато мы весьма успешно разгоняем рейвы.
Джейкоб улыбнулся.
– Можно узнать, каковы ваши планы?
– Вычислю архитектора. Загляну в его колледж. Может, кто-нибудь его вспомнит.
– А если эта линия окажется бесплодной?
– Всегда можно прокатиться по Темзе. Знаете что, инспектор Нортон…
– Что, детектив Лев?
– Я полагаю, что вы, представитель местной власти, внушаете простым смертным неизмеримо большее уважение, нежели я, и поскольку в данный момент нет никаких рейвов, не согласитесь ли вы сопроводить меня в моих поисках, а затем насладиться обедом за счет благодарной лос-анджелесской полиции?
Нортон заправила волосы за уши:
– Детектив Лев, ваши доводы совершенно неотразимы.
– На то мы американцы, инспектор Нортон.
По Сент-Олдейтс вскоре вышли к колледжу Крайст-Чёрч. Весенний дождь освежил луга, на которых уже закончились утренние пробежки, но еще не расплодились пикники.
Нортон звали Присциллой. Она спросила, где Джейкоб остановился.
– В хостеле у вокзала.
– Какая прелесть.
– Не хайте. Пятнадцать фунтов и полный английский завтрак.
– Господи, вот ужас-то.
Подошли к Башне Том. Увидев чумазую девицу – мужские спортивные штаны, просторная футболка «Кайзер Чифс», туфли на опасно высоких каблуках, глаза от солнца прикрывает черным прозрачным платьем, – Джейкоб отметил, что с его студенческих времен мало что изменилось.
Внушительные стены из песчаника напоминали крепость. Джейкоб вообразил себя варваром, готовым пробить брешь в башне слоновой кости и предать огню ее обитателей. Эта фантазия расцвела новыми красками, едва возник сизоносый страж в котелке и темном плаще. Именной жетон представил его как Дж. Смайли, привратника Крайст-Чёрч.
– Привет, Джимми, – сказала Нортон. – Как дела?
– Привет, Пиппи. День задался. Какими судьбами?
– Знакомлю американского друга с местным колоритом.
Узнав, чем интересуется Джейкоб, привратник напрягся:
– Экскурсионное время с часу дня.
– Ну пожалуйста, Джимми, – взмолилась Нортон.
Смайли вздохнул.
– Вот умничка.
Привратник раздраженно отмахнулся и взял трубку внутреннего телефона.
– Чудеса, – сказал Джейкоб.
Нортон пожала плечами:
– Мал, да удал.
Темный зев ворот обрамлял изумрудные лужайки и прыгающий фонтан, к которому хотелось подбежать, невзирая на таблички «По газонам не ходить».
– Здесь оберегают частную жизнь, – сказал Джейкоб.
– Свои и чужие.
– А вы, значит, наводите мосты.
– Исцеляю мир, – сказала Нортон.
Джимми Смайли положил трубку:
– Мистер Митчелл сейчас выйдет.
– Спасибочки, – ответила Нортон.
Заместитель главного привратника Грэм Митчелл с терпеливой улыбкой выслушал тираду Джейкоба.
– Это официальное расследование, инспектор? – спросил он.
– Не вполне.
– В таком случае могу лишь посоветовать вернуться к часу дня. По общему мнению, наш экскурсионный тур весьма информативен.
– Я надеялся переговорить с теми, кто в то время здесь работал.
– Вы можете передать стюарду письменный запрос.
– А вы случайно не помните этого парня? – спросила Нортон. – Как его, детектив?
– Реджи Черец. – Джейкоб показал фото. – Сын Эдвина Череца.
– К величайшему сожалению, я не припомню никого с таким именем, – сказал Митчелл.
– Может, взглянете на…
– Очень жаль, что больше ничем не могу помочь, сэр.
– Вот тут еще один… – Джейкоб начал расправлять портрет Черепа.
– Прошу извинить, вот-вот начнется проповедь. Всего самого доброго. – Митчелл отбыл, стуча каблуками по брусчатке.
Нортон взглянула на привратника:
– Все равно спасибо, Джим.
Привратник что-то записал в журнале и, оторвав клочок, подал его Присцилле. Та спрятала бумажку в карман:
– Спасибо.
Смайли коснулся шляпы и, заложив руки за спину, стал расхаживать взад-вперед.
– Что это было? – спросил Джейкоб, когда они отошли ярдов на десять.
Нортон показала ему бумажку, на которой Смайли накорябал: «“Монах и дева” 20.00».
Сплошной ряд домов, в одном из которых обитал Чарльз Макилдауни, смотрел на реку.
Табличка на двери извещала, что архитектор принимает со вторника по пятницу и только по предварительной договоренности. Рядом на ветру трепетала записка: курьерам звонить в соседнюю дверь под номером 15.
Позвонили. Дверь открыл элегантный мужчина с орлиным носом. Примерно одних лет с Эдвином Чередом, но загорелый и ухоженный, в хлопчатобумажных брюках и голубой саржевой рубашке.
– Пожалуйста, заносите… – сказал он. – Ох, извините. Я подумал, доставка.
Нортон показала бляху:
– Чарльз Макилдауни?
– Да.
– Можно войти, сэр?
– Что-нибудь случилось?
– Ничего, сэр. Пара вопросов.
– Сейчас не вполне удобно.
– Мы коротко, – сказал Джейкоб.
Услышав американский акцент, Макилдауни вздрогнул. Поправил прическу, раз и другой.
– Хорошо, прошу вас.
Пастельная вьюга смягчала индустриальный стиль гостиной: стальная мебель, сводчатый потолок, открытые трубы. Извинившись за беспорядок, Макилдауни убрал плетеные корзинки, упаковки салфеток и предложил гостям сесть.
– У нас сегодня ежегодный прием в саду. Я подумал, вы от флориста.
Сверху донесся голос:
– Это они, Чарльз? Пришли?
– Еще нет.
– А с кем ты разговариваешь?
– Ни с кем.
Босоногий мужчина лет на двадцать моложе Макилдауни появился на площадке парящей лестницы:
– Но я кого-то вижу. – Он сошел вниз. – Я Дез.
Нортон представила себя и Джейкоба, тот объяснил, зачем они пришли. Известие об убийстве Реджи неподдельно потрясло хозяев.
– Извините, что вот так вас огорошил, – сказал Джейкоб. – Вы дружили?
– Дружили? – переспросил Макилдауни. – Нет… то есть я бы не сказал. По-моему, Реджи ни с кем… он, знаете ли, был…
– Белая ворона, – сказал Дез.
– Бесспорно, однако… сам не знаю, что я говорю. Это ужасно, просто… ужасно.
Молчание.
– Не желаете чаю? – спросил Дез.
– Охотно, – сказал Джейкоб.
– Нет, спасибо, – ответила Нортон.
Дез хлопнул в ладоши и прошел в кухню, отделенную от гостиной двадцатью футами отбеленного пола и столом из нержавеющей стали.
– Не лучше ли нам уединиться? – предложил Макилдауни. – Можем перейти в мой офис.
– Ничего, – сказал Джейкоб. – Вы оба его знали?
Дез кивнул, наливая воду в электрочайник.
– Иногда он на нас работал, – сказал Макилдауни. – Но уже давно не появлялся.
– С год, не меньше, – уточнил Дез.
– Отец его сказал, что одно время вы были наставником Реджи.
– Вы говорили с его отцом?
Джейкоб кивнул.
– А он… в смысле, он знает, что…
– Знает.
– Ну да. Конечно, знает. Извините. Все это весьма… мне не доводилось… ужасно… Да, я был наставником Реджи. Очень давно.
– Каким он был? – спросил Джейкоб.
– Болезненно застенчив. Слова не вытянешь. Помню… вне контекста это, конечно, прозвучит грубо… но я отчетливо помню, что он напоминал черепаху. – Макилдауни помолчал. – Ужасно, да? Извините. В любую погоду он ходил в пальто. Ни в чем другом я его не видел. Оно так задубело, что можно было ставить на пол. Жутко мрачного цвета… а он еще втягивал шею в воротник, вот так… Из-за этого казался невысоким, хотя, по-моему, был среднего роста.
– Отец сказал, что Реджи собирался изучать юриспруденцию, но вы сбили его с панталыку.
– Ну это… Спасибо. – Макилдауни принял от Деза чашку с чаем. Дез поставил поднос с сахарницей и тарелкой печенья.
– Благодарю. – Джейкоб положил в чай три куска сахару, надеясь умиротворить одуревший желудок, который после полного английского завтрака затевал латиноамериканскую революцию. – Похоже, Эдвин был этим очень недоволен.
– Я ему сочувствую, искренне, но это абсолютная неправда. Реджи надумал поменять факультет задолго до нашего знакомства. В университете нет как такового курса по практической архитектуре. Я приехал писать докторскую, а после защиты какое-то время читал историю дизайна. Возможно, я укрепил его решение, но я ничего не навязывал. Он был весьма… липучий, что ли. Приносил груды своих рисунков и совал мне под нос. Стоило его чуть-чуть похвалить, как он пристал с просьбой помочь ему перейти в Рёскин.
– Художественная школа, – пояснил Дез; Макилдауни кивнул.
– Оказалось, он уже пробовал поступить, но его не взяли. Он хотел, чтоб я использовал свой вес.
– А вы?
– У меня нет никакого веса. Я попытался ему объяснить, а он взъерепенился.
– Что потом?
– Я открыл свое дело, и он исчез из моей жизни. Лет, наверное, на пятнадцать.
– Потом неожиданно объявился, умолял дать ему работу, – сказал Дез.
– Вовсе не умолял, Дезмонд.
– Наверное, вы удивились? – спросила Нортон.
– Я изумился. Чуть не захлопнул дверь у него перед носом. Я его даже не узнал – столько лет, и пальто это куда-то делось. Не поздоровался, не назвался, не спросил, как мои дела. Только сказал: «Мне нужна работа», как будто я ему сейчас на блюдечке ее преподнесу.
– После пятнадцатилетней разлуки вряд ли можно на это рассчитывать, – сказал Джейкоб.
– Ну, я так понял… – Макилдауни подул на чай, – он был на мели.
– Он не сказал, чем занимался все эти годы?
– Принес папку с рисунками. Наверное, где-то учился или работал.
– Эдвин отрекомендовал его курьером.
– Слишком сурово. Он был весьма способный рисовальщик, особенно тушью. Иначе я бы его не взял.
– На милосердии бизнес не построишь, но Чарльз то и дело пытается, – проворчал Дез.
– Нынче все используют компьютеры, и мы не исключение, – сказал Макилдауни. – Но я люблю поработать руками, как учили, и всегда приятно встретить родственную душу.
– Он был белой вороной, – повторил Дез.
– Не спорю, в нем была… странность.
– На втором этаже коридор ведет в офис, – сказал Дез. – Бывало, ночью иду в кухню попить воды и слышу – играет радио, он работает.
– Он все задания сдавал вовремя.
– По-твоему, это нормально, Чарльз?
– Как он ладил с людьми? – спросил Джейкоб.
– Наверное, в этом все и дело, – сказал Макилдауни. – Мне казалось, он допоздна засиживается, чтобы не общаться с коллегами. В большой фирме это было бы невозможно, а здесь только я, Дез, еще два наемных архитектора и администратор. Реджи возник накануне Рождества и устроился к нам временно. Конечно, я бы предпочел постоянного работника, но он оказался как нельзя кстати. Был нужен человек, который подчистит наши хвосты.
– Не лукавь, дорогой, – сказал Дез. – Ты угрызался.
– Возможно. Ну а что делать? Смотрю на него – все тот же растерянный мальчик.
– Когда вы познакомились, он был уже не мальчик, – сказала Нортон.
– Да, но в нем сквозило что-то детское.
– Он вам нравился, – сказал Джейкоб.
– Я был к нему равнодушен. Но я подумал: ладно, значит, судьба. Он вновь возник в моей жизни – как-то нельзя было отмахнуться.
– А помимо вас – как он жил? С кем водил компанию?
– Понятия не имею.
– Привязанности?
– О личном он не говорил. Помнится, упоминал, что ездит учиться.
– Куда, не говорил?
Макилдауни покачал головой.
– Вы не удивлялись? – спросил Джейкоб. – Он почти не работает, но упорно продолжает образование.
– Белая ворона, – сказал Дез.
– У всех свои недостатки, – парировал Макилдауни. – Нет, это вовсе не странно. На овладение профессией уходит целая вечность, а если урывками – еще дольше.
– Ты позволил ему остаться, – сказал Дез.
– Здесь? – уточнила Нортон.
Макилдауни замялся:
– Ему негде было жить.
– Все равно что поселить в доме гигантскую ящерицу, – сказал Дез.
– Прекрати, – ответил Макилдауни.
– Сколько он у вас жил? – спросил Джейкоб.
– Недолго. Может…
– Десять недель, – сообщил Дез.
– Не так уж долго.
– Кому как. Я считал дни.
– Вещей его не осталось? – спросил Джейкоб.
– Он даже не распаковывался, – сказал Макилдауни. – Жил на чемоданах.
– Якобы, – вставил Дез.
Макилдауни затряс головой:
– Я же просил, прекрати.
Голос его дрогнул – будто закралось подозрение, что ставка сделана не на ту лошадь.
Джейкоб развернул рисунки:
– Не знаете, кто это?
Дез помотал головой. Макилдауни долго разглядывал портрет, но тоже не узнал человека.
– Это он… сотворил зло?
– Не знаю. Я нашел эти портреты в куче старых рисунков Реджи. Даты совпадают с вашим знакомством. Может, это друг его.
– Не помню, чтобы у него было много друзей.
– Да уж, он не светский мотылек, – присовокупил Дез.
– Правда, был один парень… единственный, по-моему, с кем я его видел, – сказал Макилдауни. – Как же его… – Он взял портрет. – Я… да нет… то есть… кажется, это не он. – Архитектор нахмурился. – Нет. Хотя… нет, все-таки нет. – Он помолчал. – Тот парень, друг Реджи, был американец. Как же его звали?.. Перри? Берни? Что-то в этом роде.
– Но на портрете не он.
– Нет. Точно не он. Какое же имя? – Макилдауни поскреб темя.
Дез положил руку ему на спину:
– Не мучайся, Чарльз. Тридцать лет прошло.
– Не помните, из какого он штата? – спросил Джейкоб.
Архитектор покачал головой.
– Но точно помните, что американец.
– Я видел их вместе – город-то маленький. Кажется, мы столкнулись… в ресторане… нет, в библиотеке.
– В какой?
– В Бодлианской. Перекинулись парой слов. Ну как же его… совсем бог память отшиб. Извините, не вспомню. Это важно?
– Не особенно, – сказал Джейкоб.
Нортон чуть кивнула, одобряя его тактичность.
– Но что я запомнил: парень был красавец. Забавная выходила пара.
– А женщинами Реджи не интересовался, – сказала Нортон.
– Нет, но… в смысле, может, у него был друг. Говорю же, после первого года знакомства мы редко виделись.
– Позвольте еще вопрос, – сказал Джейкоб. – Реджи попадал в неприятности?
– То есть?
– С законом, – пояснила Нортон.
– Никогда не слышал, – сказал Макилдауни.
– Он что-то натворил? – спросил Дез.
Нортон и Джейкоб посмотрели на него. Дез пожал плечами:
– Иначе вы бы вряд ли стали извещать о его смерти, показывать рисунки и спрашивать о его проблемах с законом.
Молчание.
– Перед тем как его убили, он пытался изнасиловать женщину, – сказал Джейкоб.
Самообладание архитектора рассыпалось в прах; он запрокинул голову, словно боялся, что хлопья запорошат глаза.
– Боже мой, – выговорил он.
– Кажется, вы удивлены, – сказала Нортон.
– А вы бы не удивились?
– Кто его знает, – ответила она. – Бывает, кто-нибудь сделает пакость, а ты ничуть не удивлен.
– Насколько я знаю, за ним не водилось ничего… подобного.
– Можно сказать? – вмешался Дез.
– Конечно, – разрешила Нортон.
– По-моему, это вполне возможно.
Макилдауни возмущенно засопел:
– Ладно, ты его терпеть не мог, потому что жить с ним в одном доме было неприятно. Но выставлять его насильником…
– Никем я его не выставляю. Я говорю, что это вполне представимо.
Позвонили в дверь.
– Наверное, флорист, – сказал Дез. – Прошу извинить.
– Он правда это сделал? – спросил Макилдауни.
– К сожалению, – ответил Джейкоб.
Повисло молчание.
Из прихожей донесся голос Деза:
– Мы заказывали орхидеи, а это каллы.
– Если еще что-нибудь вспомните, свяжитесь со мной. – Джейкоб записал свой телефон.
– Непременно, – кивнул Макилдауни.
– Может, подскажете, к кому еще обратиться. Я пришлю вам копии рисунков. Вдруг имя всплывет.
В прихожей негодовал Дез:
– Даже близко не то.
– По-вашему, я мог что-то изменить? – спросил Макилдауни.
Джейкоб покачал головой:
– Абсолютно ничего. Не терзайтесь понапрасну.
– Чарльз. Дорогой. Можно тебя?
Макилдауни встал. Выглядел он неважно. Выдавил дрожащую улыбку:
– Что ж, скоро прием. Пора веселиться.
Джейкоб и Нортон уже прошли с полквартала, когда их окликнул Дез.
– Извините, завозился с идиотами, – сказал он, подбежав.
– Что случилось? – спросил Джейкоб.
– Я кое-что вспомнил. Совсем вылетело из головы. Все началось с того, что с вокзала Реджи позвонил – мол, заберите меня, я приехал из Эдинбурга, со мной произошел несчастный случай.
– Что с ним стряслось? – спросила Нортон.
– Он сказал, мотоциклист наехал ему на ногу. Дескать, идти не может, ступня в крови. Сюда не привози, говорю Чарльзу, вези в больницу. Согласитесь, это разумно. Но Реджи уперся – не желаю в больницу. Всю ночь стонал, как зомби. Лишь дня через три-четыре уговорили его показаться врачу. Чарльз поехал с ним, а на обратном пути купил ему новые туфли – чтоб было в чем ходить, когда снимут гипс. Я рассвирепел.
– Вас можно понять, – сказал Джейкоб.
– Я потребовал, чтобы он убирался немедленно. Нельзя выгонять его на улицу, сказал Чарльз. Когда он наконец свалил, я пошел навести порядок в подвале – это было мое категорическое условие: наверху он жить не будет – и увидел его старые туфли. Видимо, он пытался отчистить кровь, не вышло, и он их бросил. Я хотел выкинуть, но не смог к ним прикоснуться. По-моему, они и сейчас там.
Караван арендованных стульев перегородил парадную дверь. По кирпичной дорожке, окаймленной пионами, Дез направился вкруг дома. Голос невидимого Макилдауни улещивал флориста.
Каменные ступени вели в захламленный подвал – резкий контраст просторному дому. После Праги, подумал Джейкоб, мой порог тесноты существенно возрос. Относительное сопротивление бедламу оказывали винные стеллажи и пластиковые контейнеры. На полке над раковиной выстроились разноцветные бутылки с отравами, от щелока до полироли.
– Я их зафутболил, – сказал Дез.
Недоуменные взгляды.
– Туфли. Я понимаю, что это ребячество, но я ужасно разозлился.
– Где они приземлились? – спросила Нортон.
Дез неопределенно махнул рукой:
– Где-то там.
Туфли отыскались за печкой. Замшевые мокасины на каучуковой подошве поросли пылью, на правом темные пятна. Нортон подцепила туфли авторучкой, а Дез рылся в хламе, ища какой-нибудь пакет.
– Вы не обидитесь, если я кое о чем спрошу? – сказал Джейкоб. – Иначе меня обвинят в нерадивости.
– Обидеть меня нелегко, но можете попробовать, – согласился Дез.
– У них что-нибудь было?
– У Чарльза… с Реджи? – Дез рассмеялся. – Нет. Я Чарльза спрашивал. Реджи далеко не красавец, но Чарльз был так участлив, и я хотел выяснить, прежде чем впустить паршивца в наш дом. Чарльз поклялся, что у них ничего не было. Он совсем не умеет врать, и я склонен ему верить.
Наконец Дез нашел пластиковый пакет с логотипом «Бутсов».
– Вот, прямо в тему. – Он подставил пакет, Нортон опустила туда мокасины. Глянув на пятна, Дез сморщился: – Вдруг это чужая кровь, а?
Нортон доела суп и промокнула губы.
– Удивительно, как весь из себя умный Макилдауни не разглядел, кто таков этот Реджи. Там же пробы ставить негде.
– Я думаю, ум тут ни при чем.
– Вот он вечно ни при чем.
– Как считаете, он правда не узнал мистера Черепа?
– Дез сказал, он не умеет врать. Вроде оба искренны были.
– Согласен. Жалко, что он не узнал.
– Не горюйте. Он дал имя – Перри-Берни.
– Это уже третий фигурант.
– Таинственный американец, – улыбнулась Нортон. На подбородке у нее появилась милая ямочка. Глаза у Присциллы были синие, почти фиолетовые, – производители косметики называют этот цвет васильковым.
– Значит, так, – сказал Джейкоб. – Мистер Череп и Реджи отправляются в Лос-Анджелес. Неизвестно зачем.
– Позагорать, набраться сил. Может, в гости к Перри-Берни.
Джейкоб кивнул:
– Делают свои дела. Двадцать месяцев кошмар правит бал, потом группа распадается – по крайней мере, Реджи отбывает. Мистер Череп, которому Лос-Анджелес глянулся, остается. Выходит, их убрал один и тот же человек – Перри-Берни.
– Вы слишком много на него вешаете, – сказала Нортон. – Может, он просто славный парень, который тоже хотел помочь бедолаге Черецу.
Джейкоб задумчиво ковырял остывшую лапшу в арахисовой подливке. Есть не хотелось, и такое впечатление, что не захочется еще неделю; не терпелось вернуться к работе. Он смутно чувствовал, что Нортон с любопытством его разглядывает. Что-то с ним не так.
– Может, еще куда-нибудь сходим? – спросила Присцилла. – Вы не голодный?
– Я нормально.
– Вы только поклевали, лопала я. Хотите, угощу вас том ямом? Полный восторг.
– Нет, спасибо. Я не люблю кинзу. Какой-то мыльный вкус. И лимонную траву не люблю.
– Трава-то чем не угодила?
– Будь лимоном или травой. Выбирай.
– Если вы не любите лемонграсс и кинзу, почему мы заказали тайские блюда?
– Вы так пожелали.
– Какой вы галантный.
Джейкоб отсалютовал пивом.
– Вряд ли за год приезжает много американцев, – сказала Нортон. – Можно проверить по списку студентов. Правда, сегодня канцелярия закрыта.
– У них существуют выпускные альбомы? – спросил Джейкоб.
– Наверняка. Или что-нибудь в этом роде. Я спрошу Джимми.
– Кто он вам?
– Друг отца. Меня знает с детства.
– Вы здесь выросли.
Нортон кивнула.
– Как оно тут?
– Весело. Пьяные драки со студентами. Клево.
Джейкоб улыбнулся:
– Папа был полицейским?
– Учителем. Преподавал латынь. Такой, знаете, истинный грамматист, который подпевает радио и орет на Эрика Клэптона: «Изволь, Сэлли, – изволь, а не изваляй!»[53] Мама говорит: «Все это чудесно и замечательно, Джон, но, может быть, он хочет, чтобы его изваляли в гусиных перьях». – «Вряд ли песня об этом, Эммалин». «И то», – соглашается мама и прибавляет звук. – Нортон улыбнулась. – Вот такое мое детство, если в двух словах. А у вас?
Рассказ лишний раз напомнил, что Джейкоб в детстве многое пропустил.
– Родился и вырос в Лос-Анджелесе. Мама умерла. Она была художницей. Отец раввин, хотя сам себя так не называет.
– У-у, какая редкая родословная.
Джейкоб чуть не излил душу. Так давно не разговаривал с нормальным человеком. С ней он как-то подсобрался. Умница, симпатичная и не дылда.
Нортон откинулась на стуле, готовая слушать.
– С младых ногтей меня приучали искать денежный след, – сказал Джейкоб.
– Вы будете смеяться, но нам не платят суточные.
– Мой шеф специалист по выкручиванию рук.
– А у вас есть особый фонд для ухаживания за местным полицейским составом?
Джейкоб поднял стакан:
– За международные отношения.
Они вернулись в участок и сели за компьютер.
Сайт Студенческого художественного общества известил, что оно ориентировано на тех, кто не специализируется в искусстве, однако ищет возможность выставить свои работы.
Джейкоб читал между строк: художественная школа – клика, а Студенческое общество, этакий кокон внутри университетского кокона, – клуб, где нашли приют эстеты второго эшелона.
– Отец Череда сказал, Реджи хотел заняться изобразительным искусством, но потом передумал.
– Не потянул.
– Я видел наброски. Он умел рисовать.
– А мне казалось, для получения степени по искусству это не важно.
Джейкоб рассмеялся:
– В любом случае, клуб мелковат для человека с большими художническими амбициями. Может, Реджи искал там общения. У них есть списки бывших членов?
Нортон прокрутила страницу:
– Онлайн нет.
– Штаб-квартира?
– Собрания раз в месяц в комнате отдыха младшекурсников в Крайст-Чёрч.
– Когда следующая встреча?
– Через три недели.
– Блин.
– Погодите, в Бодлианской библиотеке есть архив победителей в конкурсах. Глянем?
Библиотечный охранник направил их в бюро пропусков, располагавшееся в корпусе Кларендон. Там служащий сделал фотокопии бляхи Нортон и паспорта Джейкоба.
– Пожалуйста, заполните формуляр.
Укажите цель использования наших источников.
– Ох, дайте сюда, – сказала Нортон и написала: расследование убийства.
Вздохнув, Джейкоб попросил другой бланк и написал: материалы к диссертации.
– Вы знаете, что вы жуткий зануда?
Через полтора часа волокиты они вышли из древнего лифта, обладая временным пропуском и кодом единицы хранения.
Поскольку в конкурсе участвовали картины и скульптуры, оба ожидали увидеть хранилище или клетку, заставленную ящиками. Однако узким проходом меж стеллажей код хранения подвел их к полке с четырьмя разбухшими альбомами.
Втиснувшись в пустую кабинку, Джейкоб и Нортон склонились над архивом. Присцилла не пользовалась духами, но от нее приятно пахло душистым мылом.
Оксфордское студенческое художественное общество
Призеры 1974–1984 гг.
Поляроидные снимки в мутных пластиковых кармашках представляли произведения, победившие в разных категориях. Почти все чрезвычайно непривлекательные. Каждое сопровождал напыщенный авторский комментарий.
– Отец сказал, что Реджи пришлось оставить работу в Обществе, – проговорил Джейкоб. – А больше никому, похоже, не пришлось.
– Может, папаша соврал, а рисунок где-то припрятал.
– Он же показал другие работы. И что такого, если б я увидел еще одну?
Джейкоб захлопнул первый альбом, открыл второй – «Призеры 1985–1995 гг.» – и пролистал его до конкурса 1986 года.
– Вот что такого, – сказала Нортон.
«Быть безбашенной» представлял голую женщину. Само по себе – ничего особенного. В папках в доме Череца Джейкоб увидел немало обнаженной натуры. Нормально для художника. Давняя чтимая традиция – только ради этого и выбирать художественную стезю.
Каждый художник благоволит к определенной части тела. Реджи облюбовал пышную грудь и трепетно прорисовал все жилки и родинки. Нечего бить тревогу. Женская грудь символизирует материнство, вскармливание, утешение.
Раздвинутые ноги. Однако на репродукции Шиле, висевшей в детской, женщина в похожей позе – и считается шедевром. Возможно, работа Реджи перекликалась с той картиной.
Но если Шиле прибегнул к дерганым рваным линиям, то рука Реджи была хирургически точна. Обилие узоров, исполненных плотными штрихами, отличало эту работу от его прежних ню. «Быть безбашенной» нарисовал реалист, притворявшийся сенсуалистом.
Здесь он обрел свою музу.
Изогнувшись, женщина возлежала на волнистых лозах, обвивавших ее запястья и лодыжки. Художник поискуснее или побогаче фантазией оставил бы недоговоренность, допускавшую вариативность трактовок. Но Реджи, педантичный и ограниченный, нарисовал именно то, что хотел.
Свою безголовую музу.
Из разверстой шеи к восходящему солнцу текла энергия – волнистые линии веером.
Джейкоб и Нортон долго разглядывали рисунок. Наконец Джейкоб перевернул лист, открыв авторский комментарий.
Чтобы изучить основы жизни, сперва обратись к смерти.
Телефон Нортон нарушил тишину.
– Это Бранч меня хочет, – сказала Присцилла и, покраснев, добавила: – Извините, неудачно выразилась. – Потом ответила на звонок: – Слушаюсь, немедленно, сэр. – И дала отбой. – Мне пора.
Перед уходом Джейкоб записал комментарий и сфотографировал рисунок, удостоверившись, что в плохом освещении снимок получился.
Присцилла вызвала лифт.
– По дороге заскочу в колледж и спрошу Джимми насчет выпускных альбомов.
– Спасибо. Вечером увидимся?
– В восемь. Надеюсь, вы найдете чем развлечься.
– Постараюсь, – сказал Джейкоб.
– Интересно – чем? Катанием по Темзе?
– Не совсем.
Угрюмая библиотекарша спецхрана Р. Уотерс смахивала на страуса. В читальном зале шел ремонт, и ее временным пристанищем стал подвал Научной библиотеки Рэдклиффа – сумрачные катакомбы, заставленные переносными увлажнителями и осушителями воздуха, которые вели друг с другом войну на истощение.
Не найдя, к чему придраться во временном пропуске, библиотекарша раздраженно препроводила Джейкоба в компьютерную кабинку. Поиск материалов по Махаралю до 1650 года выдал единственную ссылку на пражское письмо.
– Можно узнать, кто еще его запрашивал? – осведомился Джейкоб.
Уотерс насупилась:
– Такую информацию не даем.
Затем Джейкоб подписал бумажку, обязуясь при работе с документом не есть, не пить, не жевать резинку, не фотографировать, не пользоваться чернильной авторучкой и мобильным телефоном. Как временный читатель он не мог получить более одного документа за раз и более четырех в день. Последнее, уведомила Р. Уотерс, вряд ли возможно, поскольку время близилось к половине четвертого, а отдел закрывался в пять.
Затем Джейкобу выдали белые нитяные перчатки и карандашик без ластика. За обитой кожей столешницей он ждал прибытия документа из хранилища.
Ровно в четыре часа появилась библиотекарша, на вытянутых руках неся архивную папку. С презрительной церемонностью она раскрыла обложку и отбыла к ближайшей конторке шпионить за Джейкобом.
Тот взволнованно смотрел на письмо, понимая, что утекают драгоценные минуты. Квадратик, примерно пять на пять дюймов; истлевшие уголки, обтрепанные края; посредине водянистые разводы и червоточины. Джейкоб затаил дыхание, боясь, что от дуновения хрупкий листок рассыплется в прах.
Его рука в перчатке застыла в считанных миллиметрах над бумагой, которой касался великий гений Израилев.
Р. Уотерс не преминула сделать замечание:
– Я попрошу вас, сэр, воздержаться от чрезмерного контакта с документом.
– Извините. – Джейкоб убрал руку на колени.
Великий гений Израилев писал чудовищными каракулями, а строчки у него разбегались вкривь и вкось. Высыхая, перо выводило хилые буквы, а нырнув в чернила, сажало кляксы.
Изъяны эти выставляли Джейкоба непрошеным соглядатаем, но они же помогли ему обрести душевное равновесие. Великий гений Израилев предстал не закаменевшим историческим персонажем, а живым человеком. Он ел, отрыгивал, ходил в уборную. Знавал удачные и скверные дни, сомневался, что хорошо, а что плохо.
Вы очень циничны, детектив Лев.
Джейкоб включил увеличительную лампу и приник к линзе.
Чтение шло мучительно медленно. Слов двести максимум, но почерк коряв, пропуски бессчетны, а слог возвышенно туманен. Невозможно представить, что в поисках вдохновения Реджи Черед корпел над этим документом. Даже Джейкобу, учившемуся в иешиве, на расшифровку понадобятся долгие часы, а то и дни. Одолев дату, приветствие и половину первой строки, он решил, что проще будет скопировать и спокойно поработать позже.
Джейкоб открыл блокнот и стал переписывать текст, не вникая в смыл. Точно скопировать слова – уже победа.
Р. Уотерс глянула на часы и прищелкнула языком.
Наконец Джейкоб добрался до подписи.

Иегуда Лёв бен Бецалель.
Джейкоб чуть не вскинул руки – уф, справился! – и тут у него перехватило дыхание.

Означает «лев». Произношение на английском достаточно условно. Немецкое Lowe проникло в иврит, затем в английский и по пути подрастеряло гласные.
Вполне можно прочесть как «Лёви», «Лейва» или «Левай».
Кажется, на иврите ваше имя означает «сердце». Лев.
По его собственному признанию, Петр Вихс не владел ивритом. Поэтому журнал регистраций вел на английском и на нем же общался с израильским подчиненным.
Однако решился поучать Джейкоба.
Я знаю, что оно означает.
А. Тогда мне больше нечего вам предложить.
В блокноте Джейкоб написал слово «сердце»:

Простота иврита свела его к двум буквам: ламед и бет. С «бет» начинается Пятикнижие Моисеево – Берешит, Бытие. Это начало. А «ламед» – последняя буква последнего слова – Исраэл, Израиль.
В двух буквах весь цикл. Сердцевина вопроса.
Хорошая метафора. Джейкоб Лев – сердечный человек.
Только он не сердечный.
Его учили иначе писать свое имя.
Звук «в» дают две разные ивритские буквы. В блокноте Джейкоб написал, как учил отец, – не ламед бет, а ламед вав:

В свою очередь, буква «вав» как согласная произносится «в», а как гласная – «о».
Стало быть, его имя можно произнести двояко.
Лев.
Или Loew.
Немецкая «w», смазанная «ое». Иммигрантское коверканье чужеземных имен. Удивительно, что он дотумкал лишь спустя два дня.
Нет: спустя тридцать два года.
Во временном пристанище отдела спецхранений Джейкоб разразился надсадным истерическим смехом.
Не узнал собственное имя.
– Пожалуйста, тише.
Джейкоб смолк. Сводило живот.
Жутко хотелось выпить.
Выходит, он однофамилец знаменитого ребе. Ну и что? На свете полно Лёвов. И что из того, если он и впрямь какой-нибудь пра-пра-пра-прародич? Семейства разрастались в геометрической прогрессии. Он где-то читал, что на свете живут около тысячи Рокфеллеров и от первоначального богатства их отделяет каких-то четыре поколения: большинство – обычный средний класс, кое-кто беден. Вернулись к среднему уровню.
Махараль умер в самом начале семнадцатого века. На каждое поколение отпустим двадцать пять лет, а то и меньше: в те времена рано женились и рано умирали.
Получается шестнадцать-восемнадцать поколений. В лучшем случае он один из десятков тысяч потомков.
Впрочем, отцовское увлечение Махаралем обретает новый смысл. Здесь уже не просто любознательность ученого.
А чего ж отец молчал? Вроде есть чем гордиться.
Джейкоб закрыл глаза. Перед мысленным взором мелькали отцовское лицо и глиняная голова с синагогального чердака.
Вспомнилось, как его разглядывал Вихс. Сравнивал. Что, узнал?
Но Джейкоб не похож на Сэма.
Он пошел в мать.
Вы детектив Джейкоб Лев.
Охранник называл его полным именем, и Джейкоб это принял за манерность, фигуру речи. Так вас зовут, верно? Теперь же казалось, что Вихс пытался что-то ему втемяшить, процарапать в глине его несметливой башки.
Джейкоб-лев-джейкоб-лев-джейкоб-лев.
Почему вы пустили меня на чердак?
Вы попросились.
Наверняка многие просятся.
Не все они полицейские.

В иврите каждая буква соответствует числу. Ламед – «тридцать», вав – «шесть».
И есть древняя легенда о тридцати шести незримых праведниках в каждом поколении, которые сберегают мир.
Твой батюшка-ламедвавник.
Всякий, кто себя мнит ламедвавником, по определению не ламедвавник.
Я считаю его ламедвавником. Не просто считаю – я точно знаю.
Мания величия – еще один симптом надвигающегося безумия.
В пальцах хрустнул карандашик. Больше не в силах сдерживаться, Джейкоб расхохотался.
– Сэр!
Джейкоб хотел было извиниться, но библиотекарша отпрянула, словно разглядев в нем нечто невыразимое. Он встал, и она ринулась за конторку; опасливо подала Джейкобу корзинку с его вещами. На благодарность не ответила. Взбираясь по лестнице, Джейкоб услышал, как сзади хлопнула дверь и лязгнул засов.
– Сейчас, Янкель, даже не верится, что мы были такие юные. Что соображает шестилетняя девочка? Ничего. А десятилетний мальчик еще меньше.
Нынешний монолог о любви навеян недавней помолвкой Фейгеле, младшей дочери Лёвов. В честь обрученных Перел ваяет кувшин для специй, которым воспользуется на хавдале — церемонии проводов субботы. Она вертит гончарный круг, руки ее серебристо сияют.
– Уже тогда Юдль слыл ученым. Когда вернулся из иешивы, наши родители сговорились о женитьбе. Я была самой счастливой девушкой на свете. – Перел улыбается. – Парень-то видный.
Под ее пальцами глина вздрагивает, словно плоть возлюбленного.
Тотчас вспыхивает аура.
– Не бывает гладких путей, Янкель. Когда мне исполнилось шестнадцать, отец неудачно вложил деньги. В одночасье потерял все. Наши мудрецы говорят: богат тот, кто счастлив тем, что имеет. Еще они говорят, что бедняк подобен покойнику. До катастрофы все называли отца Райх, хотя по правде его звали Шмелкес. Вообрази, каково это: слыть богачом и вмиг всего лишиться. От позора отец нам в глаза посмотреть не мог.
Уж она-то может это вообразить. Она изведала насмешку чужого имени.
Перел мнет глину. Свечение ауры неравномерно, оно ярче вокруг головы, сердца, рук и под юбкой между ног.
– Все думали, Юдль разорвет помолвку. Отец ему написал – мол, теперь он не осилит приданое. Я, конечно, горевала, но что тут поделаешь?
Кувшин обретает симметрию и гордую форму, аура становится нестерпимо яркой, окутывая Перел ливнем серых оттенков – ртути, олова и тумана, а еще тишины, тоски, неопределенности, терпения и мудрости, а еще до ужаса ужасной серостью беспримесной злобы.
Она не понимает, как все это может сосуществовать. Какая она, ребецин?
– Я была девчонка. Думала, все, жизнь кончена. Утонула в тоске, неделями не вылезала из постели. Мать боялась, что у меня чума. Из комнаты, которую я делила с четырьмя сестрами, меня отселили на чердак. – Легкая усмешка. – Может, поэтому здесь мне так хорошо.
Интересно, думает она, а у меня есть аура? Даже если есть, самой-то не видно. Наверное, есть, потому-то собаки рычат и поджимают хвост. Грустно, что собака знает тебя лучше, чем ты сама, но, видно, так уж заведено. Со стороны оно всегда виднее. Скажем, Перел явно не ведает про свою ауру. Если б увидала, как аура пузырится расплавленным серебром, так бы не балаболила.
– Одиночество не спасало, одной было только хуже. Но и на людях я горевала, и меня чурались – а то еще заражу своим несчастьем. Меня избегали, я была совсем одна. Кошмарный замкнутый круг. Я ухнула в беспросветное отчаяние, Янкель, глубже некуда.
От воспоминаний Перел мрачнеет и смолкает, вылепляя внутреннюю кромку горлышка. Затем притормаживает круг. Аура меркнет. Вот круг остановился, аура угасла; Перел осматривает кувшин. Удовлетворенно вздыхает и отставляет его в сторону:
– Это самое легкое. А вот с крышкой надо повозиться.
Жи́лой отрезает кусок глины. Раскатывает его на полу, выгоняя воздух, мнет ладонями, превращая в лепешку.
– Знаешь, что меня спасло, Янкель? Господь, благословен Он на небесах, и глина. Из своего бездонного отчаяния я взывала к Нему, и Он услышал мои мольбы, ибо милость Его бесконечна. Однажды я горемыкой бродила у реки. Присела отдохнуть. Машинально взяла горсть глины и стала мять. Давила ее, пропускала сквозь пальцы, как будто черные мысли выдавливала, и вдруг поняла, что уже не плачу. Хорошо-то хорошо, подумала я, но ведь ненадолго, скоро опять удушит тоска. Потом забыла про это, но через пару дней вновь туда забрела. Вообрази, я нашла высохший кусок глины с отпечатком моей руки. Пальцы прямо легли в желобки.
Из глиняной лепешки ребецин ладит крышку, и аура оживает.
– Она ведь особенная, влтавская глина. Крепкая и упругая. Затвердевает даже без обжига. Как накатит тоска, я уходила на реку и лепила всякую всячину. Зверей, цветы. Вылепила кидушный бокал отцу в подарок. Папа обрадовался. Улыбнулся впервые с тех пор, как лишился своих кораблей. Спасибо, сказал, ты вернула красоту в мою жизнь. Мало-помалу я стала поправляться.
Перел примеряет крышку к кувшину и лепит дальше.
– А в те дни, Янкель, почта ходила медленно. Да еще война ее тормозила. Из Люблина письмо Юдля добиралось месяцев семь, а то и восемь. Он ответил на папино предложение разорвать помолвку. Знаешь, что он написал? До последнего вздоха буду помнить слово в слово: «Реб Шмуэль, я откладываю свадьбу лишь до тех пор, пока не скоплю нужную сумму на семейный очаг, достойный вашей дочери».
Перел улыбается.
– Мудрецы говорят, что сладить хороший брак труднее, чем разделить Чермное море[54]. Это Господь, благословен Он на небесах, устроил, чтобы я нашла такого мужа. Иного объяснения нет, Янкель.
Перел смолкает, разглаживая крышку.
– Низ усыхает дольше верха. Надо бы дождаться, когда кувшин высохнет, а уж потом делать крышку, но до Хануки[55] меньше месяца. Скоро так похолодает, что не поработаешь. Глина станет неподатливой. Все равно что камень разминать. Хотя ты-то, наверное, смог бы, а? Шучу, шучу… Надеюсь, Исаак и Фейгеле будут счастливы. Я в это верю.
Она в ответ кивает.
– Спасибо, – говорит ей Перел. – Очень мило, что ты согласен. Исаак славный парень. Юдль его любит как родного. – Она смеется. – В общем-то, он и есть родня.
В мужья младшей дочери ребе выбрал знатока Торы, что ожидаемо и уместно. Но гетто взбудоражено тем, на какого именно знатока Торы пал выбор, – на Исаака Каца, Исаака Простоволосого, лучшего ученика ребе.
Но главное – на вдовца, бывшего мужем старшей дочери Леи.
Кроме ребе, все заинтересованные стороны осторожны в оценках новой партии. Включая нареченных. Исаак, привыкший отводить взор от свояченицы, нынче так выглядит, словно вот-вот хлопнется в обморок. Фейгеле мечется и беспрестанно читает псалмы, будто молится об отсрочке казни.
– Зимой я скучаю по чердаку, – говорит Перел. – Здесь так спокойно. Я прямо снова девочка, избалованная и нарядная. Смешно – вон ведь как извозюкалась. Наверное, тут я на своем месте… Так чудесно.
Мне такое не ведомо.
– После замужества я бросила лепку. Юдлю не нравилось. Говорил, это прах идолопоклонства. В молодости он был очень строг, знаешь ли. Он и сейчас запрещает оставлять подпись и говорить, откуда все это взялось. Но он меня любит, а любовь все стерпит, верно? Он же знает, что меня не удержать. После смерти Леи я лишь так и забывалась. Все женщины теряют детей. До нее я потеряла троих, все и месяца не прожили. Но Лея стала женщиной. Скромной, красивой. Она была слишком нежная для этого мира. Я всегда за нее боялась, и вот, видишь, не зря.
Ребецин рукавом утирает глаза и хрипло смеется:
– Что скажешь, Янкель? – Она показывает крышку: – Простовато? Можно цветком украсить. Фейгеле это любит.
Рука ее парит над инструментами. Ножи, деревянные скребки, разнообразные лопатки с мягкими зазубренными краями. Они и сами – произведения искусства, отполированные рукоятки излучают свет. Перел выбирает валик и раскатывает кусок глины.
– Лея предпочла бы гладкую крышку. Она тоже хорошо лепила. И чего я о ней разговорилась? Фейгеле, вот о ком нужно думать. Я все твержу себе: Лея была не такая уж красавица, не такая уж умница и добрая душа. О тех, кого больше с нами нет, помнится только хорошее. А как быть с остальными дочерями? Как горевать по умершему ребенку и радоваться живым? Вот что я пытаюсь осилить, Янкель.
Глиняная лепешка раскатана тонко, сквозь нее виден свет лампы. Перел осторожно укладывает ее на доску. Потом смачивает оселок, ловко натачивает самый маленький ножик – тот мелодично шуршит. Перел выдергивает из головы черный шелковистый волос и проверяет остроту лезвия. Нож легко рассекает волосок. Очистив лепешку от заусенцев и пузырьков, Перел нарезает из нее крохотные овалы.
– Не понимаю, зачем скрывать свои таланты, тем более раз они делают жизнь лучше. Страданий-то и так хватает. В том ничего дурного, если у тебя добрые намерения. Исаак и Фейгеле прочтут благословение, учуют сладость специй, вот и мне радость. Согласен? Конечно, согласен. Вот за что я тебя люблю, Янкель, – ты никогда не споришь.
Перел свертывает овал в завиток, смачивает водой и закрепляет на крышке. Вновь возникает аура, зыбкая, неуверенная.
Перел добавляет завитки – получается крохотный розовый бутон.
– Главное – соразмерность, Янкель.
И она думает о своем уродстве, о раздрае души и тела.
Перел принимается за вторую розочку.
– Наверное, из-за немоты тебе очень одиноко.
Тебе не понять.
– Я тебя обидела? – спохватывается Перел. – Прости, пожалуйста. И в мыслях не было посмеяться над тобой.
Она качает головой: никаких обид.
– Спасибо, Янкель. Ты настоящий мужчина… – Помешкав, Перел добавляет: – Голова-то у тебя ясная. А вот с языком нелады.
Она наклоняет голову. Знать не знала, что у нее есть язык. Зачем он ей, немой-то?
Перел ставит между ними ведро с водой:
– Ну-ка, открой рот.
Что? Он же не открывается.
Но ведь она и не пробовала.
– Открой и высуни язык, – говорит Перел.
Она разлепляет непослушные губы, и в темной блестящей воде отражаются зубы – точно прутья клетки. Поднатужившись, она раздвигает челюсти и в пещере рта видит обрубок плоти, который смахивает на глубоководную тварь, по ошибке всплывшую на поверхность.
Несомненно, язык, хотя эта кочерыжка едва ли достойна так называться. Он завораживает ее и отвращает. Все это время язык был во рту, а она и не знала.
Втянув щеки, она высовывает язык как можно дальше.
Новое потрясение: у языка есть талия.
Серая плоть посередине стянута бечевкой, завязанной на большой бантик, – болтающиеся концы так и просят, чтобы за них потянули.
Она шире раскрывает рот: нет, не бечевка, а тонкая полоска…
Бумаги?
Неудивительно, что она не может говорить.
Какое счастье наконец-то понять, в чем закавыка. Решение-то простое.
Она хочет распустить узел.
– Не смей! – кричит Перел.
Она замирает.
– Не вздумай развязать. Ты понял? Нельзя.
Она кивает.
– Скажи, что никогда этого не сделаешь.
Что за нелепая и жестокая просьба? Как она скажет, если язык на привязи, точно собака?
– Это Господне имя. На пергаменте. Если его вынешь… – Перел осекается. – Пожалуйста, не трогай его.
Она печально смотрит на свое отражение. Она чудовище, но уродливое тело и застывшая маска вместо лица тут ни при чем. Всему виной дурацкий огрызок и жалкий клочок.
– Прости, Янкель. Зря я тебе рассказала. Просто не хотела, чтобы ты думал, будто с тобой что-то неладно.
Но со мной неладно. И всегда будет.
Теперь-то она знает.
Она закрывает рот. Про узел, корябающий нёбо, уже не забыть. Ребецин молча заканчивает последние две розочки.
Вычистив инструменты, Перел ополаскивает руки в ведре, вытирает их, спускает рукава.
– Будь любезен, Янкель, вылей грязную воду.
Послушная, как всегда, она относит ведро к чердачной дверце, отодвигает засов и выплескивает воду на брусчатку внизу.
Перел обтирает инструменты, заворачивает их в кожаную скатерку и вместе с новеньким кувшином прячет в сушильный шкаф.
– Я жалею, что рассказала, честное слово.
Она кивает. Она уже простила Перел.
– Я тебе еще кое-что покажу. Может, у тебя полегчает на душе. – Перел встает на табурет и тянется в глубь шкафа. Достает матерчатый сверток, перехваченный шпагатом, развязывает узел. – Только бы Юдль не узнал. Осерчает.
Она разворачивает тряпицу: голова. Точь-в-точь лицо ребе.
– Хотела попробовать, насколько похоже смогу сделать. Тут круг не годится, нужно доверять рукам. Не знаю, как тебе, а по-моему, вышло здорово. Скажешь, тщеславие? Когда закончила, думала разбить, но рука не поднялась. Вот, опять тщеславие. Хочу, чтоб мои поделки жили долго. Может, это я сама себя так оправдываю, но, по-моему, жалко будет, если никто не узнает, как он выглядел. – Ребецин нервно усмехается. – Ну? Что скажешь?
Скажу, что это великолепно.
Перел разглядывает голову.
– Может, это грех, не знаю. Но что хорошего, если всё похоронить? Юдль говорит, радость приближает к Господу. – Она кивает на потолок. – Я пытаюсь, Янкель, но вот подумаю о Лее – и на душе черным-черно. Я уж наплакала реку слез. Как с этим быть? Ну вот и ищу дело рукам.
Перел заворачивает голову, прячет ее на полку и деревянным штырьком запирает дверцу.
– Я рада, что ты ее увидел, Янкель. Мне кажется, ты меня понимаешь, даже если я молчу. – Ребецин смущенно вздыхает. – Я знаю, ты собой недоволен, и у меня душа болит. Тебе и говорить не надо, я все понимаю.
Она снова кивает.
– Вот бы узнать, о чем ты думаешь. С тобой замечательно, но иногда я как будто сижу за стенкой столовой и по чавканью гадаю, что там едят.
Перел качает головой, блестят ее зеленые глаза.
– Я бы много отдала, чтобы прочесть твои мысли. Дословно.
Я тебя люблю.
Голос Сэма в трубке был тих и далек:
– Об этом лучше поговорить живьем.
– Ты меня слышал, абба?
– Возвращайся домой, Джейкоб.
– Завтра я вылетаю.
– Раньше никак?
Джейкоб вышагивал туда-сюда по тротуару перед библиотекой Рэдклиффа. Гомонившие студенты от него шарахались.
– У меня расследование в разгаре.
– Ты мог позвонить.
– Да-да, извини, но я здорово ошарашен.
– Тебе вредно волноваться.
– Я не буду волноваться, если ты прямо ответишь на мой вопрос.
– На какой?
– Ты знал?
– В каждой семье свои легенды. Всякие.
Увертка талмудиста. Хотелось заорать.
– Почему ты был против поездки в Прагу?
– Я же говорил. Я старик, не люблю оставаться один…
– Ты просил зайти на кладбище. Но не сказал зайти в синагогу. Почему?
– Пожалуйста, возвращайся. – Голос Сэма был мягок, печален и чуть испуган.
– Я скажу почему: ты знал, что я ее увижу.
– Откуда я мог знать? Что ты несешь? Послушай себя. Ты говоришь, как…
– Как кто? Давай, не бойся.
– Ты меня тревожишь.
Джейкоб рассмеялся и взмахнул рукой, едва не зашибив девицу в велосипедном шлеме.
– Знаешь, я и сам себя тревожу, абба.
– Ну так езжай домой.
– Не надо, не надо, не надо.
– Что – не надо?
– Выставлять меня дитём.
– Я не…
– Нет, выставляешь. У меня мозги набекрень, а ты все вещаешь, что панацея – чаепитие с тобой. Я занят. Понятно? Я работаю. У меня есть дело, и дело, как ни странно, важное, поэтому очень тебя прошу: перестань говорить со мной как с малолеткой.
Во рту стало противно – будто медную ручку облизал. Джейкоб никогда не орал на отца. Огромная пауза означала, что отношения их дали трещину; возникло нечто уродливое, гадкое и необратимое.
– Делай свое дело, – сказал Сэм.
Настал его черед поступить неслыханно.
Он оборвал разговор со своим единственным чадом.
В угрызениях совести Джейкоб перезвонил, чтобы извиниться. Сэм не ответил. Вторая и третья попытки тоже не увенчались успехом.
Джейкоб купил упаковку из четырех банок темного «Ньюкасла» и выпил их на лавочке перед воротами Бейлиол-колледжа. Достал блокнот, пальцем заложив страницу с письмом Махараля. Раз-другой принимался читать. Дальше первой строки дело не пошло. Захлопнул блокнот, обложкой прищемив палец. Так мне и надо, подумал он.
Духота и многолюдство «Монаха и девы» только усугубили его смятение. Древние динамики гремели чикагским блюзом. В море потрепанных пятнистых рож Присцилла Нортон сияла безмятежной луной. Нависнув над пинтой, она оживленно говорила с привратником Джимми Смайли.
Джейкоб протолкался к их кабинке:
– Извините, что опоздал. Заработался.
– Ничего, – сказала Нортон.
Смайли нейтрально кивнул. Он был в дедовской вязаной жилетке и растянутой футболке. Свернутый черный плащ лежал на сиденье. Примятая челка напоминала об отсутствующем котелке.
Нортон пододвинула к Джейкобу до краев полную пинту:
– «Мёрфиз». Надеюсь, вам понравится.
Сейчас ему все понравится.
Ядреный темный стаут. Будто бежишь через ячменное поле, разинув рот. Джейкоб произвел впечатление, залпом ополовинив стакан.
– Жажда, – сказал он.
– Заметно, – кивнула Нортон. – Ну что, начнем? Джимми, повтори, что рассказал мне.
Смайли облизал тонкие губы:
– Мистер Митчелл не прикидывался. Теих парней он не знает, потому как об ту пору здесь не служил.
– А вы служили.
– Ну еще б. Я-то их знал. Всю ихнюю кодлу. Была у нас уборщица. Не старше тебя, Пип. Мы с ней ладили, и вот однажды – было это, кажись, в восемьдесят пятом, я уж цельных три года отслужил – уборщица эта, Уэнди ее звали, на карачках драила сортир или что там, как вдруг он подкрался и подол ей задрал.
– В смысле, Реджи Черец, – уточнил Джейкоб.
– Нет, дружок евоный, тот, что на портрете.
Джейкоб достал рисунок:
– Этот?
– Он самый. Ну вот, Уэнди…
– Как его звали?
– Попридержите лошадок, я же рассказываю. – Смайли опять облизнул губы, настраиваясь на повествовательный лад. – Так о чем бишь я? Ах да, значит, Уэнди чует, что ее за жопу лапают, и подскакивает – мол, что такое, ты чего удумал? Он, значит, ее подмял, ясно, чего ему надо, но Уэнди девка не промах. Как куснет его… – Джимми ткнул себя в подбородок, – и он ее выпустил. Хорошо еще, поскользнулся на мокром поле, а то бы он ее разуделал.
Джейкоб поднял руку – можно вопрос? – и ткнул в характерный шрам на портрете.
– Могёт быть, ага, – кивнул Смайли.
Под столом Нортон стиснула Джейкобу ляжку.
– Рассказывай, Джимми.
– Ну вот, значит, прибегает она ко мне, вся в растрепанных чувствах. Мы, знаете ли, дружили, никаких амуров, просто симпатия. Не порть слезами хорошенькую мордашку, говорю, затем иду к мистеру Дуайту. В теп дни он был главный привратник, хороший человек, упокой Господь его душу. Ладно, Джимми, говорит он, разберемся. На другой день ищу Уэнди, хочу справиться, как она, и тут вдруг ее товарки огорошивают – уволилась. Я к мистеру Дуайту – мол, что за дела? Таким злым я его и не видел. Разговаривать не желает. Ничего не поделаешь, Джим. Окажи любезность, заткнись. Теперь-то я знаю, он сделал что мог, но тогда я взъерепенился. За что так с Уэнди-то? Она ж ни в чем не виноватая. Я наседаю, а он мне – ежели не заткнешься, я тебе зубы вышибу. А я ему…
Смайли вдруг расплылся в глупой ухмылке:
– Привет, Нед! Как оно ничего?
Толстый небритый мужик качко проковылял в туалет. Дождавшись, когда он отойдет, Джим продолжил:
– Я пошел к Уэнди на квартиру, где она с бабушкой жила. Чувствовал я себя паршиво – обещал помочь, а она лишилась работы. Уэнди не шибко мне обрадовалась. Выгнали меня, говорит. Что значит выгнали, говорю, ты же уволилась. Велели, говорит, написать по собственному. Какое же это, говорит, по собственному, если силком заставили. Не может быть, говорю, чтобы мистер Дуайт так испаскудился. Это не он, говорит Уэнди, это доктор Партридж, младший надзиратель. Вызывает, говорит, в свой кабинет, а там сидит этот ублюдок собственной персоной, все рыло в пластыре, будто после поножовщины, а с ним ваш разлюбезный Черед, который клянется, что сам видел, как Уэнди сграбастала его друга и пыталась поцеловать. Полная хрень, но Партридж и слушать ничего не хочет. Читает нотацию – как-де можно самой вешаться на молодого человека. Мол, он не потерпит подобных манер. Но Уэнди есть Уэнди, она заявляет: извиняться и не подумаю, оба они вруны поганые. Что ж, печально, говорит Партридж, боюсь, я не смогу рекомендовать вас новому работодателю. Вот тут Уэнди и поняла, что ее увольняют. Она-то думала, урежут жалованье, поставят на грязную работу, а оно вона как. Стала просить прощенья, а парни морды воротят – нас обозвали врунами, а мой папаша то, мой папаша сё. Ладно, Уэнди, говорит Партридж, давай расстанемся по-хорошему… Ну, я чуть было к нему не кинулся, а жена моя и говорит: с бедняжкой поступили ужасно. Но ты подумай своей башкой – ты ей вернешь работу, что ли? Даже если и вернешь, вдруг тот гад опять ее подкараулит? И ей уже так не повезет? Оно и к лучшему, хоть вроде на то и не похоже. Пусть куда-нибудь скроется, где ее не потревожит никто. Ну вот, а я об этом не подумал. На кой они, новые беды? Уэнди и мне. Я ить кормил три рта.
Смайли уныло потеребил нижнюю губу.
– Тут большинство нормальные ребята, правда. Иначе ноги б моей здесь не было. Хорошие парни. Но паршивая овца все стадо портит.
– Что стало с Уэнди? – спросила Нортон.
Смайли покачал головой:
– Точно не скажу.
– Как звали парня, который на нее напал? – спросил Джейкоб.
Привратник замялся.
– Все в порядке, можешь сказать, – уверила Нортон.
– Меня другое беспокоит, милая.
Смайли чуть кивнул на игроков в дартс, среди которых Джейкоб разглядел человека, прошедшего мимо их столика. Видимо, регочущая компания одноликих выпивох состояла из коллег-привратников.
– Можем еще куда-нибудь пойти. – От нетерпения голос Джейкоба вибрировал.
– Они скоро свалят, – сказал Смайли. – Если Нед задержится, жена с него три шкуры спустит, а прочие утята пойдут за вожаком. Пока суд да дело, угостите нас пивом.
Когда Джейкоб вернулся с пинтами, спутники его слегка повеселели – Смайли пофыркивал на реплику Присциллы «Я уж как-нибудь разберусь, старый греховодник».
– Эта девочка – чистое сокровище. – Джимми лучился улыбкой.
– Бриллиант, – поддержал Джейкоб.
– Она мне как родная.
– Спасибо, Джимми.
– Не на чем. – Смайли взял свою пинту и погрозил пальцем Джейкобу: – Не вздумайте ее обидеть.
– Я вам признательна, мистер Смайли, – сказала Присцилла, – но я смогу за себя постоять.
– Я это знаю и предупреждаю его. – Джимми подмигнул. – Если что, она сделает больно.
Как и было предсказано, первым ушел Нед, следом к выходу потянулась троица его приятелей, и каждый остановился похлопать Джимми по плечу.
– Пока, ребята.
– Будь здоров, Джимми.
Когда они ушли, из-под свернутого плаща Джимми достал фолиант в кожаном переплете с тисненым гербом на обложке.
КРАЙСТ-ЧЁРЧ
Год MCMLXXXV
– Вынес тайком. – Смайли прислонил книгу к стенке. – Мистер Митчелл не одобрил бы.
Текст на фронтисписе кое-что прояснил. Ежегодная иллюстрированная хроника деяний декана, педагогов и студентов Оксфордского Кафедрального собора Христа, основанного королем Генрихом Восьмым.
Палец Смайли пробежал по столбцу «Содержание», дважды приостановился и ткнул в 134-ю страницу.
Портреты студентов.
Фото Череца Джейкоб уже видел в его доме.
Реджинальд Черец.
История искусств.
– Этого вы знаете. – Джимми пролистал том к третьекурсникам. – А вот гаденыш, который лапал Уэнди.
Джейкоб уже так привык величать его мистером Черепом, что сомневался, приспособится ли к подлинному имени.
Терренс Флорак.
Изобразительное искусство.
Вздернутый нос. Нависшие брови. Шрам на подбородке.
Перри-Берни.
Терри? Макилдауни ослышался?
– Этот Флорак – он американец? – спросил Джейкоб.
– Нет, американец другой.
– Какой еще другой? – опешила Нортон.
Смайли возился, негнущимися пальцами неловко перелистывая страницы:
– Та еще была троица.
Наконец он добрался до цели – раздела «Клубы и мероприятия».
Ежегодные сводки, групповые фото: Музыкальное общество, Гребной клуб, Шахматный клуб и, наконец, не последнее и явно не маловажное…
Для Студенческого художественного общества год был плодотворным. Состоялись две выставки новых работ. Без преувеличения это небывалый успех. Вперед к новым свершениям! Дамы слева направо: мисс Л. Бёрд, мисс К. Стэндард, мисс В. Гош, мисс С. Найт (секретарь), мисс X. Ярмут, мисс Дж. Роуланд. Джентльмены слева направо: мистер Д. Боудин, мистер Э. Томпсон III (президент), мистер Р. Черец, мистер Т. Флорак, мистер Т. Фостер.
– Вот он. – Смайли ткнул пальцем в жилистого мужчину с пронзительным взглядом, стоявшего поодаль от студентов. – Вроде ихнего старшего брата.
Аспирант-куратор мистер Р. Пернат.
– Эвон какой очаровашка, – сказал Смайли. – Понятно, отчего девицы за ним бегали.
Пернат был не такой уж красавец. Чуть кривая усмешка, нос маловат. Сильно залаченные пряди косо ниспадали на лоб, затеняя глаза. Глаза Распутина, Чарльза Мэнсона, преподобного Джима Джонса[56]. Темные самоцветы в дешевой оправе. Даже на зернистой черно-белой фотографии, сделанной четверть века назад, они излучали странную гипнотическую силу, и Джейкоб не без труда отвел от них взгляд.
– Мне нужно скопировать это фото, – сказал он. Не колеблясь, Смайли вырвал страницу из книги.
– У тебя не будет неприятностей? – спросила Нортон.
Смайли подтолкнул страницу к Джейкобу:
– С паршивой овцы хоть шерсти клок.
Вернулись в участок.
– Я идиот, – сказал Джейкоб.
– Ну уж, – усмехнулась Нортон. – Давайте себя любить.
– Правило номер один: цени место преступления. Я не ценил.
– Улики говорили, что убийство произошло не там. По сути, у вас не было места преступления.
– Башка-то была, – возразил Джейкоб. – Вот вам и место.
Нортон похлопала по системному блоку:
– Ну давай, загружайся.
– Я узнал о нем в начале расследования. Встречался с его отцом.
– Чего-то вы больно на себя взъелись, нет?
– Ничуть. Это их фамильный дом. Я видел чокнутого отца. Я должен был хотя бы поговорить с сыном.
– Да загружайся же… чертова железяка. – Нортон глянула на Джейкоба, который вышагивал взад-вперед, кулаком растирая висок. – Может, водички?
– Не надо.
– Ну тогда принесите мне, пожалуйста.
В закутке, исполнявшем роль служебного буфета, Джейкоб выбрал относительно охлажденную банку колы. Когда он вернулся в кабинет, Нортон, ухмыляясь, показала на монитор.
Краткая биография и резюме Ричарда Перната.
Бакалавр / Магистр архитектуры, Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, 1982 г.
Аспирантура, История дизайна, Оксфордский университет, 1987 г.
– Он уроженец Лос-Анджелеса, – сказал Джейкоб. – Познакомился с этой парочкой и пригласил ее в Штаты. Теперь подчищает следы. Макилдауни слышал его прозвище. Пернат – Перри, Перни или что-то в этом роде. Гляньте Флорака.
– Уже набираю.
– Поживее!
– Знаете что, давайте-ка сами. – Нортон встала из-за компьютера. – А то еще оглохнешь от вашего ора.
Страница все загружалась. У Джейкоба задергался глаз.
– Да что ж так медленно! Прям хочется голову о стену разбить.
– Умоляю, не надо. Ну вот, готово.
Терренс Флорак, договорные чертежные работы.
Флорак, в 1988 году окончив Оксфорд, где второй специализацией избрал историю искусств, три года прослужил в лос-анджелесской конторе Ричарда Перната, члена Американского института архитекторов.
– Есть! – Джейкоб ткнул кулаком в воздух и взглянул на Нортон – та скептически поджала губы. – Ну что еще? – Вышло неожиданно грубо.
– Не хочу изгадить ваш триумф… Но. Кто звонил в службу спасения?
– Какая-нибудь сообщница. Пернат действует чужими руками. Использует одноразовых подельников. Скорее всего, он сам жертв даже не касался, лишь руководил.
– Если версию отмщения применить и к нему, сейчас он, возможно, где-нибудь валяется безголовый.
– Ставлю сто баксов, что он жив и здоров. И еще сотню на то, что прошлой весной он или какой-нибудь его знакомец были в Праге одновременно с Реджи Черецом.
– Итого двести долларов. Записать или поверить на слово?
Джейкоб сгорбился, потирая голову.
– Пробел между восемьдесят девятым и две тысячи пятым слишком велик. Сексуальные маньяки так не поступают. У них обычно не бывает каникул.
– Соглашусь.
– Хорошо бы выяснить, где они были.
Нортон завладела мышью и сощурилась в монитор:
– Флорак – в Лондоне. На его странице до сих пор адрес на Эджвер-роуд.
– Что понесло его в Лос-Анджелес?
– Наверное, самолет.
– В резюме ничего не сказано?
– Да угомонитесь вы наконец. Тут не расписан каждый его шаг за последние двадцать лет. – Нортон посерьезнела. – Надо звонить в Скотланд-Ярд.
Она сняла трубку служебного телефона, а Джейкоб позвонил Чарльзу Макилдауни. Ответил Дез:
– Здравствуйте, детектив. Чем могу служить?
– В вашем компьютере не осталось резюме Реджи?
– Наверняка нет.
– Вас не затруднит еще разок глянуть?
Дез вздохнул:
– Ладно, но только потому, что вы забрали эти ужасные туфли. Я перезвоню.
– Спасибо.
Нортон, похоже, гоняли из отдела в отдел. Джейкоб встал на коленки перед компьютером, открыл сайт Перната и кликнул по разделу «Ссылки».
Ежегодная конференция Североамериканского общества архитекторов, проектировщиков и чертежников, 2010 г., основной доклад (полный текст).
– Совершенно верно, сэр, – в телефон сказала Присцилла.
Джейкоб просмотрел доклад Перната, озаглавленный «Смело встретить новый рассвет».
Присцилла повесила трубку:
– Обещали завтра утром перезвонить.
– Вот, посмотрите.
– Ну?
– «Смело встретить» смахивает на «Быть безбашенной».
– Думаете?
– Хорошо, но дальше: «новый рассвет». Все жертвы лежали головой на восток.
– Хм. Допустим.
Осторожность – достоинство сыщика, но сейчас ее сдержанность раздражала. Джейкоб уже ни капли не сомневался, его вел внутренний гирокомпас, и вселенная раздавалась, и коробилась, и сплеталась у него на глазах. Нортон не понять его состояние. Он готов вгрызаться в сталь.
Стараясь не подать виду, Джейкоб отыскал сайт общества архитекторов, пролистал цели организации («служить интересам растущего сообщества профессионалов в области графики») и данные о ее членах (пятьдесят семь тысяч с гаком, география – от Манитобы до Мехико).
Конференция 2012 года намечалась на 10–12 августа в отеле «Шератон», Колумбус, Огайо. Три дня, плотно загруженных семинарами, налаживанием связей, знакомством с новейшими технологиями. Для участников, зарегистрировавшихся до 15 июля, предусмотрены скидка и подарочный термос.
Имелся список прошедших конференций. Палец Джейкоба дополз до прошлогоднего слета, и позвоночник прошило электричеством.
2011 – Новый Орлеан, Луизиана.
Джейкоб схватил блокнот и, ликуя, показал запись:
Люсинда Гаспар, Новый Орлеан, июль 2011.
– Мать моя женщина, – сказала Присцилла.
Сайт известил, что конференция 2010 года проходила в Майами, Флорида.
Кейси Клют, Майами, июль 2010.
– Ёпара-балет.
Стал понятен пробел 2009 года – конференция проходила в Калгари, Онтарио, а за пределами США Джейкоб не искал.
– Где наш кочевник в две тысячи восьмом? – спросила Нортон.
– В сорока минутах к северу от Манхэттена.
Евгения Шевчук, Нью-Йорк, август 2008.
Насторожили конференции 2007 и 2006 годов – в Эванстоне, Иллинойс, и Сакраменто, Калифорния. Вновь возникла мысль, что пропущены другие убийства по шаблону. Надо будет связаться с местными полицейскими управлениями.
2005 – Лас-Вегас, Невада.
Дани Форрестер, Лас-Вегас, октябрь 2005.
– Троица вместе легально, вот в чем прелесть, – сказал Джейкоб. – Все работают в одной сфере, совершенствуются в профессии. Да еще однокашники. Никто ничего не заподозрит, если они разгуливают втроем.
– Вспоминают недобрые старые деньки.
Джейкоб записал все даты вплоть до 1988 года. Акрон 2004, Орландо 2003, Провиденс 2002… Все нужно проверить и перепроверить.
Лос-Анджелес не принимал конференции с 1991 года. Ближе всех к нему округ Ориндж, подряд три конференции с 1996 по 1998 год. Схожие убийства не отмечены. Видимо, и впрямь близость к дому, где память о жертвах Упыря была свежа, требовала осторожности.
Ожил телефон Джейкоба. Присцилла схватила его первой. Выслушала, поблагодарила и дала отбой.
– Это Дез. Резюме не нашел.
Облом. Но Джейкоб едва заметил – он уже звонил детективу Марии Бэнд из Майами.
– Окажите любезность, – сказал он. – Жертва Кейси Клют, организатор вечеринок, верно?
– Ну-у… я…
– Я точно помню, это было в деле.
– Ну да.
– Хорошо. Чем она занималась за пару недель до гибели? Какую вечеринку устраивала?
– Наверное, и это есть в деле.
– Оно не под рукой. Нужна ваша помощь.
В трубке фоном забубнил раздраженный мужской голос.
– Знаете, сейчас мне не очень удоб…
– Прошу вас. – Джейкоба ничуть не заботило, что он портит человеку жизнь. – Я подобрался вплотную.
– Насколько вплотную?
– Впритык.
Бэнд вздохнула:
– Ладно. Что нужно?
Джейкоба интересовали Ричард Пернат, Терренс Флорак и Реджи Черед, а также любое упоминание архитектурного общества.
– Кто они такие?
– Команда Т. Тэ – от слова «твари».
– У меня тоже дело не под рукой, – сказала Бэнд. – Надо съездить в контору.
– Позвоните мне на мобильный, как только выясните. В любое время.
С той же просьбой Джейкоб обратился к Вольпе и Флоресу. Новоорлеанский Грандмейсон не ответил. Джейкоб оставил сообщение: «Привет, дружище. Три недели не могу вас поймать. Я нашел убийцу. Всегда пожалуйста».
Он убрал телефон. Нортон его разглядывала.
– Что? – спросил Джейкоб.
– Вам остается только ждать. Пошли отсюда.
Он позволил взять себя под руку и вывести на улицу.
– Куда мы идем?
– Ко мне.
Краснокирпичный дом, где на последнем этаже обитала Нортон, располагался недалеко от участка. По стилю напоминал жилище Макилдауни, но был гораздо меньше.
Едва миновав крохотную прихожую, в гостиной пара рухнула на тонкий ковер, превратившись в переплетенный клубок, увлеченный расстегиванием пуговиц, молний и крючков.
– Невмоготу. Засажу прямо сейчас, – сказал Джейкоб.
– Что и требуется.
Джейкоб явил новообретенную мощь: жимом лежа переместил Присциллу на диван, и понеслось – вопли, смех, шлепки по голой заднице. Руки и губы впивались в ее горячую мягкость. Ему нравилось прекрасное несовершенство ее тела, извинявшее его собственные физические недочеты и отвлекавшее от мыслей о Мае и Дивии Дас. Он прикусил ее губу, вкус крови был восхитителен и возбуждал.
Одной рукой она призывно ласкала член, другой крепко держала Джейкоба за подбородок, не давая отвести взгляд от ее васильковых глаз.
– Не торопись, – попросила она.
Он хотел исполнить ее желание. Но едва проник в нее, голова ее запрокинулась, тело напряглось и тотчас обмякло, глаза закатились, рот судорожно распахнулся.
Не от восторга. От боли.
Он мигом выскочил из нее и приподнялся на руках.
Испуганный и растерянный взгляд Присциллы метался по его лицу, будто не узнавая. Затем испуг обернулся кромешным ужасом, Джейкоб услышал звук сродни вою десяти тысяч демонов и, обернувшись, узрел черный кулак, летевший ему в голову.
Джейкоб нырнул с дивана и перекатился по ковру, крепко приложившись башкой о ножку журнального столика. Нортон завопила.
Джейкоб привстал и предельно четко увидел черного жука – несомненно того самого, что преследовал его, но сейчас невероятных размеров; Джейкоб не двигался, не мог двинуться, громадность этой твари завораживала, и он только смотрел, как тварь атакует его подругу – неутомимо колет рогом в плечи, грудь, шею, а Нортон визжит, молотит руками и пытается спрятать лицо.
– Убери его! – заверещала она.
Крик вывел Джейкоба из ступора: он бросился на жука, хлестнул ладонью, но тот увернулся и сосредоточил внимание на новом противнике. Басовито гудя, жук наматывал круги, облетая цель. Под сквознячком от жучиных крыльев Джейкоб вращался следом, и его член, все еще готовый к бою, нелепо мотался, как расшатавшаяся карусельная лошадка.
Потом жук отлетел в дальний угол и плюхнулся на пол, суча передними лапками.
Джейкоб ринулся на врага.
Жук выпустил крылья, взлетел и, спикировав на девушку, погнал ее по комнате. Нортон драла на себе волосы и орала:
– Убери его! Убери!
Джейкоб схватил с журнального столика книжку и запустил в жука, но промазал – тварь заложила вираж, ответив тошнотворным стрекотом, очень похожим на смех. Джейкоб швырнул вторую книжку и сбил торшер, погрузив комнату в полумрак. Теперь он засекал тварь только по звуку, а та носилась, и увертывалась, и гудела, и хихикала, и зависала в воздухе, но когда Джейкоб стегал ее кроватным покрывалом, точно хлыстом, шмыгала у него между ног, чиркая панцирем по мошонке.
Нортон дергала оконный шпингалет, приговаривая:
– Открывайся же, ну открывайся, ради бога.
Жук завис прямо перед Джейкобом, звонче жизни самой. Ветерок от его крыльев шевелил Джейкобу волосы. Жук стал меньше, огромными остались только бутылочно-зеленые глаза. Ничего не стоило схватить и раздавить его в руке, но, глядя на маслянисто блестящий панцирь и паутинку крыльев, Джейкоб понял: ни за что на свете он не уничтожит такую красоту.
Нортон справилась со шпингалетом, но теперь заело раму.
– Ну же!
Жук подлетел вплотную, изящно покачиваясь в воздушном океане.
Джейкоб ощутил тепло, когда жук коснулся его губ.
Челюсти жука открылись и захлопнулись, зашуршал жесткий панцирь.
Жарко пахнуло сладким дыханием.
Потом жук нехотя отстранился, не сводя взгляда с Джейкоба, развернулся и с жужжаньем устремился к Нортон.
Услышав его, Присцилла вскрикнула и пригнулась. Жук пролетел мимо нее и, пробив дырку в стекле, растворился в ночи еще одной черной звездой среди множества черных звезд.
Бракосочетание Исаака Каца и Фейгеле Лёв совершается в Староновой синагоге в полдень среды, дабы слияние новобрачных произошло в ночь на благодатно плодоносный четверг.
На помосте под хупой виновники торжества, их отцы, свидетели – величественный Мордехай Майзель и скромный Давид Ганц, братья и прочие родичи мужского пола. На скамьях благодетели, наперсники, светлые умы, сторож Хаим Вихс и финансист Яков Бассеви[57], делегации талмудистов из Кракова, Острога и Львова. Император прислал поздравительное письмо. Пергаментному свитку с золотой каймой и отменной каллиграфией предоставлено отдельное почетное место в первом ряду, где он покоится на подушке красного шелка.
В тесноте женской половины матери и родственницы по очереди заглядывают в смотровые оконца. Синагога так забита, что буквально трещит по швам.
В дверях исполин Янкель сдерживает толпу.
В праздничных нарядах люди пришли из дальних и ближних селений, дабы выразить любовь и почтение. Дюжины дюжин облепили крышу и свесились с карниза, надеясь хоть что-нибудь углядеть сквозь розетку. Сотни сотен снаружи приникли ухом к каменным стенам. Тысячи тысяч запрудили окрестные улицы: старые и молодые, немощные и здоровые, заклятые враги стоят впритирку, забыв ссоры, боясь пропустить звон разбитого бокала, возвещающий о завершении обряда.
Однако звон слышен аж до самой Заттельгассе, и ему вторит одобрительный рев неисчислимых глоток:
Мазел тов![58]
Запрет на публичные концерты временно снят, и девять оркестров наяривают девять разных мелодий. Народ притоптывает, свистит, хлопает в ладоши и распевает. Сумасшедшая какофония вдвое громче, когда Янкель расталкивает зевак у входа, дабы новобрачная пара могла с порога помахать своим обожателям, а затем уединиться в отдельной комнате.
В кои-то веки всего вдоволь: еды, питья и улыбок. Майзель и Бассеви об этом позаботились. Гетто превратилось в огромный банкетный зал под открытым небом – дощатые столы растянулись по всей Рабинергассе, ломятся от снеди. Приглашены все желающие, и народ подчищает блюда с маринованной морковью и фаршированными потрохами, заливными голяшками и картофельными клецками. Под сугробами хрена посверкивают целиком фаршированные щуки. Праздник подобен разгулу весны. Ребятня объедается медовыми калачами, отламывает марципан на розовой воде, горстями хватает вишни, моченные в пиве.
После пятнадцатиминутного уединения молодые вновь выходят к гостям, толпа встречает их криками и, рукавами утерев рты, пускается в пляс.
На помост ставят позолоченные стулья. Орда музыкантов, как-то сумевшая сговориться, дает жару, подхлестывая водоворот разлетающихся бород, черных сюртуков и ног, сбросивших башмаки и взлетающих к небу. Затейник Хазкиэль выводит свою труппу лицедеев, акробаты крутят сальто и строят высоченные пирамиды в четыре человека, храбрецы ловко жонглируют фруктами, факелами и бокалами.
В центре кутерьмы восседают Исаак и Фейгель; они аплодируют каждому номеру и, как дураки, ухмыляются толпе и друг другу.
Еще? Еще!
Веселье – святое дело, ибо нет важнее заповеди, чем дурачиться на радость новобрачной. Россыпь скрытых талантов. Всем известно, что Йомтов Глюк горазд починять телеги. Но кто бы мог подумать, что он еще и акробат? Кто знал, что Гершом Замза умеет плясать с бутылкой на голове?
Тон задает сам ребе, который то и дело присоединяется к танцорам, выделывает коленца, и Фейгель визжит от смеха. Весь красный, великий ребе падает на стул, но, чуть отдышавшись, вновь вскакивает и самозабвенно пускается в пляс, и так до самой ночи.
Еще!
Двери нараспашку, горят костры, все пьяные – гетто беззащитно. Однако ребе постановил, что нынче не будет дозора. Чтобы не нарушить дух веселья. Как аргумент, он цитирует Писание:
Бог защищает бедняков, Янкелъ.
Но привычка – вторая натура. Пока шумит веселье, она по краю обходит толпу. Узловатым языком трогает нёбо – новая привычка – и разглядывает незнакомые лица. Одни, увлеченные праздником, ее не замечают. Другие вперяют взгляд в землю, а потом шепчутся ей в спину:
Глянь, какой здоровенный.
Думают, она не слышит. Шум-то невообразимый. Но ее зрение и слух, некогда замыленные, обрели небывалую остроту. Стоя во дворе ребе, она слышит талмудические дебаты за окнами дома учения. Туманной ночью видит букашку, пролетевшую по небу.
Есть и другие неожиданные перемены.
Ауры: теперь она видит их у всех, с каждым днем четче. Утешительное открытие: аура бывает не только серой, но розовой, сапфировой, кремовой, землистой – всех бесконечных неуловимых оттенков страсти.
В палитре любовь счастливая и неразделенная, ненависть пылкая и закоренелая.
Соседская зависть, супружеская ревность, ребячья взбалмошность. Греховная радость новизны. Бездонная нужда, питающая бахвальство.
У каждого своя неповторимая аура, и сейчас улицы затоплены сияющим морем нравов, а она смакует ослепительное, невообразимое зрелище.
В конце Рабинергассе она заглядывает за перегородку, отделяющую мужской праздник от женского. Будь на ее месте любой другой мужчина, это сочли бы возмутительным нарушением приличий, но все знают, что исполин Янкель дурачок. Никто не заподозрит его в похотливом умысле.
Глаза ребецин сухи, она хлопает в ладоши в такт отдаленной музыке. Похоже, Перел смирилась с этим браком. Конечно, нелегко, когда одно твое чадо замещает другое. По бокам ребецин сидят ее дочери и невестка. Пустой стул в память о Лее.
Она ловит взгляд Перел, сквозь чад и шум они безмолвно переговариваются.
– Янкель! – Хаим Вихс тянет ее за накидку. – Тебя ребе зовет!
Ребецин улыбается и машет рукой: ступай, со мной все хорошо.
Вихс втаскивает ее в центр круга танцоров, где ее ждет ребе. С величайшей осторожностью она берет его за руки, и они пускаются в пляс. Ребе пыхтит, задыхается, по его длинному худому лицу струится пот, но, когда она пытается сбросить темп, он крепче прижимает ее к себе и, раскачиваясь, шепчет ей в грудь: «Не отпускай меня, не отпускай». Она слышит его разбитый голос и понимает, что не пот струится по его щекам. Это слезы.
Мучительно, что никак не ответить на его любовь. Проклиная себя (столб каменный!), она вскидывает голову и вот тогда-то замечает незнакомцев.
Их трое.
Все рослые, но тот, что посредине, просто гигант, на голову выше своих спутников и всех вокруг. Почти такой же громадный, как она. Стройный, как тростник; прищуренные глаза, над ушами пучки седых волос. Ветер полощет его балахон грубого полотна, который больше к лицу пещерному отшельнику, нежели пражскому горожанину.
Двое других здоровяки. Смахивают на дерюжные мешки с картошкой. Темноволосый гримасничает и топчется. Его краснорожий товарищ прячет ухмылку.
Казалось бы, странное трио гигантов должно привлечь всеобщее внимание, но, похоже, их никто не замечает. На задах толпы они высятся этакими очеловеченными деревьями. Но только они не люди. Не человеки. У них нет ауры. В буйстве красок, излучаемых гуляками, они окутаны холодной пустотой, безжалостной и безмятежной, от которой ее охватывает ужас, а перевязь во рту затягивается туже и туже, грозя разрезать язык, точно жила, рассекающая глиняный ком.
Они наблюдают за ней.
– Будет, Янкель, умоляю, довольно. – Голос ребе помогает очнуться.
Юдль выпускает ее из объятий и знаком велит преклонить колена. Она неохотно подчиняется. Теперь она спиной к незнакомцам, но чувствует, как ее накрывают их длинные незримые тени.
Ребе возлагает руки ей на голову. Он бросает взгляд за ее плечо, и лицо его каменеет.
Ребе тоже их видит.
– Все хорошо, дитя мое, – улыбается он.
С губ его струится благословение:
Да уподобит тебя Бог Эфраиму и Менаше.
Да благословит тебя Господь и сохранит тебя.
Да прояснит Господь лицо Свое для тебя и помилует тебя.
Да обратит Господь лицо Свое к тебе и дарует тебе мир.
Ребе целует ее в лоб:
– Умница.
Тепло пронизывает ее и клубочком сворачивается там, где должно быть сердце.
Музыканты вдарили мезинке[59]. Хазкиэль протискивается сквозь толпу и вручает ребе метлу. А она отходит в сторону, выглядывая рослых незнакомцев. Их нигде нет.
– Врать не стану, я рада, что все закончилось, – говорит Перел.
Полторы недели после свадьбы, жизнь вернулась в нормальное русло. После праздничного неистовства улицы странно безлюдны и замусорены. Вечереет, спадающая жара окутала реку пеной клубящегося тумана. На берегу они набрали свежей глины и возвращаются домой.
– Пойми правильно, я рада за нее. Ты же знаешь.
Она кивает.
– Нынче просыпаюсь, а в доме так тихо. Юдль уже ушел, я прислушиваюсь к шагам Фейге. Вот же глупость, ведь я вовсе по ней не тоскую. Просто вспомнилось, как она крохой топотала. Дурь, конечно, но ничего не могу с собой поделать. Ну и пусть, верно? Я ее вырастила. Двадцать девять лет поднимала детей. Наверное, я вправе маленько себя пожалеть.
Она в ответ кивает, стараясь не расплескать глину. Я понимаю.
– Конечно, она же не в другой город уехала. – Перел смеется. – Ладно, хватит об этом. Нас ждет работа. Я обещала Фейге закончить новые блюда. Ничего страшного, успеем. Вот что мы сделаем: поработаем вместе. В конце каждого обхода заглядывай на чердак, бери, чего я наваяла, и неси на обжиг в кузню. Если что, будем работать всю ночь. Плохо, что ли? Только сначала заскочим домой, выгрузим глину.
Сворачивают на Хелигассе. В вечерних шорохах она различает знакомые домашние шумы Лёвов: шлепает мокрая тряпка – служанка Гиттель, позевывая, драит кухонный пол. Скребутся мыши, что живут под лестницей. Шипит очаг.
А из открытого окна кабинета доносится голос ребе, настойчивый и напряженный:
Я понимаю, понимаю, но…
Его перебивает голос, похожий на осипший гудок. Услышав его, она замирает как вкопанная.
Говорить не о чем. Мы пошли вам навстречу и дали неделю на праздник.
Плюс еще несколько дней, добавляет другой голос – галька, дребезжащая в кувшине.
– Янкель? – окликает Перел. – Чего ты?
Я это прекрасно знаю и невыразимо вам благодарен, говорит ребе. Но поверьте, еще не время. Он нам нужен.
Она, поправляет галечный голос.
Ваши братья и сестры весьма недовольны, гудит первый голос.
Заклинаю вас, говорит ребе. Нам нужно еще немного…
Больше нисколько.
Пальцы Перел стискивают ее руку.
Вступает новый голос, бархатистый и сочувственный, но не менее твердый:
Прошло два года.
И все эти два года у нас царил покой, говорит ребе. Заберете его…
Ее! – рявкает галечный.
…и покоя не будет. Я ручаюсь.
За всякое зло воздастся в свой срок и в своем месте, отвечает гудящий.
Но если можно его предотвратить…
Я знал, что так и будет, вмешивается галечный. Ведь я говорил, а?
Мы не занимаемся предотвращением, говорит гудящий. Это не дано ни вам, ни нам.
Я говорил, что он к ней прикипит, и нате вам.
Если тянуть, будет только больнее, говорит бархатистый.
Баланс справедливости требует поправки, говорит гудящий.
Перед не шевельнется. Тоже слушает.
Куда он отправится? – убито спрашивает ребе.
Она, поправляет галечный. Вас это не касается.
Туда, где она нужнее, говорит бархатистый.
Первобытный позыв бежать подобен накатившей дурноте. Но убежать не получится – пальцы Перед легонько стиснули запястье и держат ее, точно якорь.
Да будет так, говорит ребе.
Она глядит на Перед, ища в ней отсвет печали – ведь их совместная жизнь закончилась. Но зеленые глаза ребецин неотрывно смотрят на окно, она что-то прикидывает.
– Ступай за мной, – говорит Перед.
– Вот не надо! – в трубку рявкнула Присцилла, жестикулируя, как аукционист. Разговор с хозяином дома шел на повышенных тонах. – Не надо советовать мне нанять домработницу. Покорнейше благодарю, я содержу квартиру в чистоте.
Приложив к голове пакет со льдом, Джейкоб сидел по-турецки на полу. Нортон металась по гостиной. Джейкоб чувствовал себя виноватым и радовался, что Присцилла отводит душу на ком-то другом.
– Я категорически… послушайте… нет, извините… я категорически… Не надо говорить, что я сама виновата. У меня не то что жуков – мухи никогда не было…
Все еще голая, Присцилла лишь накинула кроватное покрывало на плечи. Жук оставил синяки у нее на голенях, руках и шее, яркие на молочно-белой коже.
Нортон шваркнула трубку на диван:
– Сволочь такая. Говорит, я грязь развела.
– Говнюк, – поддакнул Джейкоб.
– У жука-то рог! Рогатые твари не заводятся от того, что раз-другой не вынесешь мусор.
Джейкоб хотел ее обнять, но девушка затрясла головой и отпрянула:
– Мне надо в душ.
Она поспешила в ванную и заперла дверь.
Джейкоб опять плюхнулся на пол. Прислушался к шуму воды, потом осмотрел себя на предмет повреждений. Шишка на голове, живот и бок окарябаны о жесткий ковер. Синяков нет.
Весь гнев излит на Нортон.
Губы, целованные жуком, еще покалывало.
Шум воды стих, через минуту из ванной появилась Присцилла в пижамных штанах и толстовке, волосы туго стянуты в хвост.
– Добавить льда? – спросила она.
– Спасибо, все хорошо. Как ты-то?
– Жива. Пора на боковую. – Присцилла помолчала. – Ты идешь?
– Ничего, если я еще посижу?
Нортон как будто облегченно вздохнула.
– Может, тебя покормить? Ты голодный?
– Нет, спасибо.
Не настаивая, Нортон ушла.
Джейкоб сел на диван, посмотрел на зазубренную дырку в стекле.
В спальне ворочалась и бормотала Присцилла.
Зашевелились его джинсы, брошенные у двери. Джейкоб подкрался, вывернул их на лицо и достал мобильник.
– Я учитываю все любезности, которые вы мне задолжали, – вполне дружелюбно сказала Мария Бэнд.
Незадолго до своей гибели Кейси Клют организовывала фуршет для ежегодной конференции Североамериканского общества архитекторов, проектировщиков и чертежников.
– В тему? – спросила Бэнд.
– Еще как. Нет слов. Спасибо.
Джейкоб выключил телефон и тихонько открыл дверь спальни. Постоял на пороге, глядя, как равномерно дышит Присцилла, по горло укрытая одеялом.
– Кто-то звонил? – спросила она.
– Извини. Спи, спи.
– Я не сплю.
Джейкоб подсел на край постели:
– Детектив из Майами.
– Что там?
Джейкоб рассказал.
– Хорошая новость.
Он кивнул.
– Ты спать-то собираешься? – спросила Присцилла.
– Да чего-то не хочется.
Она села, прислонившись к изголовью.
– Не хочешь поговорить о том, что случилось?
– О чем именно? – Джейкоб выдавил улыбку. Вышло нарочито, и Присцилла в ответ не улыбнулась.
– Было больно, – сказала она. – Когда ты вошел в меня…
– Тебя как будто насадили на нож.
Присцилла сморщилась:
– Может, у тебя какая-нибудь страшная болезнь?
Болезнь, только не физическая.
– Нет.
– А что тогда?
– Я не знаю.
Присцилла странно хихикнула, точно икнула.
– Наверное, знаю я. Мы слишком много выпили на голодный желудок и слишком завелись.
– Согласен.
Молчание. Он хотел взять ее руку, но Присцилла отстранилась и обхватила себя за плечи. Не поймешь – то ли сердится, то ли озябла.
– Я бы кое-что рассказала, но ты подумаешь, что я рехнулась, – сказала Присцилла.
– Не подумаю.
– Подумаешь.
– Я обещаю.
Пауза.
– Я видела… Вернее, не то чтобы видела… скорее, почувствовала… не знаю, как назвать. – Присцилла смолкла. – Не могу выговорить, самой кажется, что я чокнулась.
Джейкоб взял ее за руку. На сей раз Присцилла ее не отняла. Он ждал.
– Я видела женщину. За тобой. Она стояла за твоей спиной. Всего полмгновенья. Как будто молния в человечьем облике.
– Как она выглядела?
– Не издевайся, пожалуйста.
– Я серьезно.
– У меня крыша едет и без твоих…
– Пиппи. Честное слово, я не издеваюсь.
Присцилла молчала.
– Скажи, как она выглядела.
– Зачем?
– Ты ее видела. Скажи, какая она.
– Ну да, но… она же не реальная.
– Скажи, что ты видела.
– Она… Ты всерьез спрашиваешь?
– Всерьез.
– Ну… я бы сказала, красивая.
– Насколько?
– Что – насколько?
– Насколько красивая?
– Очень. Ну, я не знаю, красивая, она и есть красивая. Можно сказать, совершенство. Только я не понимаю, чего ты…
– Цвет волос, цвет глаз?
Присцилла раздраженно закряхтела:
– Чего ты прицепился?
– Ты мне сказала…
– Ну сказала, сказала – больше-то некому. Скажи я кому другому, меня в психушку упекут. Да и тебе-то зря сказала. Ладно, всё, закончили.
– Пиппи…
– Всё, Джейкоб.
– Значит, красивая. Ладно.
– Она как будто сердилась. – И тут Пиппи Нортон, умница и лихой коп, расплакалась: – Она как будто ревновала.
Она свернулась калачиком, он поглаживал ее по спине и ласково приговаривал: конечно, надо обо всем забыть. Убеждал ее и себя. Потом перевел разговор на расследование. Чтобы ее ободрить, перечислил, как много они вместе сделали. Она обещала дожать Скотланд-Ярд. Он сказал, что пришлет ДНК-анализы. Теперь они были не жертвы галлюцинации, не осрамившиеся любовники, но деловитые копы. Прощание их было сердечным, скрепленным негласной договоренностью никогда не вспоминать о том, что случилось.
– Это незабываемое знакомство, – сказала она.
– Полностью согласен.
– Будешь в наших краях – непременно дай знать.
– Только сперва дезинфектора вызови.
– Первым делом, уж поверь.
В хостеле Джейкоб, подсвечивая себе мобильником, собрал пожитки. Соседи заворчали и накрылись подушками.
Холл был пуст. Джейкоб сел в компьютерную кабинку и раскрыл блокнот с текстом пражского письма. Пришлось помучиться. Он беспрестанно справлялся в онлайновых словарях и додумывал отсутствующие слова.
Махараль питал склонность к аллюзиям, и трудно было понять, где заканчивается его собственная мысль и начинается цитата из Писания. Список первоисточников удлинялся. Стук клавиш – очень одинокий звук.
Около пяти утра он закончил перевод.
С Божьей помощью
20 сивана 5342 г.[60]
Мой дорогой сын Исаак.
И благословил Господь Исаака и да благословит Он тебя.
И как радуется жених невесте, возрадуется о тебе Бог твой. Ибо глас ликования и глас веселья на улицах Иудеи. И посему я, Иегуда, воздаю хвалу Ему.
Истинно говорю: и кто обручился с женою и не взял ее, тот пусть идет и возвратится домой. Пусть идет и возвратится к жене своей.
Но не забудем, что глаза наши видели все деяние Господне великое, которое Он содеял. А когда сосуд, который делали мы из глины, не удался в руках наших, то горшечник сделал из нее снова другой сосуд, какой ей заблагорассудилось. Разве гончар наравне с глиной? Возможно ли, чтобы сказало изделие о сделавшем его: «Он не сделал меня» – и творение сказало о творце своем: «Он не разумеет»?
Не дай же сердцу своему ослабеть, не ведай страха, не дрогни.
Ибо по правде мы возжелали благодати; Господь лишил нас милости Своей.
Джейкоба потряхивало. Он спрятал листок с переводом в карман и пошел выписываться.
Портье спросил, понравилось ли ему в Оксфорде.
– И да и нет, – ответил Джейкоб.
– Надеюсь, больше да.
Джейкоб протянул белую кредитную карту:
– Слишком сильно сказано.
Они ждали его на выходе с таможенного контроля.
Субач цапнул его сумку:
– Позвольте мне.
Под знойным лос-анджелесским солнцем поплелись к автостоянке.
– Как мило, что вы меня встречаете, – сказал Джейкоб.
– Фирменная доставка пассажиров, – ответил Шотт.
– Америка вас принимает с распростертыми объятьями, – сказал Субач. – Как долетели? Вам кино показывали?
– «Кунг-фу Панда 2».
– Понравилось? – спросил Шотт.
– Меньше, чем первый мультик.
– Продолжения всегда хуже. – Субач нажал кнопку лифта.
– Надеюсь, вам было что почитать, – сказал Шотт.
Джейкоб пожал плечами. Почти весь полет он просматривал свои записи и пялился в альбомную страницу, приучая себя к взгляду Перната. Потом от корки до корки прочел журнал, торчавший из кармана сиденья, разгадал кроссворд и судоку, пролистал рекламный каталог. Даже когда все чтиво закончилось, он не взглянул на письмо и перевод.
Спокойный полет, никакой турбулентности, все безмятежны, но салон как будто вращался, бесконечно сжимаясь.
Джейкоб всасывал сухой самолетный воздух, распускал ремень безопасности, следил за точкой на экране, пересекавшей Атлантику, трогал след на губах, оставленный жуком, всякий раз поднимал палец, заслышав дребезжанье, возвещавшее прибытие тележки с выпивкой, и был признателен стюардессам, которые, не выказывая осуждения, продавали ему очередную восьмидолларовую бутылочку «Абсолюта».
Видимо, нервный пассажир.
Они вышли из лифта и по бетонному полу в масляных пятнах направились к машинам, выстроившимся, точно ливрейные лакеи. Брелоку Шотта ответила длинная белая «краун-вика» без номеров, с тонированными стеклами.
Увидев в них свое отражение, Джейкоб вздрогнул: пророк с безумными глазами и пятидневной щетиной.
Он потянулся к дверце, но та открылась сама, явив Майка Маллика, бамбуком раскинувшегося на многоместном сиденье.
Маллик похлопал по кожаной подушке:
– Залезайте, детектив.
В машине было сумеречно и прохладно, кондиционер работал на полную мощь. Шотт втиснулся в беспросветный поток автомобилей.
– Что у вас с губой?
– Простите?
– Обожглись?
Джейкоб непроизвольно облизал губы. Их уже не покалывало, но посредине запеклась корочка.
– Пицца, – сказал он. – Поспешишь – людей насмешишь.
– М-да. Лихо вы попутешествовали.
– Я старался экономить, сэр.
Маллик отмахнулся:
– Это неважно.
– Нет чтобы раньше сказать! В следующий раз поселюсь в «Рице».
– В следующий раз?
– Если возникнет необходимость, сэр.
На переднем сиденье хихикнул Субач.
– Однако вы не зря съездили, – сказал Маллик.
– Вы были правы, сэр. Весьма познавательно.
– Славно, славно. Поведайте, что вы узнали.
Из отчета, облагороженного в угоду здравомыслию, выпали происшествие на чердаке, полтора часа в подвале научной библиотеки Рэдклиффа, незадавшееся совокупление с Нортон и новый шестиногий дружок.
Красивая.
Она как будто сердилась.
Она как будто ревновала.
Кажется, рапорт слегка разочаровал Маллика, хотя, возможно, его просто огорчала сама жизнь.
– Вы хорошо поработали, Лев.
– Благодарю вас, сэр.
– Больше нечем поделиться?
– Простите, сэр?
– Помнится, в нашу последнюю встречу вы прослушали пленку.
– Так точно, сэр.
– И какие выводы? – осторожно спросил Маллик.
– То бишь?
– Есть подвижки в установлении абонента?
– Я планирую, сэр, сосредоточиться на Пернате, поскольку он главный подозреваемый. Если на пленке его соучастница, в чем я не уверен, она проявится.
– А если нет?
– Я продолжу наблюдение за Пернатом. Надеюсь, он даст повод взять его за жабры и выжать показания.
– А вдруг он окажется законопослушным гражданином?
– Он безусловно законопослушен. Его двадцать пять лет не могли поймать. Но он психопат.
– Значит, он на свободе, а вы наблюдаете.
– Да, сэр.
– За психопатом.
– Я не вижу другого варианта, сэр. Против него только косвенные улики. Если спугнуть, он затаится и вовек не нарушит даже ПДД.
– И дамочка пусть тоже разгуливает на свободе.
– Пока что.
– Мне это не нравится.
– Мне тоже, сэр. Но я не вижу иного способа ее вычислить.
Маллик не ответил.
– Сэр? Вы что-то утаиваете?
– Что, например?
– Вы догадываетесь, кто эта женщина?
Повисла тишина; Маллик сел прямее и усмехнулся:
– Шутить изволите, детектив?
– По-моему, для вас она важнее Перната.
– Конечно, меня интересует фигурант, который вызывает полицию и исчезает. На мой взгляд, это кое-что доказывает.
– Верно, но даже если она прикончила Флорака, постановщик спектакля – Пернат, все прочие лишь исполнители. Удалите его, и все – рак побежден.
– Вам поручено расследовать убийство в Касл-корте. – Маллик подался вперед, чиркнув макушкой по потолку. Джейкоб уловил его холодное стерильное дыхание. – Поэтому приоритет – женщина. Я ценю ваше творческое мышление и готов принять вашу тактику выжидания. Но во избежание недоразумений я повторю: наша первостепенная цель – женщина. Не Пернат. Вам понятно?
– Принято, сэр.
– Далее. Я требую регулярного отчета.
– Безусловно, сэр. Чем я сейчас и занят.
Маллик покачал головой:
– Этого мало, надо чаще. Отныне каждый час вы будете докладывать, где находитесь и что делаете.
Джейкоб запыхтел:
– Будет вам шутки шутить.
– Развязка и впрямь близка?
– Наверное, да, но…
– Тогда я не шучу, детектив.
– Так невозможно работать, сэр.
– Справитесь, Лев. Шлите эсэмэски, пишите письма. Звоните. Установите памятки, если надо. Мне все равно. Я категорически запрещаю без нашей поддержки трогать Перната или женщину. Понятно?
Джейкоб посмотрел в окно на стрип-бары и парковки Сенчури-бульвара. Отъехали не больше мили. Накатила злость, захотелось выскочить из машины и пойти пешком.
– Вы еще не рассказали о Праге, – сказал Маллик.
– Кажется, я ничего не упустил, сэр.
– Не о деле – о городе.
– Что вас интересует, сэр?
– Что угодно. Общее впечатление.
– В целом неплохо, сэр.
– И это весь отзыв о бесплатном путешествии в Европу? Неплохо?
– Я чрезвычайно благодарен за предоставленную возможность, сэр.
– Надеюсь, выкроили время для осмотра достопримечательностей?
– Чуть-чуть.
– И как вам?
– Неплохо, сэр. Еще раз спасибо.
Молчание.
– Я давно не был в Праге, – сказал Маллик.
Джейкоб посмотрел на него:
– Я не знал, что вы там бывали.
Маллик кивнул.
Остаток дороги прошел в напряженном молчании. Наконец Шотт подрулил к дому Джейкоба и остановился, не выключая мотор.
– Держите меня в курсе, – сказал Маллик.
Субач донес сумку Джейкоба до двери его квартиры.
– Чаевые сейчас или по окончании дела? – спросил Джейкоб.
Субач улыбнулся:
– Не серчайте на шефа. В таких ситуациях он нервничает.
– В каких – таких?
– Дайте знать, если потребуется помощь с этим Пернатом. Обеспечим всем, что нужно.
– Можно вопрос, Мел? Вы бывали в Праге?
– Вообще-то, бывал, – усмехнулся Субач.
– А Шотт?
– Кажется, пару раз съездил.
– Вот уж не думал, что копы такие заядлые путешественники, – сказал Джейкоб. – Пожалуй, нам стоит организовать кружок. Будем собираться. Слайды смотреть.
Субач потрепал его по плечу и грузно заковылял к урчавшей машине.
Если не считать толстого слоя пыли, в квартире ничего не изменилось. А он-то тешил себя глупой мыслью, что мир переменится вместе с ним. И что теперь, радоваться или огорчаться?
Джейкоб вывалил вещи из сумки, принял душ и побрился. Стало ясно, почему Маллик спросил про губу: осталась темная полоска, вроде кровеносного сосуда или тусклой татуировки, – частица одновременно родная и чужеродная. Искушение ее отколупнуть было неодолимо. В результате из губы пошла кровь.
Закусив салфетку, Джейкоб порылся в тумбочке и нашел почти новый тюбик гигиенической помады, забытый давней одноразовой подругой. От напомаженных губ, мягких и жирных, потянуло сблевать.
Пришлось успокоить нервы бурбоном. Затем он набрал номер Дивии Дас, но услышал автоответчик.
– Привет, я вернулся, для вас есть подарочек. Не сувенирный стаканчик. Заглянете?
Послав Маллику эсэмэску «распаковываюсь», Джейкоб с час систематизировал новые материалы по делу и заносил записи в рабочий журнал. К восьми вечера Дивия не откликнулась, Джейкоб оставил ей еще одно сообщение и, известив Маллика эсэмэской, отправился за ужином.
Увидев его, продавец Генри молитвенно воздел руки:
– Я уже стал беспокоиться. Хотел вызвать копов.
– Копы прибыли.
Коммандер хотел регулярных отчетов? Он их получит. Одну за другой Джейкоб отправил эсэмэски:
две высококачественные говяжьи сосиски
приправа
лук
перец халапеньо
кетчуп
горчица
Генри пробил чек.
– Не проси, чтоб я тебя расцеловал.
– Размечтался.
Белая кредитка не прошла.
Звонок из Лас-Вегаса застал на пути домой. Детектив Аарон Флорес гордо сообщил, что уговорил администратора «Венецианского отеля» порыться в старых записях. Бинго: за неделю до гибели Дани Форрестер Североамериканское общество архитекторов, проектировщиков и чертежников арендовало танцзал «Дельфин» на четвертом этаже.
– Я справился о тех, кого вы назвали. Результат нулевой, – сказал Флорес. – Из дела не ясно, встречалась ли она с кем-нибудь из них.
– Ничего, не переживайте.
– А другие детективы что говорят?
Джейкоб пересказал отчет Марии Бэнд.
– Нью-Йорк и Новый Орлеан пока не откликнулись. Уже неважно. В общем, фактов достаточно, чтобы затянуть петлю.
– Отлично. Затяните потуже.
– Спасибо за помощь. – Джейкоб свернул на свою улицу. – Я пригляжу, чтоб ваши заслуги оценили.
– Плевать на заслуги. Главное – прищучить сукина сына.
Перед домом стоял фургон окружного коронера.
– Согласен, – сказал Джейкоб. – Извините, надо бежать. Буду держать вас в курсе.
Потрясающе рыжая девица за рулем таращилась в смартфон и подпрыгнула, когда Джейкоб стукнул в окошко.
– Блин, вы меня испугали, – сказала она, опустив стекло.
– Детектив Лев. Чем могу служить?
Девушка уставилась на его напомаженные губы. Джейкоб их поджал и повторил:
– Что вам угодно?
– Там у вас что-то есть для меня, – пробурчала девица.
– Правда?
– Так мне сказали. – Она показала удостоверение: Молли Нейсмит, коронер-стажер.
– Я звонил доктору Дас, – сказал Джейкоб.
– А прислали меня.
– Она в отъезде?
– Мне не докладывают. Если что не так, звоните начальству.
Джейкоб глянул на фургон:
– Транспорт великоват.
– Никто не уведомил, что за груз. – Финальное «козел» не прозвучало, но читалось.
В квартире Нейсмит уложила в сумку мокасины Реджи Череда и за кухонным столом заполнила протокол.
– Вы знакомы с доктором Дас? – спросил Джейкоб.
– Лично – нет. – Девица вручила ему формуляры: – Распишитесь.
– Она сама проведет экспертизу?
– Не в курсах.
Достал уже.
Джейкоб смутился – он вовсе не хотел ее злить.
– Вы уж извините мое занудство. Сутки был в дороге, голова не варит.
Нейсмит слегка смягчилась:
– Доставлю без проволочек, честное скаутское.
– Вы были скаутом?
Девица улыбнулась и ушла, придерживая прыгавшую на боку сумку.
Джейкоб сел за компьютер сочинять письмо.
Привет, Дивия. Не знал, что вы в отпуске, хотел поделиться новостями. Я отправил на экспертизу туфли. На них кровь – я думаю, одного из моих подозреваемых. Туфли забрала некая Молли Нейсмит, хорошо бы вы с ней пересеклись и проследили, что все как надо.
Он задумался, прикусив ноготь.
Наверное, вы заняты и потому не перезвонили. В таком случае не утруждайтесь дочитывать письмо. Я просто хотел кое-что прояснить, если вдруг доставил вам неудобство. Вы классный профессионал, мне нравится с вами работать, и я переживаю, что каким-то словом или поступком напортачил. Возможно, я все надумываю. Как бы то ни было, это не повторится.
Он постучал по клавише «удалить» и стер весь абзац. Немного подумав, сделал выбор в пользу легкости, краткости и туманности.
Я не знаю, здесь ли вы, но, если еще только собираетесь уехать, я бы очень хотел
УДАЛИТЬ
было бы неплохо
УДАЛИТЬ
хорошо бы повидаться. Угощу вас ужином.
Джейкоб дважды перечитал письмо, поменял «угощу вас ужином» на «перекусим» и кликнул ОТПРАВИТЬ.
В интернете обнаружились свежие фотографии Ричарда Перната с какого-то благотворительного ужина. Выглядел он неплохо, хотя постарел, и залысины удлиняли и без того худое лицо. Фотограф запечатлел его в компании мужчин в смокингах и женщин в вечерних платьях – все усмехались, глядя мимо камеры, и только Пернат в упор смотрел в объектив.
Джейкоб распечатал фотографию и положил на стол изображением вниз. Она еще понадобится, но нечего сукину сыну пялиться.
Далее выяснилось, что Пернат взял пример с отца и умело скрывал доходы. За ним не числились автомобили, он не владел недвижимостью. Его контора на Оушен-авеню, 1491, работала с десяти утра до пяти вечера.
Завтра будет день.
Послав отчет Маллику, Джейкоб улегся в постель, надеясь выспаться.
Не тут-то было. Заплутав в часовых поясах, он проснулся в половине четвертого. В груди покалывало; Джейкоб развернул пражское письмо и сел за компьютер. Когда за окном уже рассасывался синяк ушибленного неба, он прошел в спальню и выдвинул ящик комода.
Дом, куда ежедневно приходил молиться Сэм Лев, душный подвал с разноликими стеллажами и ковчегом из покоробившейся фанеры, сильно уступал каменному величию Староновой. На складных металлических стульях полтора десятка стариков – миньян с лишним – клевали носом, дожидаясь начала утренней молитвы. Сэма не было. На Джейкоба никто не обратил внимания, но вдруг за его спиной прогудел чей-то голос:
– Глазам своим не верю.
Эйб Тайтелбаум начинал в гастрономе – таскал неразделанные туши и тридцатифунтовые ящики с копченым лососем. Полвека спустя он выглядел цирковым силачом – широкогрудый, кряжистый, коренастый.
– Бьенвенидо[61], чужеземец, в край старых хрычей, – сказал он, до хруста стиснув руку Джейкоба.
– Ужасно вам рад.
Эйб прищурился:
– Ты ныне пользуешься помадой? – От его хлопка по плечу ребра Джейкоба завибрировали, точно камертон. – Признайся, тебя изувечила какая-то девица.
– Как всегда. Еще раз спасибо за помощь.
– Какую помощь? Я что, помогал?
Джейкоб напомнил о загородном клубе.
– Ах, это. Пустяки. Люблю, когда они пресмыкаются. Только поэтому и плачу членские взносы.
– Вы знакомы с тамошним завсегдатаем Эдди Стайном?
– Нет.
– Рекомендую. Вы с ним поладите.
– Мне новые друзья не нужны. Вообще-то, чем их меньше, тем лучше. – Эйб кивнул на седовласых стариков и понизил голос: – Вот почему я здесь ошиваюсь. Скоро все они окочурятся. Очень удобно. – Он ухмыльнулся. – Кстати, о милых моему сердцу – как твой папаша? Вчера я по нему скучал.
Джейкоб нахмурился:
– Его не было?
– Манкировал молитвой и совместным чтением. Нет, я не сержусь. Даже у ламедвавника случается насморк. Но мог бы позвонить.
Джейкоб выхватил мобильник и ткнул кнопку быстрого набора.
– Абба, это я. Ты дома? Ответь. Алло. Абба, возьми трубку.
Тайтелбаум встревожился:
– Надеюсь, ничего худого.
– Конечно, все в порядке.
Джейкоб набрал номер Найджела.
– Я бы удостоверился.
– Не волнуйтесь, все нормально.
– Если хочешь, я к нему съезжу.
Джейкоб поднял палец:
– Привет, Найджел, извини за ранний звонок. С отцом все хорошо? Я в шуле и…
Эйб его подтолкнул: в синагогу вошел Сэм.
– Все уже в порядке, – сказал Джейкоб. – Забудь про это сообщение. Спасибо.
Эйб дотронулся до костлявого плеча Сэма:
– Явление мессии. А мы с твоим чадом уже хотели пускать собак по следу.
Сэм уставился на Джейкоба:
– Ты здесь?
– Так-то ты приветствуешь сына? – вставил Эйб.
– Я вернулся вчера вечером, – сказал Джейкоб.
– Откуда? – спросил Эйб.
– Из Праги.
– Вот как? Что за дела, почему мне никто ничего не сказал?
Вопрос остался без ответа, поскольку отставной дантист, ставший габаем[62], трижды стукнул по биме, а отставной адвокат, ставший кантором, завел благословения. Сэм отвернулся и надел тфилин.
Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, наделивший сердце способностью отличать день от ночи…
Джейкоб нашел себе место и скинул рюкзак, в котором были камера, сухой паек, солнечные очки, фонарик, пластиковые наручники и электрошокер, а также заряженный «глок» с запасной обоймой. Сверху лежал синий бархатный мешок с тфилин, выуженный из комода.
Это сколько же лет прошло? Самое малое, двенадцать. Джейкоб боялся, что забыл, как надевают тфилин, но выручила мышечная память: одну черную коробочку со священными письменами привязал к руке, бормоча благословение, другую укрепил точно посредине лба и обернул ремешок вокруг ладони и пальцев – по форме буквы, означавшей имя Бога.
Джейкоб глянул на отца и похолодел: лицо Сэма, застывшего в молитвенном раздумье, было точь-в-точь как глиняное лицо с чердака. Кантор приступил к кадишу, Сэм встал, и наваждение развеялось.
Служба шла своим чередом: восхваления, символ веры, просьбы об исцелении, благословенном годе и мире. Во время «Шма» Джейкоб отправил эсэмэску Маллику:
слушай израиль господь бог наш господь один
После песни ангелов габай, гремя ящиком для пожертвований, обошел прихожан. Джейкоб достал Сэмову сотенную купюру, несколько раз ее свернул, скрывая номинал, и пропихнул в щель ящика.
На финальном псалме Эйб ушел, сославшись на деловой завтрак. Вскоре и другие потянулись к выходу, в синагоге остались отец и сын.
– Ты не предупредил, что придешь.
– Да как-то и мысли не возникло.
– Конечно, конечно. – Сэм устало улыбнулся. – Ты дома, это главное.
– Я не то сказал по телефону.
– Пустяки.
– Нет. Прости меня.
– Тебе хотелось выговориться. Не бери в голову.
– В том-то и дело. У меня нелады с головой.
Пауза. Сэм взял сына за руку. Сжал ее и выпустил.
– Эйб сказал, ты пропустил молитву. Ты здоров?
Сэм пожал плечами:
– Все имеют право на выходной.
Джейкоб не поверил, но решил не давить.
– Я хочу кое-что тебе показать. – Он положил на стол текст пражского письма и рядышком свой перевод.
Сэм взял текст оригинала и поднес к самому носу. За темными очками слабеющие глаза его бегали по строчкам.
– Переписано точно?
– Надеюсь, хоть я спешил.
Сэм взял перевод и стал сверять его с оригиналом.
– В интернете я нашел фамильное древо Лёвов, – сказал Джейкоб. – У Махараля было несколько дочерей и один сын, которого звали не Исаак, а Бецалель. Видимо, письмо адресовано Исааку Кацу, который, похоже, был мужем двух дочерей ребе.
Молчание.
– По всей вероятности, «ликование и веселье» – это про свадьбу. – Джейкоб заглянул в листок. – «Истинно говорю: и кто обручился с женою и не взял ее, тот пусть идет и возвратится домой. Не дай же сердцу своему ослабеть, не ведай страха, не дрогни». Это напутствие иудейским воинам.
Сэм не шевельнулся.
– Насчет глины и гончара есть у Исаии[63], но смысл я не улавливаю. Про немилость я ничего не нашел. – Джейкоб помолчал. – Короче говоря, абба, я в тупике.
Сэм поправил очки, перевел дух.
– Да нет, ты прекрасно справился. – Он положил листки на стол. – Дело продвигается?
– Помаленьку. Давай поговорим о письме.
– Мне правда нечего добавить. – Сэм взял чехол для тфилин и направился к выходу. – Сосредоточься на работе.
– Абба, погоди.
– Не отвлекайся, – сказал Сэм и скрылся за углом.
– Абба! – Джейкоб схватил листки, рюкзак и выбежал на улицу.
У тротуара фырчал красный «форд». Найджел помогал Сэму сесть в машину.
– Абба, постой!
– Я устал, Джейкоб. Скверно провел ночь.
– Почему? Что случилось?
– Я хочу домой. Дай мне подумать. – Сэм забрался на сиденье. – Я сообщу, если надумаю что-нибудь.
Найджел захлопнул дверцу и обежал машину.
– Куда вы едете? – спросил Джейкоб. – Эй! Слышишь? Я с тобой говорю!
«Форд» газанул к Робертсон-бульвару. Но, отъехав с полквартала, остановился, полыхнув стоп-сигналами. Найджел выскочил из машины и поспешил обратно, размахивая зеленой бумажкой.
– Он просил передать, – сказал Найджел, всучив Джейкобу еще одну стодолларовую банкноту.
Дом 1491 по Оушен-авеню выглядел роскошно. На первых трех этажах разместились клиника лазерной стоматологии, актерское агентство и частный инвестиционный фонд. Пернат занимал пентхаус.
В офисе свободная планировка, полы из литого бетона, из высоких окон – вид на океанические дали. Сотрудники – три женщины и четверо мужчин, все ухоженные и шикарно одетые – уткнулись в огромные, льдисто светившиеся мониторы. Интересно, кто из них нынешний протеже Перната?
Администратор известил, что Ричард уехал с клиентом.
– Я из городской службы по топографическому зонированию, – сказал Джейкоб. – Хотелось бы переговорить лично с мистером Пернатом.
Администратор улыбнулся и ответно соврал:
– Я непременно ему передам.
Может, ты его фаворит, а?
– Как скоро он вернется? – спросил Джейкоб.
– Ох, трудно сказать. Я обязательно сообщу о вашем визите, мистер…
– Лёв. Джадд Лёв.
Администратор притворился, будто заносит имя в компьютер.
– Чудесного вам дня, Джадд.
Снаряжаясь в засаду, Джейкоб кое-что забыл. В ближайшем магазине товаров для туристов, отыскавшемся на Четвертой улице, за семьсот долларов он купил штайнеровский бинокль, расплатившись белой кредиткой, и отправил Маллику фотографию чека с припиской «спасибо».
Коммандер не клюнул, послание осталось без ответа. В четверть двенадцатого Джейкоб вернулся на Оушен-авеню и припарковался рядом со сквером, откуда открывался четкий обзор дома 1491.
Включив радио, он послушал спортивные комментарии и скрипучий джаз, угостился «Эм энд Эмс» и сгрыз протеиновый батончик, якобы со вкусом шоколадного печенья.
Возможно, если его залачить бурбоном. В угоду чувству ответственности Джейкоб не пил со вчерашнего вечера.
Но беда в том, что трезвый он был словно пьяный. В бинокль разглядывая всех, кто входил и выходил из здания, Джейкоб развлекался, пытаясь угадать, зачем они пришли.
Вот в дверь проскользнула бабец с силиконовой грудью – актриса или пациентка, мечтающая о белозубой улыбке?
Ботаник в хаки и белой рубахе навыпуск – сисадмин намылился в инвестиционную фирму?
Богато одетая пятидесятилетняя пара – клиенты инвестиционного фонда либо заказчики, желающие перестроить дом где-нибудь в Беверли-Хиллз, Брентвуде или Бель-Эйре.
В 11.49 Джейкоб, пристроив телефон на руле, проверил, нет ли ответа от Дивии. Нет.
Он послал эсэмэску Маллику:
я перед конторой перната
Ответ пришел мгновенно:
засекли?
еще нет, написал Джейкоб, сообщу
не премините, ответил Маллик.
Долго еще фигней маяться? Без толку отвлекаешься, и только. Джейкоб убрал телефон. Сообщит, когда будет о чем.
В 13.16 он отлучился в ближайший общественный сортир.
В 15.09 телефон бипнул – эсэмэска от Маллика:
?
ничего, ответил Джейкоб.
так и говорите
В 15.40 за «хондой» остановился мопед, парковочная контролерша достала пачку квитанций. Джейкоб показал бляху. Вдобавок послал улыбку. Контролерша скривилась и устрекотала на поиски новой жертвы.
Парковка. Джейкоб аж застонал. Наверняка в здании есть служебный вход. Недосып не извиняет чудовищную тупость.
Мысленно отправив эсэмэску «блин», Джейкоб закинул рюкзак на плечо, обогнул здание со стороны Колорадо-авеню и отыскал переулок, параллельный Оушен-авеню. Ну вот, пожалуйста: обнесенная решеткой подземная автостоянка, на входе кодовый замок. Сквозь стальную сетку Джейкоб вгляделся в скопище машин – любая могла быть машиной Перната.
Джейкоб вернулся к «хонде». Контролерша, стерва, выписала штраф.
Джейкоб выбросил скомканную квитанцию в канаву и, вырулив на Колорадо, встал на островке безопасности, откуда просматривался переулок.
Ближе к пяти вечера со стоянки потянулся ручеек машин, их ветровые стекла бликовали в лучах заходящего солнца. Головная боль, плод долгой вахты и алкогольного воздержания, еще час назад угнездившаяся в виске, выросла в пульсирующего монстра. Джейкоб заглотнул таблетку. Ломило шею. Ныла поясница. Урчало в животе. Патрульный на мотоцикле стукнул в окошко и велел уезжать. Джейкоб раскрыл бляху. Коп укатил.
Сгущались просоленные синие сумерки. Натриевые фонари окрашивали водителей оранжевым. На пирсе Санта-Моники галдела ребятня. Ожило колесо обозрения – зазубренный диск, тлеющий неоном. Джейкоб отправлял Маллику однотипные эсэмэски – в ожидании, в ожидании, в ожидании, – еле сдерживаясь от уточнений.
В ожидании… Годо.
В ожидании… любви.
Джейкоб уже подумывал отчалить домой, но в 20.11 с подземной стоянки выехал, мигая левым подфарником, серо-зеленый двухдверный «БМВ».
За рулем Ричард Пернат.
Архитектор повертел головой, проверяя, нет ли помех. На мгновенье взгляд его задержался на «хонде». Засек, подумал Джейкоб.
Однако вытянутое лицо Перната было безмятежно, он благодарно махнул внедорожнику, который его пропустил.
Джейкоб записал номер «БМВ» и, пристроившись за универсалом «вольво», начал слежку.
На восток по Колорадо-авеню, по Двадцатой на юг, затем снова на восток по Олимпик-бульвару и под эстакаду 405-го шоссе, в этот час похожего на застывшую реку из красных хвостовых огней. Как и ожидалось, Пернат неукоснительно соблюдал правила движения, пропускал пешеходов-нарушителей и не проскакивал на желтый свет – то есть был белой вороной в бешеной уличной банде, также известной как Жители Лос-Анджелесских Предместий.
Следить за таким аккуратистом – мука мученическая. Сдерживая охотничий азарт, Джейкоб с трудом сохранял дистанцию. Несколько раз он терял машину-ширму, приходилось останавливаться, дожидаясь нового прикрытия. Он бы упустил архитектора, если б не догадывался о цели его пути.
Защебетал мобильник – Маллик требовал отчета. Дорожные правила предписывали за рулем не отвлекаться, и Джейкоб им подчинился.
По Олимпик-бульвару добрались до Сенчури-Сити, и там Пернат, показав правый поворот, выехал на развязку, уходившую к авеню Звезд.
Широкая шестиполосная улица заканчивалась у Санта-Моника-бульвара, но «БМВ» вдруг свернул на подъездную дорогу к стекляшке административного здания. Джейкобу хватило ума не сворачивать следом, но промахнуть правый поворот на Констеллейшен-бульвар, найти разворот и дождаться зеленой стрелки.
Получив разрешение светофора, он погнал обратно к авеню Звезд. Минуя стеклянную контору, разглядел «БМВ» среди машин, пытавшихся занять место на парковке.
Через полквартала Джейкоб вновь развернулся и лег на прежний курс. Пришлось сделать еще два круга, прежде чем он увидел зеленую машину, которая, высунув нос с подъездной дороги, мигала правым подфарником.
Джейкоб притормозил, пропуская Перната. Но вежливый архитектор стоял как вкопанный, чтобы, не дай бог, не подрезать «хонду».
Нет-нет, только после вас.
Извольте проехать.
Вы первый, прошу.
Альфонс и Гастон[64].
Пропади ты пропадом со своими манерами, мон ами!
Джейкоб проехал первым, скосив глаза на «БМВ».
В машине появился пассажир.
Движение, свет фар и темнота – от человеческой фигуры остался только абрис. Не поймешь, мужчина или женщина. Времени на домыслы уже не осталось, поскольку проспект заканчивался и надо было куда-нибудь свернуть.
Наугад Джейкоб повернул направо к Биг-Санта-Моника.
Пернат свернул следом.
Несколько кварталов ползли по Беверли-Хиллз со скоростью черепахи. Пересекая Рексфорд-драйв, Джейкоб оглянулся и увидел, что «БМВ», готовясь свернуть, перестроился в крайний левый ряд.
Джейкоб резко кинулся налево в соседний Алпайн-драйв и помчался не притормаживая. Дама, которая прогуливала йоркширского терьера в свитерке, показала Джейкобу средний палец.
Джейкоб остановился перед Сансет-бульваром, молясь, чтоб интуиция не подвела.
Через пятнадцать секунд мимо зеленой молнией просвистел «БМВ».
Пернат больше не осторожничал на дороге.
Теперь он ужасно спешил.
Джейкоб выехал на Сансет.
Всю дорогу телефон изводил его своим треньканьем. В Западном Голливуде прибавилось машин, Стрип блистал, как разнаряженная шлюха, пешеходы шныряли где им вздумается.
Джейкоб не дерзнул приблизиться к «БМВ», чтобы рассмотреть пассажира. Возможно, рядом с Пернатом сидит его жена и Джейкоб выслеживает добропорядочную чету, спешащую домой с новым диском «Рискни!»[65]. Интернет ничего не сообщил о семье архитектора, но это не означает, что семьи нет. И потом, Джейкоб не особо искал, ему не терпелось затянуть петлю. А вот осторожный коп выждал бы пару дней, собрал информацию, выявил слабости объекта.
Осторожный коп плюнул бы на представившийся шанс.
Если пассажир чист, надо убедиться, что с ним не произойдет ничего дурного.
Если пассажир – сообщник, можно взять обоих.
Бульвар рапирой пронзал порочное сердце Голливуда. Все сомнения касательно цели Перната развеялись, когда у Хайленда он свернул налево.
Джейкоб выехал на Кауэнга и погнал параллельно 101-му шоссе. Перед Барэм-бульваром взял вправо и, миновав водохранилище, тряскими проселками во тьме двинул к холмам.
Скорость держал умеренную. Он понимал, что объект доберется на место раньше, чем он, но выбора не было: в ясную ночь, на темной пустынной дороге фары вмиг его выдадут. Джейкоб оставил только габариты – квелые янтарные огоньки. Случись встречная машина, он станет сюрпризом для водителя. Но риск невелик, игра стоит свеч.
Телефон выплюнул эсэмэску.
Джейкоб его вырубил.
Постройки, предсмертные вдохи цивилизации, встречались все реже. Джейкоб в одиночку пробирался сквозь ночь. Помощи ждать неоткуда. Далеко внизу дрожало желтушное марево города. Наконец долготерпение и муторная езда украдкой были вознаграждены: вписавшись в дорожную шпильку, в полумиле впереди Джейкоб увидел две вишнево-красные точки. Они качнулись влево, потом вправо, снова влево и пропали в серых складках холмов.
Джейкоб непроизвольно придавил газ, но тотчас сбросил скорость. Ни к чему устраивать слалом. Скоро будем на месте. Уж точно. Знакомые места. Он подъезжал к Касл-корту.
Всю дорогу до шула ее преследует видение рослых незнакомцев – их жуткая безмятежность.
Взбираются на чердак. Короб с глиной она ставит возле гончарного круга. Перел достает инструменты, закатывает рукава.
– Ах, чтоб меня! Воды-то нет.
Очумелая, она машинально берет ведро и шагает к лестнице.
– Стой! – кричит Перел.
Она замирает.
– Тебе нельзя на улицу, – объясняет Перел. – А сюда им вход заказан. Понимаешь, Янкель? Здесь тебе ничто не грозит, я ручаюсь.
Она кивает. Воистину, ребецин непредсказуема.
– Их-то можно не опасаться. Юдль не знает, что ты здесь бываешь, верно? Он тебя не спрашивал про чердак?
Она качает головой.
– Хорошо. – Перел спускает рукава и берется за ведро. – Я быстро.
Она расхаживает по чердаку, под ногами стонут половицы.
Я говорил, что он к ней прикипит, и нате вам.
Их-то можно не опасаться.
Вновь видения: кивающий трибунал, черно-белое пламя.
Одно дело за раз.
Смысл ясен и сокрушителен.
Рослая троица не опасна.
Опасен ребе.
Тот, кто был ей вместо отца, кто благословил ее как сына.
Что у них за власть над ним, раз они могут обратить его против нее? Точно кающийся грешник, она рвет на себе волосы и бьет себя в грудь, подавляя желание бежать куда глаза глядят.
Темнеет абрис чердачной двери, из багрового превращаясь в угольно-черный. Перел слишком долго ходит за водой.
Она представляет, как ребецин, надрываясь, тащит тяжелое ведро. Мерещатся ужасы: рослые незнакомцы схватили Перел. Ей уготована страшная судьба? Ребе вступится? Наверняка. Он добрый, он любит жену.
Но ведь и ее он любит. По крайней мере, так говорил.
Но вот скрипит и хлопает входная дверь, сбивчивые шаги по каменному полу коридора, затем в женской половине. Словно кто-то несет неподъемную тяжесть. Задевает стулья. Взбирается на чердак. Все ближе.
– Янкель, это я.
Она выглядывает в люк. Появляется Перел. Втаскивает до краев полное ведро и сгибается пополам, упершись руками в колени. Отдувается.
– Уф, руки прямо отваливаются. Возьми ведро, а я пойду окунусь.
Вскоре Перел вновь появляется на чердаке, мокрые волосы облепили голову.
– Извини, что долго. Я надеюсь выиграть время.
Перел достает из кармана ключ от синагоги. Это ключ ребе. Потом достает второй, точно такой же.
– Я уговорила Хану Вихс отдать мне ключ ее мужа. На всякий случай. Велела молчать. Посмотрим, на сколько ее хватит. Никто не любит врать ребе, а наша Хана не шибко молчальница. Бедняга Юдль решит, что спятил, пока будет искать свой ключ… Ладно. – Перел хлопает в ладоши. – Соображаем, соображаем, соображаем. Все должно быть точнехонько, ошибаться нет времени. Так, надо освободить место. Помоги-ка.
По указке ребецин она сдвигает шкафы.
– Убери гончарный круг, он не понадобится. – Перед вновь закатывает рукава и подтыкает подол. Присев перед коробом, зачерпывает пригоршню глины, вываливает ее на пол и добавляет к куче еще четыре пригоршни. – Это мне, а это… – Перед шлепает по оставшейся глине, – тебе. Уйдет все, что есть. Знаешь, что делать?
Она неуверенно кивает.
– Ну? Чего ждем?
Доверившись ребецин, она переворачивает короб. Глина вываливается на пол.
Перед покусывает губу:
– Надеюсь, этого хватит. Ну давай, давай. Некогда рассусоливать.
Она повторяет то, что всякую ночь делала Перед: собирает глину в ком, выдавливая лишнюю воду, а потом шмякает комом об пол, удаляя воздушные пузыри. Жалобно похрустывают жуки, застрявшие в глине; наваливаясь всем весом, она мнет лепешку, складывает, переворачивает и снова мнет. Перед то же самое делает со своей лепешкой поменьше. Перекатывается серебрящаяся кожа, под ней волнуются мышцы. Время от времени Перед проверяет упругость глины.
– Помни: перемять так же плохо, как недомять.
Она тупо исполняет работу, стараясь не вспоминать слова ребе.
Да будет так.
– Ладно, хорошо. Теперь поделим на две кучи, сюда примерно столько… Ой, Янкель. Тебя трясет.
Перед берет ее дрожащие руки. Теплая глина сочится меж ладоней.
Она смотрит в блестящие зеленые глаза ребецин.
– Сам он не хочет, – говорит Перед. – Но у него нет выбора. Однако я этого не допущу. Верь мне, Янкель.
Она верит. Приходится. У нее больше никого не осталось.
Вновь за работу.
– Эту кучу раздели напополам. Одну половину сладь в прямоугольник, вот так. Из другой нарежь четыре полена. Два вот такой толщины, еще два чуть толще. Постарайся, чтоб вышли равной длины – примерно, не обязательно тютелька в тютельку.
Тем временем свою глиняную лепешку Перел скатывает в шар.
– Чудненько. Теперь клади полешки по углам прямоугольника. Вот-вот. Ничего, ничего, говорю же, точность пока не требуется. Я потом подправлю. Ну? Ты понял?
Она кивает. Накатывает восторг. И ужас.
Они лепят человека.
Перел ползает на четвереньках, сочленяя суставы, формируя впадины, кончиком ножа прорисовывая жилы, волосы, складки. Аура то полыхает на весь чердак, то меркнет. Как по волшебству, корявый прямоугольник преобразился в торс, неровные поленья превратились в изящные руки и длинные ноги – оплетенные мышцами, они напоминают витые свечи. Возникли холмы грудей, равнина живота, долина лона в густой поросли – изумительное женское тело.
Пронзает воспоминание.
Ее тело.
Работа над лицом требует терпения, любви и милосердия. Вылепляя раковину уха, Перел не гнушается согнуться в три погибели и балансировать, опершись на локоть. Открыты ноздри, губы разлепляются, готовясь вдохнуть. Чело слегка нахмурено – след страшных снов, но твердый подбородок говорит о решимости их изгнать.
Она смотрит и вспоминает.
Ребецин покидает чердак, чтобы второй раз омыться. Вернувшись, оживленно потирает руки, обходит свое творение, в последний раз проверяя каждую мелочь, и остается довольна.
– Ты готов? – Перед садится. – Теперь ляг и положи голову мне на колени.
Она подчиняется, стараясь не задеть прекрасное глиняное изваяние.
Над ней склоняется улыбающееся лицо ребецин, перевернутое вверх тормашками:
– Спасибо тебе за все.
Тебе спасибо.
– Я буду скучать по тебе.
Я тоже.
– Ты всегда найдешь здесь приют. – Печальный смешок. – Хотя, конечно, до поры лучше держаться отсюда подальше. – Перед гладит ее по голове. – Это не больно и легко. Все равно что выловить ворсинку из молока.
Легкие прикосновения будто разглаживают бугристую голову, корявые уши. Глаза ее закрываются. Она уж и забыла, что такое сонливость. Чудесно – будто перышком нескончаемо падаешь с огромной высоты. От Перед полыхает жаром, лицо ее так близко, что между ними проскакивают искры, губы ее касаются ее губ, и она раскрывает рот. Она помнит предостережение, знает, что произойдет, но, доверившись, шире раздвигает губы и высовывает язык.
Узел ослабевает.
Потом вовсе распускается, она вздыхает, и сон окутывает ее, точно глиняная мантия.
– Ты явилась.
Оглушена, животу мокро, бухает сердце, звенит в ушах; она лежит навзничь, а перед глазами в младенческой мути двоится и расплывается сияющее лицо Перед.
– Как ты?
– Устала.
Шепот ее производит сногсшибательный эффект: ребецин заливается слезами вперемешку со смехом, потом обе смеются и плачут, дрожат и тискают друг друга в объятьях.
– Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, который даровал нам жизнь, и поддержал нас, и дал нам дожить до этого времени.
– Аминь.
И во второй раз обе ошеломлены. Опять слезы, смех и объятья.
Перел помогает ей сесть.
– Сейчас я тебя выпущу, – говорит она. – Не грохнешься?
– Не грохнусь.
Шершавое платье корябает ей спину. Ой, она же голая. Сразу становится зябко. Пошарив по ящикам, Перел подает ей старый талес:
– Лучше чем ничего.
Она закутывается в шерстяной плат:
– Спасибо.
– Встать сможешь?
– Наверное.
Теперь они примерно одного роста; они равны – поразительно. Вместе они шаркают по чердаку, вялые ноги ее потихоньку набираются ума и силы, и вот уже походка ее изящна и легка. Она себя осматривает с ног до головы.
Голубые жилки на руках оттеняют бледность шелковистой кожи. Она растопыривает пальцы ног на пыльном полу, вздергивает плечи, качает бедрами. Все так привычно и удобно. Она трогает голову. Волосы. Длинные, густые, мягкие. Интересно, какого цвета? Как лен и земля, сообщает свет лампы. А глаза, какого цвета глаза?
Она бросается к ведру, падает на колени.
Перел подхватывает ее под руку:
– Тебе нехорошо?
– Нет, все в порядке.
У отражения глаза неясного цвета. А лицо еще красивее, чем она думала, – черты мягче, тоньше, нежели в глине.
– Ну как, нравится?
Она кивает. Еще бы не нравилось – такая красота. Но главное – это она, такой себя и помнит.
– Я копировала мою Лею, – говорит Перед.
Это необъяснимо. Но она знает, что сказать:
– Лея была красавица.
Молчание.
– Да, еще кое-что, – говорит Перед. – Тот узел на языке…
Она высовывает язык, трогает – гладкий, упругий, никакого пергамента. Ребецин мнется и краснеет, потом кивает.
На ее лоно.
– Надо было куда-то спрятать, – говорит Перед. – Он глубоко, не выпадет. Но ты все же поаккуратней.
– Ладно.
– Не делай такие глаза. Это источник жизни, а ты живой человек.
От благодарности сердце разбухает, в горле першит.
– У тебя есть имя?
Она улыбается. Конечно, есть.
Мое имя…
Какое?
– Меня зовут…
Молчание.
– Ну? – хмурится Перед.
– Мое имя…
Что за бред. Она вновь обрела свое тело. Свой голос. А в голове вертится мужское имя, под которым она жила. Янкель.
Память отхаркивает слова на забытом языке.
Ми ани? Янкель.
Кто я? Янкель.
Буквы меняются местами.

Новое имя. Она берет его, подправляет.
– Меня зовут Мая, – говорит она.
Перед облегченно вздыхает и улыбается:
– Чудесно. Приятно познакомиться, Мая.
Она не успевает ответить – снизу доносится грохот. Краткая тишина, потом слышен треск досок, сокрушаемых топором.
Ломают входную дверь.
Перед захлопывает крышку люка и хватается за шкаф:
– Подсоби.
Еще недавно Мая одним пальцем его бы сдвинула, а сейчас они вдвоем тужатся, загораживая чердачный люк. Через минуту слышны мужские голоса и скрип лестницы, под мощными ударами кулаков сотрясается пол.
– Переле! – Голос ребе полон отчаяния. – Ты там?
Перед хватает Маю за руку, на цыпочках они отходят от люка.
– Переле, отвори, прошу тебя!
Сдвинув засов, Перед распахивает скрипучую чердачную дверь. Внутрь врывается холод.
Внизу плывет брусчатка.
Ребецин стискивает ладони Маи:
– Беги.
Мая мешкает. Она еще не оклемалась, к тому же почти голая, а пальцы Перед – точно хватка десяти тысяч рук.
– Беги. – Перед выпускает ее ладони. – Во весь дух. Не останавливайся.
Мая встает на четвереньки и, высунув ногу наружу, нашаривает первую перекладину. Железо обжигающе стылое. Мая одолевает три перекладины, но потом ватные ноги срываются и она, вскрикнув, повисает на руках, чиркнув новеньким мягким телом о грубые кирпичи. Талес сваливается, выставляя ее напоказ всему свету. Сверху шипит Перед: давай, давай, скорее, и Мая нащупывает перекладину, продолжает спуск и не смотрит вниз, только на кирпичи перед собой, и, кажется, она молодцом, но тут слышит вопль Перед.
Мая поднимает голову.
Ребецин яростно машет руками – назад, назад!
Мая смотрит вниз.
Там стоит Давид Ганц.
Он явно ошарашен. Ну еще бы: подстерегал здоровенного мужика, а тут к нему спускается голая баба. На мгновенье все замерли. Потом, словно очнувшись, Ганц кидается к лестнице.
– Быстрее! – вопит Перел. – Давай!
Надо же, сейчас все отдала бы, чтоб на мгновенье вновь стать Янкелем. Ганц хватает ее за лодыжку, но робко – первый раз в жизни трогает незнакомую женщину, и Мая выдергивает ногу, а Ганц, вспомнив приказ, снова ее хватает, уже крепко, и что есть силы тянет вниз. Пальцы ее вот-вот разожмутся. Рехнулся он, что ли? Она же сорвется. Выходит, он того и хочет. Прикончить ее.
Хотя вон каркает: мол, слезай по-хорошему, никто тебя не тронет.
Знакомая песня.
Как же, слыхали.
Но сил нет, руки скользят, долго ей не удержаться.
Раз уж это неизбежно, пусть случится по ее воле.
Неплохой способ умереть.
Не впервой.
Она выпускает перекладину и отдается пустоте.
Мимо проносится перекошенная потная рожа Ганца, с неизмеримой высоты гулким эхом летят вопли Перел.
Но происходит нечто странное.
Булыжники мостовой, что летели навстречу, замедляют свой полет, будто она падает сквозь воду, потом сироп, потом стекло, а потом камни и вовсе замирают, а она, зависнув, над ними парит.
Смотрит на руки.
Рук нету.
Вместо них тончайшее трепетанье, и оно громко жужжит.
Ног тоже что-то не видно. Дабы убедиться, что ноги на месте, она ими шевелит и в изумлении понимает, что их не две, а шесть и все сучат как сами пожелают.
Смутно слышен голос Перел, та заклинает ее бежать, лететь, исчезнуть, истошно вопит Давид Ганц, ему вторят Хаим Вихс и ребе, но все они далеко, слов не разобрать, а ей не до них, она осваивает новый облик, и ее укрытое панцирем тело пронзает воздух, густой, как похлебка, какое пьянительное превращение. Мир громаден, мозаичен, удивителен, он будто собран из тысячи тысяч кусочков, и все они танцуют. Непривычно так смотреть, но вполне естественно. Земля растворяется в ничто. Легкость небывалая, и даже не понятно, что это значит – упасть.
Она воспаряет к звездам, Прага остается внизу.
Вот и последняя веха сносной дороги – съезд к дому Клэр Мейсон. Джейкоб проехал еще с пол сотни футов, потом заглушил мотор и рискнул включить телефон. Море эсэмэсок и голосовых сообщений от Маллика, желавшего знать, что происходит, где Джейкоб и почему не отвечает.
Только чтоб прикрыть задницу, Джейкоб отстучал три слова:
наблюдаю за подозреваемым
Наверняка бугаи его пасли и прекрасно знают, где он сейчас. Если угодно объявиться слонами в посудной лавке и загубить все его старания – извольте.
Джейкоб завел мотор.
С погашенными фарами «хонда» переваливалась по лунному бездорожью. Джейкоб улавливал всякий взмах ветки на ветру, подмечал всякую зазубренную тень и всякую крупинку на бесплодной земле.
Через четверть мили он вновь заглушил мотор и выложил снаряжение на пассажирское сиденье. Фонарь. Электрошокер. Пластиковые наручники. Бинокль.
Передернул затвор «глока», сунул запасную обойму в задний карман, вылез из машины.
Пригнувшись, бегом пересек полосу хрусткого щебня и, плюхнувшись на живот, ползком добрался до бугра, за которым открылся обзор злополучного дома.
Окна темны.
Парковка пуста.
Ни души. Ни звука.
Ни следа «БМВ».
Джейкоб оглядел окрестности.
Слева вздымался холм в заклепках валунов.
Справа скат каньона, полумесяцем огибавшего дом.
Кусты высотой по колено. Спрятать машину негде.
Но ведь он полгорода проехал за Пернатом, он видел хвостовые огни. Пернат должен быть здесь, иные места ему не годятся.
В них нет благочестия смерти.
Значит, все-таки упустил? Пернат здесь был, исполнил свой обряд и отбыл?
Невозможно. Мало времени, дорога одна.
Ну и где он?
Вернее, они.
Горькой отрыжкой подкатило воспоминание: Пернат выезжает со стоянки, на секунду их взгляды встречаются.
Архитектор его вычислил. Одурачил. Погасил фары и свернул на какой-нибудь проселок к Орлиному Гнезду или Соколиному, мать его, Утесу, пустив по ложному следу.
Пляши, обезьянка, пляши.
И теперь без помех займется женщиной, которую забрал в Сенчури-Сити.
Она захлебнется собственной кровью, зовя на помощь спасителя, который не придет.
Потому что разлегся в пыли, а через руку его перебирается вереница муравьев.
Но как Пернат его узнал? Они же не встречались.
Ладно, и где тогда машина?
«БМВ» – не внедорожник. Может, Пернат спрятал его и поднялся на холм пехом?
Но если уж бросать машину, то разумнее это сделать в конце асфальтовой дороги, у дома Клэр Мейсон. Однако там ее негде спрятать. Джейкоб ее бы заметил.
Он провел еще двадцать минут в мучительных раздумьях.
Стая летучих мышей измарала облака.
Злополучный дом был мертвецки тих.
Пополам согнувшись, Джейкоб рысью одолел пустошь, привалился к парадной двери; чуть отдышался, повернул ручку, скользнул в дом; с пистолетом наизготовку прошелестел по комнатам. Надежда угасала с каждым квадратным футом.
Ничего.
Никого.
Очередная перебежка завершилась в кухне. Адреналиновая волна сникла, Джейкоб раздраженно прищипнул переносицу. Ломило грудь.
Держал в руках и упустил.
Или не держал. Слишком возомнил о себе. Положился на авось.
И обгадился.
Джейкоб осатанело грохнул кулаком по столешнице, кухня квело откликнулась укоризненным эхом.
Потирая руку, он смотрел на гладкую доску. Никаких следов еврейской надписи.
Вспомнился пропавший булыжник из мостовой перед Староновой.
Вспомнилась мгновенно исчезнувшая Мая.
Женщины, которых как будто насадили на нож.
Жуки.
Если возможно все это, почему не быть волшебному «БМВ»?
Нырк в кроличью нору.
По возвращении в Лос-Анджелес он целиком сосредоточился на аресте. Некогда было заняться собой, и он не просек, что крыша съехала окончательно.
Теперь морок хлынул из всех пор, размывая реальность. Душа орала, не желая заткнуться. Голова раскалывалась. Джейкоб заметался по кухне. Он все изгадил, и теперь будут новые жертвы. Если не сегодня, то очень скоро.
Джейкоб выбрался на улицу и, светя фонариком, под крепчавшим ветром обошел дом. Щелкая коленями, облазал восточный склон, кидаясь на всякий звериный плач из глубинного одиночества каньона. На краю обрыва услышал зов бездны и представил, как летит вниз. Вспомнив мощную руку Петра Вихса, отполз от края.
Бездарная трата времени.
Весь в поту и царапинах, Джейкоб побрел к «хонде» и рухнул на сиденье. Озарился телефон – девять новых попыток Маллика выйти на связь.
доложите ситуацию СРОЧНО
не беспокойтесь, отписал Джейкоб, тут никого наведаюсь завтра
На скорости, обещавшей не угробить подвеску, он пустился в обратный путь, мысленно составляя план действий.
Дом старого Перната.
Контора на Санта-Моника.
Контора в Сенчури-Сити – возможно, запись видеокамер прояснит, кто был пассажиром «БМВ».
Дерьмовый план, от которого несет бесплодностью и провалом. Самый приятный пункт – пораженцем вернуться домой и напиться в лоскуты.
Выбравшись на асфальт, Джейкоб придавил газ. «Хонда» присела и рванула вперед к позору неудачи.
Впереди показался дом Клэр Мейсон, пялившийся видеокамерами.
Тетка – подарок от сбрендивших богов.
Джейкоб врезал по тормозам, сдал назад и, подрулив к воротам, нажал кнопку интеркома.
Семь гудков. Видимо, даже у Клэр была личная жизнь.
– Кто там? – прохрипел динамик.
– Мисс Мейсон? Это Джейкоб Лев, лос-анджелесская полиция. Не уверен, что вы меня помните…
– Помню.
– Чудесно. Извините за беспокойство…
– Что вам нужно, детектив?
– Я бы хотел посмотреть записи ваших камер.
– Сейчас?
– Если это удобно.
– Вы знаете, который час?
Джейкоб понятия не имел. Глянул на приборную доску – первый час ночи.
– Умоляю, простите. Свинство, что я вас беспокою, но…
– До завтра не терпит?
– Я бы не просил, если б не срочность, мэм.
Раздраженный вздох.
– Подождите.
Глянув на черный глаз камеры, Джейкоб представил, как Мейсон пошла к мониторам. Он пригладил волосы, отер лицо и надел улыбку.
Динамик ожил:
– Что вы хотели посмотреть, детектив?
– Дорогу. Часа два назад. Я мигом. Спасибо.
Ворота дрогнули и стали отъезжать.
Сняв ногу с тормоза, знакомой дорожкой из кирпичного крошева Джейкоб проехал по знакомым владениям, испятнанным фонарным светом, и подрулил к знакомому сооружению в безликом модернистском стиле.
Открылась парадная дверь. В полосе желтого света возникли тот же заношенный зеленый халат, та же хмурая мина и дымящаяся кружка с чаем. Но теперь Джейкоба не потчевали.
Безмолвно прошествовали на наблюдательный пост. Джейкоб отвернулся, пока Мейсон вводила пароль.
– Я ищу машину, проехавшую к дому 446, – сказал он.
Мейсон кликнула мышью. Восемь квадратов, восемь пустых картинок, подернутых зеленью. Таймер отсчитывал секунды: 00:13:15, 00:13:16, 00:13:17…
– На сколько отмотать? – спросила Мейсон.
– На три часа. К половине девятого.
– Это уже три часа сорок пять минут.
– Я знаю. – Вообще-то он взял промежуток с большим запасом. – Извините.
Мейсон вздохнула и установила таймер на 20:00:00. Экранная картинка дернулась.
Молча смотрели, как со скоростью 8х истекают минуты. Джейкоб еще не решил, за что болеть: чтобы машина появилась или нет. Тупица, простофиля или псих – какой ярлык ему больше нравится?
Таймер достиг восьми тридцати – пусто. Мейсон вскинула бровь и увеличила скорость воспроизведения до 24х. Таймер завертелся. Девять. Девять десять. Девять двадцать. Джейкоб сел на хвост Пернату примерно в восемь десять. Дорога до Касл-корта заняла около полутора часов. Таймер показал девять тридцать. Джейкоб напрягся.
Девять сорок семь – что-то промелькнуло.
– Стоп! – рявкнул Джейкоб.
Мейсон стукнула пробел, запись остановилась на 21:50:51.
– Можно отмотать на пару минут назад?
Мейсон раздраженно засопела.
– Я что-то видел, – сказал Джейкоб.
– Меня.
Сердце упало.
– Точно?
– Я ездила ужинать. Вернулась без четверти десять. Это я, въезжаю.
– Вы так уверены.
Мейсон вскинула подбородок:
– Что-нибудь еще, детектив?
– Можно глянуть чуть дальше?
Мейсон прокрутила запись до реального времени. Ничего.
– Спасибо. Извините.
Хозяйка встала:
– Есть повод для беспокойства?
– Никакого. Еще раз спасибо. Я вам очень признателен. Спокойной ночи.
Лицо Мейсон говорило, что пожелание вряд ли сбудется.
Она препроводила гостя в тесную прихожую. Джейкоб хотел было в последний раз ее поблагодарить.
И задохнулся, обмер.
– Ну что еще?
Он глядел на рисунок тушью в золоченой раме: на волнистых лозах возлежит безголовая женщина, из разверстой шеи веером исходит поток энергии.
– Откуда это у вас? – спросил Джейкоб.
Мейсон сморгнула и выплеснула чай ему в лицо.
Подостывшее пойло больше испугало, чем обожгло; руки сами метнулись к лицу, успела даже проскочить мысль: экое хамство.
Тотчас Мейсон огрела его кружкой по голове. Что-то громко хрустнуло (хотелось верить, керамика, а не череп), от трубного гласа боли заложило уши, и Джейкоб рванулся к нечеткому силуэту, но от нового мощного удара чем-то тяжелым покачнулся и рухнул на колено, упираясь рукой в холодный бетонный пол. Кровь залила глаза. Курлыча, Мейсон снова замахнулась. Джейкоб перекатился в чайную лужу и выставил руку, защищаясь от удара картиной (возможно, «Быть безбашенной», но, может, и другой). Стеклянные зубья располосовали ему предплечье. Мейсон вскинула раму, словно топор, метя жертве в висок, Джейкоб прикрыл голову, рама разлетелась в щепки; Мейсон изготовилась обломком проткнуть Джейкоба, но тот успел подсечкой сбить ее на скользкий пол.
Оглушенный и полуослепший, Джейкоб навалился на осатаневшую бабу и сомкнул пальцы на ее горле. В уголках ее рта пузырилась пена и, смешиваясь с кровью из его распоротой руки, стекала ей на шею. Джейкоб искал сонную артерию. Пережать на четыре секунды – и все. Мейсон извивалась, брыкалась и царапалась. Их обоих накрыла чья-то тень, и мужской голос произнес:
– Довольно.
Никаких других слов от Ричарда Перната Джейкоб не услышит. Архитектор был бос, но в отглаженных джинсах и черной рубашке поло. В руках помповый дробовик, нацеленный в Джейкоба. Клэр Мейсон, давясь и кашляя, отползла в сторону. Джейкоб привалился спиной к стене, зажимая рану на руке. Ствол ружья качнулся вслед за ним. Джейкоб отхаркнул кровавые сгустки, забившие носоглотку. Пернат брезгливо сморщился, но не моргнул.
Клэр Мейсон встала на ноги, перевязала пояс халата и рукавом отерла рот.
– Прости, – сказала она Пернату.
Щека архитектора опять гадливо дернулась. Дробовик не шелохнулся.
– Я его уже почти выставила.
Пернат не ответил. Мейсон приказала Джейкобу встать и вывернуть карманы. Он выложил на пол бляху и телефон. Вынул из кармана запасную обойму, положил рядом.
– Где пистолет? – спросила Мейсон.
– В машине.
Однако Мейсон его обыскала. Велела упереться руками в стену, расставить ноги и трясущимися руками ощупала каждый шов. Из глубокого рваного пореза обильно текла кровь. Не сворачивалась, сбегала по руке, капала на ухо и плечо. Видимо, задета артерия. От вида крови Джейкоб слегка поплыл. Ноги как будто сами по себе.
Потом его вывели на улицу. Джейкоб глянул на ключи, болтавшиеся в зажигании «хонды». Дробовик Перната подтолкнул его в спину.
По кружеву кирпичных дорожек обошли бассейн, зашагали к саду Клэр Мейсон шла первой футах в десяти перед Джейкобом. Он пытался остановить кровотечение – вскинул левую руку, правой зажал рану В ключичных впадинах набрались кровяные лужицы, рассеченный висок тоже кровоточил. На кирпичных дорожках оставался кровавый след. Легко смыть из садового шланга. Как и лужи крови на бетонных полах в доме.
Пернат замыкал шествие – поодаль от Джейкоба, но достаточно близко, чтобы не промахнуться. Заряд прошил бы Джейкоба и угодил в Мейсон. Но похоже, Пернату все равно. Видимо, рано или поздно он убрал бы сообщницу. Джейкоб только ускорил дело.
Может, сыграть на ее чувстве самосохранения? Поведать, что стало со всеми подельниками Перната. Только вряд ли она поверит. Архитектор околдовал Реджи Череца и Терренса Флорака, и Мейсон тоже не избежала его чар. Вон как смотрит на повелителя (Мейсон то и дело оборачивалась, и Джейкоб видел ее искаженное лицо, зеленоватое в отсветах бассейна). Во взгляде страх и мольба. О снисхождении. О прощении. Но черта с два она их получит.
Даже если б удалось до нее достучаться, что толку? Она безоружна.
Вошли в сад, неожиданно большой. Идеально ровные ряды деревьев, на ветерке тяжеловесно качались спелые лимоны, фиги и сливы. Их аромат посеял сомнения. Может, попытаться выхватить дробовик? Все лучше, чем умереть безропотно.
Надо определить, как далеко Пернат.
– Я говорил с отцом Реджи, – сказал Джейкоб.
Молчание.
– Он хотел бы забрать этот рисунок.
Ни вздоха.
Джейкоб шел дальше.
Огромная неосвещенная оранжерея на задах сада смахивала на стеклянный ангар, в южной стене отражалось далекое городское зарево. Это что ж такое выращивают на эдаких площадях? И вообще, зачем в здешнем климате оранжерея?
Клэр Мейсон возилась с цифровым замком.
Левая рука Джейкоба занемела, пальцы скукожились, точно неснятые плоды на ветках.
Замок открылся. Мейсон распахнула дверь и щелкнула выключателем. Покрякивая, ожили люминесцентные трубки, показав, что здесь выращивают.
Ничего.
Никаких горшков с растениями, вьющихся лоз и поливальных установок. Травяная лужайка, отчаянно монотонная. Земляные холмики кое-где нарушали однородный зеленый покров. Джейкоб успел насчитать шесть бугорков, прежде чем его опять ткнули дробовиком в спину.
Прошли в дальний конец оранжереи. Что ж, последняя обитель ничуть не хуже любой другой. Мейсон взяла в углу лопату, швырнула под ноги Джейкобу, велела копать яму.
Такое он видел в кино и всегда считал глупостью. С чего вдруг жертва станет рыть себе могилу? Разве что под угрозой истязаний. Теперь же он понял, что это пустяки; главное тут – желание продлить жизнь. Все-таки удивительное существо человек: несколько лишних минут кошмара ему предпочтительнее смерти.
Джейкоб взял лопату. Неподъемная. Ниже локтя левая рука стала меловой. Джейкоб ухватился за черенок и, наступив на полотно, отвалил первый ком. Из раны опять пошла кровь. Джейкоб медленно воткнул лопату в землю. Интересно, Маллик отслеживал перемещения его телефона? А Джейкоб-то, дурак, злился на няньку-коммандера. Будем надеяться, они не станут терять время, рыская по дому. Будем надеяться, они заметят кровавый след.
– Поторапливайся, – сказала Мейсон.
Будто привязанная, она топталась вокруг Перната, тот стоял вольготно, подбоченясь. Ружье смотрело Джейкобу в грудь.
Лопата отбивала похоронный ритм. Черенок стал липким от крови. Перед глазами огненные зигзаги. Шумело в голове. Качало. Ухватиться не за что. Колотилось ослабевшее сердце. Взмокла спина, рука совсем не чувствовалась. В ярко-красной глине маниакально копошились черви и личинки – остров, затонувший в травяном море.
Джейкоб копал.
Шесть дюймов вглубь, семь, потом восемь и девять, еще не конец.
В голове злобно шумел прибой, заглушая чавканье земли.
Нога соскочила с лопатного штыка, Джейкоб потерял равновесие, выправился, замер и прикрыл глаза, ожидая кары: сейчас грянет выстрел, а дальше – тишина.
Но раздался пронзительный вопль Клэр Мейсон: «Что это?» – а затем все звуки потонули в стрекоте бесчисленных крыл.
Джейкоб открыл глаза.
Под немыслимым углом запрокинув голову, Ричард Пернат вперил взгляд в стеклянную крышу оранжереи. Забытый дробовик уткнулся дулом в землю.
Клэр Мейсон раззявила рот в безмолвном крике, тыча пальцем вверх.
Заслоняя звезды, с неба падала огромная чернота. На мгновенье мертвенные оранжерейные лампы высветили твердое подбрюшье, шесть мохнатых членистых ног, безмерные паруса крыльев, и жук размером с лошадь пробил крышу. Все погрузилось во тьму, Джейкоб грохнулся навзничь.
Стрекот стих, повисла тишина, а затем раздались гортанные стоны, вестники муки.
Джейкоб кое-как сел.
Стальной каркас оранжереи разорван, словно нитка, стеклянные рамы разбиты вдребезги. Все, кроме тех, что над Джейкобом. Он сидел на чистом травяном пятачке, а все вокруг искрилось стеклянным крошевом.
Утыканная осколками Клэр Мейсон с воем носилась кругами, молотя воздух.
Ричард Пернат стоял на четвереньках, в спине у него серебристым плавником торчал огромный стеклянный треугольник.
Жук исчез. Там, где он приземлился, в лунном свете стояла идеально сложенная женщина, гибкая и нагая. Она шагнула к Мейсон, та попятилась и, подвывая, вцепилась в искореженный остов оранжереи.
– Нет. Нет.
Голая красавица вскинула руки, перекатились мускулы на спине, потом содрогнулось все тело, и на глазах Джейкоба она разбухла в чудовищную глиняную глыбу.
Из нее вызмеились шишкастые конечности – одна оторвала Мейсон от земли, другая обвилась вокруг ее горла. Шипение, треск, и голова Мейсон покатилась по земле, мелькая гладко запечатанной шеей.
Истекающее кровью туловище осело неуклюжей грудой.
Глиняная глыба вновь содрогнулась и опять стала обнаженной женщиной. Красавица обернулась, Джейкоб увидел улыбку Маи.
Ричард Пернат подполз к дыре в стене разгромленной оранжереи и ужом протиснулся наружу. Мая шагнула следом, но передумала и направилась к Джейкобу, безбоязненно ступая по битому стеклу.
Джейкоб хотел сказать, мол, надо схватить Перната, но изо рта вырвался только всхлип. Мая опустилась на колени, взяла Джейкоба за руки и притянула к себе. Лишь ощутив ее тепло, он понял, что сам уже холоден, как мертвец.
Она его поцеловала.
Корочка, запекшаяся на губах, размякла, и на один восхитительный миг он напитался влажным ароматным дыханием, которое вдруг створожилось и стало отдавать глиной, и он все пытался сглотнуть эту горечь, но потом дыхание вновь обрело сладость плотской любви, сломившей его сопротивление. Глина растеклась по его жилам, оживляя все члены и проникая в самое сердце, потихоньку набиравшее ритм.
Он не дышал. В том не было нужды. Он получал все, что нужно. Он хотел лишь распахнуться шире, отдать себя всего.
Он приник к ее роскошному телу, ни секунды не сомневаясь, что его хотят, как он хотел ее – раньше, сейчас и всегда.
Но она отпрянула, и он вынырнул в реальность, жадно хватая ртом новорожденный воздух.
– Я скучала по тебе, – сказала она.
Джейкоб упивался волнующим многоцветьем ее волос. Глаза у нее на сей раз были зелены – отражение его глаз.
– Я тоже скучал, – сказал он.
И лишь теперь понял, как сильно истосковался. Она погладила его по руке, и рана затянулась бурой засохшей болячкой.
Мая улыбнулась:
– Теперь я частица тебя.
Она взяла его за подбородок и снова нежно поцеловала в губы.
За спиной ее раздался грохот, в дверях разгромленной оранжереи замаячили три высокие фигуры.
– Мы пришли, Джейкоб Лев, – сказал Майк Маллик.
Джейкоб почувствовал, как напряглась рука Маи в его ладони.
Маллик сотоварищи будто плыл над травой, выслав вестником студеный ветер.
– Все хорошо, – сказал Маллик. – Оставайтесь на месте и держите ее.
Троица трепетала, словно кого-то опасаясь – Джейкоба, Маю или обоих вместе.
– Мы совсем близко. – Маллик миролюбиво вскинул ладонь, что-то пряча в другой руке.
Издалека послышался очень человечий стон – Ричард Пернат ковылял через лужайку в сад.
– Не беспокойтесь о нем, – сказал Субач.
– Оставайтесь на месте, – сказал Шотт.
Маллик приблизился, и Джейкоб разглядел, что? у него в руке.
Нож.
– Вы поступаете верно, Джейкоб Лев, – сказал Маллик.
– Этого требует баланс справедливости, – сказал Шотт.
– Это быстро, – сказал Субач.
– Милосердно.
– Необходимо.
– Правильно.
Они надвигались, по очереди сыпля репликами, завораживая его. Джейкоб смотрел на мерцающий новехонький клинок, прилаженный к старой деревянной рукоятке. Он знал, что нож ляжет в руку знакомо и удобно. Джейкоб перевел взгляд на Маю, потом на великанов, потом на лужайку.
Пернат скрылся за деревьями.
– Джейкоб Лев, – окликнул Маллик. – Посмотрите на меня.
Джейкоб выпустил руку Маи.
Троица беспомощно вскрикнула.
Улыбка Маи была горько-сладкой смесью благодарности и разочарования.
– Навеки, – сказала Мая и взмыла в воздух. Рослая троица негодующе завопила и кинулась ее ловить.
Вотще: Мая уже превратилась в жужжащую черную точку, которая проскользнула сквозь огромные неловкие пальцы и восходящими кругами устремилась к свободе. Джейкоб взглядом проводил ее вознесение.
Тишина.
Троица грозно повернулась к Джейкобу, и тот оробел, былыми заслугами, как доспехами, прикрываясь от ее гнева.
Пол Шотт презрительно повел мощными плечами. Мел Субач надул толстые мокрые губы. Майк Маллик шумно фыркнул.
– Вы совершили непоправимую ошибку, – сказал он.
– Мы рассчитывали на вас, – сказал Субач.
– Вы нас подвели.
– Непоправимо оплошали.
– Он такой же, – сказал Шотт. – Совсем как она.
Они окружили его. Скрежетали их зубы, угольями полыхали глаза, множились голоса гневного хора – и вот их уже не три, а сорок пять, семьдесят один, двести тридцать один, шестьсот тринадцать, восемнадцать тысяч, тысяча тысяч голосов, грозный гудящий хор, двенадцать на тридцать, и еще на тридцать, и на тридцать, и на тридцать, и снова, и снова на тридцать, и на триста шестьдесят пять тысяч мириад…
Джейкоб спаял располовиненное сознание и самостоятельно поднялся.
Орды певчих сгинули, и осталось лишь трио немолодых копов в дурно сшитых костюмах и дешевых галстуках.
Седые пучки над ушами Маллика. Обтянутое рубашкой пузо Субача. Шотт выставил руки, словно Джейкоб в праведном негодовании вот-вот всех изничтожит.
И сказал Джейкоб:
– Прочь с дороги, будьте любезны.
Он прошел сквозь шеренгу здоровяков и поднял с земли дробовик.
– Вы не ведаете, что натворили, – откликнулся Маллик. – Не ведаете.
Джейкоб дослал патрон в ствол:
– Зато знаю, что делаю.
В саду было безветренно, сумрачно и тихо. Перед глазами еще плыло, но к прежним органам чувств словно добавились новые: Джейкоб улавливал возню букашек в земле, шорох испуганного зверька, притаившегося в кустах, чуял живую душу всего сущего.
Вдоль солдатского строя деревьев он крался на хрип тяжелого дыхания, слышного в фиговой рощице.
Силуэт в водянисто-серой ауре сидел на земле, привалившись к стволу.
Джейкоб вскинул дробовик:
– Лечь и не двигаться.
Пернат не ответил. Мертвый, что ли? Джейкоб подошел ближе. Нет, жив: аура трепещет в такт прерывистому дыханию.
– Мордой в землю, – приказал Джейкоб. – Выполнять.
Пернат поднял голову, вздохнул. Потом рука замахнулась, тело нырнуло вперед и Джейкобу в бедро вонзился стеклянный осколок.
Подавившись вскриком, Джейкоб отпрянул, но запнулся о корень и грохнулся оземь, выронив ружье. Боль мгновенно раздулась до самой поясницы. Скребя ногами, Джейкоб подполз к ружью.
Пернат даже не попытался завладеть оружием.
Он уронил голову на грудь, губы его кривились в довольной усмешке.
Джейкоб глянул на ногу – восьмидюймовый осколок наполовину вошел в бедро. Кровь пропитала джинсы. Замутило. Дрожащими руками Джейкоб сорвал с себя рубашку и перетянул ею ногу у промежности. Обломком ветки туго закрутил повязку. Волной поднялась тошнота. Джейкоб ее сглотнул, взял дробовик и подковылял к Пернату, держась на расстоянии.
Архитектор сидел, положив руки на колени и прикрыв глаза.
– Реджи Черед. Терренс Флорак. Клэр Мейсон, – сказал Джейкоб. – Кого еще добавить в список?
Пернат улыбнулся шире, показав измазанные кровью зубы. Кровь пузырилась из ноздрей. Серая вязкая аура мигала. Он умирал, не раскаявшись. Джейкоб поискал слова, которые лишат убийцу покоя.
Но так ничего и не сказал. Не о чем говорить. Повязка набрякла кровью, вновь подкатила дурнота.
Уткнув ружейный ствол архитектору в горло, Джейкоб всем весом навалился на приклад. Кадык Перната лопнул, точно мокрая картонная коробка под сапогом, глаза вылезли из орбит. Архитектор захрипел и задергался.
Джейкоб сосчитал до десяти и ослабил нажим, дав Пернату чуть отдышаться. Потом снова навалился, считая до десяти.
Он сделал так еще одиннадцать раз – за каждую известную ему жертву. В саду слышались голоса трех верзил, окликавших его. Джейкоб. Он снова упер ствол Пернату в горло. Джейкоб, где вы. Напоследок придавил – на счастье.
Джейкоб. Джейкоб.
Потом дернул собачку и отстрелил Пернату голову.
Отдачей его отбросило назад. Падая, Джейкоб откликнулся: Вот я.
– К вам пришли, – сказала медсестра.
Отец, подумал Джейкоб, кивнул и зачерпнул еще овсянки. Штора отдернулась, вошла Дивия Дас.
– Привет. – Джейкоб отер рот.
Дивия огляделась, куда бы сесть, не решаясь занять неприбранную раскладушку рядом с кроватью Джейкоба.
– Отец ночевал. Садитесь. Он не обидится.
На подушке лежала «Книга Зоар»[66], которую читал Сэм. Дивия переложила ее на тумбочку и села, примостив на колени оранжевую спортивную сумку.
– Стало быть, идем на танцы, – сказал Джейкоб.
Дивия улыбнулась:
– Как вы себя чувствуете?
Первую ночь в больнице Джейкоб не помнил. Украдкой заглянув в историю болезни, он узнал, что в приемном покое объявился самостоятельно, но бредил и неистовствовал. Видимо, троица копов подбросила его к больнице и укатила. Чтобы его утихомирить, понадобились два врача и три санитара. Чтобы снять алкогольный психоз, ему кололи барбитураты и витамин В, а также ставили капельницу с физраствором, нейтрализуя кровопотерю. Рану на бедре аккуратно заштопали.
Видения больше не являлись; стало легче, однако временами накатывала грусть. Мир представал суровым и плоским. Больничный линолеум, захватанные поручни, резкий свет. Сколько ни спи, проснешься разбитым. Вялому, расслабленному, напичканному лекарствами все безразлично.
Такое впечатление, что ты разом здоров и при смерти, заточен и свободен, благословлен и проклят.
– Саднит, – сказал Джейкоб.
– Вы позволите?
Джейкоб кивнул.
Приподняв край тонкого больничного одеяла, Дивия осмотрела его забинтованное бедро.
– До артерии не хватило четверти дюйма, – сказал Джейкоб.
Дивия подоткнула одеяло, взяла историю болезни, висевшую в изножье кровати.
– Вам перелили шесть доз эритромассы.
– Это много?
– С такой кровопотерей обычно не выживают.
Джейкоб раскинул руки: вот я.
Дивия просмотрела другие записи и вернула историю на место.
– Прекрасно, что вы держитесь молодцом.
– Благодарю. Я думал, вы уехали.
– Уже собралась. – Дивия расстегнула сумку и достала папку. – Но решила сама показать вам результаты экспертизы.
Джейкоб решил не уточнять причину резкой смены планов. Сказал «спасибо» и взял папку.
ДНК-анализ подтвердил, что кровь на мокасинах Реджи Череда принадлежала второму Упырю – совпадение по всем девяти эпизодам.
Джейкоб закрыл папку:
– Ну вот и все.
– Похоже, что так.
– Надо будет сообщить детективам из других управлений. Наверное, ждут новостей.
– Конечно, ждут. – Длинные темные ресницы дрогнули. – Коммандер Маллик просил кое-что передать. Он поздравляет вас с отличной работой по обезвреживанию двух опасных преступников и желает вам скорейшего выздоровления. О рапорте не беспокойтесь. Они все сделают.
– Я и сам могу.
– Коммандер считает, что после всего пережитого вам нужен отдых.
– Вот как.
– В общем и целом, полагает он, было бы неверно оставлять вас на должности, сопряженной с высоким уровнем стресса.
– Почему вы так со мной говорите?
– Как?
– Как чиновница.
– Вам предоставляется оплаченный месячный отпуск.
– А потом?
Дивия поджала губы:
– Вернетесь в транспортный отдел.
Джейкоб смотрел в упор. Дивия уставилась в пол.
– Сочувствую, Джейкоб. Это не мое решение.
– Очень надеюсь. Не вы мой начальник.
Дивия не ответила.
– Сам он не мог об этом сказать?
– Майк Маллик предан делу. Но он упрям и порой безразличен к чувствам людей.
– Серьезно?
– Все мы разные, Джейкоб.
– Надо же.
– Он вправе иметь свое мнение, а я свое.
– И каково ваше мнение?
– Маллик не всегда предвидит поведение человека в конкретной ситуации. Учитывая обстоятельства, я бы вас не упрекнула.
– Кто она? – спросил Джейкоб.
Молчание.
– Коммандер поздравляет вас с отлично выполненной работой по обезвреживанию двух опасных преступников, – сказала Дивия.
– Да ну? Вот так вот, да? Вы хоть представляете, что у меня здесь творится? – Джейкоб постучал себя по лбу – Представляете?
За шторой курлыкнул и всхрапнул сосед по палате, девяностолетний старик.
– Пожалуйста, тише, – шепнула Дивия.
– Может, мне сотрут память? Назначат бесплатную лоботомию?
Датчик сердечной деятельности угрожающе зачирикал. Дивия подождала, пока он успокоится, и склонилась к Джейкобу.
– По-моему, у вас есть выбор, – сказала она. – Жить внутри или вовне своих впечатлений.
– И что мне делать? – спросил Джейкоб. – Ждать ее возвращения?
– Вы ей определенно глянулись.
– Не понимаю чем.
Дивия криво усмехнулась:
– Ладно вам прибедняться, Джейкоб Лев.
Молчание.
– Значит, транспортный? – сказал он.
Дивия попыталась улыбнуться:
– Считайте это отпуском.
Тихо стукнули в дверь. Штора отъехала, явив Сэма с промасленным пакетом.
– Ох ты, – сказал он. – Я не знал, что у тебя гости. Зайду позже.
Дивия встала:
– Я уже ухожу. Вы, наверное, отец Джейкоба?
– Сэм Лев.
– Дивия Дас.
– Рад встрече. Как наш пациент?
– Гораздо лучше тех, с кем мне приходится иметь дело. – Дивия повернулась к Джейкобу и ласково коснулась его плеча: – Поправляйтесь.
Джейкоб кивнул.
– Вроде бы милая, – сказал Сэм, когда Дивия вышла.
– Она приходила известить, что меня разжаловали.
– Серьезно? – сощурился Сэм.
– Опять бумажки на столе перекладывать.
– Хм. Не скажу, что я огорчен.
– Другого я не ждал.
– Ты мой сын. Думаешь, мне легко тебя видеть таким?
– Я думаю, тебе вообще видеть нелегко.
– Уел. – Из пакета Сэм достал рогалик. – Попросил Найджела тормознуть. – Он положил рогалик на поднос. – В больнице кормежка дерьмовая.
– Спасибо.
– Ну, как нога? Может, хочешь отдохнуть? Я помолчу.
– Лучше поговорим. – Джейкоб откусил булку. Какое наслаждение забить бляшками сосуды. – Ты не забыл опустить мою цдаку в ящик?
– Не забыл. Я все время думал о тебе. Надеюсь, ты чувствовал.
– Ну еще бы. Ангел спорхнул с небес, коснулся меня, и теперь мне гораздо лучше.
– Ты везунчик, – улыбнулся Сэм.
Осмотрев рану, ординатор-новичок объявил, что заживление идет «нормально». Затем потрогал болячку на руке, пролистал историю болезни и в очередной раз прочел лекцию о вреде пьянства.
– Хорошая новость: признаков заражения нет.
– А какая плохая? – спросил Сэм.
– Непременно и плохая, что ли? – встрял Джейкоб.
– В сущности, ничего страшного, – сказал ординатор. – Нас удивляют анализы крови. Повышенное содержание железа, а также магния и калия, правда, не настолько. Переизбыток железа провоцирует заболевания печени. Вы едите много мяса?
– Хот-доги считаются?
Ординатор насупился. Молодой брюзга, в старости он будет невыносим.
– Я бы не рекомендовал такое питание. Как бы то ни было, мы дважды перепроверили ваши анализы на предмет других аномалий. Кое-что еще я тоже затрудняюсь объяснить.
– То есть? – не понял Сэм.
– Вы принимаете кремниевые добавки? – спросил ординатор. – Некоторые считают, что кремний предотвращает выпадение волос.
Джейкоб провел рукой по темной густой шевелюре.
– Угу. А другие добавки? Гомеопатию?
– Нет.
– Хм. Ладно. Хорошо. Я проконсультировался с коллегами, и доктор Розен, психиатр, высказал одно предположение.
Джейкоб напрягся:
– Какое?
– Существует отклонение, называется оно парорексия, при котором человека неудержимо тянет на несъедобные предметы вроде волос, земли, штукатурки. Чаще всего парорексия встречается у беременных, иногда бывает при малокровии. В самых острых случаях в крови проявляются следы поглощенных минералов. Ваш пример неординарный, уровень железа должен быть ниже, а не выше, но, главное, я не понимаю, почему в вас столько кремния.
Джейкоб не ответил.
– А также алюминия. Разве что вы купаетесь в антиперспиранте. – Ординатор помолчал, переводя взгляд с Джейкоба на Сэма и обратно. – Было что-нибудь, э-э… подобное?
– В смысле, ем ли я землю? – уточнил Джейкоб. – Или купаюсь в антиперспиранте?
– И то и другое.
– Не было.
Ординатор облегченно вздохнул.
– Скорее всего, лабораторная ошибка, – сказал он. – И все же мы вас понаблюдаем. Отдыхайте.
Джейкоб откинулся на подушку, рассеянно поглаживая болячку на руке. Во рту слабо отдавало глиной. Он думал о Мае, о Дивии Дас и о том, что отец сказал «Рад встрече», хотя обычно говорят «Приятно познакомиться».
Сэм, как всегда, был непроницаем.
– Пожалуй, я вздремну, абба.
Отец кивнул и раскрыл «Зоар»:
– Спи. Я буду рядом.
Через четыре дня кровь еще не нормализовалась, но в отсутствие зримых симптомов недуга ординатор и страховка не нашли оснований оставлять пациента на больничной койке. Снабдив болеутоляющим, Джейкоба выписали на амбулаторное лечение. В коляске медсестра выкатила его из больницы, на костылях он допрыгал до ожидавшей его красной колымаги.
– Отлично выглядишь. – Найджел придержал дверцу.
– Видел бы ты того, кто это сделал.
Было решено, что выздоровление пройдет у Сэма. На квартиру Джейкоба заехали за вещами.
«Хонда» под навесом выглядела как-то странно. С помощью Найджела взбираясь по лестнице, Джейкоб сообразил: впервые за долгое время машину помыли.
– Ты, что ли, расстарался? – спросил он.
– Нет, – усмехнулся Найджел, нашаривая в кармане Сэмов дубликат ключа. – Наверное, какая-нибудь твоя подружка услужила.
Все, что доставили Субач и Шотт, – стол, кресло, компьютер, телефон, камера, принтер, роутер, блок питания – исчезло. Телевизор подключен, на прежнем месте. На стеллаже, репатриированном в гостиную, аккуратно выложены гончарные инструменты.
А вот коробки с бумагами от Фила Людвига и рабочий журнал пропали.
В ванной пахло сосной. Холодильник вычищен. На ковре спальни полосы от пылесоса, которого у Джейкоба отродясь не было. На тумбочке – застегнутая на молнию сумка с бумажником, ключами и бляхой.
Старый мобильник включен в сеть и заряжен на все пять делений.
На полу возле шкафа рюкзак. Внутри мешок с тфилин, куча фантиков, «глок» и обойма. И еще бинокль, к которому прилепили листок с тремя наспех начерканными словами:
Пользуйтесь на здоровье.
Хаос в квартире уже стал привычным, и восстановленный порядок обескураживал. Джейкоб торопливо побросал вещи в спортивную сумку. Закинув ее на одно плечо, а рюкзак на другое, Найджел пошел к машине. Джейкоб подскакал к стеллажу, где лежали инструменты. Скребки, лопатки, резак, набор ножей.
Не хватало одного ножа. Самого большого.
В дверях возник Найджел:
– Можем ехать?
– Поехали к черту.
Через дорогу припарковался белый фургон.
ШТОРЫ И НЕ ТОЛЬКО – СКИДКА НА МЫТЬЕ ОКОН.
За рулем сидел чернокожий незнакомец, такой рослый, что его голова целиком не вмещалась в рамку окна. На Джейкоба он, казалось, и не глядел, однако вскинул руку, когда тот, отъезжая от дома, ему помахал.
Сэм заявил, что будет спать на раздвижном диване, а кровать уступит Джейкобу. Еще больше он удивил сына, вручив ему пульт от новенького телевизора с плоским тридцатидюймовым экраном.
– Когда это ты сподобился?
– Я не ретроград.
– Ты же ненавидишь телевизоры.
– Будешь спорить или смотреть?
Через сорок восемь часов организм избавился от барбитуратов и наступила ломка.
На раскладном стуле Сэм сидел подле Джейкоба и болезненно морщился, глядя на сына. Джейкоба колотило и прошибало потом.
– Надо вернуться в больницу, – сказал Сэм.
– Н-ни… з-за что.
– Прошу тебя, Джейкоб.
– Н-надо п-пере… терпеть.
Руки так тряслись, что Джейкоб не мог приладить тфилин.
– Не стоит, если это ради меня, – сказал Сэм.
– Будешь спорить, – еле выговорил Джейкоб, – или поможешь?
Сэм зашел в изголовье кровати и, нагнувшись, придержал его руки, помогая ровно закрепить ремешки. От колючей отцовой щеки пахло душистым мылом, и Джейкоб остро почуял стоялую вонь своего немытого тела.
– Извини, – промямлил он.
Сэм ласково шикнул и тихо рассмеялся, прилаживая головной тфилин.
– Что? – спросил Джейкоб.
– Я вспомнил, как ты впервые их надел. – Сэм сдвинул коробочку левее. – На тебе они казались ужасно большими. Все, разговоры закончили.
Откинувшись на подушку, Джейкоб осилил главные благословения сокращенной службы, а потом молитвенник выскользнул из его рук.
Сэм осторожно приподнял ему голову и развязал тфилин. Затем снял с руки второй. Смочил полотенце и положил сыну на лоб, где кожаная коробочка оставила красный след.
Понемногу тремор стих, уступив место приступам тупой головной боли и бессилья, предвестникам хандры, эмоциональной тошноты в пандан к физической. Похоже, Сэм чуял эту угрозу, ибо как мог отвлекал сына праздной болтовней и нескончаемым потоком загадок и каламбуров.
Джейкоб сомневался, что словесные игры отразят полномасштабную атаку депрессии, однако невольно подпадал под обаяние Сэма, взбудораженного тем, что в кои-то веки не принимает, но сам проявляет заботу. Самодостаточность отца, о чьей настоящей жизни Джейкоб уже давно ничего не знал, на многое открывала глаза.
Сэм сновал в кухню и обратно, приносил сэндвичи с тунцом, питье и лед, а потом шаркал в ванную, чтобы освежить компресс и ополоснуть рвотное ведро.
Джейкоб понимал, что телевизор куплен специально для него, и пытался выразить признательность, выбирая программы, которые могли быть интересны отцу, – спорт и новости. Вдвоем они сокрушались, что «Лейкерс» так рано вылетел из турнира, и смотрели бейсбол, отключив комментатора. Когда Джейкоб задремывал, Сэм читал. Через неделю Джейкоб, набравшись сил, позвонил Вольпе, Бэнд и Флоресу – сообщил им хорошую новость. Грандмейсону не позвонил. Пускай сам узнаёт.
Когда Джейкоб достаточно окреп, они стали выходить на долгие медленные прогулки (темп задавала свербящая боль в ноге), со временем – трижды в день. Многие окрестные обитатели здоровались с Сэмом. Рыхлая дама, которая выгуливала пару внуков-неслухов, молодой папаша, толкавший охромевшую коляску. Казалось, все эти люди безмерно благодарны Сэму за то, что своим существованием он облегчал бремя их жизни. Джейкоб вспоминал Эйба Тайтелбаума, величавшего Сэма ламедвавником.
В четверг вечером на углу Аэродром-стрит и Пройсс мимо промчалась девушка на велосипеде:
– Здрасьте, мистер Лев.
Сэм вскинул руку.
– Ты популярен, – сказал Джейкоб.
– Все любят клоунов, – ответил Сэм.
Казалось, его это ничуть не тяготит. Джейкоб знал, что отец не позерствует. Если мнишь себя ламедвавником, ты не ламедвавник. Стало быть, в тебе нет должного смирения. Но самое главное – ламедвавник не осознаёт груза своей ответственности, ибо в противном случае он мгновенно рухнет под тяжестью мировой скорби, которую призван нести.
Джейкоб оглянулся на велосипедистку, мотавшую конскими хвостиками:
– А кто это был?
– Откуда я знаю? Я же слепой.
Свернули на Аэродром-стрит.
– Помнишь наши утренние воскресные уроки? – спросил Джейкоб.
– Конечно, помню.
– Интересно, чем ты думал, выбирая темы.
– А что такое?
– Мне было шесть, когда ты рассказал о смертной казни.
– В чисто юридическом аспекте.
– Вряд ли первоклашка это понимает.
– Хочешь сказать, я изуродовал тебе жизнь?
– Вовсе нет. С этим я справился сам.
На Робертсон-бульваре вывеска «7-Одиннадцать», в сумерках полыхавшая оранжевым и зеленым, распалила тоску по бурбону и нитратам.
– Пошли обратно, – сказал Джейкоб. – Тут слишком шумно.
– Конечно. Ты подустал?
– Еще пару кварталов.
Пошли на восток.
– Можно еще вопрос, абба?
Сэм кивнул.
– Когда ты женился на маме, ты знал, что она больна?
Сэм молчал.
– Извини, – сказал Джейкоб. – Можешь не отвечать.
– Я не сержусь, просто думаю, как лучше сказать.
Некоторое время шагали молча.
– Давай иначе сформулируем вопрос. Если б можно было вернуться назад, я поступил бы так же? Ответ: да, несомненно.
– Даже зная, что с ней произойдет?
– Женишься на той, какая она сейчас, а не какой будет.
В тишине костыли Джейкоба стучали по тротуару.
Жить внутри или вовне своих впечатлений.
Нелегкий выбор.
Нелегко решить: выбор-то подлинный или мнимый?
– Я боюсь, то же самое будет со мной, – сказал Джейкоб. – Кажется, уже началось.
– Ты другой человек.
– Но ведь не заговоренный.
– Нет.
– Тогда почему ты так уверен?
– Потому что знаю тебя, – ответил Сэм. – Знаю, из чего ты сделан.
Темнело.
– Я вот подумал, – сказал Джейкоб, – может, нам возобновить наши уроки?
– Что ты хочешь изучать?
– Не знаю. Выбери что-нибудь интересное. Как только вернусь на службу, меня завалят работой, поэтому аккуратного посещения не гарантирую. Но я готов, если ты готов.
– Охотно, – сказал Сэм. – Весьма.
Бульвар Ла Синига, столпотворение машин. Свернули на запад. Уже через двадцать минут были дома. Сэм не особо устал; выходит, они обрели согласованный ритм. Пусть даже на время.
Ограничиться телефонным звонком Филу Людвигу было бы неправильно. В воскресенье с утра Найджел отвез Джейкоба в Сан-Диего. Доблестный детектив ковырялся в палисаднике – в палящем зное оптимистично высаживал герань.
Людвиг выпрямился, смаргивая пот:
– Воистину день задался или бесповоротно пропал.
За лимонадом Джейкоб изложил хронологию событий, лишь в общих чертах описав последние минуты Ричарда Перната. Людвиг слушал с каменным лицом. В его лаконичной оценке «хорошо» угадывалась благородная попытка скрыть огорчение. Чужой успех официально закреплял его неудачу.
– Родственников я еще не известил, – сказал Джейкоб. – Может, возьмете это на себя? Кроме Стайнов. С ними я сам хочу поговорить.
– Я подумаю. – Людвиг слегка оживился: – У меня для вас тоже кое-что есть. После вашего письма я вспомнил, что так и не разузнал о жуке.
– Не хлопочите.
– Черта лысого, я полночи не спал. Притворитесь, что вам интересно.
В гараже Людвиг убрал со стола незаконченную работу – целенькую бабочку-медведицу, пришпиленную к белой картонке, – и достал потрепанный, прожженный кислотой справочник.
– Совсем о нем забыл. – Людвиг погладил покоробившуюся красную матерчатую обложку с черным тисненым названием:
ЕВРОПЕЙСКИЕ НАСЕКОМЫЕ
А. М. Голдфинч
– Сто лет назад купил на библиотечной распродаже. По-моему, даже ни разу не заглянул, там же виды Старого Света.
Закладкой служила цветная распечатка фотографии, присланной Джейкобом. Людвиг приложил ее к графической иллюстрации – Nicrophorus bohemius, богемский жук-могильщик.
Джейкоб подсел за стол и прочел статью.
Жуков-могильщиков, встречавшихся на речных берегах Центральной и Восточной Европы, отличала одна особенность, не характерная для мира насекомых: взрослые особи оставались вместе и воспитывали молодняк. Эта тенденция ярко проявилась у богемских жуков-могильщиков, которые спаривались на всю жизнь.
– Тут вот какая штука, – сказал Людвиг. – Книга издана в 1909 году. Я в интернете поискал цветную фотографию, но «Википедия» сообщила, что в середине двадцатых этот вид полностью вымер.
Джейкоб разглядывал картинки. Вроде одинаковые существа.
– Но это же насекомые. Тут наверняка не скажешь. Они же маленькие, живут под землей, а попадутся на глаза человеку – их сразу прихлопнут. Вот одного средиземноморского жука сотню лет никто не видел, а в прошлом году он объявился на юге Англии. Бывает и так. Я думаю, надо переслать материалы моему приятелю. Если он согласится, может, статью в журнале тиснем.
– Валяйте, – сказал Джейкоб. – Только без меня.
Людвиг нахмурился:
– В журнале спросят, кто обнаружил жука.
– Скажете, сами сфотографировали.
– Это нехорошо.
– Вы же разобрались. Я бы вовек не выяснил.
Людвиг помолчал, прикидывая, не подают ли ему милостыню, и кивнул:
– Ну ладно. Не передумаете?
– Ни в жизнь.
Стайны приняли его в своем особняке. Джейкоб опасался, как бы они не рассвирепели, узнав, что убийцы их дочери уже никогда не предстанут перед судом. Рода вскочила и выбежала из комнаты, Эдди вскинул руки и двинулся к гостю. Джейкоб изготовился отбить апперкот, но Эдди заключил его в медвежьи объятья, а Рода вернулась с бутылкой шампанского и тремя фужерами.
– Видала? – Эдди встряхнул Джейкоба. – Я же говорил, не такой уж он и поц.
Выбирать подарок Сэму, равнодушному к материальным благам, всегда было нелегким делом и стало еще труднее, когда Джейкоб повзрослел и понял, что отец не носит галстуки. В благодарность за долгий приют он решил устроить субботнюю трапезу – последнюю перед своим возвращением на службу.
– Восхитительно, – сказал Сэм, расправляясь с куском магазинного шоколадного торта.
– Спасибо, абба.
– Я считаю, ты готов вернуться в свои пенаты. Только надолго не пропадай.
– Не пропаду. Поверь, я пробовал.
Перед домом стоял белый фургон. Тот же негр читал журнал.
Джейкоб стукнул в окошко. Негр отложил журнал и опустил стекло.
– Послушайте, я не знаю, какой у вас график и есть ли сменщик, но решил, что надо представиться. Я Джейкоб.
– Натаниэль.
– Может, по рюмочке?
– Спасибо, не хочется, – усмехнулся негр.
– Ну ладно. Если передумаете, заглядывайте.
Натаниэль улыбнулся, помахал и поднял стекло.
– Ну и как там на Гавайях? – спросила Марша.
Джейкоб вскрыл упаковку шариковых ручек:
– Я не был на Гавайях.
– В Вегасе? – Марша навалилась грудью на стол. – В Кабо?
Джейкоб покачал головой и вставил ручки в стакан.
– Видно же, что ты где-то побывал. Вон, весь светишься.
Джейкоб засмеялся.
– Ну ладно, – надулась Марша. – Как хочешь.
– С удовольствием рассказал бы, да нечего.
– Совершенно секретно.
– Ты моя умничка, – ухмыльнулся Джейкоб.
Марша ответила ухмылкой:
– Короче, я рада, что ты вернулся.
– Спасибо, милая.
– Лев! – рявкнул кто-то.
Джейкоб поднял голову. Красный, как пожарный гидрант, страдающий воспалением кишечника, в дверях стоял его бывший начальник капитан Мендоса.
– Познакомься, наш новый царь, – пробурчала Марша.
– Да ты издеваешься.
– Зайдите ко мне, – приказал Мендоса.
Из убойного отдела в транспортный – крутое понижение. Джейкоб знал по себе.
– Кого же он так разозлил?
– Мы пока что не вычислили. Есть версии?
– Вы меня слышали, Лев?
– Иду, сэр, – откликнулся Джейкоб и подмигнул Марше: – Есть парочка догадок.
Закинув ноги на стол, Мендоса пролистывал толстенную папку. Стресс забрал у него фунтов десять весу и хорошо поработал над лицом: синяки под глазами, прыщи на лбу. Всегда ухоженные усы нынче свисали сосульками.
– Надеюсь, вы славно отдохнули, ибо развлечения закончились. – Придушенный, но писклявый голос предполагал ущемление связок. Мендоса шваркнул папку на стол: – Сравнительный анализ ДТП с участием машин и пешеходов за пятьдесят лет. Ваше величайшее творение.
– Так точно, сэр.
Мендоса глубокомысленно погладил усы:
– А велосипедистов вы учли?
Джейкоб взял папку и вернулся в свой закуток.
Но было и хорошее: теперь к половине седьмого он уже был дома и не работал в выходные. По понедельникам и средам сидел на задней скамье англиканской церкви на Олимпик-бульваре, где проходили собрания анонимных алкоголиков. Ходить в храм и бормотать слова, в которые не веришь, было не внове. Для непьющего вечерние вылазки в город не имели смысла, он рано ложился и рано вставал, прилежный и безропотный, целомудренный и покорный. В конце концов Мендосе надоело его доставать.
Когда в «7-Одиннадцать» он покупал диетическую колу, продавец Генри хватал его за грудки:
– Чем я провинился?
Теперь он знал, что искать, и легко вычислял тех, кто был приставлен за ним следить. Фургоны, маячившие в радиусе двух кварталов, меняли раз в две недели, а то и месяц. Доставка провизии, ремонт кровли и печей, настройка пианино, утепление стен. Одни водители были дружелюбны, другие угрюмы. Никто не выказывал беспокойства и желания поболтать.
Джейкоб тоже не беспокоился. Их интересовал не он.
Однажды вечером, возвращаясь с собрания, Джейкоб увидел фургон водопроводчика и неожиданно обрадовался, разглядев в кабине Субача. Тот пальцами-сардельками барабанил по рулю.
– Привет, Джейк.
– Здорово, Мел. Подхалтуриваешь?
– Сам понимаешь. Одна и та же канитель. – Субач ухмыльнулся. – Транспортники тебя не обижают?
– Очень смешно. Обхохочешься.
– Ладно, расслабься.
– Передай Маллику огромное спасибо.
– Коммандер вроде как маленько… осерчал, – раздумчиво сказал Субач.
Джейкоб вяло улыбнулся.
– Не бери в голову. Пройдет.
– Все проходит, – ответил Джейкоб. – Ладно, Мел. Зла не держишь?
– Я – нет.
– А кто? – помолчав, спросил Джейкоб.
Субач рассмеялся:
– Хорош. Будь реалистом. В мире полно зла. Иначе мы бы с тобой остались без работы.
Для еженедельных занятий Сэм выбрал трактат по уголовному праву, в котором была глава о смертной казни.
– По-моему, ты уже достаточно взрослый, – сказал он.
Без единого пропуска Джейкоб посетил четырнадцать уроков. Воскресными утрами они сидели во дворике Сэма и под чай с плюшками перебрасывались доводами, словно теннисным мячом. Ухватив мелодику диспута, Джейкоб заново знакомился с яркими персонажами Талмуда и теперь больше им сочувствовал. Живые люди, истерзанные сомнениями, пытались понять, как быть. Ритуальная система, которую они создали, – благородная попытка наполнить жизнь достоинством и смыслом. Они жаждали независимости, самоуважения, святости. Потерпев неудачу, искали новые пути. Когда-то Джейкоб пропустил этот урок. Теперь не пропустит.
В воскресенье перед Рош а-Шана Джейкоб пришел чуть раньше. Сдвинув очки на лоб, Сэм уже сидел во дворике. Вместо двух экземпляров Талмуда перед ним лежал одинокий бумажный листок – копия пражского письма.
Сэм кивнул на свободный стул.
Джейкоб сел.
Сэм откашлялся, скинул очки на нос, встряхнул листком. Помолчал.
– Что-нибудь выпьешь?
– Нет, спасибо.
Сэм кивнул. И начал читать, переводя с иврита:
– «Мой дорогой сын Исаак. И благословил Господь Исаака и да благословит Он тебя». Ты правильно решил, что Махараль обращается к Исааку Кацу. Они друг друга любили, не говоря уж о том, что учитель и ученик – все равно как отец и сын. – Он посмотрел на Джейкоба: – Продолжим?
Тот кивнул.
– «И как радуется жених своей невесте, возрадуется о тебе Бог твой. Ибо глас ликования и глас веселья на улицах Иудеи. И посему я, Иегуда, сын Леи, воздаю хвалу Ему». – Сэм поправил очки. – Исаак Кац был мужем двух дочерей Махараля: сначала Леи, которая умерла бездетной, потом ее младшей сестры Фейгель. Дата, сиван 5342 года, соответствует второй женитьбе. Исаак Кац – новобрачный, вот почему Махараль пытается дать ему лазейку и цитирует напутствие воинам. Он говорит: что-то происходит, мне требуется твоя помощь, но только если ты сможешь отринуть личные заботы. Предшествующий абзац излагает суть дела.
Сэм подал письмо Джейкобу.
– «Глаза наши видели всё деяние Господне великое, которое Он содеял, – прочел Джейкоб. – А когда сосуд, который делали мы из глины, не удался в руках наших, то горшечник сделал из нее снова другой сосуд, какой ей заблагорассудилось. Разве гончар наравне с глиной? Возможно ли, чтобы сказало изделие о сделавшем его: “Он не сделал меня’’ и творение сказало о творце своем: “Он не разумеет”?» – Джейкоб отложил письмо. – Извини, абба, я не понимаю.
– Вот и Махараль боялся, что зять не поймет. И подстраховался. В последней строчке. Даже не слишком ловко.
Ибо по правде мы возжелали благодати; Господь лишил нас милости Своей.
– Ты не распознал библейскую аллюзию, потому что нет такого стиха.
Джейкоб перечитал строку на иврите.

– Не спеши, – сказал Сэм. – Поверти так и этак.
Он так говорил, развлекая юного Джейкоба гематрией – арифметикой букв.
Джейкоб подставил числовые значения букв, прочел сзаду наперед. Ничего.
Потом соединил первые буквы каждого слова.

– Барах ха-Голем, – прочел он.
Голем сбежал.
– Нет большей самонадеянности, чем стремление сотворить жизнь, – сказал Сэм. – Дети – лучший тому пример. Талмуд учит, что в рождении ребенка участвуют трое: мать, отец и Бог. Это уравнение возносит человека до высот Создателя. Вот почему говорится, что Бог занят каждым смертным. Но как ни пытайся утвердить свою власть – даже ссылаясь на Господа, – дети идут своим путем. – Он помолчал. – Всякий отпрыск выбирает собственную дорогу. В этом главное счастье и горе родительства.
– Она пришла за мной, – сказал Джейкоб.
Сэм не ответил.
– Потому что в твоих жилах – кровь Махараля.
– Ты же сам сказал. Она пришла за тобой, а не за мной.
Джейкоб уставился на отца.
– Если не возражаешь, я посижу, пока ты подгонишь машину, – сказал Сэм.
Для почти слепца он с поразительной уверенностью исполнял роль штурмана:
– Перестройся в правый ряд.
– Не хочу показаться занудой…
– Тогда помолчи.
– …но было бы проще сказать, куда мы едем.
– Опоздаешь с перестроением.
Джейкоб глянул через плечо и ушел с полосы, уводившей на 110-е шоссе.
– Давай с трех раз угадаю?
– Сбрось скорость, впереди камера.
Джейкоб притормозил.
За эстакадой сверкнул глаз радара.
– Если что, я отговорюсь, – сказал Джейкоб.
– Незачем рисковать.
Джейкобу в голову приходило лишь одно место к востоку, куда Сэм мог проложить маршрут не глядя. На пересечении со 101-м шоссе Джейкоб показал правый поворот, затем выбрался на 60-ю автостраду, которая вела в Бойл-Хайтс и к кладбищу «Сад покоя». Снова включил поворотник, готовясь съехать на Дауни-роуд.
– Нет, на юг по 710-му, – сказал Сэм.
Наверное, он запамятовал. Видимо, они с Найджелом ездили в другие часы или кружным путем.
– Абба…
– На юг по 710-му.
Впереди маячил рыжеватый холм, исконопаченный белыми надгробиями.
– Вон кладбище, отсюда видно.
– Нам не на кладбище, – сказал Сэм.
Озадаченный Джейкоб вырулил на 710-е шоссе.
Через две мили Сэм велел свернуть на 5-е.
– У меня полбака, – сказал Джейкоб. – Нам хватит?
– Да.
Затем были 605-е шоссе, трасса Империал и проезд через Дауни. Джейкоб почти не знал эти места и уже подумывал включить навигатор, но тут Сэм велел перебраться на 710-е и ехать на север.
– Мы же недавно с него съехали.
– Я знаю.
– Намотаем огромный круг.
– Езжай.
– У нас кто-то на хвосте? – спросил Джейкоб.
– Это по твоей части.
Джейкоб глянул в зеркало.
Море машин.
По указке Сэма он несколько раз менял рядность, имитируя съезд.
– По-моему, никого, – сказал Джейкоб.
Сэм кивнул:
– Тут я полагаюсь на тебя.
Вновь миновали кладбище, но теперь с востока, откуда были видны лишь кивающие верхушки пальм, похожих на растреп. В конце автострады свернули к Алхэмбре и выехали на Уэст-Вэлли-бульвар. Джейкоб безропотно лавировал по жилым кварталам.
– Как там? – спросил Сэм.
Джейкоб глянул в зеркало:
– Чисто. – Он забавлялся, недоумевал, бесился. – Между прочим, осталось четверть бака.
– Заправимся на обратном пути. Направо на Гарфилд, потом первый поворот налево. Три квартала прямо, дом 456 по Восточной, в конце квартала.
Невзрачная улица, обиталище небогатого среднего класса: дома с бетонными решетками, гордые клумбы, на подъездных аллеях пикапы и катера на прицепах.
– Там на стоянке всего пять мест, они обычно заняты, – сказал Сэм. – Припаркуйся где сможешь.
Джейкоб остановился перед оштукатуренным трехэтажным зданием с черепичной крышей. Короткая полукруглая аллея, черепичный навес. Самшитовая изгородь, деревянная вывеска.
ТИХООКЕАНСКИЙ ДОМ ПРЕСТАРЕЛЫХ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ГРАФФИНА
Молча посидели в машине.
– Я прошу у тебя прощенья, – сказал Сэм.
Джейкоб не ответил.
Сэм склонил голову:
– Ты прав. Извини. Не надо было… Прости.
Он выбрался из машины и пошел по аллее. Обмирая от ужаса, Джейкоб двинулся следом.
Он понял. Все понял, едва переступил порог. За конторкой стояла женщина в больничной униформе, растрафареченной Микки-Маусами.
– Доброе утро, мистер Авельсон, – улыбнулась она.
Сэм кивнул, и Джейкоб все понял.
Шибало хлоркой. Джейкоб посмотрел на отца, который неловко расписывался в формуляре. Почему он это делает? Зачем вообще это затеял? Он ведь никогда не был эгоистом. Наоборот. Сэм отдавал, отдавал, отдавал. Жаловал всех добротою; не жаловался. Может, неким извращенным манером щедрость эта обращалась и на него самого? Тогда это невообразимый эгоизм.
– Распишись. – Сэм подал ему формуляр. Подпись – Авельсон.
И как расписаться? Тоже врать, что ли? Джейкоб поставил свое настоящее имя.
Он понял. И все равно шагал за Сэмом по коридору – растрескавшиеся плитки пола, серые стены в засохших потеках краски. Приоткрытые двери каморок на две кровати. Засаленные половики, тонкие одеяла. Детский рисунок на стене лишь подчеркивает мертвенность виниловых обоев. В вазе увядшие подсолнухи, воды на палец, замшелая гниль. Сердце ныло, боль разрасталась. Неужто нельзя было что-нибудь получше? Наверняка ведь можно было.
Тусклый свет в конце коридора. КОМНАТА ОТДЫХА.
Мужчины и женщины. Читают, дремлют, играют в шашки. Халаты, заляпанные соусом. Тапочки. Все нечетко, словно в парной. Рыхлые тела, дрожащие руки, мутные глаза. Плоды многолетнего лечения.
В подавляющем большинстве взгляды уставлены в телевизор. Идет ток-шоу.
Весь персонал – две кряжистые латиноамериканки в розовой униформе (сердечки, белые кошечки). Тоже смотрят передачу. Обернулись. Одна улыбнулась:
– Она в саду.
– Спасибо.
Джейкоб понял, однако онемело шел сквозь ряды безумцев, чувствуя их взгляды. Пустые и бессмысленные, даже они его осуждали. Его, кто никогда не навещает.
Так называемый сад был бетонированным двором: розовый цемент, расчерченный под плиты, пластиковые шпалеры, увитые звездчатым жасмином, цветочные кадки из магазина хозтоваров. Частокол железной ограды высотой футов десять. Неужели кто-нибудь пытался сбежать?
В углу приютилось единственное живое дерево – устрашающе корявая смоковница, усыпавшая ягодами бетон, выпустила длинные щупальца тени.
Она сидела на железной скамье, изъеденной ржавчиной.
Волосы ломкие, поседели. Кто-то озаботился их расчесать и зашпилить девчачьей заколкой – божьей коровкой. Черепашья шея и тело-квашня оскорбляли облик той, что жила в его памяти. А вот жилистые руки и ярко-зеленые глаза остались прежними.
Пальцы ее безостановочно двигались, разминая невидимую глину.
– Здравствуй, Вина. – Сэм подсел к ней, обнял за плечи, поцеловал в висок.
Рука ее взобралась к нему на щеку и замерла. Сомкнулись веки.
Джейкоб развернулся и пошел прочь.
– Она попросила, чтобы ты пришел, – сказал Сэм.
Джейкоб не остановился.
– Она десять лет молчала.
Джейкоб взялся за ручку двери.
– Не обвиняй ее. Вини меня.
Джейкоб обернулся:
– Ты виноват.
Сэм кивнул.
Они застыли вершинами длинного узкого треугольника, что незримым клинком пересек сад. В комнате отдыха бормотал телевизор. Жаркий ветерок тормошил жасмин, катал сладкие подгнившие ягоды. Мать взглянула на ветви, тихонько, потерянно застонала. Отец потерянно глядел на нее. Время шло. Джейкоб шагнул к ним. Остановился. Он был как будто пьяный. Наверное, он не сможет. Он оставил их вдвоем.
С ветви смоковницы она глядит на семейство, раздробленное на тысячи осколков, и печально ежится, поджимая лапки.
Любимый – он стоит столбом. Ах, если б можно было подойти, утешить его и растолковать, что ее «навеки» было сказано всерьез.
Ветерок остужает нагретый солнцем панцирь. Ветка танцует в пустоте. Женщина внизу поднимает взгляд к небесам. Через огромную даль они разглядывают друг друга. Женщина гортанно курлычет, сухие губы ее безмолвно шевелятся.
Женщина хочет вспомнить.
А вот ей подсказки не требуются. Кажется, будто они виделись только вчера. По большому счету, так оно и есть. Вечность – долгий срок.
Она видит, что любимый хочет уйти, и готовится последовать за ним. Теперь, когда она вновь его отыскала, она будет рядом. Она проползет через серые мертвые пустыни, переплывет серые озера и сойдет в серую долину, где обитает он. Ей прекрасно знакомы эти места.
Она выпускает крылья и приседает на лапках.
Прыгает.
Вечно одно и то же: на один ужасный миг притяжение одолевает веру, и она камнем падает к земле. Но потом вспоминает, кто она, и потихоньку взлетает.
1
Синагога (идиш).
2
Тфилин (филактерии) – черные кожаные коробочки, где хранятся пергаменты с отрывками из Торы; атрибуты иудейского молитвенного облачения, укрепляются на левой руке против сердца и на лбу.
3
Незамужняя нееврейка (идиш).
4
Японское блюдо с пшеничной лапшой. Очень популярно в Корее и Японии, особенно среди молодых людей, то есть фактически, рамэн – это фастфуд.
5
Costco (с 1983) – клубная сеть розничных складов самообслуживания.
6
Эдвард Теодор Гин (1906–1984) – американский убийца и похититель трупов, действовал в районе Плейнфилда, штат Висконсин; отчасти послужил прототипом Нормана Бейтса из «Психоза», Кожаного Лица из «Техасской резни бензопилой» и Баффало Билла из «Молчания ягнят». Деннис Линн Рейдер (р. 1945) – американский серийный убийца, в 1974–1991 гг. убивший 10 человек в районе Уичиты, штат Канзас; в этот период слал письма в полицию, живописуя свои подвиги.
7
Менора – золотой ритуальный семисвечник. Хавдала – обряд отделения субботы или праздника от будней, а также благословение, которое произносится в таких случаях.
8
Мезуза – свиток пергамента со стихами Торы, прикрепляемый к внешнему косяку двери в еврейском доме.
9
Рихард Йозеф Нойтра (1892–1970) – австрийский и американский архитектор, один из родоначальников модернизма XX в.
10
«Гран-Гиньоль» (Grand Guignol) – парижский театр ужасов, один из родоначальников жанра хоррор.
11
Sublime (1988–1996) – калифорнийская рок-группа, игравшая смесь ска-панка, ска, регги, даба и хип-хопа.
12
Хала – еврейский традиционный праздничный хлеб. Готовится из сдобного дрожжевого теста.
13
Трансглутаминаза – семейство ферментов, которые позволяют «склеивать» мускульные ткани – то есть объединять в одну массу куски протеина, мяса или рыбы.
14
Цдака (от еврейского «Цедек» – «справедливость») – одна из заповедей иудаизма, заключающаяся в оказании помощи нуждающимся (финансовой и не только), акт восстановления справедливости.
15
Кудрявый (Curly) – сценический псевдоним Джерома Лестера Горвица (1903–1952), американского комика, ставшего знаменитым благодаря участию (1933–1946) в фарсовых скетчах комического трио «Три придурка» (The Three Stooges, 1930–1975).
16
Джон Донн (1572–1631) – английский поэт-метафизик и проповедник, настоятель лондонского собора Святого Павла. «Смерть, не кичись» – начало его одноименного стихотворения (Death Be Not Proud, 1610), пер. Г. Кружкова.
17
Коэны – мужчины из рода Аарона, первого первосвященника и брата Моисея. Левиты – представители колена Леви, из которого произошли и коэны, привилегированное сословие, в том или ином качестве состоявшее при Храме до его разрушения.
18
Иешива – религиозная школа, где изучают Талмуд.
19
Кидуш – еврейский обряд освящения, произносимый над бокалом вина. Совершается в Шаббат и праздники.
20
Иегуда Лёв бен Бецалель (ребе Лёв, Махараль) (ок. 1512–1609) – раввин, талмудист, ученый и мыслитель, в 1597–1609 гг. – главный раввин Праги; по легенде – создатель голема. «Сангедрин» – трактат Мишны, посвященный отправлению правосудия в области уголовного права.
21
Теодице́я – совокупность религиозно-философских доктрин, призванных оправдать управление Вселенной добрым Божеством, несмотря на наличие зла в мире. Термин введён Лейбницем в 1710 году.
22
Ламедвавник (от гематрической записи букв «ламед» и «вав», «3» и «6») – в еврейской мистической традиции один из 36 тайных праведников, в отсутствие которых на Земле грехи человечества обрушат мир.
23
Карл Абрахам (1877–1925) – немецкий психоаналитик, сотрудник Зигмунда Фрейда. Джордж Херман «Малыш» Рут-мл. (1895–1948) – звезда бейсбола, играл за «Нью-йоркских янки». Зеленый Фонарь (Green Lantern, с 1940) – имя нескольких супергероев; первый был создан художником Мартином Ноделлом, и каждый обладает кольцом силы, дающим власть над физическим миром.
24
Бар-мицва – обряд инициации в иудаизме, после которого 13-летний мальчик становится совершеннолетним и полноправным членом общины.
25
Ричард Рамирес (1960–2013) – серийный убийца, известный как «Night Prowler» («Ночной бродяга»), сатанист, орудовал в Калифорнии и убил 13 человек. В ноябре 1989 г. был приговорен к смертной казни и ожидал исполнения приговора; 7 июня 2013 г. умер в тюремном госпитале от печеночной недостаточности.
26
Сальма Вальгарма Хайек Хименес-Пино (р. 1966) – мексикано-американская актриса, режиссер, продюсер и певица.
27
«Нельсон» (Nelson, с 1990) – американский рок-дуэт братьев-близнецов Мэттью и Туннара Нельсонов.
28
Рош а-Шана – еврейский Новый год, который празднуют два дня подряд в новолуние осеннего месяца тишрей (тишри) по еврейскому календарю (приходится на сентябрь или октябрь).
29
Согласно Библии, разрушение Первого храма вавилонским царем Навуходоносором произошло в 586 г до н. э., а Второй храм был разрушен римлянами в 70 г. и. э. В настоящее время на месте Иерусалимского Храма находится исламское святилище Купол Скалы и мечеть Аль-Акса. Сохранились остатки западной внешней ограды Храма, известные как Стена Плача, а также застроенные «Золотые ворота».
30
Метта Уорлд Пис (Рональд Уильям Артест-мл., р. 1979) – американский профессиональный баскетболист, форвард, за «Лос-Анджелес Лейкерс» играл в 2009–2013 гг.
31
Курт Дональд Кобейн (1967–1994) – вокалист, гитарист и автор песен американской гранж-рок-группы Nirvana, голос «поколения X», культовая фигура; в 27 лет застрелился. «Повеяло юностью» (Smells Like Teen Spirit, 1991) – песня Курта Кобейна, Криста Новоселича и Дэвида Грола с альбома Nevermind, первый крупный хит группы.
32
«Рожденный для воли» (Born to Be Wild, 1968) – песня Марса Бонфаера с дебютного альбома хард-рок-группы Steppenwolf; вошла в саундтрек культового фильма Денниса Хоппера «Беспечный ездок» (Easy Rider, 1969) и стала байкерским гимном.
33
Человек говорит «ahoj», что на чешском означает «привет», а на английском «эй, на борту».
34
Родни Глен Кинг III (1965–2012) – чернокожий гражданин США, который 3 марта 1991 г был избит лос-анджелесскими полицейскими; в апреле 1992 г. большинство причастных к этому инциденту полицейских оправдали, что спровоцировало массовые беспорядки в Лос-Анджелесе.
35
«Команда А» (The А-Team, 1983–1987) – приключенческий телесериал о четырех ветеранах вьетнамской войны, которые не в ладу с законом. «Рожденные в рубашке» (Silver Spoons, 1982–1986) – американский ситком о богатом и нелепом семействе: строгий дедушка, бестолковый папа и поневоле разумный мальчик-подросток.
36
«Шма» – ключевой еврейский литургический текст, декларирует единственность Бога, любовь к Нему и верность Его заповедям.
37
Гилгул – еврейское название метемпсихоза (переселение души умершего человека в новое тело). В традиционном иудаизме считается одной из форм наказания за грехи. Каббалисты рассматривают гилгул (перевоплощение) не только как наказание, но и как возможность исполнить предназначение и исправить ошибки и грехи, совершенные в предыдущих жизнях.
38
Бет-мидраш – часть синагоги, отведенная для изучения священных текстов.
39
Здесь: Слушаю вас? (чешск.)
40
Каббалат Шаббат – литургия, которую в пятницу вечером читают в честь торжественной встречи субботы перед вечерней молитвой.
41
Бима – возвышение с пюпитром для чтения свитка Торы.
42
Арон а-кодеш – священный ковчег со свитком Торы.
43
Нер тамид – постоянно горящий светильник напротив Ковчега Завета.
44
Кадиш – молитва, прославляющая святость имени Бога; читается в том числе как поминальная молитва близким родственником покойного.
45
Рудольф II (1552–1612) – король Германии; император Священной Римской империи (1576–1611), король Богемии и Венгрии; с 1583 г. жил в Пражском Граде, активно покровительствовал искусствам и наукам и занимался оккультизмом.
46
«Не всегда нам достается то, чего хотим» (You Can’t Always Get What You Want, 1969) – песня Мика Джаггера и Кита Ричардса с альбома The Rolling Stones «Let It Bleed».
47
Ладислав Шалоун (1870–1946) – чешский скульптор, представитель символизма и модерна.
48
Миньян – десять совершеннолетних мужчин, синагогальный кворум, необходимый для проведения определенных церемоний.
49
Доппельга́нгер (нем. Doppelganger – «двойник») – в литературе эпохи романтизма двойник человека, появляющийся как тёмная сторона личности или антитеза ангелу-хранителю.
50
Эгон Шиле (1890–1918) – австрийский живописец и график, один из ярчайших представителей австрийского экспрессионизма. Тейт Модерн (Tate Modern) – лондонская галерея современного искусства.
51
«Мазок серого» (Touch of Grey, 1982) – песня Джерри Гарсии и Роджера Хантера с альбома In the Dark (1987) группы The Grateful Dead.
52
Аналогичными мечтами был одержим лирический герой песни Брайана Уилсона «Калифорнийские девчонки» (California Girls, 1965); песня стала плодом первого психоделического трипа Уилсона и вышла на альбоме Summer Days (And Summer Nights!!) американской сёрф-рок-группы The Beach Boys.
53
Lay Down, Sally (1977) – песня британского рок-музыканта Эрика Патрика Клэптона (р. 1945), американской вокалистки Марселлы Детройт и американского блюз-рок-гитариста Джорджа Терри с альбома Клэптона Slowhand.
54
Чермное море или Красное море, через него израильтяне были переведены Моисеем из Египта.
55
Ханука – праздник в честь очищения Храма и победы Маккавеев над греками; продолжается 8 дней в декабре.
56
Чарльз Миллз Мэйсон (р. 1934) – американский музыкант, лидер коммуны «Семья», в 1969 г. совершившей серию жестоких убийств; признан виновным в преступном сговоре и приговорен к пожизненному заключению. Джеймс Уоррен «Джим» Джонс (1931–1978) – американский религиозный деятель, создатель и лидер религиозной организации «Храм Народов», располагавшейся в «Джонстауне», Гайана; в общей сложности 909 членов организации 18 ноября 1978 г. совершили массовое самоубийство, приняв цианид.
57
Яков Бассеви-фон-Трейенберг (Яков Шмилес, 1580–1634) – придворный еврей и финансист императоров Рудольфа II, Матвея и Фердинанда II; в 1611 г. получил от императора Матвея особую грамоту, которой назначался «свободным придворным евреем».
58
Счастливой судьбы! (идиш).
59
Завершающий танец в честь родителей новобрачных. Метла символизирует «выметание» последней дочери из дома в замужество.
60
20 июня 1582 г.
61
Добро пожаловать (искаж. исп.).
62
Габай – староста синагоги, ведающий организационными и денежными делами.
63
Ис. 29:16.
64
Персонажи комикса Фредерика Берра Оппера, два француза, помешанные на вежливости; первые истории об Альфонсе и Гастоне появились в «Нью-Йорк джорнал» в 1901 г.
65
«Рискни!» (Jeopardy!, с 1964) – телевикторина для эрудитов; создатель – Мерв Гриффин. На российском телевидении выходит под названием «Своя игра».
66
«Книга Зоар» (ок. 1270) – центральная работа в каббалистической литературе, мистический комментарий к Торе, изучение которого каббалистами считается высочайшим духовным взлетом человека; автором «Зоар», по всей видимости, был кастильский каббалист Моше бен Шем Тов де Леон.