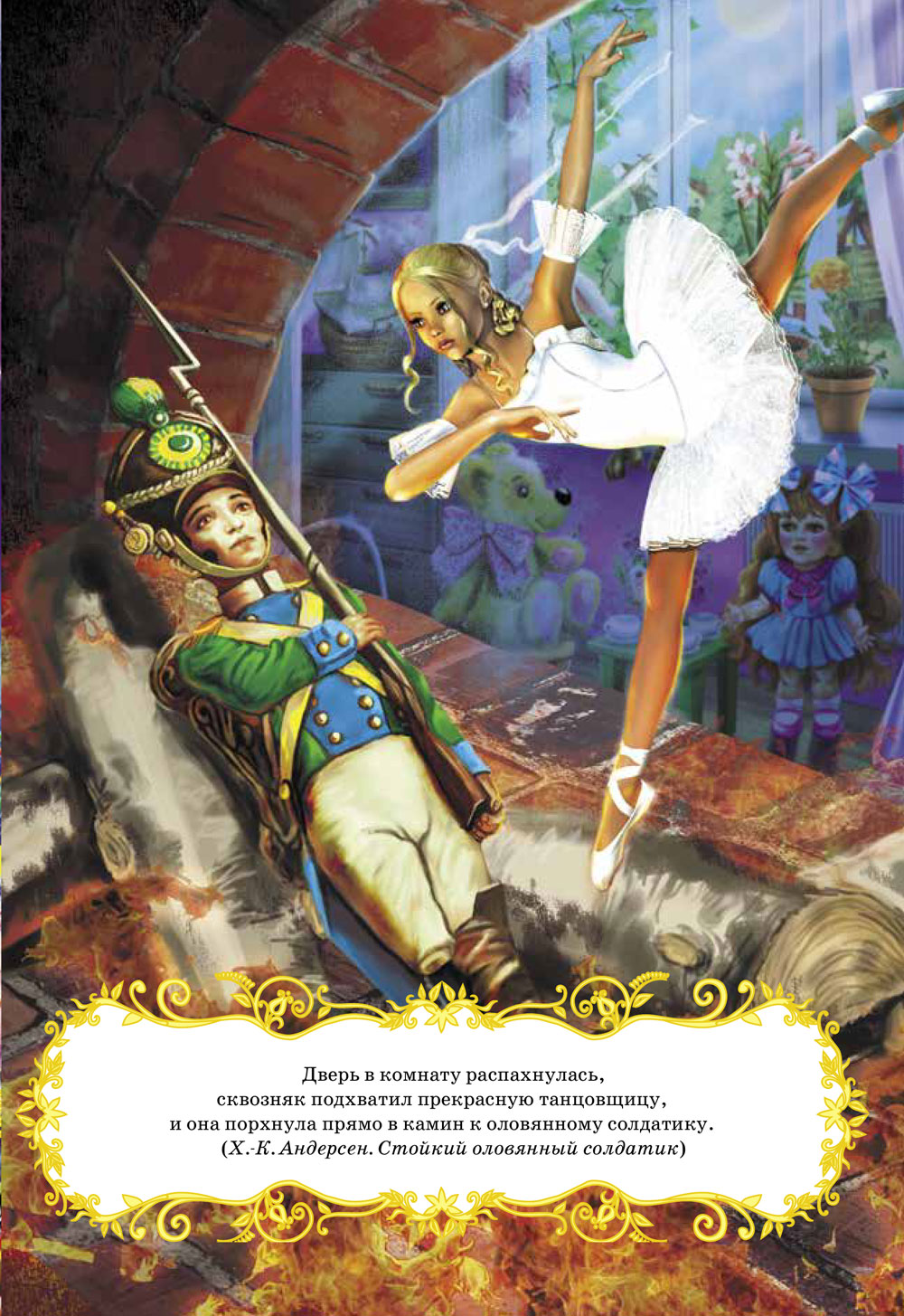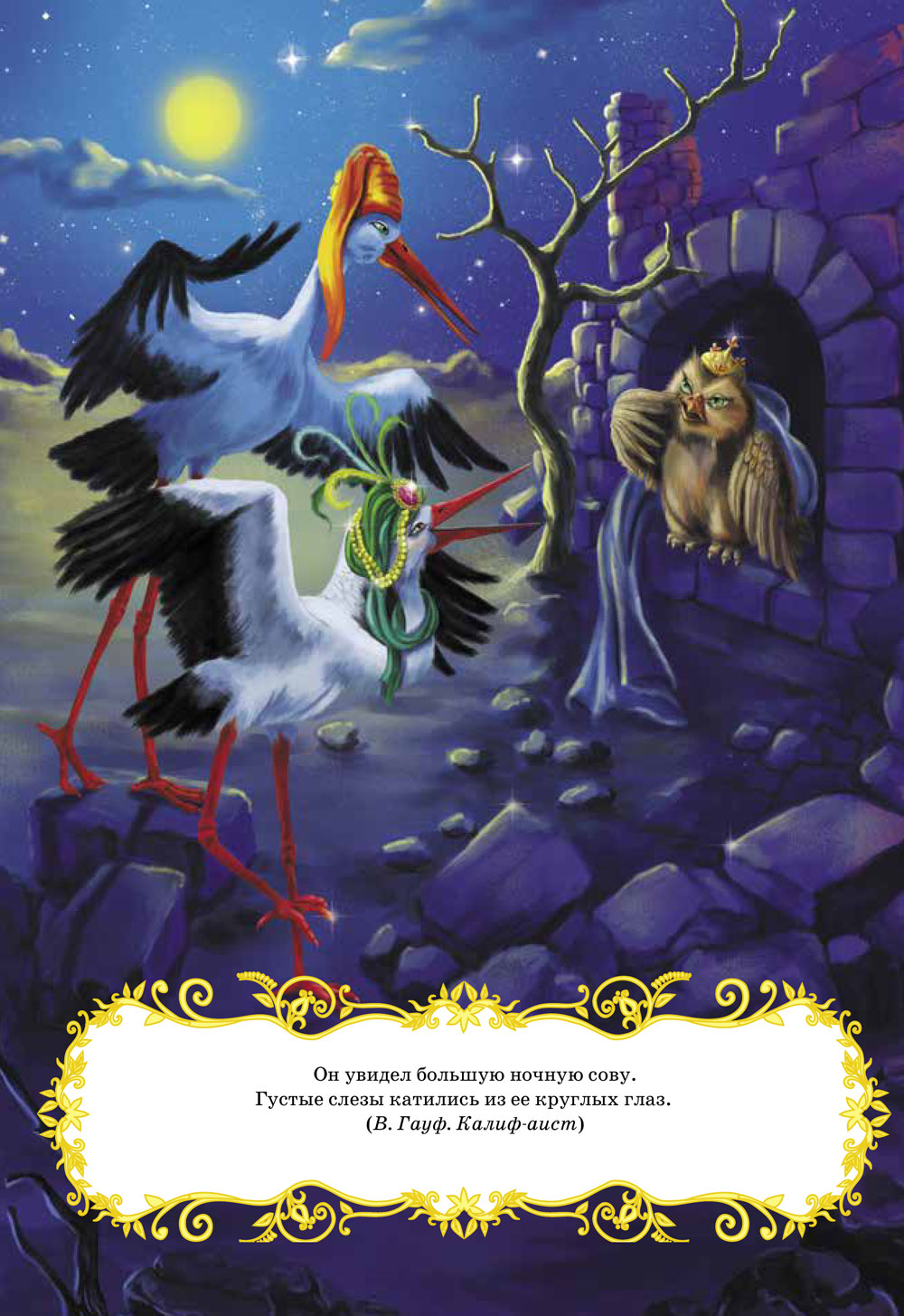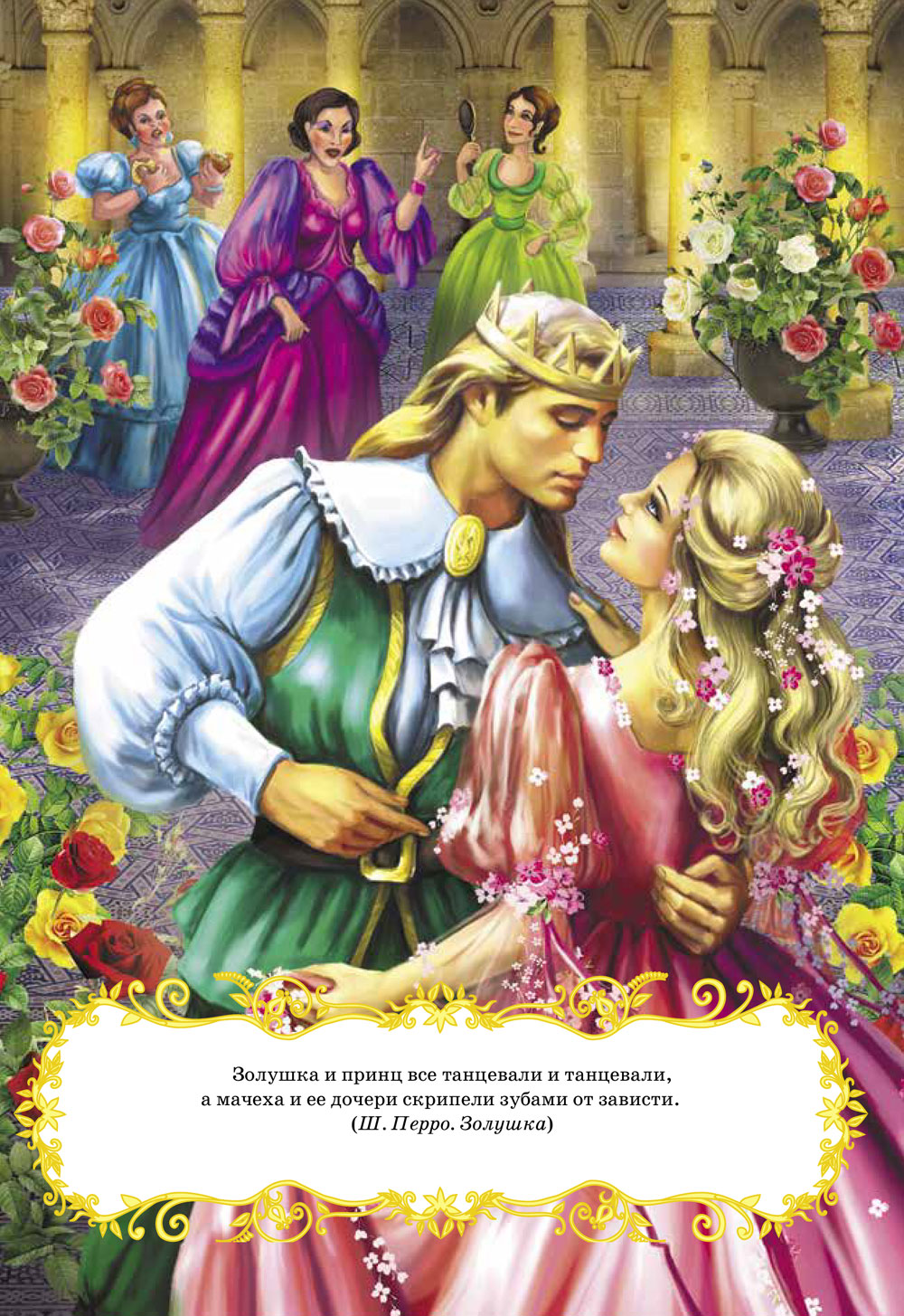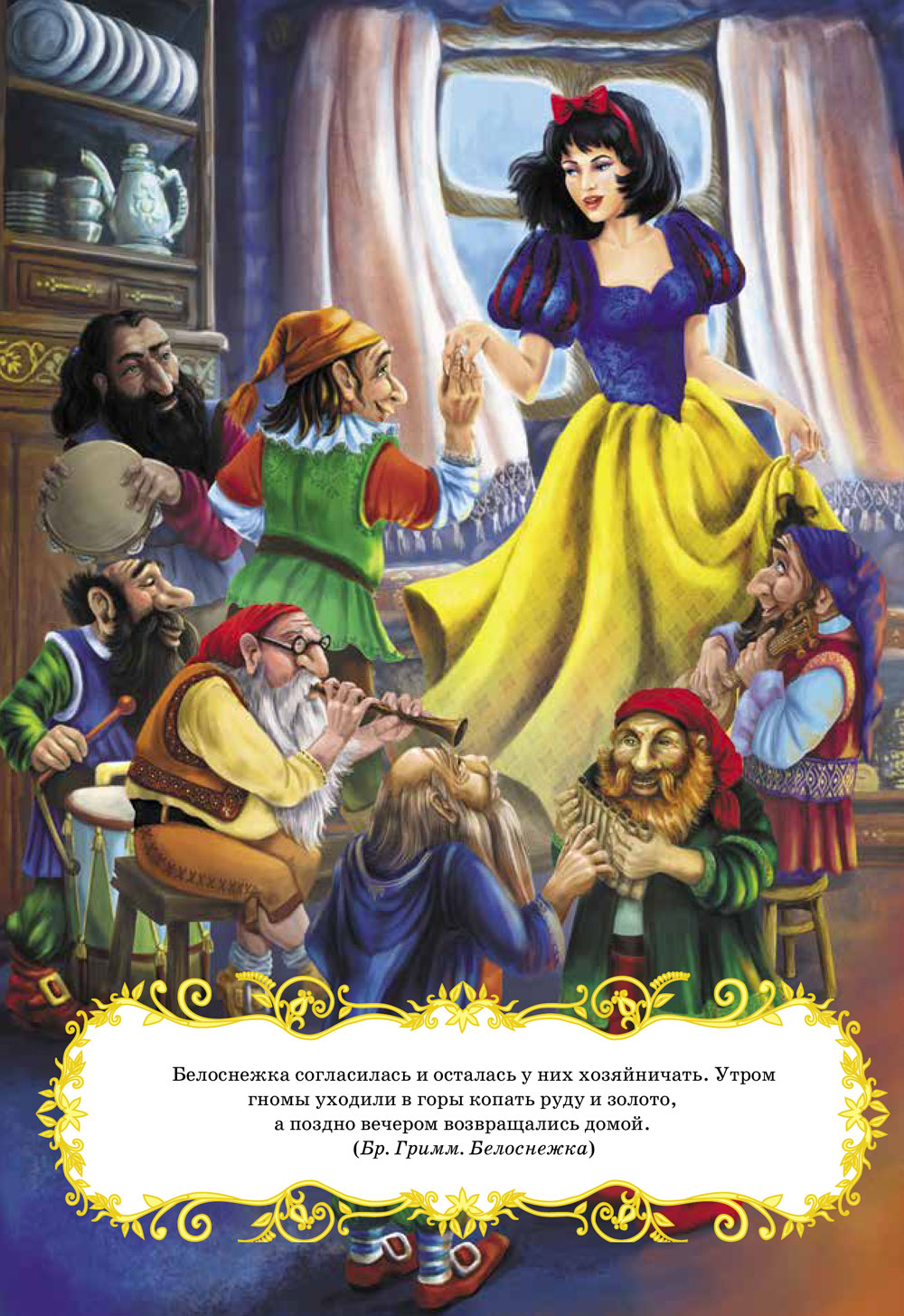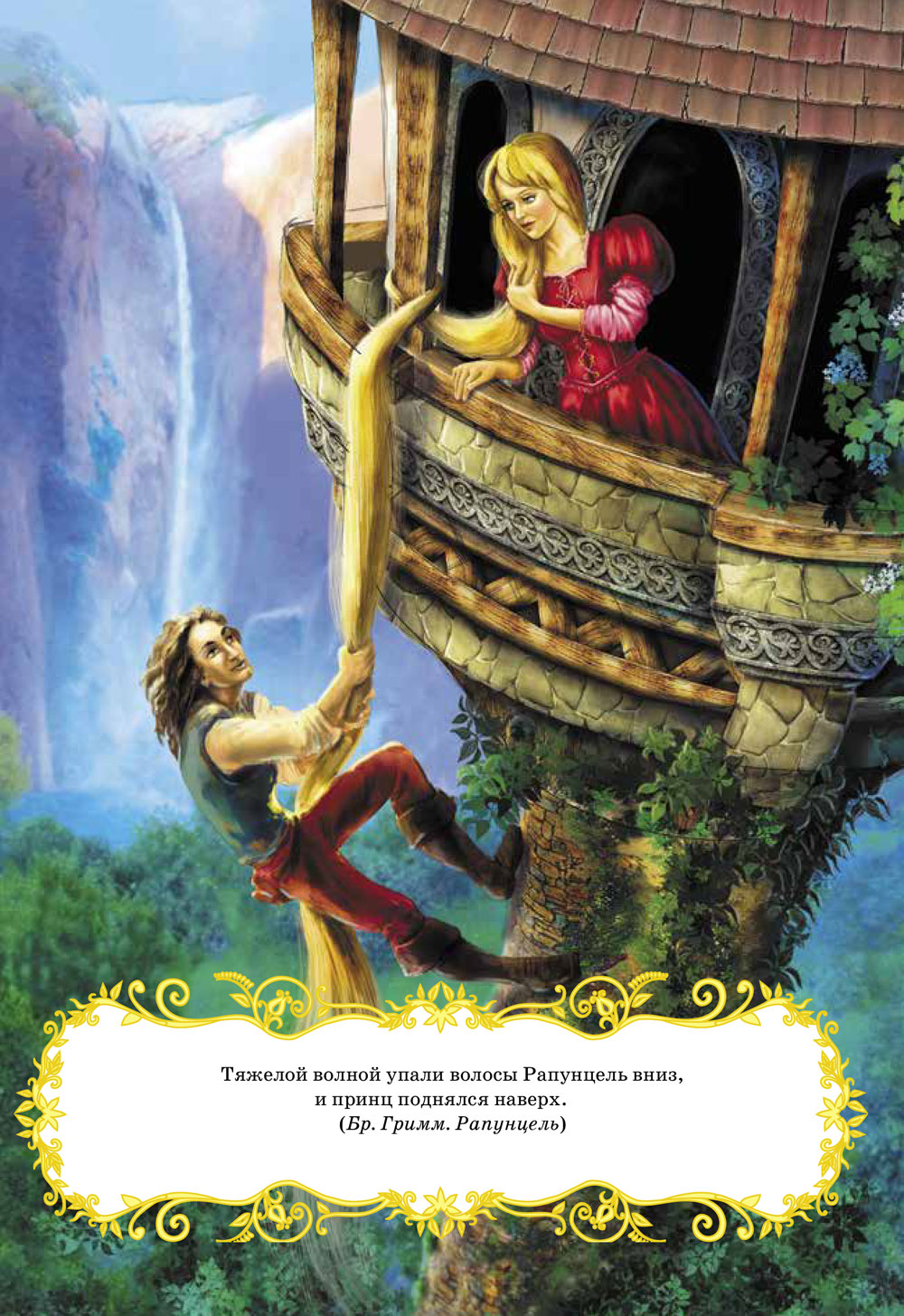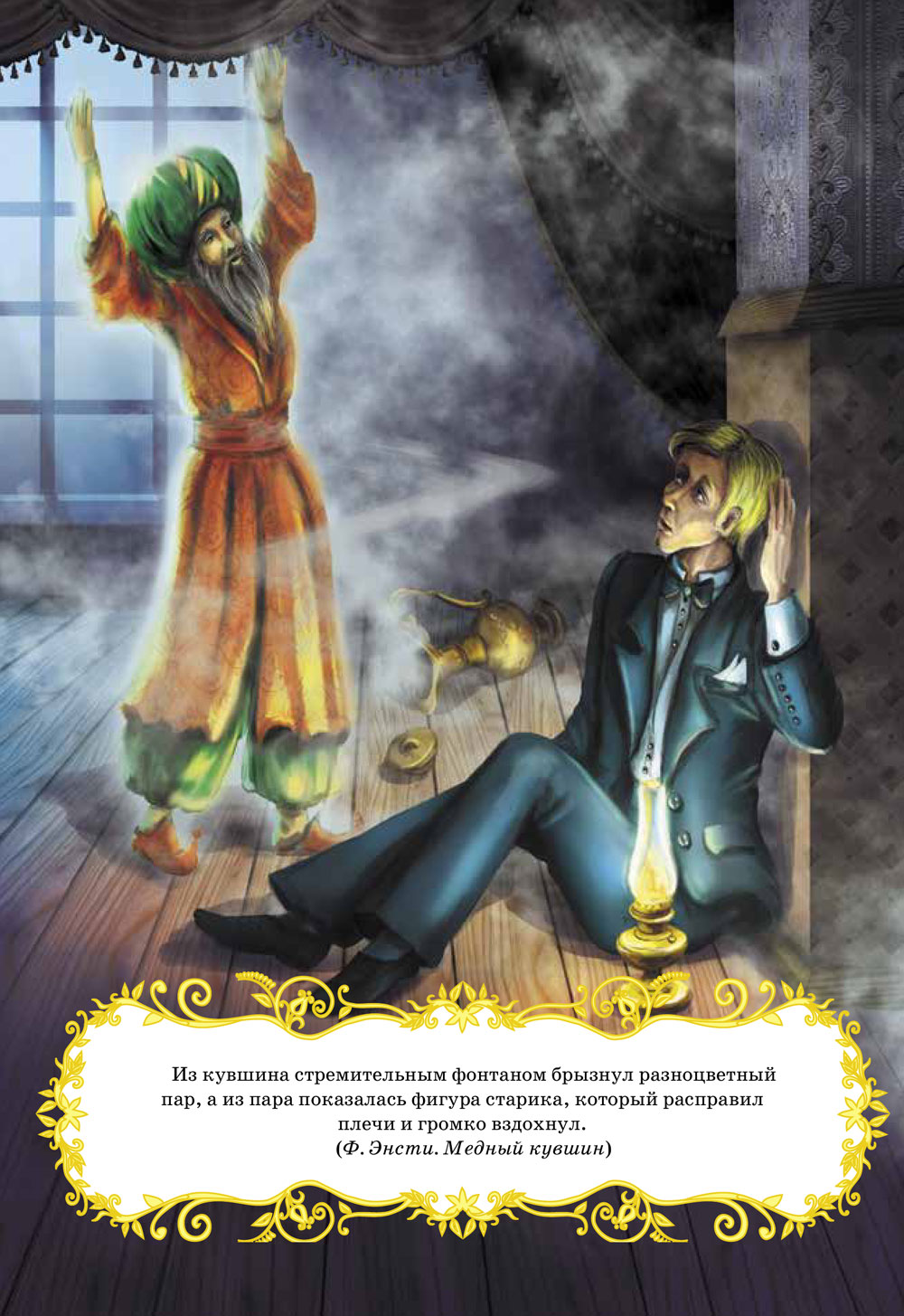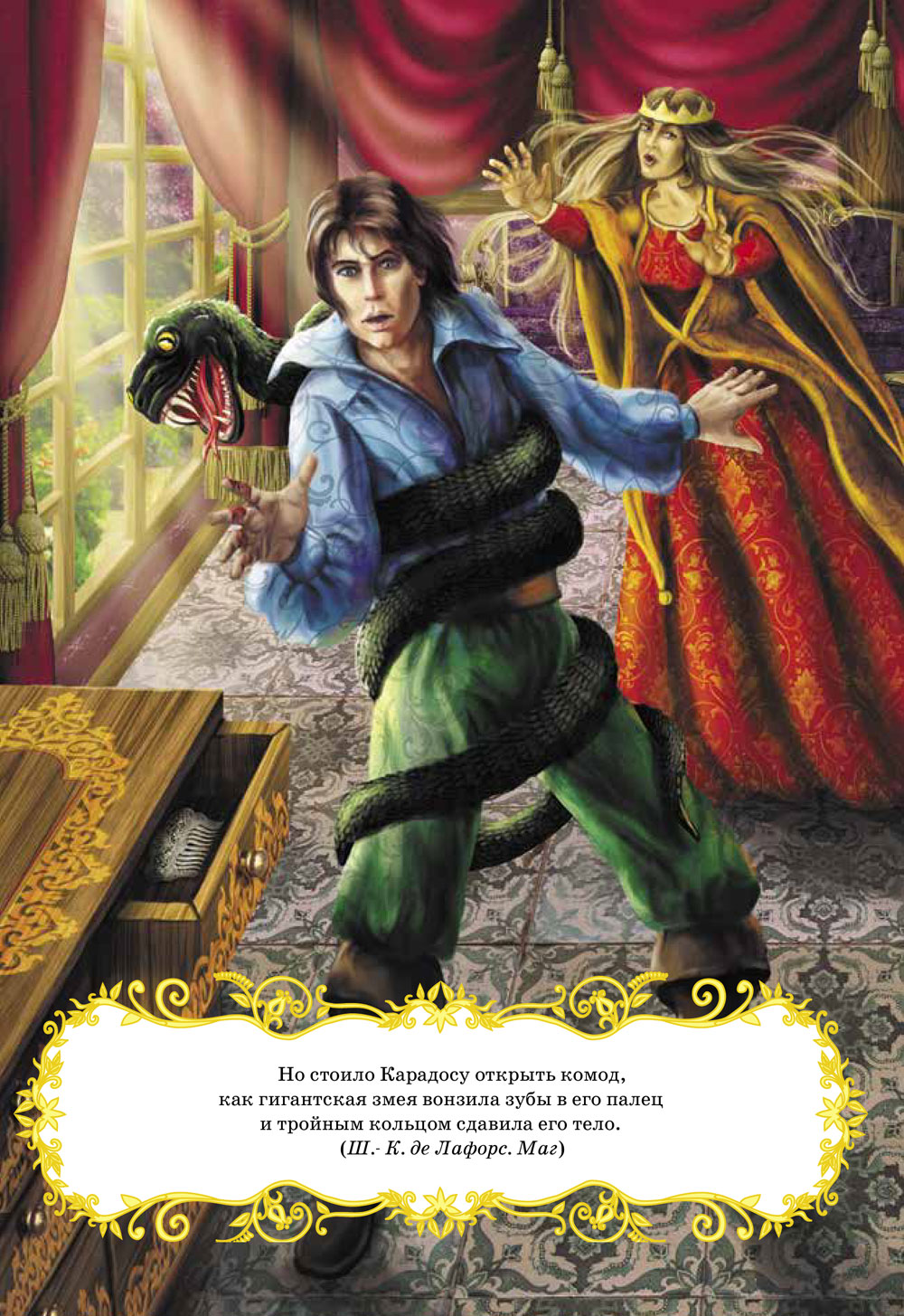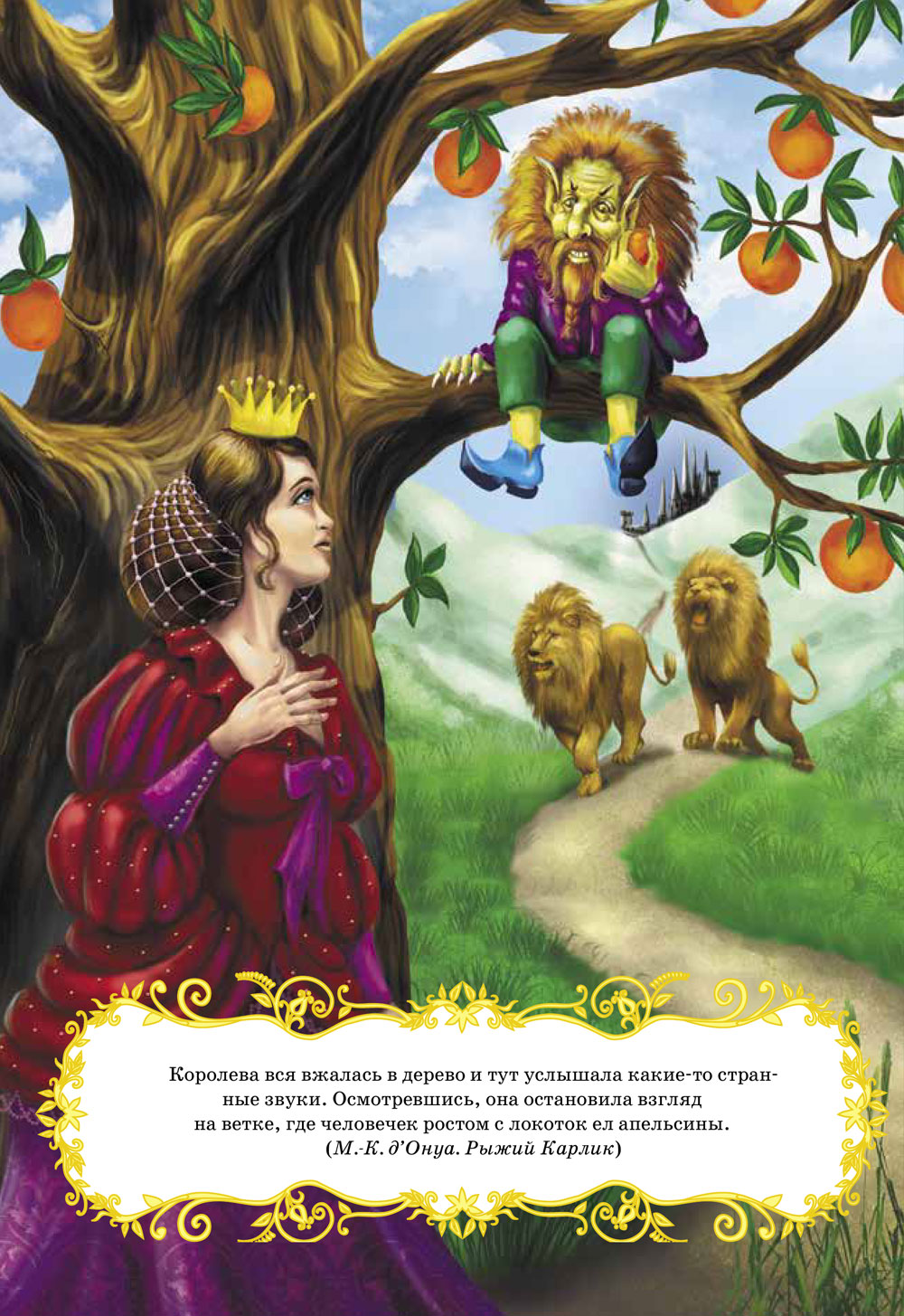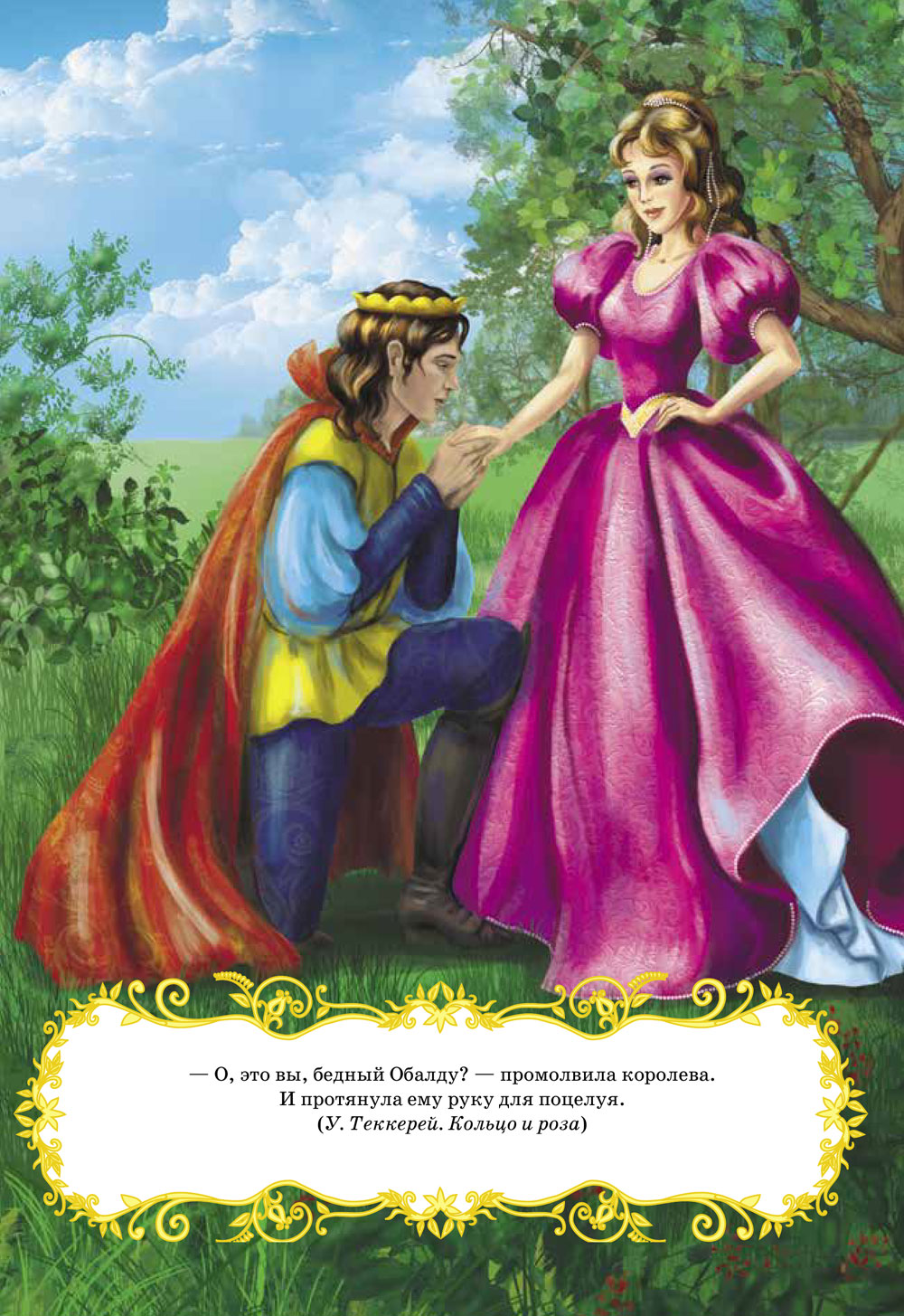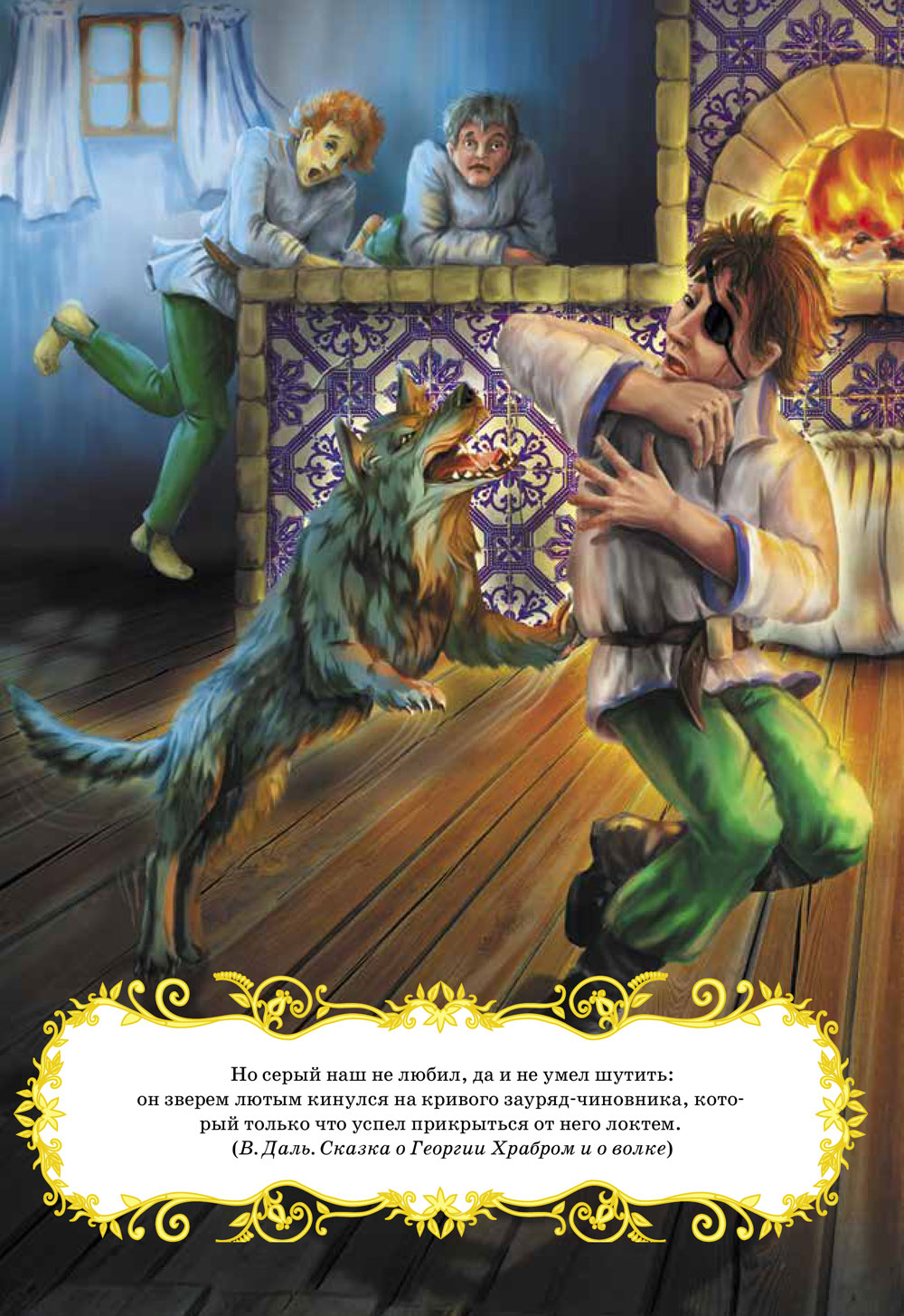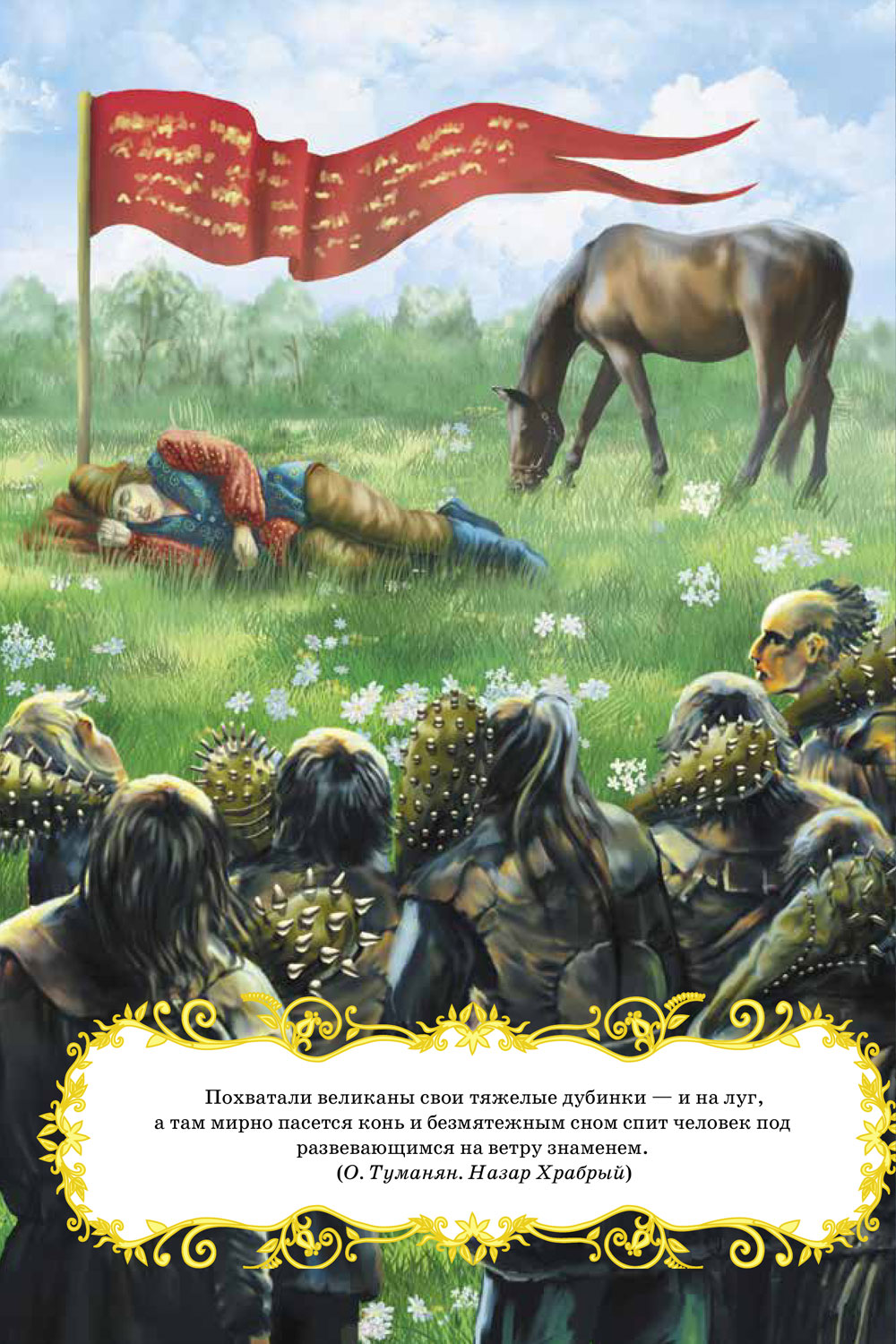Книга: 100 волшебных сказок мира (сборник)
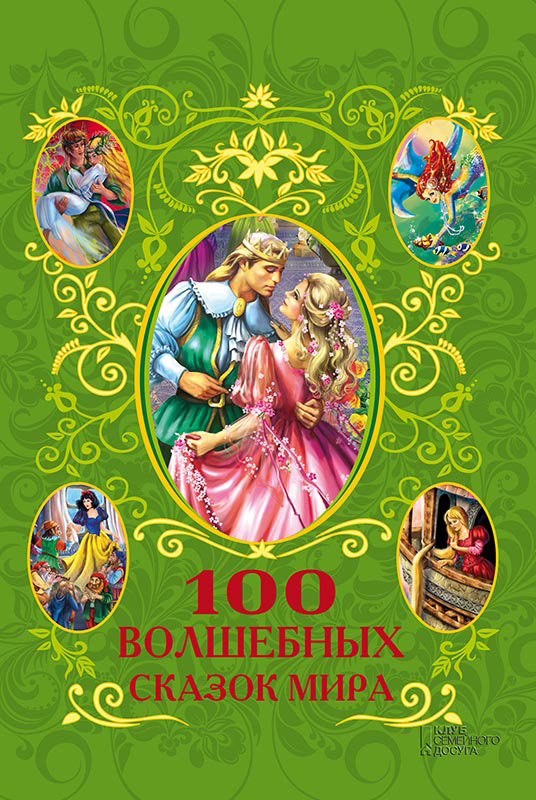
Шел солдат домой с войны. Встретилась ему старая ведьма.
– Здравствуй, солдат! – сказала она ему. – Ты получишь сколько захочешь денег, только окажи мне услугу. Видишь старое дерево? Я обвяжу тебя веревкой, а ты залезь в дупло! Когда доберешься до самого низа, увидишь подземный коридор; там совсем светло, потому что горят сотни факелов. Ты увидишь три двери; ключи торчат снаружи. Войди в первую комнату и увидишь большой сундук, а на нем собаку: глаза у нее размером с чашки! Но ты не бойся, а расстели на полу мой синий клетчатый передник, подойди и схвати собаку, посади ее на передник, открой сундук и бери из него медяков сколько душе угодно. А если захочешь серебра, ступай в другую комнату; там сидит собака, у которой глаза размером с мельничные колеса! Но ты не бойся, а посади и ее на мой передник – и набирай денег вволю! А если уж захочешь золота, пойди в третью комнату. Там на сундуке сидит собака, а глаза у нее как круглые башни. Но ты не бойся, а посади и ее на мой передник и бери золота, сколько сможешь унести! Как, солдат, согласен?
– А что ты хочешь за это, старая ведьма? – спросил солдат.
– Ничего, кроме старого огнива! – сказала ведьма. – Его забыла там моя бабушка.
– Так и быть, согласен!
– Вот и хорошо! Бери же передник! – сказала ведьма.
Солдат влез на дерево, спустился в дупло и очутился в подземном коридоре, где горели сотни факелов.
Он открыл первую дверь и увидел собаку, глаза у которой были размером с чашки.
– Вот так собачка! – сказал солдат, но не испугался, а, как и говорила ведьма, посадил собаку на передник и набрал полные карманы медяков, набил ими ранец, потом опять посадил на сундук собаку и пошел в другую комнату.
Там сидела собака, глаза которой были размером с мельничные колеса.
– Ой, как таращится! – сказал солдат.
Он посадил собаку на передник, открыл сундук – и набил полные карманы и ранец серебром, правда, пришлось выбросить все медяки, ну да ладно! Затем солдат посадил собаку обратно и пошел в третью комнату.
– Такой собаки я еще не видел! – сказал солдат, и правда, ведь глаза у нее были, как две огромные круглые башни.
Но и этой собаки солдат не испугался, а посадил на передник и открыл сундук. Сколько же тут было золота! Солдат, недолго думая, выбросил все серебро и набил свои карманы, ранец, шапку и сапоги золотом так, что и двинуться не мог. Он посадил собаку на сундук и пошел искать огниво. Взял его и закричал:
– Тащи меня, ведьма!
Ведьма вытащила его, и он очутился на дороге.
– Скажи, зачем тебе огниво? – спросил солдат.
– А тебе какое дело?! – ответила ведьма. – Ты же получил деньги! Давай огниво!
– Сейчас же говори, зачем тебе оно, или я отрублю тебе голову! – закричал солдат.
– Не скажу! – закричала и ведьма.
Солдат и отрубил ей голову. Потом завязал золото в передник, сунул огниво в карман и пошел в город.
Солдат остановился в самом дорогом трактире, в самой большой комнате, и потребовал все самые лучшие и вкусные блюда. На следующий день он купил себе новые сапоги и богатую одежду.
В трактире ему рассказали обо всем, что только было в городе, обо всех диковинах, о короле и его прекрасной дочери.
– Она живет в огромном медном замке, за высокими стенами с башнями, – говорили люди. – Королю предсказали, что принцесса выйдет замуж за простого солдата, а он не хочет, чтобы это случилось!
Солдат жил весело и приобрел очень много друзей, а еще он много помогал бедным. Только вот он тратил и тратил деньги, и наступил день, когда у него осталось всего две золотые монеты. Пришлось ему перебираться в бедную квартирку, сапоги пришли в негодность, одежда истрепалась…
Как-то вечером, когда совсем стемнело, а даже свечу зажечь было нельзя, потому что и свечи-то не было, солдат вспомнил об огниве. Только он ударил по кремню, чтобы высечь искру, – видит: сидит перед ним собака из подземелья, с глазами размером с чашки.
– Что пожелаете, хозяин? – спросила собака.
– Вот как! – сказал солдат. – Выходит, с помощью огнива я могу получить что угодно! Принеси мне денег!
Собака в мгновение ока исчезла, а еще через миг вернулась, а в зубах у нее был большой кошелек, полный медных монет!
Солдат ударил по кремню дважды – и перед ним явилась собака с глазами, как мельничные колеса, и принесла ему большой кошелек, набитый серебром! Солдат ударил по кремню три раза – появилась собака, глаза у которой как две круглые башни, и принесла кошелек с золотыми монетами.
Солдат обрадовался такой удаче. Он опять поселился в дорогих комнатах и купил себе новую одежду и сапоги. Теперь он и вовсе горя не знал и ни в чем себе не отказывал.
Как-то ему до смерти захотелось увидеть наконец прелестную принцессу. «Что толку от ее красоты, если даже не поглядеть на нее?» – подумал солдат и ударил один раз по кремню. Вмиг перед ним появилась собака с глазами размером с чашки.
– Хочу видеть принцессу! – сказал ей солдат.
Не успел он и моргнуть, а собака снова явилась перед ним. Принцесса, юная и прелестная, спала у нее на спине, и солдат не смог удержаться от того, чтобы поцеловать ее.
После этого собака отнесла принцессу обратно в башню, и утром та рассказала королю с королевой, какой она видела странный сон: она ехала на собаке, а солдат целовал ее.
На следующую ночь к постели принцессы приставили старую фрейлину, которой поручили разузнать, был ли это и в самом деле сон.
Солдат же опять захотел увидеть принцессу. Ночью собака схватила ее и помчалась вместе с ней к солдату, но старуха не спала и бросилась вдогонку. Она увидела, в какой из домов побежала собака, и куском мела нарисовала на воротах крест, а затем отправилась спать. Но собака, когда понесла принцессу назад, увидела этот крест, разгадала хитрость фрейлины и нарисовала кресты на всех воротах в городе!
Рано поутру король, королева и фрейлина решили посмотреть, куда же ездила принцесса. Но кресты были на всех воротах, и все поняли, что ничего так не добьются.
Но королева была очень умной и хитрой: она сшила маленький мешочек, насыпала в него крупы, привязала его на спину принцессе и проделала в мешочке дырочку, чтобы крупа могла сыпаться на дорогу.
Ночью собака снова понесла принцессу к солдату, но не заметила, что крупа все время сыпалась из мешочка на дорогу и просыпалась даже на окно солдата. Утром король и королева узнали, куда ездила принцесса. Они сильно разгневались, и солдата посадили в тюрьму, решив на следующий день его повесить.
Утром солдат подошел к маленькому зарешеченному окошку. Все спешили за город, смотреть, как его будут казнить.
– Эй, ты! – крикнул солдат мальчишке-сапожнику. – Сбегай-ка и принеси мое огниво, только живо! Получишь четыре монеты!
Услышав про четыре монеты, мальчишка бегом бросился за огнивом и отдал его солдату.
И вот наступил час казни. Солдату уже собирались накинуть веревку на шею, но он сказал, что ему очень хотелось бы выкурить трубочку перед смертью. А ведь перед тем, как казнить приговоренного, нужно выполнить его последнее желание!
Король согласился, и солдат вытащил огниво. Он ударил по кремню один раз, потом дважды, потом трижды – и перед ним появились все три собаки!
– Помогите мне! – приказал солдат.
Собаки бросились на судей, на короля и королеву. Солдаты испугались, а все люди закричали:
– Солдат, не губи! Будь нашим королем!
Солдата торжественно усадили в королевскую карету и повезли во дворец. Все три собаки бежали рядом. Солдат женился на прекрасной принцессе, и свадебный пир длился целую неделю, а собаки тоже сидели за столом!
Как-то летом, когда уже пожелтела рожь, под лопухом на яйцах сидела утка. Высиживала она яйца уже давно, и ей это порядком надоело.
Наконец яичные скорлупки затрещали и из них появились утята. Они кое-как выкарабкались и начали озираться по сторонам. Им нравился мир – конечно, ведь здесь было куда лучше, чем в тесной скорлупе!
– Ах, самое большое яйцо целехонько! – сказала утка со вздохом и снова уселась на него.
– Как дела? – спросила ее старая утка, проходившая мимо.
– Еще одно яйцо осталось! – сказала молодая утка. – Но посмотри на других! Просто прелесть! Ужасно похожи на отца!
– Погоди-ка, а вдруг это индюшачье яйцо? – сказала старая утка. – Мне когда-то подкинули чужое. Ну и мороки с индюшатами, скажу я тебе! Они боятся воды, не идут, да и все! Так и есть! Индюшачье! Брось его!
– Да нет, посижу еще! – сказала молодая утка.
– Ну, как хочешь! – сказала старая утка и ушла.
Наконец затрещала скорлупка и из самого большого яйца появился огромный некрасивый птенец.
– Какой он большой! – сказала утка, внимательно оглядывая его. – И совсем не похож на других! Неужели и правда индюшонок?
На другой день была отличная погода, и все утиное семейство отправилось к канаве. В мгновение ока утка оказалась в воде.
– Идите за мной! – позвала она утят, и те тоже бросились в воду, быстро вынырнули и поплыли. Некрасивый утенок не отставал от них.
– Какой же это индюшонок? – сказала утка. – Нет, это мой сын! И не так уж он некрасив, по правде говоря! Быстрее, быстрее, идемте на птичий двор! Держитесь возле меня да смотрите внимательно – поблизости могут быть кошки!
– Поклонитесь старой утке! – приказала утятам мать, когда они добрались до птичьего двора. – Она здесь самая знатная, потому что испанской породы! У нее на лапке красный лоскуток, это знак высшего отличия. Повязывая его, люди дают понять, что не желают потерять ее; по этому лоскутку ее все узнают. Не держите лапки вместе! Воспитанные утята должны держать лапки врозь и выворачивать их наружу! Молодцы! Ну же! Кланяйтесь и крякайте!
Утята так и сделали.
Утки осматривали их и ворчали:
– Ну вот, пришли, как будто нас здесь и так мало! А этот какой гадкий!
Одна утка даже клюнула его в шею.
– Оставьте его в покое! – сказала утка-мать.
– Он такой огромный и некрасивый! – отвечала обидчица. – Он очень странный!
– Все очень милы, кроме одного… – сказала старая утка с красным лоскутком на лапке. – Хорошо бы его переделать!
– Да, – ответила утка-мать, – может быть, он некрасив, но зато у него доброе сердце, и плавает он даже лучше других. Я думаю, что он вырастет, похорошеет или станет со временем поменьше. – И она ласково провела носом по перышкам большого утенка. – Кроме того, он селезень, а для селезня красота не так уж важна.
– Остальные утята милы! – сказала старая утка.
Всех утят полюбили на постоялом дворе. Только бедного гадкого утенка постоянно клевали и толкали. Над ним насмехались все – и утки, и куры.
– Он слишком велик! – говорили все, а индейский петух, который родился со шпорами на ногах и потому считал себя особенным, надулся и, подлетев к утенку, сердито залопотал; а его гребешок налился кровью. Бедный утенок растерялся: он ведь не виноват, что такой безобразный, а стал посмешищем для всего птичьего двора!
Дальше было еще хуже. Все прогоняли утенка, даже родные братья и сестры зло говорили ему:
– Хоть бы уж кошка тебя утащила!
И даже мать добавляла:
– Глаза бы мои тебя не видели!
Утки клевали его, куры щипали, а девушка, которая давала птицам корм, каждый раз толкала ногой.
Однажды утенок не выдержал, перебежал двор и махнул через забор! Птички испуганно вспорхнули из кустов. «Вот какой я безобразный, даже птички испугались меня!» – горько подумал утенок и пустился наутек. Он бежал до самого болота и здесь просидел всю ночь, усталый и одинокий.
В этом болоте жили дикие утки. Утром они все вылетели из гнезд и увидели утенка.
– Ты кто? – спросили они.
Утенок раскланивался на все стороны.
– Ты ужасно безобразный! – сказали дикие утки. – Даже не думай породниться с нами!
Где уж было бедному утенку и думать об этом! Он мечтал об одном: чтобы ему позволили спокойно посидеть в камышах и попить болотной воды.
Два дня он жил на болоте, а на третий день появились два очень гордых диких гуся, только недавно вылупившихся из яиц.
– Послушай! – сказали они. – Ты очень, очень безобразен! Хочешь летать с нами и быть вольной птицей? Недалеко, в другом болоте, живут милые дикие гусыни. Право, они очень милы! Ты так уродлив, что, пожалуй, будешь иметь у них большой успех!
Вдруг над болотом раздался странный звук, и оба гусака упали в камыши, а вода окрасилась их кровью. Звук повторился, потом снова и снова. Охотники окружили болото, вокруг бегали охотничьи собаки, все застилал голубой дым. Утенок был ни жив ни мертв от страха. Только он хотел спрятать голову под крыло, как перед ним оказалась охотничья собака, язык ее был высунут, а злые глаза сверкали. Она пристально посмотрела на утенка, оскалила острые зубы и побежала дальше.
– Слава богу! – перевел дух утенок. – Значит, я так безобразен, что даже собака не хочет укусить меня!
И он притаился в камышах и сидел тихо-тихо до вечера.
Пальба угасла только к ночи, но прошло еще много времени, прежде чем утенок осмелился встать, огляделся и пустился бежать по полям и лугам. Дул такой сильный ветер, что утенок еле-еле держался на лапках. К ночи он добежал до избушки, которая так обветшала, что держалась только чудом, а ей давно пора было упасть. Ветер все крепчал, сбивал утенка с ног – приходилось упираться в землю хвостом!
Что было делать? К счастью, утенок заметил, что дверь избушки висит совсем криво и через щель можно попасть внутрь. Так он и сделал.
В избушке жила старушка с котом, который умел выгибать спинку и мурлыкать, и с курицей, которая хорошо несла яйца, – старушка очень ее любила.
Утром утенка заметили: кот начал мурлыкать, а курица кудахтать.
– Что случилось? – спросила старушка, осмотрелась и заметила утенка, но приняла его за взрослую утку.
– Вот это находка! – сказала старушка. – Теперь у меня будут утиные яйца! Или это селезень? Ну, посмотрим!
Прошло недели три, но яиц не было. А кот и курица считали себя половиной всего света, причем лучшей половиной. Утенок был с этим не вполне согласен. Конечно же, курице и коту это не понравилось.
– Умеешь ли ты нести яйца? – спросила курица утенка.
– Нет, не умею…
– Вот и держи язык за зубами!
– Умеешь ли ты выгибать спинку и мурлыкать? – спросил кот.
– Нет…
– Вот и помалкивай, когда слышишь умные речи!
И утенок молча сидел в своем уголке. Вдруг он вспомнил свежий воздух и теплое солнышко, и ему очень захотелось поплавать. Он сказал об этом курице.
– Да что это с тобой?! – спросила она. – Видно, от безделья в голову лезут одни глупости! Нес бы лучше яйца или мурлыкал!
– Но ведь плавать так приятно! – сказал утенок. – А что за удовольствие нырять глубоко-глубоко!
– Да ты сошел с ума! – сказала курица. – Кому может нравиться плавать и нырять?! Ни коту, ни мне это не по душе! Да и наша хозяйка этого не любит, а уж она умнее всех на свете!
– Вы меня совсем не понимаете! – сказал утенок.
– Да кто же тебя может понять? Ты ведь хочешь быть самым умным! Ты совсем не ценишь, что попал в избранное общество, что тебе дали приют и пищу и хотят научить хоть чему-то полезному! Поверь, я ругаю тебя только потому, что желаю тебе добра, а значит, я и есть твой настоящий друг!
– Я думаю, мне лучше уйти отсюда! – сказал утенок.
– Ну и скатертью дорога! – ответила курица.
И утенок ушел. Теперь он мог сколько угодно плавать и нырять, но все звери и птицы по-прежнему издевались и насмехались над ним.
Наконец наступила осень; листья и трава пожелтели; дул сильный ветер, шел снег, сыпался град, и стало очень холодно. Бедному утенку приходилось тяжело.
Однажды вечером, когда солнце уже садилось, из кустов взлетели чудесные большие птицы. Утенок еще никогда в жизни не видел таких красивых птиц: они были белые как снег, и у них были такие длинные гибкие шеи! Это были лебеди. Они издали какой-то странный крик, взмахнули прекрасными крыльями и улетели в теплые края, далеко за синее море. Они уже поднялись высоко, а бедный утенок завертелся в воде, как юла, вытянул шею и вдруг тоже испустил такой громкий крик, что и сам испугался. Эти птицы не выходили у него из головы, и, когда они совсем скрылись из виду, он нырнул на самое дно, вынырнул и был словно вне себя, его охватило незнакомое чувство. Утенок не знал, ни как называются эти птицы, ни куда они летят, но с первого мгновения он полюбил их так, как никого до сих пор не любил. Он не завидовал их красоте, ведь ему даже в голову не могло прийти, что он мог бы быть хоть чуть-чуть похожим на них…
Пришла холодная зима. Утенок плавал без отдыха, чтобы вода не замерзла совсем, но каждую ночь свободное ото льда пространство все уменьшалось и уменьшалось. Морозы были такие, что ледяная кора трещала. Утенок без устали работал лапками, но все-таки обессилел, остановился и обмерз.
Рано утром мимо проходил крестьянин, увидел утенка, разбил лед своим деревянным башмаком и принес птицу домой, к жене. Утенка отогрели.
Но дети захотели поиграть с ним, а он подумал, что они хотят обидеть его, и шарахнулся от страха прямо в подойник с молоком – все молоко расплескалось. Жена крестьянина вскрикнула и всплеснула руками; утенок тем временем влетел в бочонок с маслом, а оттуда – в мешок с мукой. Боже, на кого он был похож! Хозяйка кричала и бегала за ним с угольными щипцами, дети сшибали друг друга с ног, хохотали и визжали. Но дверь была открыта, и утенок выбежал, бросился в кусты, прямо в глубокий снег, и очень долго лежал там неподвижно, почти без чувств.
Много выпало печальных приключений на долю утенка в эту суровую зиму. Когда солнышко снова пригрело землю, он лежал в болоте, в камышах. Запели жаворонки, и пришла весна.
Утенок взмахнул крыльями и полетел; теперь его крылья были гораздо крепче. Не успел он опомниться, как очутился в большом саду. Яблони цвели; душистая сирень склонялась ветвями над рекой.
Как же тут было хорошо, как пахло весной! И вдруг из камышей выплыли три прекрасные птицы. Они плыли легко и плавно, точно скользили по воде. Утенок узнал их, и его снова охватила уже знакомая странная грусть.
«Полечу-ка я к этим чудесным птицам! Они, наверное, убьют меня за то, что я, такой безобразный, осмелился приблизиться к ним! Но лучше быть убитым ими, чем терпеть насмешки и щипки уток и кур, сносить зимний холод и голод!» – подумал утенок.
Тотчас он слетел на воду и поплыл навстречу красавцам лебедям, которые, увидев его, устремились навстречу.
– Убейте меня! – сказал им утенок и опустил голову, готовясь к смерти.
Но в чистой, прозрачной как зеркало воде он вдруг увидел свое отражение… А лебеди окружили его, ласкали, гладили клювами, и никто из них не собирался его убивать…
Он уже не был огромным безобразным птенцом! Его крылья стали мощными, шея – длинной и гибкой, перья – белыми и блестящими. Он стал лебедем!
Не беда появиться на свет в утином гнезде, если ты вылупился из лебединого яйца! Теперь он был рад, что перенес столько горя – ведь он мог лучше оценить свое счастье…
В сад прибежали маленькие дети; они стали бросать лебедям хлебные крошки, а самый младший закричал:
– Новый, новый!
И все остальные подхватили:
– Новый, новый!
Дети хлопали в ладоши и танцевали от радости, а потом побежали за отцом и матерью и опять стали бросать в воду крошки хлеба и пирожных. И все говорили, что новый лебедь красивее всех.
Старые лебеди склонили перед ним головы. А он совсем смутился и спрятал голову под крыло, сам не зная зачем. Он был слишком счастлив, но ничуть не загордился – ведь доброе сердце не ведает гордости, а он помнил время, когда все его презирали и гнали. Теперь же все решили, что он прекраснейший из прекрасных птиц! В воду склонялись душистые ветви сирени, солнышко светило особенно ярко… И вот крылья его зашумели, стройная шея выпрямилась, а из груди вырвался ликующий крик:
– Мог ли я мечтать о таком счастье, когда был еще гадким утенком!
В море вода синяя-синяя, прозрачная и очень глубокая. На морском дне белый песок. Там растут невиданные деревья и цветы. А между ветвями снуют рыбы, совсем как птицы в воздухе… В самом глубоком месте стоит дворец морского царя – стены его из кораллов, высокие стрельчатые окна из самого чистого янтаря, а крыша сплошь раковины; они то открываются, то закрываются, смотря по тому, прилив или отлив, и это очень красиво, ведь в каждой лежат сияющие жемчужины…
Морской царь давным-давно овдовел, и хозяйством у него заправляла старуха мать: на хвосте она носила целых двенадцать устриц, тогда как прочим вельможам полагалось только шесть. Она души не чаяла в своих внучках-принцессах. Их было шестеро, все прехорошенькие, но милее всех самая младшая. Только у них вместо ног был хвост, как у рыб.
Возле дворца был большой сад; там росло много огненно-красных и темно-голубых деревьев. Земля была усыпана мелким голубоватым песком. В безветрие можно было видеть солнце; оно казалось пурпурным цветком, из чашечки которого лился свет.
У каждой принцессы было в саду свое местечко; тут они могли копать и сажать что хотели. Одна сделала себе цветочную грядку в виде кита, другой захотелось, чтобы ее грядка была похожа на русалочку, а самая младшая сделала себе грядку круглую, как солнце, и засадила ее ярко-красными цветами. Странное дитя была эта русалочка; такая тихая, задумчивая… Другие сестры украшали свои садики разными разностями, которые доставались им с затонувших кораблей, а она любила только свои яркие, как солнце, цветы да прекрасного белого мраморного мальчика, упавшего на дно моря с какого-то погибшего корабля. Русалочка посадила у статуи красную плакучую иву, которая чудесно разрослась; ветви ее перевешивались через статую и клонились к голубому песку…
Больше всего любила русалочка слушать рассказы о людях, живущих наверху на земле. Особенно занимало и удивляло русалочку то, что цветы на земле пахли – не то что тут в море! – что леса там были зеленые, а рыбки, которые жили в ветвях, звонко пели. Бабушка называла рыбками птичек, иначе внучки не поняли бы ее; ведь они никогда не видели птиц.
– Когда вам исполнится пятнадцать лет, – говорила бабушка, – вам тоже можно будет всплывать на поверхность моря, сидеть при свете месяца на скалах и смотреть на плывущие мимо огромные корабли, на леса и города!
В этот год старшей принцессе как раз должно было исполниться пятнадцать лет, но другим сестрам – а они все были погодки – приходилось еще ждать, и дольше всех – самой младшей. Но каждая обещала рассказать остальным сестрам о том, что ей больше всего понравится в первый день.
Никого не тянуло на поверхность моря так, как самую младшую, тихую, задумчивую русалочку, которой приходилось ждать дольше всех.
Сколько ночей провела она у открытого окна, вглядываясь в синеву моря, где шевелили своими плавниками и хвостами целые стаи рыбок! Она могла разглядеть сквозь воду месяц и звезды. Случалось, что над ней проплывал кит или проходил корабль с сотнями людей; они и не думали о хорошенькой русалочке, что стояла там, в глубине моря…
Но вот старшей принцессе исполнилось пятнадцать лет, и ей позволили всплыть на поверхность моря. Вот было рассказов, когда она вернулась назад! Лучше всего, по ее словам, было лежать в тихую погоду на песчаной отмели и нежиться при свете месяца, любуясь раскинувшимся по берегу городом; там, точно сотни звездочек, горели огни, слышалась музыка, шум и грохот экипажей, виднелись башни со шпилями, звонили колокола…
Через год и вторая сестра получила позволение подниматься на поверхность моря. Она вынырнула из воды как раз в ту минуту, когда солнце садилось. Небо сияло, как расплавленное золото, рассказывала она, а пурпурные и фиолетовые облака быстро неслись по небу, но еще быстрее их неслась к солнцу, точно длинная белая вуаль, стая лебедей; русалочка тоже поплыла к солнцу, но оно опустилось в море, и по небу и воде разлилась розовая вечерняя заря.
Еще через год всплыла на поверхность моря третья принцесса; эта была смелее всех и проплыла в широкую реку, которая впадала в море. Тут она увидела зеленые холмы, покрытые виноградниками, дворцы и дома, окруженные чудесными рощами, где пели птицы; солнце светило и грело… В маленькой бухте она увидела целую толпу голеньких человечков, которые плескались в воде; она хотела было поиграть с ними, но они испугались ее и убежали, а вместо них появился какой-то черный зверек и так страшно принялся на нее тявкать, что русалка перепугалась и уплыла назад в море; это была собака, но русалка ведь никогда еще не видела собак.
Четвертая сестра держалась больше в открытом море и рассказывала, что это было лучше всего; куда ни оглянись, на много-много миль вокруг одна вода да небо; вдали, как морские чайки, виднелись большие корабли, играли и кувыркались веселые дельфины, и огромные киты пускали из ноздрей сотни фонтанов.
Потом пришла очередь предпоследней сестры; день ее рождения был зимой, и поэтому она увидела то, чего не видели другие: море было зеленоватого цвета, повсюду плавали большие ледяные горы! Она уселась на самую большую, ветер развевал ее длинные волосы, а моряки испуганно обходили гору подальше. К вечеру небо покрылось тучами, засверкала молния, загремел гром, и темное море стало бросать ледяные глыбы из стороны в сторону, а они так и сверкали при блеске молнии. На кораблях убирали паруса, люди метались в страхе и ужасе, а она спокойно плыла себе на ледяной горе и смотрела, как огненные зигзаги молний, прорезав небо, падали в море.
Часто по вечерам все пять сестер, взявшись за руки, подымались на поверхность воды. Младшая же русалочка оставалась одна-одинешенька и смотрела им вслед, готовая заплакать, но русалки не могут плакать, и от этого ей было еще тяжелей.
– Ах, когда же мне будет пятнадцать лет? – говорила она. – Я знаю, что очень полюблю и тот мир и людей, которые там живут!
Наконец и ей исполнилось пятнадцать лет.
Бабушка надела русалочке на голову венец из белых жемчужных лилий – каждый лепесток был половинкой жемчужины, – потом, для обозначения высокого сана принцессы, приказала прицепиться к ее хвосту восьмерым устрицам.
– Прощайте! – сказала русалочка и легко и плавно поднялась на поверхность.
Солнце только что село, но облака еще сияли пурпуром и золотом, тогда как в красноватом небе уже зажглась ясная вечерняя звезда; воздух был мягок и свеж, а море неподвижно, как зеркало. Неподалеку от того места, где вынырнула русалочка, стоял трехмачтовый корабль всего лишь с одним поднятым парусом, – не было ведь ни малейшего ветерка; на вантах и реях сидели матросы, с палубы неслись звуки музыки и песен; когда же совсем стемнело, корабль осветился сотнями разноцветных фонариков. Русалочка подплыла к самым окнам каюты, и, когда волны слегка приподнимали ее, она могла туда заглянуть. Внутри было множество разодетых людей, но лучше всех был молодой принц с большими черными глазами.
Русалочка не могла отвести взгляд от корабля и от красавца принца. Она качалась на волнах рядом с кораблем и все заглядывала в каюту, а корабль несся все быстрее и быстрее, паруса развертывались один за другим, ветер крепчал, заходили волны, облака сгустились и засверкали молнии. Начиналась буря! Матросы принялись убирать паруса; огромный корабль страшно качало, а ветер так и мчал его по бушующим волнам; вокруг корабля вставали высокие водяные горы… Русалочку буря только забавляла, а морякам приходилось плохо. Корабль трещал, толстые бревна разлетались в щепки, волны перекатывались через палубу; грот-мачта переломилась, как тростинка, корабль перевернулся набок, и вода хлынула в трюм. На минуту сделалось так темно, что хоть глаз выколи; но вот опять блеснула молния, и русалочка вновь увидела всех бывших на корабле людей; каждый спасался, как умел. Русалочка отыскала глазами принца и увидела, как он погрузился в воду, когда корабль разбился на части. Нет, нет, он не должен умирать! И русалочка поплыла между бревнами и досками, совсем забыв, что они всякую минуту могут раздавить и ее. Она приподняла над водой голову принца и предоставила волнам нести их обоих куда угодно.
К утру непогода стихла; от корабля не осталось и щепки; солнце опять засияло над водой. Русалочка откинула со лба принца волосы и поцеловала его в высокий, красивый лоб.
Наконец она увидела твердую землю и высокие, уходящие в небо горы, на вершинах которых белели снега. У самого берега зеленела чудная роща, а повыше стояло какое-то здание вроде церкви или монастыря.
Море врезалось в белый песчаный берег небольшим заливом, где вода была очень тиха, но глубока; сюда-то, к утесу, и приплыла русалочка и положила принца, позаботившись о том, чтобы голова лежала повыше.
В это время в высоком белом здании зазвонили в колокола, и в сад высыпали молодые девушки. Русалочка отплыла подальше и стала ждать: не придет ли кто на помощь бедному принцу.
Ждать пришлось недолго: к принцу подошла одна из девушек и сначала очень испугалась, но скоро собралась с духом и позвала на помощь людей. Затем русалочка увидела, что принц ожил и улыбнулся всем, кто был возле него. А ей он не улыбнулся, он даже не знал, что она спасла ему жизнь! Грустно стало русалочке, и, когда принца увели в большое белое здание, она печально нырнула в воду и уплыла домой. Теперь она стала еще тише, еще задумчивее. Сестры спрашивали ее, что она видела на поверхности моря, но она не рассказала им ничего.
Часто и вечером, и утром приплывала она к тому месту, где оставила принца, но так его и не видела и возвращалась домой с каждым разом все печальнее и печальнее. Наконец она не выдержала и рассказала обо всем одной из своих сестер; за ней узнали и все остальные сестры.
– Поплыли с нами, сестрица! – сказали русалочке сестры и рука об руку поднялись все вместе на поверхность моря близ того места, где стоял дворец принца.
Дворец был из светло-желтого блестящего камня, с большими мраморными лестницами; одна из них спускалась прямо в море. Великолепные вызолоченные купола высились над крышей, а в нишах, между колоннами, окружавшими все здание, стояли мраморные статуи, совсем как живые.
Теперь русалочка знала, где живет принц, и стала приплывать ко дворцу почти каждый вечер или каждую ночь. Ни одна из сестер не осмеливалась подплывать к земле так близко, как она; она же заплывала и в узкий канал, который протекал как раз под великолепным мраморным балконом, бросавшим на воду длинную тень. Тут она останавливалась и подолгу смотрела на молодого принца.
Все больше и больше начинала русалочка любить людей, все сильнее и сильнее тянуло ее к ним; их земной мир казался ей куда больше, нежели ее подводный; они ведь могли переплывать на своих кораблях море, взбираться на высокие горы к самым облакам, а бывшие в их владениях пространства земли с лесами и полями тянулись далеко-далеко! Русалочке очень хотелось побольше узнать о людях и об их жизни, и она обращалась к бабушке.
– Если люди не тонут, – спрашивала русалочка, – тогда они живут вечно, не умирают, как мы?
– Как же! – отвечала старуха. – Они тоже умирают, их век даже короче нашего. Мы живем триста лет, зато, когда нам приходит конец, от нас остается одна пена морская. Нам не дано бессмертной души! У людей, напротив, есть бессмертная душа, которая живет вечно!
– А почему у нас нет бессмертной души? – грустно спросила русалочка. – Я бы отдала все свои триста лет за один день человеческой жизни.
– Вздор! Нечего и думать об этом! – сказала старуха. – Нам тут живется куда лучше, чем людям на земле!
– Значит, и я умру, стану морской пеной, не буду больше слышать музыки волн, не увижу чудесных цветов и красного солнышка! Неужели же я никак не могу обрести бессмертную душу?
– Можешь, – сказала бабушка, – пусть только кто-нибудь из людей полюбит тебя всем сердцем и велит священнику соединить ваши руки в знак вечной верности друг другу; тогда частица его души сообщится тебе. Но этому не бывать никогда! Ведь то, что у нас считается красивым, твой рыбий хвост, люди находят безобразным; они нимало не смыслят в красоте…
Глубоко вздохнула русалочка и печально посмотрела на свой рыбий хвост.
«Вот он опять катается на лодке! – думала русалочка, слушая звуки валторн, доносившиеся с поверхности моря. – Как я люблю его! Я принадлежу ему всем сердцем! На все бы я пошла ради него и ради бессмертной души! Я поплыву к морской ведьме; может быть, она что-нибудь посоветует или как-нибудь поможет мне!»
И русалочка поплыла из своего садика к бурным водоворотам, за которыми жила ведьма. Тут не было ни цветов, ни даже травы – один только голый серый песок. Русалочке пришлось плыть между бурлящими водоворотами; затем на пути к жилищу ведьмы лежало еще большее пространство, покрытое горячим, пузырившимся илом, это место ведьма называла своим торфяным болотом. За ним уже показалось и само жилище ведьмы, окруженное диковинным лесом: деревья и кусты были полипами – полуживотными-полурастениями, похожими на стоголовых змей, росших прямо из песка; полипы ни на минуту не переставали шевелить всеми своими суставами, от корня до самой верхушки, они хватали гибкими пальцами все, что только им попадалось, и уже никогда не выпускали обратно.
Но вот русалочка очутилась на скользкой поляне, где кувыркались большие, жирные водяные ужи. Посреди поляны был выстроен дом из белых человеческих костей; тут же сидела и сама морская ведьма и кормила жабу.
– Знаю, знаю, зачем ты пришла! – сказала морская ведьма. – Ты хочешь получить вместо своего рыбьего хвоста две подпорки, чтобы ходить, как люди; хочешь, чтобы молодой принц полюбил тебя, а ты получила бы свою бессмертную душу!
И ведьма захохотала.
– Ну ладно, ты пришла в самое время! – продолжала ведьма. – Приди ты завтра поутру, было бы поздно и я не могла бы помочь тебе раньше будущего года. Я изготовлю для тебе питье, ты возьмешь его, поплывешь с ним на берег еще до восхода солнца, сядешь там и выпьешь все до капли; тогда твой хвост раздвоится и превратится в пару чудных, как скажут люди, ножек. Но тебе будет так больно, как будто тебя пронзят насквозь острым мечом. Зато все, кто увидит тебя, скажут, что такой прелестной девушки они еще не встречали! Ты сохранишь свою плавную скользящую походку – ни одна танцовщица не сравнится с тобой; но помни, что каждый шаг будет причинять тебе нестерпимую боль, так как изранишь свои ножки в кровь. Согласна ли ты?
– Да! – сказала русалочка.
– Помни, – сказала ведьма, – что, если ты примешь человеческий образ, тебе уже не сделаться вновь русалкой! Не видать тебе больше ни морского дна, ни отцовского дома, ни сестер! А если принц не полюбит тебя, ты не получишь бессмертной души. С первой же зарей после его женитьбы на другой твое сердце разорвется на части и ты станешь пеной морской!
– Пусть! – сказала русалочка и побледнела как смерть.
– Ты должна заплатить мне за помощь, – сказала ведьма. – А я недешево возьму! У тебя чудный голос, и им ты думаешь обворожить принца, но ты должна отдать свой голос мне. Я возьму за свой драгоценный напиток самое лучшее, что есть у тебя: я ведь должна примешать к напитку свою собственную кровь, для того чтобы он стал острым, как лезвие меча.
– Что же останется у меня? – спросила русалочка.
– Твое прелестное личико, твоя скользящая походка и твои глаза – довольно, чтобы покорить человеческое сердце! Ну полно, не бойся; высунешь язычок, и я отрежу его в уплату за волшебный напиток!
– Хорошо! – сказала русалочка, и ведьма поставила на огонь котел, чтобы сварить питье.
Ведьма обтерла котел связкой живых ужей, а потом расцарапала себе грудь; в котел закапала черная кровь, от которой стали подниматься клубы пара. Ведьма добавляла в котел новых и новых снадобий. Наконец напиток был готов и имел вид прозрачнейшей ключевой воды!
– Вот! – сказала ведьма, отдавая русалочке напиток; потом отрезала ей язычок, и русалочка стала немая – не могла больше ни петь, ни говорить!
Русалочка не посмела войти в отцовский дворец – она была немая и собиралась покинуть отцовский дом навсегда. Сердце ее было готово разорваться от тоски и печали. Она проскользнула в сад, взяла по цветку с грядки каждой сестры, послала родным тысячу воздушных поцелуев и поднялась на темно-голубую поверхность моря.
Солнце еще не вставало, когда она увидела перед собой дворец принца и присела на великолепную мраморную лестницу. Месяц озарял ее своим чудесным голубым сиянием. Русалочка выпила сверкающий острый напиток, и ей показалось, будто ее пронзили мечом, она потеряла сознание. Когда она очнулась, над морем уже сияло солнце; во всем теле она чувствовала жгучую боль, зато перед ней стоял красавец принц и смотрел на нее черными, как ночь, глазами; она увидела, что вместо рыбьего хвоста у нее две чудесные ножки. Принц спросил, кто она такая и как сюда попала, но она только кротко и грустно смотрела на него темно-голубыми глазами; говорить ведь она не могла. Тогда он взял ее за руку и повел во дворец. С каждым шагом русалочка как будто ступала на острые ножи и иголки; но она терпеливо переносила боль и шла об руку с принцем легкая, воздушная, как водяной пузырек; принц и все окружающие только дивились ее чудной, скользящей походке.
Русалочка стала первой красавицей при дворе, но оставалась по-прежнему немой, не могла ни петь, ни говорить. Красивые рабыни, все в шелку и золоте, появились перед принцем и его царственными родителями и стали петь. Одна из них пела особенно хорошо, и принц хлопал в ладоши и улыбался ей; русалочке стало очень грустно: когда-то и она могла петь, и несравненно лучше! «Ах, если бы он знал, что я навсегда рассталась со своим голосом, чтобы только быть возле него!» Потом рабыни стали танцевать под звуки чудеснейшей музыки; тут и русалочка подняла свои хорошенькие ручки, стала на цыпочки и понеслась в легком, воздушном танце; так не танцевал еще никто! Каждое движение лишь увеличивало ее красоту, одни глаза говорили сердцу больше, чем пение всех рабынь.
День ото дня принц привязывался к русалочке все сильнее и сильнее, но он любил ее только как милое, доброе дитя, сделать же ее своей женой и королевой ему и в голову не приходило.
«Любишь ли ты меня больше всех на свете?» – казалось, спрашивали ее глаза, в то время как принц обнимал ее и целовал в лоб.
– Да, я люблю тебя! – говорил принц. – У тебя доброе сердце, ты предана мне больше всех и похожа на молодую девушку, которую я видел однажды и, верно, больше уж не увижу! Я плыл на корабле, корабль разбился, волны выбросили меня на берег вблизи чудного храма, где служат Богу молодые девушки; самая младшая из них нашла меня на берегу и спасла мне жизнь; я видел ее всего два раза, но ее одну в целом мире мог бы я полюбить! Ты похожа на нее и почти вытеснила из моего сердца ее образ. Она принадлежит святому храму, и вот моя счастливая звезда послала мне тебя, никогда я не расстанусь с тобой!
«Увы! Он не знает, что это я спасла ему жизнь!» – думала русалочка.
Но вот стали поговаривать, что принц женится на прелестной дочери соседнего короля и потому снаряжает свой великолепный корабль в плаванье. Принц поедет к соседнему королю как будто для того, чтобы ознакомиться с его страной, а на самом деле, чтобы увидеть принцессу; с ним отправится большое посольство. Русалочка на эти речи только покачивала головой и смеялась – она ведь лучше всех знала мысли принца.
– Я должен ехать! – говорил он ей. – Мне надо увидеть прекрасную принцессу; этого требуют мои родители, но они не станут принуждать меня жениться на ней, я же никогда не полюблю ее!
И вот корабль вошел в гавань великолепной столицы соседнего королевства. Начались празднества, балы следовали за балами, но принцессы не было, – она воспитывалась где-то далеко в монастыре, куда ее отдали учиться всем королевским добродетелям. Наконец прибыла и она. Русалочка жадно смотрела на нее и не могла не признать, что лица милее и прекраснее она еще не видала. Кожа на лице принцессы была такая нежная, прозрачная, а из-за длинных темных ресниц улыбались темно-синие кроткие глаза.
– Это ты! – сказал принц. – Ты спасла мне жизнь, когда я лежал на берегу моря!
И он крепко прижал к сердцу свою невесту.
– Ах, как я счастлив! – сказал он русалочке. – То, о чем я не смел и мечтать, сбылось! Ты порадуешься моему счастью, ты ведь так любишь меня!
Русалочке показалось, что сердце ее вот-вот разорвется от боли…
Колокола в церкви звонили, по улицам разъезжали герольды, оповещая народ о помолвке принцессы. Жених и невеста подали друг другу руки и получили благословение епископа.
В тот же вечер жених с невестой должны были отплыть на родину принца; на палубе корабля был раскинут шатер из золота и пурпура; в шатре возвышалось чудное ложе для новобрачных. Корабль легко и плавно скользнул по волнам и понесся вперед.
Как только смерклось, на корабле зажглись сотни разноцветных фонариков, а матросы стали весело плясать на палубе. Русалочка вспомнила, как она впервые всплыла на поверхность моря и увидела то же великолепие и веселье на корабле. И вот она понеслась в быстром воздушном танце, точно ласточка, преследуемая коршуном. Никогда еще она не танцевала так чудесно! Ее нежные ножки резало, как ножами, но она не чувствовала боли – сердцу ее было еще больнее. Принц же целовал красавицу невесту, а она играла его черными волосами; наконец рука об руку удалились они в свой великолепный шатер.
На корабле все стихло, один рулевой остался у руля. Русалочка оперлась белыми руками о борт и, обернувшись лицом к востоку, стала ждать первого луча солнца, который, как она знала, должен был убить ее. И вдруг она увидела, как из моря поднялись ее сестры; их длинные роскошные волосы не развевались больше по ветру – они были обрезаны.
– Мы отдали наши волосы ведьме, чтобы она помогла нам избавить тебя от смерти! Она дала нам вот этот нож – видишь, какой он острый? Прежде чем взойдет солнце, ты должна вонзить его в сердце принца, и когда кровь его брызнет тебе на ноги, они опять срастутся в рыбий хвост и ты опять станешь русалкой, спустишься к нам в море и проживешь свои триста лет, прежде чем сделаешься соленой морской пеной. Но спеши! Или он, или ты – один из вас должен умереть до восхода солнца!
С этими словами они глубоко вздохнули и погрузились в море.
Русалочка приподняла пурпурную занавесь шатра и увидела, что головка прелестной невесты покоится на груди принца. Русалочка наклонилась и поцеловала его в прекрасный лоб, посмотрела на небо, где разгоралась утренняя заря, потом посмотрела на острый нож и опять устремила взор на принца, который во сне произнес имя своей невесты – она одна была в его мыслях! – и нож дрогнул в руках русалочки. Еще минута – она бросила его в волны, которые покраснели, точно окрасились кровью, в том месте, где он упал. Еще раз посмотрела она на принца, бросилась с корабля в море и почувствовала, как ее тело расплывается пеной. Над морем поднялось солнце; русалочка не чувствовала смерти: она видела ясное солнышко и каких-то прозрачных чудных созданий, сотнями реявших над ней. Голоса их звучали как музыка. У них не было крыльев, и они носились по воздуху только благодаря своей собственной легкости. Русалочка увидала, что и у нее такое же тело, как у них, и что она все больше и больше отделяется от морской пены.
– К кому я иду? – спросила она, поднимаясь на воздух, и ее голос звучал такой же дивною неземною музыкой, какой не в силах передать никакие земные звуки.
– К дочерям воздуха! – ответили ей воздушные создания. – У русалки нет бессмертной души, и обрести ее она не может иначе, как благодаря любви человека. У дочерей воздуха тоже нет бессмертной души, но они сами могут приобрести ее себе добрыми делами. Мы прилетели в жаркие страны, где люди гибнут от знойного, зачумленного воздуха, и навеваем прохладу. Мы распространяем в воздухе благоухание цветов и приносим с собой людям исцеление и отраду. По прошествии же трехсот лет, во время которых мы творим посильное добро, мы получаем в награду бессмертную душу. Ты, бедная русалочка, всем сердцем стремилась к тому же, что и мы, ты любила и страдала, подымись же вместе с нами в заоблачный мир. Теперь ты сама сможешь обрести себе бессмертную душу.
И русалочка потянула свои прозрачные руки к солнцу и в первый раз почувствовала у себя на глазах слезы.
На корабле за это время все опять пришло в движение, и русалочка увидала, как принц с невестой искали ее. Печально смотрели они на волнующуюся морскую пену, точно знали, что русалочка бросилась в волны. Невидимо поцеловала русалочка красавицу невесту в лоб, улыбнулась принцу и поднялась вместе с другими детьми воздуха к розовым облакам, плававшим в небе.
Никто не знает столько историй, сколько Оле-Лукойе.
Вечером Оле-Лукойе в одних чулках поднимается по лестнице, потом неслышно заходит в комнату и слегка брызгает детям в глаза сладким молоком. Веки у детей начинают слипаться, а он подкрадывается сзади и начинает легонько дуть им в затылок. Это совсем не больно – Оле-Лукойе хочет только уложить детей в постель! А потом он начинает рассказывать истории.
На Оле-Лукойе шелковый кафтан, который отливает то голубым, то зеленым, то красным; под мышками у него зонтики: один с картинками – его он раскрывает над хорошими детьми, и тогда им снятся волшебные сказки, другой совсем простой – его он раскрывает над нехорошими детьми, и они ничего не видят во сне!
Понедельник
– Теперь украсим комнату! – сказал Оле-Лукойе, уложив Яльмара в постель.
Все комнатные цветы превратились в большие деревья, а комната – в беседку. Ветви деревьев были усеяны цветами, а плоды блестели, как золотые.
Вдруг в ящике стола раздались ужасные стоны.
– Что такое? – сказал Оле-Лукойе и выдвинул ящик.
Оказывается, сердилась аспидная доска: в решение написанной на ней задачи вкралась ошибка, и все вычисления готовы были рассыпаться; грифель очень хотел помочь, но не мог. Стонала и тетрадь Яльмара! На каждой странице стояли большие буквы, а с ними рядом маленькие, это была пропись; сбоку же были другие буквы, воображавшие, что держатся так же твердо. Их писал Яльмар, и они, казалось, спотыкались об линейки, на которых должны были стоять.
– Вот как надо держаться! – говорила пропись. – Вот так, с легким наклоном вправо!
– Ах, мы не можем, – отвечали буквы Яльмара.
– Так вас надо немного подтянуть! – сказал Оле-Лукойе.
– Ой, нет! – закричали буквы и выпрямились так, что приятно было смотреть.
– Теперь нам не до историй! – сказал Оле-Лукойе. – Будем учиться писать!
И он дописал все буквы Яльмара так, что они стояли уже ровно и бодро, как и пропись. Но утром, когда Яльмар проснулся, они выглядели такими же жалкими, как прежде.
Вторник
Оле-Лукойе дотронулся своей волшебной брызгалкой до мебели, и все вещи сейчас же начали болтать. Оле-Лукойе дотронулся до картины, и нарисованные на ней птицы запели, ветви деревьев зашевелились, а облака понеслись по небу.
Оле приподнял Яльмара к раме, и мальчик стал прямо в высокую траву на картине. Он побежал к воде и уселся в лодку. Она была выкрашена в красное с белым, паруса блестели, и лебеди с золотыми коронами повлекли ее вдоль зеленых лесов. Рыбы с серебяной и золотой чешуей плыли за лодкой, птицы летели за Яльмаром, комары танцевали, майские жуки гудели.
По берегам реки высились хрустальные и мраморные дворцы; на балконах их стояли принцессы – знакомые Яльмару девочки, с которыми он часто играл.
Каждая держала в правой руке обсахаренного пряничного поросенка. Яльмар, проплывая мимо, хватался за один конец пряника, принцесса крепко держалась за другой, и пряник разламывался пополам, каждый получал свою долю. На часах стояли маленькие принцы. Они отдавали Яльмару честь золотыми саблями и осыпали его изюмом и оловянными солдатиками!
Проплыл он и через город, где жила его старая няня. Она кланялась и посылала ему воздушные поцелуи.
Цветы танцевали, а ивы кивали…
Среда
Ну и дождь лил! Когда Оле-Лукойе открыл окно, оказалось, что вода стоит вровень с подоконником, а к самому дому причалил корабль.
– Хочешь прогуляться, Яльмар? – спросил Оле. – Побываешь ночью в чужих землях, а к утру – опять дома!
И вот Яльмар очутился на корабле. Погода сейчас же прояснилась. Они уплыли так далеко, что земля совсем скрылась из глаз. Аисты летели в чужие теплые края длинной вереницей, один за другим. Они были в пути уже много-много дней, и один из них так устал, что крылья отказывались ему служить. Он летел позади всех, потом отстал и начал опускаться все ниже и ниже… Скоро он задел за мачту корабля, скользнул по снастям и упал прямо на палубу.
Юнга посадил его в птичник к курам, уткам и индейкам. Бедняга аист уныло озирался кругом.
Индейский петух надулся, утки пятились…
Аист рассказал им про жаркую Африку, про пирамиды и страусов, которые носятся по пустыне с быстротой диких лошадей, но утки ничего не поняли:
– Ну не дурак ли?
Аист замолчал и стал думать об Африке.
Но Яльмар открыл дверцу, поманил аиста, и тот выпрыгнул к нему на палубу – он уже успел отдохнуть. Аист как будто поклонился Яльмару в знак благодарности, взмахнул широкими крыльями и полетел в теплые края. Куры закудахтали, утки закрякали, а индейский петух так надулся, что гребешок у него весь налился кровью.
– Завтра из вас сварят суп! – сказал Яльмар и проснулся опять в своей маленькой кроватке.
Четверг
– Только не пугайся! – сказал Оле-Лукойе. – Я сейчас покажу тебе мышку! – И правда, в руке у него была хорошенькая мышка. – Она пришла пригласить тебя на свадьбу! Две мышки собираются сегодня ночью пожениться. Живут они под полом в кладовой твоей матери.
– А как же я пролезу сквозь маленькую дырочку в полу? – спросил Яльмар.
Оле-Лукойе дотронулся до мальчика своей волшебной брызгалкой, и Яльмар вдруг сделался ростом с палец.
– Теперь можно одолжить мундир у оловянного солдатика. Мундир ведь так красит, а ты идешь в гости!
Яльмар переоделся и стал похож на оловянного солдатика.
– Прошу, садитесь в наперсток вашей матушки, – сказала Яльмару мышка. – Я имею честь отвезти вас.
И они поехали на мышиную свадьбу.
Проскользнув в дыру, прогрызенную мышами в полу, они попали в длинный узкий коридор, где только и можно было проехать в наперстке. Коридор был ярко освещен гнилушками.
– Правда, чудный запах? – спросила мышка. – Весь коридор смазан салом!
Наконец они добрались до зала, где праздновали свадьбу. Справа стояли мышки-дамы, слева – мышки-кавалеры, а посредине, на выеденной корке сыра, – жених с невестой.
Гости все прибывали. Мыши чуть не давили друг друга, и счастливую парочку оттеснили к самым дверям, так что никто больше не мог ни войти, ни выйти. Зал тоже был смазан салом, другого угощения не было. На десерт гостей обносили горошиной, на которой одна родственница новобрачных выгрызла их имена, то есть, конечно, только первые буквы!
Все мыши сказали, что свадьба была великолепна и что они очень приятно провели время.
Яльмар поехал домой. Он побывал в знатном обществе, хоть и пришлось съежиться и надеть мундир оловянного солдатика.
Пятница
– Даже не верится, сколько пожилых людей хотят залучить меня к себе! – сказал Оле-Лукойе. – Особенно те, кто сделал что-нибудь плохое. «Миленький Оле, – говорят они мне, – мы не можем сомкнуть глаз, лежим без сна всю ночь напролет и видим вокруг себя все свои дурные дела. Они, точно гадкие маленькие тролли, сидят по краям постели и брызжут на нас кипятком. Хоть бы ты пришел и прогнал их. Мы бы с удовольствием заплатили тебе, Оле! Спокойной ночи! Деньги на окне!» Что мне деньги?! Я ни к кому не прихожу за деньги!
– А что мы будем делать сегодня ночью? – спросил Яльмар.
– Не хочешь ли опять побывать на свадьбе? Большая кукла твоей сестры, та, что зовется Германом, хочет повенчаться с куклой Бертой; а еще сегодня день рождения куклы, и потому готовится много подарков!
– Знаю, знаю! – сказал Яльмар. – Как только куклам нужно новое платье, сестра празднует их день рождения или свадьбу.
– А сегодня ночью будет сто первый и, значит, последний! Оттого и готовится что-то необыкновенное.
На столе был домик из картона, окна его были освещены, и все оловянные солдатики держали ружья на караул. Жених с невестой задумчиво сидели на полу, прислонившись к ножке стола. Оле-Лукойе, нарядившись в бабушкину черную юбку, обвенчал их. Затем молодые получили подарки.
– Поедем теперь на дачу или отправимся за границу? – спросил молодой.
На совет пригласили ласточку и старую курицу. Ласточка рассказала о теплых краях, где зреют сочные, тяжелые кисти винограда, где воздух мягок, а горы расцвечены такими красками, о каких здесь и понятия не имеют.
– Зато там нет капусты! – сказала курица. – Ах, какая она зеленая! Что может быть красивее?!
– Да ведь кочаны похожи как две капли воды! – сказала ласточка. – К тому же здесь так часто бывает дурная погода.
– Ну, к этому можно привыкнуть! – сказала курица.
– А какой тут холод! Того и гляди замерзнешь!
– И хорошо для капусты! – сказала курица. – К тому же и у нас бывает тепло! Вот четыре года тому назад лето стояло у нас целых пять недель! Да какая жарища-то была! Все задыхались! И у нас нет ядовитых тварей, как там! И разбойников! – Курица заплакала. – Я ведь тоже путешествовала! Целых двенадцать миль проехала в бочонке! И никакого удовольствия нет в путешествии!
– Да, курица – особа вполне достойная! – сказала новобрачная. – Мне тоже не нравится ездить по горам – то вверх, то вниз! Лучше мы поедем в деревню и будем гулять в огороде с капустой.
На том и порешили.
Суббота
– Взгляни на этих китайцев! – сказал Оле и раскрыл над Яльмаром свой красивый зонтик.
Зонтик был похож на большую китайскую чашу, расписанную голубыми деревьями и узенькими мостиками, на которых стояли маленькие китайцы и кивали головами.
– Сегодня надо будет принарядить весь мир! – продолжал Оле. – Завтра ведь праздник, воскресенье! Сейчас я пойду на колокольню – посмотрю, вычистили ли церковные карлики все колокола, иначе они плохо будут звонить завтра; потом в поле – посмотрю, смел ли ветер пыль с травы и листьев. Самое же трудное – снять с неба и почистить все звезды. Приходится нумеровать каждую звезду и каждую дырочку, где она сидела, чтобы потом каждую поставить на свое место, иначе они не будут держаться и посыплются с неба одна за другой!
– Послушайте! – сказал вдруг висевший на стене старый портрет. – Я прадедушка Яльмара и очень вам признателен за то, что вы рассказываете мальчику сказки, но звезды нельзя снимать с неба и чистить. Звезды – такие же небесные тела, как наша Земля!
– Спасибо тебе, прадедушка! – отвечал Оле-Лукойе. – Ты – глава семьи, но я все-таки старше тебя! Римляне и греки звали меня богом сновидений! Я всегда был вхож в знатнейшие дома и знаю, как обходиться и с большими, и с малыми. Можешь теперь рассказывать сам!
И Оле-Лукойе ушел, взяв под мышку свой зонтик.
– Ну, уж нельзя и высказать своего мнения! – сказал старый портрет.
Тут Яльмар проснулся.
Воскресенье
– Добрый вечер! – сказал Оле-Лукойе.
Яльмар кивнул ему, вскочил и повернул прадедушкин портрет лицом к стене, чтобы он опять не вмешался в разговор.
– Я покажу тебе своего брата, его тоже зовут Оле-Лукойе, – сказал Оле-Лукойе. – Но он знает только две сказки: одна бесподобно хороша, а другая так ужасна, что… да нет, невозможно даже и сказать как!
Оле-Лукойе приподнял Яльмара, поднес его к окну и сказал:
– Сейчас ты увидишь моего брата, другого Оле-Лукойе. Кафтан на нем расшит серебром, за плечами развевается черный бархатный плащ! Смотри!
И Яльмар увидел, как мчится во весь опор другой Оле-Лукойе и сажает к себе на лошадь и старых, и малых. Тех, у кого были отличные или хорошие отметки, он сажал впереди себя и рассказывал им чудесную сказку, а тех, у кого были плохие, – позади себя, и они должны были слушать страшную сказку. Они тряслись от страха, плакали и хотели спрыгнуть с лошади, но не могли, потому что сразу крепко прирастали к седлу.
– А я не боюсь его! – сказал Яльмар.
– И нечего бояться! – ответил Оле. – Смотри только, чтобы у тебя всегда были хорошие отметки!
– Вот это поучительно! – пробурчал прадедушкин портрет. – Все-таки не мешает иногда высказать свое мнение.
Он был очень доволен.
Вот и вся история об Оле-Лукойе! А вечером пусть он сам расскажет тебе что-нибудь.
Жил-был очень богатый купец. Но он внезапно умер, и все деньги достались его сыну. Тот зажил очень весело, и скоро осталось у него только четыре скиллинга, старый халат да пара туфель-шлепанцев. Друзья и знать его больше не хотели, но один из них, человек добрый, прислал ему старый сундук! Отлично, но укладывать в сундук было нечего, вот он и уселся в сундук сам! А сундук был не простой. Стоило нажать на замок – и сундук взвивался в воздух.
Купеческий сын так и сделал. Сундук вылетел с ним в трубу и понесся под самыми облаками! Купеческий сын прилетел в Турцию, зарыл сундук в лесу в кучу сухих листьев, а сам отправился в город – тут он не стеснялся своего наряда, ведь в Турции все ходят в халатах и туфлях.
На улице встретилась ему женщина с ребенком, и он сказал ей:
– Послушай, женщина! Что это за большой дворец тут, у самого города, еще окна так высоко от земли?
– Тут живет принцесса! – ответила та. – Ей предсказано, что она будет несчастна по милости своего жениха, вот к ней и не смеет являться никто иначе, как в присутствии самих короля с королевой.
– Спасибо! – сказал купеческий сын.
Он пошел в лес, уселся в свой сундук, прилетел прямо на крышу дворца и влез к принцессе в окно. Принцесса спала на диване и была так хороша, что он не удержался и поцеловал ее. Она проснулась и очень испугалась, но купеческий сын сказал, что он турецкий бог, прилетевший к ней по воздуху. Они уселись рядом, и он стал рассказывать ей сказки. А потом он посватался, и принцесса согласилась выйти за него.
– Но вы должны здесь быть в субботу! – сказала она. – Ко мне придут король с королевой. Они будут очень польщены тем, что я выхожу замуж за турецкого бога, но вы постарайтесь рассказать им сказку получше. Мать любит слушать что-нибудь поучительное и серьезное, а отец – веселое.
Принцесса подарила ему саблю, выложенную червонцами, а их-то ему недоставало. Он купил себе новый халат, а затем уселся в лесу сочинять сказку. В субботу король и королева пришли к принцессе, и купеческого сына приняли очень хорошо.
– Расскажите что-нибудь серьезное, поучительное, – сказала королева.
– Но чтобы и посмеяться можно было! – добавил король.
– Хорошо! – ответил купеческий сын и стал рассказывать. – Жила-была пачка серных спичек, очень гордых своим высоким происхождением: глава их семьи, сосна, была крупнейшим и старейшим деревом в лесу. Теперь спички лежали на полке между огнивом и старым железным котелком и рассказывали о своем детстве. «Да, хорошо нам жилось, – говорили они. – Но вот пришли как-то дровосеки, и погибла вся наша семья! Ствол получил место грот-мачты на великолепном корабле, ветви разбрелись кто куда, а нам вот выпало служить светочами для черни. Вот ради чего очутились на кухне такие важные господа, как мы!»
«С самого появления на свет меня беспрестанно чистят, скребут и ставят на огонь, – сказал котелок. – Я занимаю в доме первое место. Все мы здесь домоседы, только ведро иногда бывает во дворе, а новости мы узнаем от корзинки для провизии – она часто ходит на рынок, но у нее уж чересчур резкий язык».
«Что ты разболтался?!» – сказало вдруг огниво.
«Побеседуем о том, кто из нас важнее!» – сказали спички.
«Нет, я не люблю говорить о себе, – сказала глиняная миска. – Будем просто беседовать! Я расскажу кое-что, что будет понятно всем и каждому. На берегу родного моря, под тенью буков…»
«Чудесно!» – сказали тарелки.
«Там в одной семье провела я свою молодость. Вся мебель была полированная, пол чисто вымыт, а занавески на окнах сменялись каждые две недели».
«Как вы интересно рассказываете! – сказала метла. – В вашем рассказе так и слышна женщина, чувствуется какая-то особенная чистоплотность!»
«Да, да!» – сказало ведро.
Глиняная миска продолжала свой рассказ, и конец был не хуже начала. Тарелки загремели от восторга, а метла достала из ящика зелень петрушки и увенчала ею миску.
«Теперь мы потанцуем!» – сказали угольные щипцы и пустились в пляс. Старая обивка на стуле, что стоял в углу, не выдержала такого зрелища и лопнула!
«А нас увенчают?» – спросили щипцы, и их тоже увенчали.
«Все это чернь!» – думали спички.
Теперь самовар должен был спеть. Но он важничал и хотел петь, только стоя на столе у господ.
«Что ж, если самовар не хочет петь, не надо! – сказало старое гусиное перо. – За окном висит клетка, а в ней – соловей. Пусть он споет!»
«Это неприлично – слушать какую-то пришлую птицу! – сказал большой медный чайник. – Пусть рассудит корзинка для провизии!»
«Разве так следует проводить вечера? – сказала корзинка. – Неужели нельзя поставить дом на надлежащую ногу? Каждый бы тогда знал свое место, и я руководила бы всеми! Тогда дело пошло бы совсем иначе».
«Давайте шуметь!» – закричали все.
Вдруг дверь отворилась, вошла служанка, и все присмирели. Но не было ни единого горшка, который не мечтал про себя о своей знатности и о том, что он мог бы сделать. «Уж если бы взялся за дело я, пошло бы веселье!» – думал каждый. Служанка взяла спички и зажгла ими свечку. Как они зафыркали, загораясь! «Теперь все видят, что мы здесь самые знатные! – думали они. – Сколько от нас блеска и света!» Но тут они сгорели.
– Чудесная сказка! – сказала королева. – Я точно сама была в кухне вместе со спичками! Да, ты достоин нашей дочери.
– Конечно! – сказал король. – Свадьба состоится в понедельник!
Вечером в городе устроили иллюминацию. Уличные мальчишки кричали «ура!» и свистели. «Надо и мне придумать что-нибудь!» – подумал купеческий сын. Он накупил ракет, хлопушек, сложил все это в свой сундук и взвился в воздух. Никогда еще турки не видели такого фейерверка. Теперь все поверили, что на принцессе женится сам турецкий бог. Вернувшись в лес, купеческий сын подумал: «Надо пойти в город послушать, что там говорят обо мне!» Сколько рассказов ходило по городу! Каждый рассказывал об увиденном по-своему, но все твердили, что это было дивное зрелище.
– Я видел бога! – говорил один. – Глаза у него были как звезды, а борода – как морская пена!
– Бог летел в огненном плаще! – рассказывал другой. – А из складок выглядывали ангелочки…
На другой день должна была состояться свадьба. Купеческий сын вернулся в лес, чтобы сесть в сундук, но не нашел его. Сундук сгорел! В него попала искра от фейерверка, сундук тлел и наконец вспыхнул, и от него осталась только зола.
Купеческий сын так и не смог прилететь к своей невесте. Она целый день стояла на крыше, дожидаясь его, и ждет до сих пор! А он ходит по свету и рассказывает сказки, но не такие веселые, какой была его первая сказка о спичках.
Жил-был принц. Он хотел жениться на принцессе, но только на настоящей. В поисках настоящей принцессы он объехал уже весь мир, но никак не мог понять, настоящие ли принцессы ему встречаются. Пришлось ему ни с чем вернуться домой.
Как-то вечером поднялась буря. В городские ворота постучали, и старый король пошел открывать.
У ворот стояла девушка. Вода стекала с ее волос и платья, а она уверяла, что настоящая принцесса.
«Ну, это мы узнаем!» – подумала старая королева, но ничего не сказала.
Она пошла в опочивальню, сняла с кровати все тюфяки и подушки, положила на доски горошину, а потом взяла двадцать тюфяков и положила их на горошину, а на тюфяки еще двадцать пуховых перин. На эту кровать уложили на ночь принцессу.
Утром ее спросили, как ей спалось.
– Ужасно! – воскликнула принцесса. – Я всю ночь не могла уснуть. Я лежала на чем-то твердом, и теперь у меня все тело в синяках!
Так все и поняли, что она – настоящая принцесса. Ведь она почувствовала горошину через двадцать тюфяков и двадцать пуховых перин! Такой нежной может быть только настоящая принцесса. И принц взял ее в жены.
А горошину отдали в кунсткамеру.
Жил-был принц. Королевство у него было очень маленькое, а сам он был очень беден. Все, что у него было, – это славное имя. Но все-таки он решил жениться не на ком-нибудь, а на императорской дочери.
На могиле у отца принца вырос розовый куст. Он цвел один раз в пять лет, и на нем распускалась всего одна роза. Но она была так прекрасна и аромат ее был таким тонким и нежным, что каждый, кому довелось увидеть ее, забывал о своих бедах.
А еще у принца был соловей, и пел он так, как будто знал все мелодии на свете, и песни его были удивительной усладой для слуха.
Принц решил подарить розу и соловья принцессе. Слуги положили их в серебряные ларцы и отправили во дворец.
Увидев подарки, принцесса радостно захлопала в ладоши. Открыли первый ларец, и появилась прекрасная роза.
– Как она прелестна! – сказали фрейлины и император. – Какая чудесная работа!
Принцесса прикоснулась к розе и чуть не разрыдалась.
– Какой ужас! – сказала она. – Роза не искусственная, а настоящая!
– Какой ужас! – повторили за ней фрейлины.
Открыли второй ларец, и соловей тут же запел.
– Но это же не искусственная, а настоящая птица! – воскликнула принцесса. – Ужасно! Пусть она улетит!
Тогда принц вымазал себе лицо черной краской, надвинул шапку на самые брови и пришел в императорский дворец.
– Не дадите ли вы мне работу? – спросил он императора.
– Много вас таких! – был ответ. – Но, пожалуй, оставайся: мне как раз нужен свинопас!
Принц поселился в жалкой каморке рядом со свинарником. К вечеру он смастерил горшочек и украсил его бубенчиками. Когда в нем варили еду, бубенчики названивали песенку. А если подержать над паром руку, можно было узнать, что любой из жителей города готовит сегодня на обед!
Однажды принцесса вместе с фрейлинами отправилась на прогулку и услышала чудесную музыку. Она даже остановилась: ведь только одну эту мелодию она и умела наигрывать на фортепиано!
– Как хорошо образован свинопас! – сказала она. – Спросите у него, сколько стоит этот инструмент!
Одна из фрейлин отправилась на задний двор.
– Сколько ты хочешь за горшочек? – спросила она свинопаса.
– Десять поцелуев принцессы! – ответил тот.
– Это невозможно! – возмутилась фрейлина.
– Дешевле не выйдет!
– Сколько он просит? – с нетерпением спросила принцесса, когда фрейлина вернулась.
– О, это ужасно! – воскликнула фрейлина.
И шепотом передала принцессе слова свинопаса.
Принцесса разгневалась, но тут опять послышался звон бубенчиков, и играли они так чудесно!
– Не возьмешь ли ты десять поцелуев моих фрейлин? – обратилась принцесса к свинопасу.
– Нет уж! – ответил свинопас. – Горшочек стоит ровно десять поцелуев принцессы!
– Невежа! – сказала принцесса. – Станьте вокруг, чтобы нас никто не увидел! – велела она фрейлинам.
Фрейлины обступили ее, свинопас получил десять поцелуев принцессы, а принцесса – горшочек.
Целый вечер и следующий день горшочек был на огне, и вскоре принцесса и фрейлины узнали, что готовится на каждой кухне города. Фрейлины прыгали от радости:
– Мы знаем, у кого сегодня суп и блинчики! Мы знаем, у кого каша и котлеты!
А свинопас тем временем смастерил трещотку, которая могла играть все танцы, какие только есть.
– Я никогда не слышала ничего лучше! – заметила принцесса, прогуливаясь по саду. – Спросите свинопаса, сколько он хочет за этот инструмент.
– Сто поцелуев принцессы! – ответил свинопас.
– Он ужасен! – сказала принцесса и пошла по дорожке прочь, но передумала.
– Хорошо! – сказала она. – Я дам ему десять поцелуев, как и вчера!
Однако свинопас не согласился.
– Сто поцелуев принцессы! – повторил он фрейлине. – Если нет – трещотка останется у меня.
И снова фрейлины обступили принцессу, а свинопас стал ее целовать.
– А это что такое возле свинарника? – спросил император, выйдя на балкон. – Что-то опять фрейлины выдумали! Не пойти ли посмотреть?
Он спустился в сад, подкрался к фрейлинам, но они считали поцелуи и поэтому его не заметили.
– Это что такое?! – закричал император, увидев, что свинопас целует принцессу. – Что за шутки?! – И швырнул в них туфлей. – Вон! – закричал он рассерженно и выгнал и дочь, и свинопаса из своей страны.
– Какая же я несчастная! – плакала принцесса.
А свинопас зашел за дерево, стер с лица черную краску, сбросил грязную одежду и шапку и появился перед принцессой.
– Ты не захотела выйти замуж за честного принца! – сказал он. – Ты не поняла, как прекрасны соловей и роза, а свинопаса целовала, чтобы получить глупые игрушки! Поделом тебе!
И он ушел в свое королевство.
Жил-был король, который больше всего на свете любил новые наряды.
Случилось так, что в город, где жил король, приехали двое мошенников. Они назвали себя ткачами и объявили, что могут соткать лучшую в мире ткань. Они говорили, что наряд, сшитый из нее, становится невидимым для любого человека, который ужасно глуп или сидит не на своем месте.
Король обрадовался и велел очень хорошо заплатить мошенникам за то, чтобы они поскорее соткали чудесную ткань.
Мошенники делали вид, что работают до поздней ночи, требовали самый тонкий шелк и чистейшее золото, но на станках у них ничего не было. Они только притворялись, что ткут несуществующие нити.
Король хотел посмотреть на их работу, но тут же испугался, что не увидит замечательной ткани. А показаться глупцом или не годящимся для своего места ему не хотелось, вот он и послал к мошенникам своего честного старого министра.
Министр пришел к мошенникам и ничегошеньки не увидел!
«Неужели я не гожусь для своего места? Неужели я глупец? – испуганно подумал он. – Нет, нельзя признаваться!»
– Как это прекрасно! – сказал старый министр.
Посылал король к мошенникам и других министров, но все они уверяли, что прекраснее ткани и искуснее мастеров никогда не видели.
Скоро весь город говорил о чудесной ткани. И вот сам король решился наконец посмотреть на нее.
На станках не было ни одной нитки, а мошенники изо всех сил делали вид, что работают!
«Неужели я не гожусь для своего места?» – испугался король.
– Как красиво! – сказал он.
И все придворные закивали головами и сказали:
– Эта ткань прекрасна, ваше величество! Сшейте из нее наряд к завтрашнему шествию!
И король удостоил каждого из мошенников звания придворного ткача.
Всю ночь мошенники делали вид, что снимают ткань со станков, режут ее ножницами, шьют иглой без нитки, и наконец сказали, что наряд готов!
– Примерьте наряд, ваше величество! – сказали мошенники.
Король разделся, и обманщики сделали вид, будто надевают на него новую одежду, застегивают камзол, поправляют мантию…
– Как вам идет! Как замечательно сидит! – в один голос сказали придворные.
А король вертелся перед зеркалом.
– Я готов к шествию, – сказал король.
Король шел во главе процессии, а люди на улицах города говорили:
– Новый наряд короля и вправду бесподобен!
Никто не хотел признаться, что ничего не видит, ведь это означало бы, что он или глупец, или сидит не на своем месте!
– А король-то голый! – крикнул вдруг какой-то ребенок.
– Послушайте-ка, что он говорит! Это говорит невинный младенец! – сказал его отец.
И от одного к другому люди стали передавать:
– Король голый! Ребенок говорит, что король голый!
– Король голый! – закричали наконец все люди.
Королю стало не по себе: ему казалось, что люди правы. Но он шел еще величавее, а камергеры несли за ним шлейф, которого не было.
Жил-был маленький Тук. Звали-то его вовсе не Туком, он сам прозвал себя так, когда еще не умел хорошенько говорить: «Тук» должно было значить на его языке «Карл». Туку приходилось нянчить свою сестренку Густаву, которая была намного меньше его, и в то же время учить уроки, а эти два дела никак не ладились одновременно. Бедняга малец держал сестрицу на коленях и пел ей песенки, пытаясь выучить задание по географии. На завтра задано было выучить все города в Зеландии и знать о них все, что только можно.
Наконец вернулась его мать, которая уходила куда-то, и взяла Густаву. Тук – живо к окну да за книгу, и читал, читал чуть не до слепоты: в комнате становилось все темнее и темнее, а матери не на что было купить свечку.
– Вон идет старая прачка, – промолвила мать, глядя в окно. – Она и сама-то еле ходит, а тут еще приходится тянуть ведро с водой. Будь хорошим мальчиком, Тук, выбеги да помоги бабушке!
Тук сейчас же выбежал и помог, но, когда вернулся в комнату, было уже совсем темно. Пришлось ему ложиться спать. Постелью Туку служила старая деревянная скамья со спинкой и с ящиком под сиденьем. Он лег, но все не переставал думать о своем уроке: о городах Зеландии и обо всем, что рассказывал о них учитель. Следовало бы ему еще раз прочесть урок, да было уже поздно, и мальчик сунул книгу себе под подушку: он слышал, что это отличное средство для того, чтобы запомнить урок, но особенно-то полагаться на него, конечно, нельзя.
И вот Тук лежал в постели и все думал, думал. Вдруг кто-то поцеловал его в глаза и в губы – он в это время и спал и как будто бы не спал, – и он увидал перед собою старушку прачку. Она ласково поглядела на него и сказала:
– Грешно было бы, если бы ты не знал завтра своего урока. Ты помог мне, теперь и я помогу тебе. Господь же не оставит тебя своею помощью никогда!
В ту же минуту страницы книжки, что лежала под головой Тука, зашелестели и стали перевертываться. Затем раздалось:
– Куд-кудах!
Это была курица, да еще из города Кёге!
– Я курица из Кёге! – И она сказала Туку, сколько в Кёге жителей, а потом рассказала про битву, которая тут происходила, – это было даже лишнее: Тук и без того знал об этом.
– Коррамба! – и что-то свалилось; это упал на постель деревянный попугай, служивший мишенью в обществе стрелков города Преете. Птица сказала мальчику, что в этом городе столько же жителей, сколько у нее рубцов на теле, и похвалилась, что Торвальдсен был одно время ее соседом. – Буме! Я славлюсь чудеснейшим местоположением!
Но маленький Тук уже не лежал в постели, а вдруг очутился верхом на жеребце, который рванул в галоп. Он сидел позади разодетого рыцаря в блестящем топхельме с развевающимся султаном. Они проехали лес и очутились в старинном городе Вордипгборге. Это был большой и оживленный город; на холме города возвышался королевский замок, в окнах которого ярко светились огни. В замке давали бал. Король Вальдемар танцевал в кругу роскошных молодых фрейлин.
Но вот настало утро, и едва взошло солнце, город с королевским замком растаял, башни исчезли одна за другой, и под конец на холме осталась всего одна башенка, а сам городок стал маленьким, бедным; школьники, спешившие в школу с книжками под мышками, говорили: «У нас в городе две тысячи жителей!» – но на самом деле и того не было.
Маленький Тук опять очутился в постели; ему казалось, что он грезит наяву; кто-то опять стоял возле него.
– Маленький Тук! Маленький Тук! – послышалось ему. Это говорил маленький морячок, как будто бы юнга, а все-таки не юнга. – Я привез тебе привет из Корсёра. Вот город с будущим! У него свои почтовые кареты и пароходы. Когда-то его считали жалким городишкой, но это мнение уже устарело. «Я лежу на море! – говорит Корсёр. – У меня есть шоссейные дороги и парк! Я произвел на свет поэта, да еще какого веселого, а ведь не все поэты веселы! Я даже собирался послать один из своих кораблей в плаванье вокруг всего земного шара!.. И как чудно я пахну, от самых городских ворот! Всюду цветут чудеснейшие розы!»
Маленький Тук взглянул на них, и в глазах у него зарябило красно-зеленым. Когда же волны красок улеглись, он увидел поросший лесом обрыв над невидимым фиордом. Над обрывом возвышался старый монастырь с высокими острыми башнями и шпилями. Вниз с журчанием сбегали струи источников. Возле источника сидел старый король; седая голова его с длинными кудрями была увенчана золотою короной. Это был король Роар, именем которого и назван был источник, а по источнику и близлежащий город Роскилле. По тропинке, ведущей к монастырю, шли держась за руки все короли и королевы Дании, увенчанные золотыми коронами. Орган играл, струйки источника вторили ему в напеве. Маленький Тук смотрел и внимал.
– Не забудь о сословиях! – сказал король Роар.
Вдруг все исчезло. Да куда же все это пропало? Словно перевернули страницу в книжке! Перед мальчиком стояла старушка полольщица, она пришла из города Соре, – там трава растет даже на площади. Она накинула на голову и на спину свой серый холщовый передник; передник был весь мокрый – должно быть, шел дождь.
– Да! – сказала она и поведала ему о забавных комедиях Хольберга, о короле Вальдемаре и епископе Абсалоне, потом вдруг вся съежилась, замотала головой, точно собираясь прыгнуть, и заквакала. – Ква! Ква! Ква! Как сыро, мокро и тихо в Соре! Ква! – Она превратилась в лягушку. – Ква! – И она опять стала женщиной. – Надо одеваться по погоде! – сказала она. – Тут сыро-сыро! Мой город похож на бутылку: войдешь в горлышко, оттуда же надо и выйти. Прежде он славился чудеснейшими рыбами, а теперь на дне «бутылки» – краснощекие юноши; они учатся тут разной премудрости: греческому, еврейскому… Ква!
Мальчику послышалось не то кваканье лягушек, не то шлепанье сапогами по болоту: все тот же самый звук, однообразный и скучный, под который Тук и заснул крепким сном, да и хорошо сделал.
Но и тут ему приснился сон, – иначе что же все это было? Голубоглазая, белокурая и кудрявая сестрица его, Густава, вдруг стала взрослою прелестною девушкой, и, хотя ни у нее, ни у него не было крыльев, они понеслись вместе по воздуху над Зеландией, над зелеными лесами и голубыми водами.
– Слышишь ты крик петуха, маленький Тук? Кукареку! Вот из бухты Кёге полетели куры! У тебя будет птичий двор, огромный-преогромный! Тебе не придется терпеть нужды! Ты, как говорится, убьешь бобра и станешь богачом, счастливым человеком! Твой дом будет возвышаться, как башня короля Вальдемара, будет богато разукрашен такими же мраморными статуями, как те, что изваяны близ Преете. Ты понимаешь меня? Твое имя облетит весь мир, как корабль, который хотели отправить из Корсёра, а в Роскилле – «Помни про сословия!» – сказал король Роар – ты будешь говорить хорошо и умно, маленький Тук! Когда же наконец сойдешь в могилу, будешь спать в ней тихо…
– Как в Соре! – добавил Тук и проснулся. Было ясное утро, он ровно ничего не помнил из своих снов, да и не нужно было – нечего заглядывать вперед.
Он вскочил с постели, взялся за книгу и живо выучил свой урок. А старая прачка просунула в дверь голову, кивнула ему и сказала:
– Спасибо за вчерашнее, голубчик! Господь да исполнит лучший твой сон.
А маленький Тук и не знал, что ему снилось, зато знает это Господь Бог!
Воротничок уже давно достиг брачного возраста, но невесты у него не было. Однажды его бросили в стирку вместе с чулочного подвязкой.
– Как вы грациозны и милы! – рассыпался в комплиментах воротничок. – С такой красотой я сталкиваюсь впервые. Давайте же знакомиться.
– Не стоит! – отрезала подвязка.
– А где вы живете?
– Я прошу вас, не нужно со мной заговаривать! – лепетала подвязка.
– Но лицезреть такую прелестницу и молчать – невозможно! – любезничал воротничок.
– Ах, вы не могли остаться в стороне? – воскликнула подвязка. – Вы ведь совсем как настоящий мужчина!
– Я еще и денди! – ввернул воротничок. – У меня сапожная подставка и гребенка имеются!
И хотя счастливым обладателем этих аксессуаров был не он, а его хозяин, воротничок бахвалиться не переставал.
– В стороночку! – направляла подвязка.
– Недотрога! – отозвался воротничок.
Тут его вынули из таза, накрахмалили, а высушив, отправили на гладильную доску, взяли горячий утюг…
– Вдовушка! – переключился воротничок на утюжную плитку. – Я весь горю от вашего прикосновения. Будьте моей женой!
– Ах ты, оборванец! – Утюжная плитка высокомерно прошлась по воротничку.
Воротничок слегка износился по краям. Ножницы были призваны подровнять их.
– Вы, уверен, известная балерина? Чудо как вытягиваете ножки! Люди вам в подметки не годятся, о несравненная! – приветствовал воротничок новый объект вожделения.
– Так и есть! – ответили ножницы.
– Вам под стать быть графиней! – разошелся воротничок. – Я могу предложить вам лишь хозяина-денди, сапожную подставку и гребенку, но как бы я хотел дать вам графство…
– Сватов засылаете?! – разгневались ножницы и изрезали его.
– Из невест осталась одна гребенка! – подытожил воротничок. – Миледи, в каком отличном состоянии ваши зубки!.. Входил ли в ваши планы законный брак?
– Еще бы! – ответила гребенка. – Я помолвлена с сапожной подставкой!
– Помолвлены? – вскипел воротничок. Лишившись последней претендентки, он презрел институт брака.
Со временем воротничок вместе с другой ветошью оказался на бумажной фабрике. Это был настоящий салон для разнотканого общества; тонкое полотно традиционно держалось в стороне от грубого. У каждой тряпки была уйма историй, не говоря уже о хвастливом воротничке.
– Сколько же у меня было невест! – нагло лгал он. – Проходу не давали, ведь подкрахмаленный я казался записным денди! В моем распоряжении были личные сапожная подставка и гребенка. О, моя первая любовь завязка: тонкая, нежная, мягкая! Бедняжка бросилась из-за меня в таз! А одну вдовушку я довел прямо-таки до точки кипения… Стоило ее бросить – и она почернела от горя! А балетная прима… она нанесла мне глубокую рану, чертовка! Моя милая гребенка так сохла по мне, что осталась без зубов! Мне действительно есть что вспомнить!.. Но ближе всего к сердцу я принял поступок подвязки, то есть завязки, бросившейся из-за меня в таз. Да, я не без греха!.. Самое время мне начать жизнь с чистого листа!
Воля его была исполнена: вся ветошь превратилась в белую бумагу, а воротничок, как записной хвастун, – в этот самый лист, на котором напечатана его биография. Как бы и нам не попасть в утиль и не превратиться в чистые листы, на котором напечатают наши истинные биографии без прикрас!
Собрался мотылек жениться. Естественно, на самом миленьком цветочке.
Он осмотрелся: цветы держались на своих стебельках скромно, как настоящие невесты. Но как выбрать из этого многообразия?
Устав ломать над этим голову, мотылек подлетел к полевой ромашке. Французы называют ее Маргаритой. Считается, что она пригодна для гадания. Так и есть. Влюбленные обрывают ее лепестки: «Любит? Не любит?»
– Матушка Маргарита, полевая ромашка! – обратился к ней мотылек. – Вы известная гадалка! Кто моя суженая?
Но ромашка сжала лепестки и ничего не сказала: будучи сама невестой, не стерпела «матушки». Мотылек так и упорхнул ни с чем с твердым намерением самому искать идеальный цветок.
Этой весной удались пролески и крокусы.
– Красивые, – похвалил мотылек, – но их красоте не хватает зрелости!
Мотылек, как и прочие отроки, предпочитал барышень постарше.
Разглядывая анемоны, он счел их горьковатыми. Фиалки показались ему не в меру сентиментальными. Тюльпаны были слишком расфранчены. Нарциссы – простушки. Липовый цвет чересчур обременен родственниками. Яблоневые цветы слишком ветрены – не для брака. Зато горошек ему приглянулся: бело-розовый, полнокровный и утонченный одновременно, он несомненно станет украшением кухни. Мотылек почти уже сделал предложение, когда заметил рядом с невестой стручок с засохшим цветком.
– Кто это? – поинтересовался мотылек.
– Моя сестра, – признался горошек.
– Значит, и вы в будущем, – сказал мотылек, и только его и видели.
Следующими на ярмарке невест были цветки жимолости. Но их удлиненные желтые лица только отпугнули жениха.
Времена года сменяли друг друга, а поиски мотылька так и не увенчались успехом. Осень подарила ему новые цветы в шикарных нарядах, но утомленное годами сердце больше льнет к весенней свежести, жадно ловит запахи юности. Этого не найти у осенних георгинов и штокроз. И мотылек остановил свой выбор на кудрявой мяте.
– Она не может похвастать цветами, но она – само благоухание.
Но мята отвергла его сватовство:
– Останемся друзьями. Мы ведь немолоды. Кто же женится на склоне лет?!
Как знать, если бы мотылек не перебирал невестами, может, и не остался бы бобылем.
Дожди и заморозки не заставили себя ждать. Поднялся промозглый ветер. Погода не для прогулок в летнем наряде. Мотылек залетел в натопленную комнату и там ждал лета. Но долго он не выдержал!
– Я жажду солнца, свободы. Я душу дьяволу продам за самый невзрачный цветок! – молвил мотылек, расправил крылья и шмякнулся об оконное стекло.
Его сразу же заметили, ахнули от восхищения и на булавке посадили в коробочку с другими диковинками.
– Отныне я сижу на стебельке, подобно цветам! – размышлял вслух мотылек. – Об этом ли я мечтал? Но есть иллюзия статуса женатого: тоже крепко сидишь.
– Жалкое утешение! – склонили головки комнатные цветы.
«Комнатным цветам доверять нельзя! – решил мотылек. – Они слишком многое переняли у людей».
В саду одной могущественной королевы были собраны цветы всех времен года, всех частей света; особенно же много было роз, любимых цветов королевы, роз всех сортов и видов – от дикого и колючего шиповника с душистыми листьями до красивейших роз Прованса. Они вились по стенам дворца, обвивая колонны и окна, пробиваясь в коридоры, и тянулись к самым потолкам дворцовых покоев. Что за дивное разнообразие запахов, форм и красок было в саду королевы!
Но в самом дворце царили печаль и горе. Королева лежала на смертном одре; врачи пророчили близкую смерть.
– Единственное средство спасти королеву, – сказал один из врачей, – принести ей прекраснейшую розу мира, эмблему чистейшей любви. Королева не умрет, если увидит эту розу до того, как закроет свои глаза навеки.
И вот все от мала до велика ринулись к смертному одру королевы с самыми разными розами, но, к сожалению, среди них не было той, которая бы даровала исцеление королеве. Та роза цвела в садах любви! Но что же именно была за эмблема высшей, чистейшей любви?
И певцы пели о прекраснейшей розе мира, но каждый пел о своей. Тогда кликнули клич по всей стране, воззвали ко всем сердцам, бьющимся любовью.
– Никто еще не назвал настоящей розы! – сказал мудрец. – Никто не указал, где она цветет. Не из гроба Ромео и Джульетты, не из могилы Вальборги выросла она, – хотя розы с их могил вечно будут дарить сладчайший аромат в преданиях и песнях, – не из окровавленных мечей Винкельрида, не из священной крови, брызнувшей из груди героя, умершего за родину свою, – хотя и нет смерти слаще этой, нет розы краснее пролитой за отечество крови! И не ей посвящает свою молодую жизнь человек, проводящий годы за годами, целые дни и долгие бессонные ночи, ухаживая за магической розой науки!
– Я знаю, где цветет та роза! – сказала счастливая мать, явившаяся к одру королевы с крошечным ребенком на руках. – Я знаю, где надо искать прекраснейшую розу мира – эмблему высшей, чистейшей любви. Она цветет на румяных щечках моего милого крошки, когда он, подкрепившись сном, открывает веселые глазки и с любовью и нежностью улыбается мне!
– Прекрасна эта роза, но есть еще прекраснее! – сказал мудрец.
– Да, куда прекраснее! – сказала одна из женщин. – Я видела ее. Священнее этой розы нет на свете, но она была бледна, как лепестки чайной розы. Я видела ее на щеках королевы; она сняла свою королевскую корону и ходила всю долгую, томительную ночь, баюкая свое больное дитя, плача над ним, целуя его и молясь за него, как только может молиться мать в часы страха за своего ребенка!
– Священна белая роза скорби, велика власть ее, но все же это не та роза!
– Я видел ее, прекраснейшую розу мира, видел перед алтарем Господним! – сказал благочестивый старик епископ. – Она сияла, как светлый лик ангела. Молодые девушки шли к причастию, возобновить обет, данный при крещении, и на их свежих щечках цвели алые и белые розы. И вот перед алтарем стояла одна молодая девушка; всею душою, полною небесной чистоты и любви, возносилась она к Богу. Вот она – чистейшая, высшая любовь!
– Благословенна такая любовь, но все же никто не назвал еще прекраснейшей розы мира! – сказал мудрец.
Вдруг в комнату вошел маленький сынок королевы; в глазах его стояли слезы, щеки были влажны; он нес в руках большую раскрытую книгу в бархатном переплете с серебряными застежками.
– Мама! – сказал ребенок. – Послушай, что я сейчас прочел!
И дитя присело у постели больной и прочло из книги о том, кто добровольно умер на кресте ради спасения всех людей, даже ради не родившихся еще поколений!
– Нет выше этой любви!
И щеки королевы окрасились румянцем, глаза широко раскрылись: она увидела, что из листов книги выросла вдруг великолепнейшая роза мира, живое подобие той, что выросла из крови Христа, пролитой на кресте!
– Я вижу ее! – сказала она. – И вовеки не умрет тот, кто видел эту розу, прекраснейшую розу мира!
Были когда-то двадцать пять оловянных солдатиков. Ружье на плече, грудь колесом, мундир красный, отвороты синие, пуговицы блестят… Чудесные солдатики! Их подарили маленькому мальчику на день рождения. Мальчик захлопал в ладоши и принялся расставлять их на столе.
Двадцать четыре были совершенно одинаковые, а двадцать пятый солдатик оказался одноногим. Его отливали последним, и олова немного не хватило. Впрочем, он и на одной ноге стоял так же твердо, как другие на двух.
На столе было много игрушек. Но лучше всех был картонный дворец. Через его окошки можно было заглянуть внутрь и увидеть все комнаты. Перед дворцом лежало круглое зеркальце – оно было как настоящее озеро, и вокруг него стояли маленькие зеленые деревья. По озеру плавали восковые лебеди.
Самой красивой была хозяйка дворца. Она тоже была вырезана из картона. На ней была батистовая юбочка, голубой шарф, а на груди – блестящая брошка.
Красавица стояла на одной ножке, вытянув вперед руки, – она была танцовщицей. Другую ножку она подняла так высоко, что оловянный солдатик решил, будто красавица тоже одноногая.
«Вот бы мне такую жену!» – подумал он и притаился за табакеркой, стоявшей на столе.
Отсюда солдатик отлично видел прелестную танцовщицу, которая все время стояла на одной ножке и ни разу даже не покачнулась!
Ночью, когда все люди легли спать и в доме стало тихо, игрушки устроили бал. Даже щелкунчик принялся кувыркаться, а грифель танцевал на доске, оставляя на ней белые следы! Поднялся такой шум, что в клетке проснулась канарейка и начала болтать на своем языке так быстро, как только могла, да еще и стихами.
Только одноногий солдатик и танцовщица не двигались.
Она стояла на одной ножке, а он застыл с ружьем, как часовой, и не сводил с красавицы глаз.
Пробило двенадцать. И вдруг открылась табакерка.
В этой табакерке сидел маленький злой тролль. Он выскочил из табакерки и огляделся кругом.
– Эй ты! – крикнул тролль оловянному солдатику. – Танцовщица слишком хороша для тебя!
Но оловянный солдатик притворился, будто ничего не слышит.
– Ладно, ты меня еще вспомнишь! – сказал тролль.
Утром, когда дети проснулись, они нашли одноногого солдатика за табакеркой и поставили его на окно.
Вдруг окно распахнулось, и солдатик полетел с третьего этажа вниз головой. В ушах у него засвистело. Минуты не прошло – и он уже торчал из земли вверх ногой. Мальчик и служанка сейчас же бросились искать солдатика, но сколько ни шарили по земле, так и не нашли. Конечно, если бы солдатик крикнул: «Я тут!» – его бы сразу отыскали. Но он считал недостойным кричать на улице – ведь он носил мундир и был солдатом.
И тут хлынул ливень! По улице расползлись широкие лужи, потекли быстрые ручьи. А когда наконец дождь кончился, прибежали двое уличных мальчишек.
– Смотри, – сказал один из них, – это оловянный солдатик!.. Давай отправим его в плавание!
Они сделали из газеты лодочку, посадили в нее оловянного солдатика и спустили в канавку.
Лодочка поплыла, а мальчики бежали рядом, подпрыгивая и хлопая в ладоши.
Вода в канаве так и бурлила после ливня! Лодочка то ныряла, то взлетала на волну, то ее кружило, то несло течением.
Оловянный солдатик весь дрожал, но держался стойко, как и положено настоящему солдату.
Лодочку занесло под широкий мост, и стало очень темно.
И тут из-под моста выскочила большая водяная крыса.
– Ты кто такой? – закричала она. – Предъяви паспорт!
Но оловянный солдатик молчал и крепко сжимал ружье. Крыса плыла за ним вдогонку. Она свирепо щелкала зубами и кричала плывущим навстречу щепкам и соломинкам:
– Держите его! У него нет паспорта!
И она изо всех сил загребала лапами, чтобы догнать солдатика. Но лодку несло так быстро, что даже крыса не могла угнаться за ней. Наконец оловянный солдатик увидел впереди свет. Мост кончился.
«Я спасен!» – подумал солдатик.
Но тут послышался такой грохот, что любой бы испугался. За мостом вода с шумом падала вниз – прямо в широкий бурный канал!
Остановиться было невозможно. Лодку с оловянным солдатиком вынесло в канал. Волны бросали ее то вверх, то вниз, но солдатик по-прежнему держался храбро и даже глазом не моргнул.
Вдруг лодочка завертелась на месте, зачерпнула воду бортом и скоро наполнилась водой до самых краев.
И наконец вода накрыла солдатика с головой.
Погружаясь на дно, он с грустью подумал о красавице танцовщице. Не придется увидеть ее больше никогда!
Он приготовился достойно встретить смерть.
Но тут откуда ни возьмись из воды вынырнула большая рыба и проглотила солдатика вместе с ружьем.
Темно было в желудке у рыбы, темнее, чем под мостом! Но оловянный солдатик держался стойко и еще крепче сжал ружье. Так он пролежал довольно долго.
Вдруг рыба заметалась из стороны в сторону, стала нырять, извиваться, прыгать и наконец замерла.
И вдруг словно молния блеснула в темноте.
Потом стало совсем светло, и кто-то закричал:
– Вот так штука! Оловянный солдатик!
Оказывается, рыбу поймали, отвезли на рынок, потом она попала на кухню. Кухарка распорола ей брюхо, увидела оловянного солдатика и понесла его в комнату.
Весь дом сбежался посмотреть на путешественника. Солдатика поставили на стол, и – о чудо! – он увидел ту же комнату, того же мальчика… На столе все так же возвышался картонный дворец, на пороге которого стояла красавица танцовщица…
Оловянный солдатик, не мигая, смотрел на танцовщицу, танцовщица смотрела на него, и оба молчали.
Вдруг самый маленький мальчик схватил его и ни с того ни с сего швырнул прямо в камин. Наверно, это были козни злого тролля из табакерки.
В камине пылали дрова, и оловянному солдатику стало очень жарко. Он чувствовал, что горит. Краска сбежала с его лица, он весь полинял…
Но и в огне он держался прямо, крепко сжимал ружье и не сводил глаз со своей красавицы. А танцовщица смотрела на него. Солдатик чувствовал, что тает…
Дверь в комнату распахнулась, сквозняк подхватил прекрасную танцовщицу, и она порхнула прямо в камин к оловянному солдатику. Пламя охватило ее – и конец. И оловянный солдатик совсем расплавился.
На другой день служанка выгребала из камина золу и нашла комочек олова, похожий на сердечко, и обгорелую брошку.
Вот и все, что осталось от стойкого оловянного солдатика и красавицы танцовщицы.
В Никее, моем родном городе, жил человек по имени Маленький Мук. Его рост составлял всего каких-нибудь три, может, четыре фута, и на его туловище, хотя оно было маленькое и хрупкое, сидела голова куда более крупная, чем у прочих людей. Он жил совершенно один в большом доме. Выходил он только раз в месяц. По вечерам часто видели, как он прогуливается по своей крыше. Каждый выход Маленького Мука был для меня и моих товарищей праздником. Мы собирались перед его домом и ждали, когда он появится. Когда отворялась дверь и показывалась большая голова с еще большим тюрбаном, а уж затем остальная фигурка, облаченная в потертый халатик, просторные шаровары и широкий пояс, на котором висел длинный кинжал, мы бросали вверх шапки и плясали вокруг него как бешеные. А Маленький Мук степенно кивал нам головой в знак приветствия и шел по улице медленным шагом. При этом он шаркал ногами, так как у него были большие, просторные туфли, каких я еще никогда не видел. Мы, мальчишки, всегда бежали за ним и кричали: «Клопик Мук, клопик Мук!»
К стыду своему, должен признаться, что я безобразничал больше других. Я часто дергал его за халатик, а однажды наступил сзади на его большие туфли, так что он даже упал. Но мне стало не до смеха, когда я увидел, что Маленький Мук направился к дому моего отца. Он пробыл там некоторое время. Я притаился за дверью и увидел, как Мук вышел из дому в сопровождении моего отца, который почтительно поддерживал его за руку и простился с ним у двери со множеством поклонов. На душе у меня было неспокойно. Поэтому я долго оставался в своем укрытии. Наконец голод, которого я боялся больше побоев, заставил меня выйти оттуда.
– Ты, я слышал, обидел доброго Мука? – сказал отец очень строго. – Я расскажу тебе историю этого Мука, и ты наверняка больше не будешь издеваться над ним. Но сперва и потом ты получишь обычную порцию.
Обычную же порцию составляли двадцать пять ударов. Отсчитав их, отец рассказал мне о Маленьком Муке.
Отец Маленького Мука был здесь, в Никее, человеком уважаемым, но бедным. Сына он недолюбливал, стыдясь его внешности.
Но однажды старик упал, расшибся и умер, оставив Маленького Мука в бедности и невежестве. Жестокие родственники, которым умерший был должен больше, чем смог заплатить, выгнали мальчика из дома. Маленький Мук попросил лишь платье своего отца, и оно было ему отдано. Отец его был рослый, сильный человек, поэтому его одежды не пришлись впору. Мук обрезал то, что было чересчур длинно, и все надел на себя. Но он забыл, что одежды надо и сузить, и отсюда-то и странность его наряда. Большой тюрбан, широкий пояс, просторные шаровары, синий халатик – все это отцовские вещи, которые он с тех пор и носит. Заткнув за пояс дамасский кинжал отца и взяв палку, он вышел из ворот.
Если он видел на земле блестевшее на солнце стеклышко, он непременно подбирал его, веря, что оно превратится в алмаз. Если он видел вдали сверкавший купол мечети или озеро, он спешил к ним, думая, что очутился в волшебной стране. Но вблизи миражи исчезали, и скоро его усталость и урчащий от голода желудок напоминали ему, что он все еще находится в стране смертных. Так шел он два дня. Полевые плоды были его единственной пищей, жесткая земля – постелью. На третье утро он увидел с холма большой город. Но хотя казалось, что город совсем близко, он достиг его только к полудню. Его маленькие ножки почти вовсе отказывались служить ему, и он часто присаживался в тени пальмы, чтобы отдохнуть. Наконец он добрался до ворот города. Он поправил халатик, повязал покрасивей тюрбан, опоясался еще шире и заткнул за кушак длинный кинжал еще более косо. Затем он стряхнул пыль с башмаков, взял свою палочку и храбро вошел в ворота. Он прошагал уже несколько улиц. Но ни одна дверь не отворялась, никто не кричал, как он это представлял себе: «Маленький Мук, входи, ешь и пей и дай отдохнуть своим ножкам!»
Он с тоской глядел не на первый уже большой и красивый дом, как вдруг одно его окно распахнулось и какая-то старуха, выглянув, нараспев закричала:
– Каша поспела!
Дверь дома открылась, и Мук увидел, что туда направилось много собак и кошек. Он постоял, не зная, принять ли ему это приглашение. Наконец он собрался с духом и вошел в дом.
Поднявшись по лестнице, Мук встретил старуху. Она угрюмо посмотрела на него и спросила, что ему нужно.
– Ты ведь приглашала всех на свою кашу, – отвечал Маленький Мук, – и я тоже пришел.
Старуха громко засмеялась.
– Откуда ты явился? Весь город знает, что я стряпаю только для кошек.
Маленький Мук рассказал ей, как туго пришлось ему после смерти отца, и попросил разрешить ему поесть сегодня с ее кошками. Старуха позволила ему быть ее гостем, накормила и напоила его. Когда он насытился, она сказала:
– Маленький Мук, оставайся служить у меня! Работа будет нетрудная, а житье хорошее.
Маленький Мук согласился и стал работником госпожи Ахавзи. Служба у него была легкая, но странная. У госпожи Ахавзи было два кота и четыре кошки. Каждое утро Маленький Мук должен был расчесывать им шерсть и умащать ее дорогими мазями. Когда хозяйка уходила из дому, он должен был присматривать за кошками и несколькими собачками. Мук вел такую же одинокую жизнь, как в доме отца. Кроме хозяйки, он весь день видел только собак и кошек. Он был всегда сыт и не перетруждался, и старуха была вполне довольна. Но постепенно кошки стали озорничать. Когда старуха уходила из дому, они как бешеные носились по комнатам, опрокидывали все вверх дном и разбивали порой прекрасную посуду, которая оказывалась у них на пути. Но, услыхав, что хозяйка поднимается по лестнице, они забирались на свои подстилки и размахивали хвостами, приветствуя ее как ни в чем не бывало. Госпожа Ахавзи приходила в гнев, видя такой разгром в своих комнатах, и сваливала все на Мука.
Маленький Мук был очень огорчен и решил бросить службу у госпожи Ахавзи. Но он решил каким-нибудь способом получить жалованье, которое его повелительница всегда обещала, но никогда не платила. В доме госпожи Ахавзи была одна комната, всегда стоявшая запертой, куда он ни разу не заглядывал. Но ему очень хотелось узнать, что она там прячет. И ему пришло в голову, что там спрятаны сокровища старухи.
Как-то утром, когда госпожа Ахавзи ушла из дому, один из песиков, с которым хозяйка всегда обращалась очень неласково, но расположение которого Мук завоевал всяческими услугами, потянул его за широкую штанину, как бы приглашая Мука следовать за собой. Мук последовал за ним, и песик повел его в спальню госпожи Ахавзи, к маленькой двери, которой Мук никогда прежде не замечал там. Дверь была полуоткрыта. Песик вошел в нее, и Мук следом, и каково же было его удивление, когда он увидел, что находится в той комнате, которая давно уже была предметом его желаний. Кругом были только старые платья да сосуды диковинной формы. Один из этих сосудов был хрустальный, и на нем были вырезаны прекрасные фигуры. Мук поднял его и повертел во все стороны. Но он не заметил крышки, едва державшейся сверху. Крышка упала и разбилась на тысячу осколков.
Долго стоял Маленький Мук, оцепенев от ужаса. Теперь ничего не оставалось, как пуститься наутек. Тут взгляд его упал на пару очень больших туфель. Красивыми их нельзя было назвать, но его собственные уже не выдержали бы никаких путешествий. Кроме того, туфли эти привлекали его своим размером: надень он их на ноги, все сразу увидели бы, что он вышел из детского возраста. Поэтому он быстро снял свои туфельки и обулся в большие, прихватил тросточку с красивым резным набалдашником в виде львиной головы и поспешил прочь. Он быстро прошел в свою каморку, надел свой халатик, отцовский тюрбан, засунул за кушак кинжал и помчался прочь.
Никогда в жизни он не бегал так быстро, и ему показалось даже, что он просто не может остановиться. Его несла, казалось, какая-то невидимая сила. Наконец он заметил, что с туфлями творится что-то странное: они все время стремились вперед и тащили его с собой. Он пытался остановиться, но это никак не удавалось. Тогда в отчаянии он крикнул самому себе, как кричал лошадям:
– Эй, эй, тпру, эй!
И тут туфли остановились, и Мук в изнеможении повалился на землю. Все-таки он нажил своим трудом что-то, что могло помочь ему в мире, в поисках счастья. Он уснул от усталости. Ему приснился песик и сказал: «Мук, ты еще не совсем разобрался в том, как пользоваться этими туфлями. Если ты в них трижды повернешься на каблуке, ты сможешь полететь куда тебе вздумается, а тросточкой можно находить клады. Где зарыто золото, тросточка ударит о землю трижды, а где серебро – дважды».
Проснувшись, Мук надел туфли, приподнял одну ногу и начал вертеться на каблуке. Он пожелал очутиться в ближайшем большом городе, и тотчас же туфли взмыли вверх, и не успел Маленький Мук опомниться, как очутился на большой рыночной площади. Он потолкался в толпе, но вскоре подался в более тихую улицу. Ведь на рынке одни наступали ему на туфли, а других он задевал своим кинжалом.
Маленький Мук задумался, как заработать немного денег. У него, правда, была тросточка, указывавшая на спрятанные сокровища, но как мог он сразу найти место, где зарыты золото или серебро? Наконец он решил наняться к королю скороходом. В воротах дворца стояла стража. Когда он сказал, что ищет службы, его направили к надсмотрщику над рабами. Мук попросил себе места среди королевских гонцов. Надсмотрщик смерил его глазами с головы до ног и сказал:
– Это с твоими-то ножками, которые чуть ли не короче пяди, ты хочешь стать королевским скороходом? Убирайся прочь!
Маленький Мук заверил его, что не шутит, и согласился потягаться с самым быстрым гонцом.
Надсмотрщику это показалось забавным. Он отвел Мука на кухню, чтобы его как следует накормили и напоили, а сам отправился к королю и рассказал ему о Маленьком Муке. Королю пришлось по душе, что надсмотрщик задержал Маленького Мука потехи ради. Он приказал надсмотрщику приготовить все на большой лужайке за дворцом таким образом, чтобы весь двор мог с удобством наблюдать за этим состязанием, и еще раз наказал ему окружить карлика величайшей заботой.
Когда король, его сыновья и дочери, а также все слуги и придворные заняли места на помосте вокруг лужайки, где должно было проводиться состязание, Маленький Мук отвесил изящный поклон. Крошечное туловище с могучей головой, халатик и широкие шаровары, длинный кинжал за широким поясом, маленькие ножки в просторных туфлях – нет, все это было слишком забавно, чтобы не расхохотаться! Но хохот не обескуражил Маленького Мука. Он принял гордую позу и стал ждать своего противника. Надсмотрщик выбрал, как того пожелал Мук, самого лучшего бегуна. И вот этот бегун вышел, стал рядом с карликом, и оба замерли в ожидании знака. Тогда принцесса Амарза взмахнула покрывалом, и оба бегуна полетели вперед.
Сперва противник Мука заметно ушел вперед. Но, пустившись за ним в своих самоходных туфлях, Мук догнал его, потом перегнал и давно уже стоял у цели, когда тот только подбегал к ней, тяжело дыша. На миг зрители оцепенели от неожиданности и удивления. Но когда король первым захлопал в ладоши, все стали кричать:
– Да здравствует Маленький Мук!
– Ты станешь моим личным скороходом и находиться будешь всегда при моей особе, дорогой Мук, – сказал король.
Король поручал ему самые срочные и самые тайные послания. Но слугам короля было неприятно, что к какому-то карлику их повелитель благоволил теперь больше, чем к ним. Поэтому они строили козни, чтобы его свалить. Мук знал об их происках, но о мести не помышлял.
Мук всегда брал с собой свою тросточку, надеясь найти золото. Как-то вечером в отдаленной части дворцового сада он вдруг почувствовал, что тросточка в его руке задрожала и трижды ударилась о землю. Он вытащил кинжал, сделал зарубки на ближайших деревьях и вернулся во дворец. Мук дождался ночи и принялся за дело. Он вырыл яму глубиной в несколько футов и наткнулся на что-то твердое, а вскоре увидел большую железную крышку. В яме был большой горшок с золотыми монетами! Но поднять горшок у Мука не хватило сил. Поэтому он насовал в шаровары, халатик и пояс столько монет, сколько мог донести, а остальное закрыл крышкой. Незаметно пробравшись к себе в комнату, он спрятал золото под подушками дивана.
Золото, которое Маленький Мук отныне раздавал налево и направо, вызвало зависть. Его враги сговорились между собой и заронили в короле подозрение, что Мук украл деньги из казны. Король велел тайно следить за каждым шагом Маленького Мука, чтобы застичь его на месте преступления. И когда однажды Маленький Мук схватил лопату и шмыгнул в дворцовый сад, чтобы взять там новый запас золота, за ним последовали караульщики во главе с главным поваром и казначеем, и, когда он стал перекладывать золото из горшка в свой халатик, они набросились на него, связали и отвели к королю. Горшок был целиком выкопан из земли и вместе с лопатой и полным золота халатиком принесен к ногам короля. Казначей доложил, что он со своими караульщиками застал Мука врасплох, когда тот зарывал в землю этот горшок.
Маленький Мук сказал, что нашел этот горшок в саду и что он его не закапывал, а откапывал. Король, разгневанный его мнимой наглостью, вскричал:
– Ты глупо и гнусно лжешь своему королю, после того как его обокрал?
Король велел заковать Маленького Мука и отвести в башню.
Маленький Мук знал, что кража королевского добра карается смертной казнью, и все-таки не хотел выдавать королю тайну своей тросточки, боясь, что ее отнимут у него вместе с туфлями. От туфель его, к сожалению, помощи не было: прикованный к стене короткими цепями, он, сколько ни мучился, никак не мог повернуться на каблуке. Но когда ему на следующий день объявили смертный приговор, он, решив все-таки, что лучше жить без волшебной палочки, чем умереть с нею, попросил, чтобы король выслушал его без свидетелей, и открыл ему свою тайну. Сначала король не поверил, но Маленький Мук вызвался проделать опыт, если король пообещает ему, что его не убьют. Король дал Муку честное слово и, велев тайком от него зарыть немного золота, приказал ему поискать зарытое своей тросточкой. Через несколько мгновений тросточка явственно трижды ударилась о землю. Теперь король понял, что его казначей обманщик, но Маленькому Муку сказал:
– Я обещал сохранить тебе жизнь, но ты владеешь не только этой тайной. Поэтому ты останешься в вечном заточении, если не признаешься, в чем тайна твоего быстрого бега.
И Маленький Мук признался, что все его искусство заключено в туфлях, но не открыл тайны поворотов на каблуке. Король сам обул туфли и стал как безумный носиться по саду. Он не знал, как остановить туфли, и Маленький Мук, который не мог отказать себе в этой маленькой мести, предоставил королю бегать, пока тот не упал в обморок.
Когда король пришел в себя, он был страшно зол на Маленького Мука.
– Я дал слово даровать тебе свободу и жизнь. Но в течение двенадцати часов ты должен покинуть мою страну, иначе я велю повесить тебя!
А туфли и посошок король приказал отправить в свою сокровищницу.
Страна, откуда выгнали Мука, была, к счастью, невелика. Поэтому он скоро оказался на границе, хотя без волшебных туфель идти ему было очень несладко.
В густом лесу он набрел на прозрачный ручей, защищенный большими тенистыми смоковницами. Превосходные спелые смоквы висели на деревьях. Мук влез на дерево, чтобы сорвать несколько штук, с удовольствием поел, а потом спустился к ручью, чтобы утолить жажду. Но вода показала ему его голову украшенной двумя огромными ушами и толстым, длинным носом!
Он стал бродить под деревьями и, когда снова проголодался, вынужден был опять есть смоквы, так как больше ничего съедобного не было, и почувствовал, что его уши исчезли. Он побежал к ручью – и правда, уши его приняли прежний вид, а длинного безобразного носа как не бывало. Но теперь он заметил, как это получилось: от первой смоковницы он получил длинные нос и уши, а вторая исцелила его. Он сорвал с каждого дерева столько плодов, сколько мог унести, и отправился обратно в страну, которую недавно покинул. Там он, переодевшись, изменил до неузнаваемости свою внешность, а затем пошел дальше в город, где жил король.
Маленький Мук уселся под воротами дворца: он знал, что здесь такие редкие лакомства покупает для королевского стола главный повар. Недолго посидев, Мук увидел, как через двор к воротам шагает главный повар. Тот стал осматривать товары торговцев, собравшихся у ворот дворца. Наконец его взгляд упал на корзиночку Мука.
– Сколько хочешь за всю корзинку? – спросил он.
Маленький Мук назвал умеренную цену, и они вскоре пришли к согласию. Главный повар передал корзинку рабу и пошел дальше. Маленький же Мук поскорей улизнул.
Король пребывал за едой в очень веселом настроении и то и дело восхвалял своего главного повара за его славную кухню и за старательность, с какой тот всегда отыскивает для него самое редкое. А когда повар велел подать прекрасные смоквы, из уст присутствующих вырвалось одно общее «ах!».
– Какие спелые, какие аппетитные! – воскликнул король.
С этими словами король собственноручно распределил смоквы между обедавшими. Каждый принц и каждая принцесса получили по две, придворные дамы и визири – по одной, а остальные смоквы он поставил перед собой и принялся поглощать их в свое удовольствие.
– Боже мой, какой у тебя чудной вид, отец! – воскликнула вдруг принцесса Амарза.
Все удивленно взглянули на короля. С головы у него свисали огромные уши, а предлинный нос спускался ниже подбородка. Да и все присутствующие были украшены таким странным убранством.
Тотчас же послали за всеми врачами города. Они пришли толпой, назначили таблетки и микстуры. Но уши и носы не исчезали.
Услышав эту историю, Мук решил, что пора действовать. На деньги, вырученные за смоквы, он приобрел себе одежду, которая могла выдать его за ученого, и приклеил длинную бороду из козьей шерсти. Он явился во дворец и, назвавшись чужеземным врачом, предложил свою помощь. Маленький Мук дал одному из принцев съесть смокву и тем самым вернул его уши и нос в прежнее состояние. Тогда король отвел его в сокровищницу.
– Вот мои сокровища, – сказал король, – выбери себе что угодно, только избавь от напасти.
Войдя, Маленький Мук сразу увидел, что на полу стоят его туфли, а рядом с ними лежит тросточка. Он стал обходить зал, делая вид, что любуется сокровищами. Но как только он дошел до своих туфель, он поспешно сунул в них ноги, схватил свою тросточку и сорвал с себя накладную бороду.
– Вероломный король, – сказал он, – ты отплатил неблагодарностью за верную службу, так будет тебе наказанием уродливый облик. Я оставляю тебя с этими ушами, чтобы они каждый день напоминали тебе о Маленьком Муке.
Сказав это, он быстро повернулся на каблуке, пожелал унестись далеко-далеко, и, прежде чем король успел позвать на помощь, Маленького Мука и след простыл.
С тех пор Маленький Мук живет в большом достатке, но одиноко. Он стал мудрым человеком, который, несмотря на несколько странную внешность, заслуживает восхищения.
Вот что рассказал мне мой отец. Я выразил ему свое раскаяние, и отец освободил меня от второй половины назначенного мне наказания. Я рассказал своим товарищам о чудесных приключениях карлика, и мы так полюбили его, что никому уже и в голову не приходило его дразнить.
Однажды багдадского калифа Хасида посетил великий визирь Манзор. Вид у него был очень задумчивый.
– Почему у тебя такое задумчивое лицо, великий визирь? – спросил калиф.
Великий визирь скрестил на груди руки, поклонился своему повелителю и ответил:
– Не знаю, задумчивое ли у меня лицо, но там, внизу у дворца, стоит мелочной торговец, и у него такие чудесные вещи, что мне досадно: отчего у меня столь мало лишних денег!
Калиф, давно уже хотевший порадовать своего великого визиря, послал раба за торговцем. Тот принес ларь со всяческими товарами. Калиф купил себе и Манзору пистолеты, а жене визиря гребень. Когда торговец уже закрывал свой ларь, калиф увидел выдвижной ящичек и спросил, нет ли там еще какого-нибудь товара. Торговец выдвинул ящик и извлек оттуда коробочку с черноватым порошком и листок бумаги со странными письменами.
– Мне досталось это от одного купца, который нашел их в Мекке на улице, – сказал торговец. – Не знаю, что в них таится.
Калиф, охотно приобретавший для своей библиотеки старинные рукописи, купил грамотку и коробочку и спросил визиря, не знает ли тот кого-нибудь, кто мог бы разобрать, что здесь написано.
– У мечети живет Селим, он знает все языки, – отвечал визирь.
И Селим был вскоре доставлен.
– Селим, – сказал ему калиф, – говорят, что ты человек очень ученый. Взгляни-ка на эту грамотку. Если сумеешь прочесть ее, то получишь от меня новую праздничную одежду, а если нет – двенадцать оплеух и двадцать пять ударов по пяткам.
Селим поклонился и долго разглядывал грамотку. Вдруг он воскликнул:
– Это по-латыни, о повелитель, пусть меня повесят, если я ошибаюсь!
– Скажи, что там написано, – приказал калиф.
Селим принялся переводить:
– «Кто понюхает порошок из этой коробочки и произнесет слово «мутабор», тот превратится в любое животное и будет понимать язык животных. А если он пожелает вернуть себе человеческий облик, пусть трижды поклонится на восток и произнесет это же слово! Но если рассмеешься, то забудешь волшебное слово и навеки останешься животным».
Калиф обрадовался и велел Селиму поклясться, что никому ничего не скажет об этой тайне, подарил ему прекрасную одежду и отпустил его. А своему великому визирю сказал:
– Мне не терпится превратиться в животное! Приходи ко мне завтра с утра пораньше! Мы пойдем вместе в поле и послушаем, что говорят звери!
На следующее утро калиф приказал своей свите остаться во дворце и отправился с великим визирем на прогулку. У пруда они увидели аиста, он искал лягушек, а другой как раз подлетал к этому месту.
– Я отдам свою бороду, – сказал великий визирь, – если эти две птицы не поведут между собой любопытного разговора. Уж не стать ли нам аистами?
– Согласен! – отвечал калиф.
Калиф вынул из-за пояса коробочку, понюхал, протянул ее визирю, и оба воскликнули:
– Мутабор!
Ноги их сморщились и стали тонкими и красными, туфли превратились в лапки, руки – в крылья, шея стала в локоть длиной, борода исчезла, а тело покрыли перья.
– Славный у вас клюв, господин великий визирь, – сказал калиф.
– Покорнейше благодарю, – отвечал великий визирь, – но осмелюсь заметить, что в виде аиста ваше величество чуть ли не еще прекраснее, чем в виде калифа.
Тем временем второй аист почистил клювом лапы, пригладил перья и подошел к первому. А оба новых аиста – калиф и визирь – услышали такой разговор.
– Доброе утро, госпожа Длинные ноги, в такую рань уже на лугу?
– Благодарю вас, дорогая Острый клюв! Я устроила себе легкий завтрак. Не угодно ли вам четвертушки ящерицы?
– Покорнейше благодарю. Сегодня у меня нет аппетита. Я пришла на луг совсем по другому делу. Сегодня мне предстоит танцевать перед гостями отца, и я хочу немножко поупражняться.
И молодая аистиха зашагала по полю, выделывая диковинные колена. Калиф и Манзор изумленно глядели ей вслед. А когда она стала на одну ногу и изящно помахала при этом крыльями, оба не смогли совладать с собой: безудержный хохот вырвался из их клювов. Первым пришел в себя калиф.
– Такая потеха, – воскликнул он, – дороже всякого золота!
Но тут великий визирь вспомнил, что смеяться запрещено.
– Ах, как было бы скверно остаться аистом! – воскликнул калиф. – Это дурацкое слово вылетело у меня из головы.
– Нам нужно трижды поклониться на восток и произнести при этом…
Они повернулись к востоку и принялись кланяться. Но волшебного слова они не помнили…
Заколдованные калиф и визирь понятия не имели, как помочь своей беде. Избавиться от обличья аистов они не могли, вернуться в город не могли тоже; ведь кто поверил бы аисту, что он калиф? А если бы кто и поверил, то разве захотели бы жители Багдада, чтобы калифом у них был аист?
Так они слонялись много дней, скудно кормясь полевыми плодами, которые им, впрочем, из-за их длинных клювов было неудобно употреблять в пищу. Ящерицы же и лягушки не возбуждали у них аппетита, ибо они боялись испортить себе желудок такими лакомствами. Единственное удовольствие в этом печальном положении доставляла им возможность летать, и они часто летали на крыши Багдада, чтобы поглядеть, что там делается.
В первые дни они замечали большое беспокойство и уныние на улицах. Но день этак на четвертый после своего превращения они сели на дворец калифа, и тут они увидели внизу на улице пышное шествие. Гремели барабаны и трубы, человек в златотканом ярко-красном халате, окруженный блестящими слугами, восседал на разукрашенном коне. ПолБагдада бежало следом за ним, и все кричали: «Да здравствует Мицра, владыка Багдада!»
Тут аисты на крыше дворца переглянулись, и калиф Хасид сказал:
– Ты теперь догадался, почему меня заколдовали, великий визирь. Этот Мицра – сын моего смертельного врага, могучего волшебника Кашнура. Но я еще не теряю надежды. Мы отправимся к могиле пророка. Быть может, в священном месте чары спадут.
Они полетели в сторону Медины.
– О повелитель, – заохал через несколько часов великий визирь, – я долго не выдержу… Вы слишком быстро летите! И нужно где-то заночевать!
Калиф увидел внизу какие-то развалины, и они полетели туда. Место это было, по-видимому, когда-то дворцом. Калиф и визирь стали обходить галереи в поисках сухого местечка.
– Владыка и повелитель, – прошептал аист Манзор, – здесь рядом ясно слышны вздохи и стоны.
Калиф остановился и услышал тихий плач, наводивший на мысль скорее о человеке, чем о животном. Хасид хотел пойти туда, откуда доносились эти жалобные звуки. Но визирь схватил его клювом за крыло и стал умолять не пускаться в новые, неведомые и опасные приключения. Калиф, в чьей груди билось храброе сердце, вырвался и поспешил в темный проход. Вскоре он достиг двери, которая показалась незапертой. Он клювом распахнул дверь, но остановился на пороге. Он увидел на полу большую ночную сову. Густые слезы катились из ее круглых глаз. Но, увидав калифа и визиря, она вытерла слезы крылом и воскликнула на арабском языке:
– Добро пожаловать, аисты! Когда-то мне было предсказано, что благодаря аистам я обрету великое счастье!
Калиф склонил длинную шею и сказал:
– Ночная сова! Судя по твоим словам, ты наша подруга по несчастью. Но увы! Твоя надежда спастись благодаря нам напрасна. Ты сама признаешь нашу беспомощность, если услышишь нашу историю.
Сова попросила рассказать ее.
Когда калиф изложил свою историю сове, та поблагодарила его и сказала:
– Послушай и ты мою историю. Мой отец – царь Индии, меня, его единственную дочь, зовут Луза. Тот самый волшебник Кашнур, который заколдовал вас, явился некогда к моему отцу и потребовал отдать меня в жены его сыну Мицре. Но мой отец, человек вспыльчивый, велел спустить его с лестницы. Этот негодяй умудрился пробраться ко мне снова, и однажды, когда я в своем саду пожелала освежиться прохладительными напитками, он, переодетый рабом, поднес мне питье, которое превратило меня в эту мерзкую птицу. Когда я от ужаса лишилась сознания, он доставил меня сюда и страшным голосом крикнул: «Безобразная, отвратительная даже животным, ты останешься здесь до самого своего конца или до тех пор, пока кто-нибудь по доброй воле не пожелает взять тебя в жены даже в этом страшном обличье. Так отомщу я тебе и твоему гордому отцу». С тех пор одиноко и грустно живу я затворницей в этих развалинах, ненавистная миру, омерзительная даже животным. Днем я слепа, и только когда луна льет свой свет на эти развалины, с глаз моих спадает темная пелена.
– Если я не ошибаюсь, – сказал калиф, – между нашими бедами имеется тайная связь. Но где мне найти ключ к этой загадке?
– Пожалуй, я знаю, как нам спастись, – ответила сова. – Кашнур раз в месяц посещает эти развалины. Неподалеку отсюда есть зал, где он пирует со своими товарищами. Они рассказывают друг другу о своих гнусных делах. Может, тут-то он и произнесет волшебное слово, которое вы забыли.
– Скажи, когда он явится и где этот зал! – воскликнул калиф.
Помолчав, сова сказала:
– Не сердитесь, но ваше желание я могу выполнить лишь при одном условии.
– Говори! – вскричал Хасид. – Я согласен на любое условие!
– Я тоже хочу освободиться. А это возможно только в том случае, если один из вас предложит мне стать его женой.
Это условие несколько смутило аистов, и калиф сделал знак визирю выйти с ним на минутку.
– Великий визирь, – сказал калиф за дверью, – вы могли бы и жениться.
– Чтобы моя жена, когда я вернусь домой, выцарапала мне глаза? – ответил тот. – К тому же я человек старый, а вы еще молоды и не женаты, и можете предложить руку юной прекрасной принцессе.
– Кто тебе сказал, что она молода и прекрасна? – вздохнул калиф.
Они еще долго уговаривали друг друга. Наконец, убедившись, что визирь скорее останется аистом, чем женится на сове, калиф решил сделать это сам. Сова обрадовалась и призналась им, что они пришли как раз вовремя, потому что волшебники соберутся в эту же ночь.
Вместе с аистами она покинула свое помещение. Они долго шли по темному проходу. Наконец в полуразрушенной стене засиял свет. Через пролом был хорошо виден большой зал, украшенный колоннами и великолепно убранный. Множество ламп заменяло дневной свет. Посреди зала стоял круглый стол, уставленный изысканными кушаньями. Вокруг стола тянулся диван, на котором сидело восемь мужчин. В одном из них аисты узнали торговца, который продал им волшебный порошок. Он рассказывал историю калифа и его визиря.
– Какое же слово ты задал им? – спросил его другой волшебник.
– Это очень трудное латинское слово – «мутабор».
Услышав это, аисты так быстро побежали на своих длинных ногах к воротам разрушенного дворца, что сова еле поспевала за ними. Там калиф растроганно сказал ей:
– Спасительница моей жизни и жизни моего друга, в знак вечной благодарности возьми меня в мужья!
Они повернулись к востоку и трижды поклонились в сторону солнца, которое только что взошло над горами.
– Мутабор! – воскликнули они.
В тот же миг они приняли прежний вид и бросились друг другу в объятия. Когда они оглянулись, перед ними стояла прекрасная девушка. Улыбаясь, она протянула калифу руку.
– Вы уже не узнаете ночную сову? – спросила она.
В восторге от ее красоты и изящества калиф воскликнул, что превращение в аиста было его величайшим счастьем.
Они отправились в Багдад. Калиф нашел в своих одеждах не только коробочку с порошком, но и кошелек с деньгами. В ближайшей деревне он купил все необходимое для путешествия, и вскоре они достигли ворот Багдада.
Калифа уже объявили умершим, поэтому народ был очень рад, что снова обрел своего любимого повелителя.
Люди двинулись во дворец и взяли в плен старого волшебника и его сына – обманщика Мицру. Старика калиф отправил в тот самый полуразрушенный дворец, где жила, будучи совой, принцесса, и велел его там казнить. Сыну же калиф предоставил на выбор – умереть или понюхать волшебного порошка. Тот выбрал второе и превратился в аиста. Калиф велел запереть его в железную клетку и выставить в своем саду.
Долго и весело жил калиф Хасид со своей женой-принцессой. Самыми веселыми его часами были всегда те, когда его под вечер навещал великий визирь. Они часто говорили о своем приключении, и иногда калиф снисходил до того, что изображал визиря в виде аиста. Тогда он чинно шагал по комнате не сгибая ног, цокал, размахивал руками, как крыльями, и показывал, как визирь тщетно кланялся на восток, покрикивая: «My… му… му…» Его жене и детям это доставляло большое удовольствие. Но когда калиф слишком уж долго цокал, и кланялся, и покрикивал: «Му… му… му…», визирь, улыбаясь, грозил ему, что расскажет госпоже об одной сделке, заключенной у двери принцессы-совы.
Водном большом немецком городе жил с женой один сапожник. Целый день он сидел на углу улицы, чинил башмаки и туфли и делал новые.
Жена его торговала овощами и фруктами, и покупателей у нее было много, потому что она умела лучше всех разложить и показать свой товар.
У них был сын, красивый мальчик, который обычно помогал женщинам и поварам донести овощи до дома.
Хозяевам этих поваров нравилось, когда в дом приводили такого красивого мальчика, и они всегда щедро его одаривали.
Однажды жена сапожника сидела, как обычно, на рынке. Перед ней стояло несколько корзин с овощами, травами и семенами, ранними грушами, яблоками и абрикосами. Якоб – так звали мальчика – сидел рядом с ней и выкрикивал:
– Эй, господа, поглядите, какая прекрасная капуста, как дивно пахнут эти коренья! Ранние груши, хозяйки, ранние яблоки и абрикосы! Покупайте!
Мимо проходила какая-то старуха, оборванная и обтрепанная. У нее было маленькое личико, все в морщинах, красные глаза и остроконечный, крючком, длинный нос. Она шла, опираясь на длинную палку, хромая, ковыляя, шатаясь.
Жена сапожника уже шестнадцать лет каждый день сидела на рынке, а ни разу не видела этой старухи.
– Взглянем на травки, есть ли у тебя то, что мне нужно, – сказала старуха и, роясь своими коричневыми, уродливыми руками в корзинке с травами, стала вытаскивать оттуда длинными пальцами пучки, которые были так красиво уложены, а затем подносить их один за другим к носу и обнюхивать со всех сторон.
У жены сапожника надрывалось сердце при виде того, как обходилась с ее редкими травами эта старуха. Но она не осмеливалась ничего сказать, потому что проверить товар – право покупателя, а кроме того, она почему-то боялась старухи. Перерыв всю корзину, та пробормотала:
– Дрянь товар. То ли дело пятьдесят лет назад! Дрянь товар!
– Да ты же просто бессовестная старуха! – воскликнул Якоб. – Сначала ты запускаешь свои гадкие пальцы в прекрасные травы и мнешь их, затем подносишь их к своему длинному носу, после чего никому, кто видел это, не захочется их покупать, а теперь ты еще называешь наш товар дрянью, а ведь повар самого герцога все покупает у нас!
Старуха покосилась на него, гнусно рассмеялась и сипло сказала:
– Тебе, значит, не нравится мой нос, мой красивый длинный нос? Ну что ж, и у тебя вырастет на лице такой же – до самого подбородка.
С этими словами она принялась за корзину, где лежала капуста. Беря в руку самые красивые белые кочаны, она сжимала их так, что они кряхтели, затем швыряла как попало назад в корзину и опять говорила:
– Дрянь товар!
– Не тряси так противно головой! – испуганно крикнул мальчик. – Ведь шея у тебя не толще кочерыжки, долго ли ей переломиться?
– Тебе не нравятся тонкие шеи? – пробормотала старуха со смехом. – Ну что ж, у тебя и вовсе шеи не будет; голове придется уйти в плечи, чтобы не свалиться с тельца.
– Хватит вам болтать вздор! – сказала жена сапожника. – Если вы хотите что-нибудь купить, то поторопитесь.
– Хорошо! – воскликнула старуха, метнув на нее злобный взгляд. – Я куплю у тебя эти шесть кочанов. Но позволь своему сыночку доставить мне товар на дом. Я заплачу ему.
Мальчик не хотел идти с ней и заплакал. Но мать строго приказала ему отнести капусту и не взваливать такую ношу на старую слабую женщину. Он повиновался и пошел за старухой с рынка.
В отдаленной части города она наконец остановилась у ветхой хижины.
Вынув из кармана старый ржавый крючок, она ловко вставила его в маленькую замочную скважину, и дверь со скрежетом распахнулась. Но внутри потолок и стены были мраморные, утварь – из прекраснейшего черного дерева с украшениями из золота и камней, а пол – стеклянный и такой гладкий, что мальчик поскользнулся и упал. Старуха же вынула из кармана серебряную дудочку и подула в нее. Тотчас по лестнице спустились несколько морских свинок. Ходили они прямо, на двух лапках, обутых в ореховые скорлупки, а одеты были по-человечески и даже носили модные шляпы.
– Куда вы девали мои туфли? – крикнула старуха и стала колотить их палкой. – Долго ли мне еще так стоять?
Они быстро взбежали по лестнице и вернулись с двумя скорлупами кокосового ореха, устланными внутри кожей, которые ловко надели старухе на ноги.
Теперь ее хромоты и ковыляния как не бывало. Она отшвырнула палку и заскользила по стеклянному полу, таща за собой Якоба за руку. Наконец она остановилась в комнате, которая напоминала кухню.
– Садись, – сказала старуха, прижав мальчика к углу одного из диванов и поставив перед ним стол так, чтобы Якоб уже не мог выбраться. – Теперь я должна дать тебе что-нибудь в награду. Я сварю такого супчику, который запомнится тебе на всю жизнь.
Она снова подула в дудочку, и явилось множество морских свинок. На них были фартуки, а за поясом торчали половники и кухонные ножи. Затем прискакала целая орава белок. На них были широкие турецкие штаны и зеленые бархатные шапочки, они ходили на задних лапах. Это были, по-видимому, поварята. Вот взвился огонь, вот что-то задымилось и закипело на сковородке, и приятный запах распространился по комнате.
В горшке забулькало и зашипело, из него пошел пар, и пена побежала в огонь. Старуха сняла горшок, вылила варево в серебряную миску и поставила ее перед Якобом.
Суп был отменно вкусным. Он благоухал травами и пряностями, был кисло-сладкий и очень крепкий.
Когда Якоб доедал последние капли этого чудесного супа, морские свинки зажгли арабское куренье, и по комнате поплыли синеватые клубы дыма. Запах опьянял мальчика, и наконец он уснул на диване старухи.
Ему снилось, будто старуха сняла с него одежду и напялила на него беличью шкурку. Теперь он мог, как белка, прыгать и лазить. Он дружил с прочими белками и морскими свинками и служил с ними у старухи. Сперва он должен был смазывать постным маслом и натирать до блеска кокосовые скорлупки, которые старуха носила вместо туфель.
Приблизительно через год, снилось ему, он должен был еще с несколькими белками ловить пылинки в солнечных лучах и просеивать их через тончайшее волосяное сито. Старуха считала пылинки нежнейшей вещью на свете, и хлеб для нее пекли из пылинок.
Еще через год он был переведен к слугам, которые собирали старухе воду для питья. Белки, и с ними Якоб, должны были вычерпывать скорлупками лесных орехов росу из роз, и она-то и служила старухе питьевой водой. Пила старуха очень много, поэтому работа у водоносов была тяжелая.
Через год он был поставлен обслуживать дом. Его обязанностью было содержать в чистоте полы. А так как полы были из стекла и любое пятнышко на них бросалось в глаза, работа эта была совсем нелегкая. Приходилось тереть полы щетками и, привязав к ногам старые суконки, скользить на них по комнате.
На пятый год его наконец перевели на кухню. Это было почетное место, получить которое можно было только после долгого испытания. Якоб начал там поваренком и, дослужившись до старшего паштетника, приобрел такое необыкновенное мастерство и такой опыт во всех кухонных делах, что сам себе удивлялся. Труднейшие блюда, паштеты из двухсот составных частей, супы сразу из всех растущих на земле трав – все он умел приготовить быстро и вкусно.
Так на службе у старухи прошло семь лет.
И вот однажды она приказала ему ощипать курицу, начинить ее травами и зажарить к своему приходу. Он сделал это по всем правилам искусства: свернул курице шею, ошпарил ее кипятком, ловко ощипал, затем поскоблил кожу, чтобы та стала гладкой и нежной, и выпотрошил ее. Потом он стал собирать травы для начинки. Но в кладовке, где хранились травы, он заметил на этот раз стенной шкафчик с полуоткрытой дверкой, которого никогда прежде не замечал. Он с любопытством подошел поближе, и в шкафчике оказалось много корзиночек, от которых шел сильный приятный запах. Он открыл одну из них и нашел травку какого-то особого вида и цвета. Стебли и листья были синевато-зеленые, а цветок маленький, огненно-красный с желтой каемкой. Он внимательно осмотрел цветок и обнюхал его. Оказалось, что цветок этот источает тот же душистый запах, которым когда-то благоухал сваренный ему старухой суп. Но запах был такой душистый, что Якоб начал чихать, чихал все сильней и наконец проснулся.
Лежа на диване старухи, он удивленно огляделся вокруг. «Бывают же такие яркие сны! – сказал он себе. – Готов поклясться, что я был несчастной белкой, товарищем морских свинок, но при этом великим поваром. Ну и посмеется же мать, когда я все ей расскажу! Но, наверно, она и побранит меня за то, что я уснул в чужом доме, вместо того чтобы помогать ей на рынке». С этими мыслями он поднялся, чтобы уйти. Все тело его, однако, совсем одеревенело от сна, особенно затылок, он просто не мог как следует пошевелить головой.
Когда он пришел на рынок, мать сидела на своем месте, и в корзине у нее было еще довольно много овощей, значит, спал он недолго. Но ему издали показалось, что она очень печальна: она не зазывала покупателей и сидела, подперев голову рукой.
Наконец он собрался с духом, подкрался к ней сзади, ласково положил руку ей на плечо и сказал:
– Матушка, что с тобой? Ты зла на меня?
Женщина обернулась к нему и тут же отпрянула.
– Что тебе нужно, гадкий карлик? – воскликнула она. – Иди прочь! Терпеть не могу таких шуток.
– Да что с тобой, матушка? – спросил Якоб испуганно.
– Ступай своей дорогой! – сердито ответила Ханна. – У меня ты ничего не заработаешь своим кривляньем, гадкий уродец!
«Право же, Бог отнял у нее разум!» – подумал Якоб.
– Образумься, милая матушка, я ведь твой сын, твой Якоб.
– Взгляните-ка на этого гадкого карлика! – обратилась Ханна к соседке. – Он смеется над моим горем. Бессовестный!
Тут соседки начали на чем свет стоит бранить его за то, что он смеется над горем бедной Ганны, у которой семь лет назад украли красавца мальчика, и грозить, что если он не уберется, они набросятся на него и исцарапают.
Бедный Якоб не знал, что ему обо всем этом и думать. Ведь он немножко поспал и вернулся, а мать и соседки говорят о каких-то семи годах! И называют его мерзким карликом!
Глаза его наполнились слезами, и он печально побрел к лачуге, где сапожничал его отец. Дойдя до хибары сапожника, он стал у двери. Мастер был так занят работой, что не заметил его. Но, случайно взглянув потом на дверь, он уронил на пол башмак, дратву и шило и вскрикнул:
– Боже мой, что это?
– Добрый вечер! – сказал Якоб, входя в лавку. – Как поживаете?
– Плохо! – отвечал отец, не узнавая Якоба. – Дело у меня перестало ладиться. Я старею, а подмастерье мне не по средствам.
– Разве у вас нет сына, который мог бы помогать вам в работе? – спросил Якоб.
– Был у меня сын, звали его Якоб, сейчас это был бы парень двадцати лет, который еще как смог бы мне помогать. Уже в двенадцать лет он был услужлив и ловок и в ремесле уже смыслил, да и собой был хорош. Он приманил бы мне таких заказчиков, что я скоро перестал бы чинить старье, а тачал бы только новую обувь!
– Где же он? – дрогнувшим голосом спросил Якоб.
– Бог знает, – отвечал тот. – Семь лет назад его украли у нас на рынке. Помню, как жена пришла домой плача и крича, что прождала мальчика весь день, везде искала его и не нашла. Пришла на рынок какая-то уродливая старуха и купила столько, что ей самой не снести. Моя жена послала с ней нашего мальчика и больше его не видела. Мы объявили о пропаже, ходили по домам, расспрашивали. Все напрасно. И ту женщину тоже никто не знал. Но одна древняя старуха сказала, что это была злая фея Травознайка, которая раз в пятьдесят лет приходит в наш город за покупками.
Мальчик понял, что не сон видел, а семь лет прослужил у злой феи. Семь лет юности украла у него старуха, а что он получил взамен? Научился чистить туфли из кокосового ореха и мыть стеклянный пол! Узнал все тайны кухни! Он молчал несколько мгновений. Наконец отец спросил его:
– Не угодно ли вам заказать у меня что-нибудь? Например, пару туфель или футляр для вашего носа?
– Дался же вам мой нос, – сказал Якоб. – Зачем мне футляр для него?
– Что ж, – отвечал сапожник. – Это дело вкуса. Но будь у меня такой страшный нос, я заказал бы футляр для него из розовой лакированной кожи. Правда, понадобилось бы не меньше локтя, но зато вы были бы прекрасно защищены! А так вы наверняка ударяетесь носом о каждый дверной косяк.
Мальчик онемел от ужаса и ощупал свой нос. Нос был толстый и в добрых две пяди длиной! Значит, и облик его изменила старуха. Вот почему его не узнала мать, вот почему его ругали гадким карликом!
– Мастер, – сказал он, чуть не плача, сапожнику, – нет ли у вас поблизости зеркала, чтобы мне поглядеть на себя?
– Молодой господин, – строго отвечал отец, – не такая у вас наружность, чтобы сделать вас тщеславным, и у вас нет причины неустанно глядеться в зеркало.
– О, дайте мне все-таки взглянуть в зеркало! – воскликнул Якоб. – Тщеславие тут ни при чем.
– Оставьте меня в покое, у меня нет зеркала. У жены, правда, есть маленькое, но я не знаю, где оно. На той стороне улицы живет цирюльник, у него зеркало вдвое больше, чем ваша голова.
С этими словами отец мягко вытолкнул его за порог, запер за ним дверь и снова сел за работу. А Якоб направился к цирюльнику, которого хорошо знал по прежним временам.
– Доброе утро! – сказал он. – Будьте любезны, позвольте мне взглянуть в ваше зеркало.
– С удовольствием, вон оно, – воскликнул цирюльник. – Какой вы красавчик!
Якоб подошел к зеркалу и рассмотрел себя. У него навернулись слезы. Глаза его стали маленькими, как у свиньи, нос был огромен и нависал надо ртом и над подбородком, шея, казалось, напрочь исчезла, ибо голова его совсем ушла в плечи и лишь с превеликой болью поворачивалась направо или налево. Роста он был все такого же, как семь лет назад, когда ему было двенадцать лет. Но он вырос в ширину, спина и грудь сильно выпятились и напоминали маленький, но туго набитый мешок. Это толстое туловище сидело на маленьких слабых ножках, которым, казалось, была не по силам такая тяжесть. Но тем длиннее казались руки, свисавшие у него с плеч. Кисти их были грубые, желтовато-коричневые, пальцы длинные, и, хорошенько вытянув их, он мог достать ими до пола не нагибаясь. Якоб превратился в уродливого карлика.
Теперь он вспомнил то утро, когда к корзинам его матери подошла эта старуха. Всем, что он тогда выругал в ней, наделила она его, и только шею совсем уничтожила.
Обезобразив его внешность, злая старуха не причинила, однако, никакого вреда его уму, но думал и чувствовал он уже не так, как семь лет назад. За это время он стал, казалось ему, мудрее, разумнее. Он горевал не о своей утраченной красоте, а только о том, что его, как собаку, прогнали от двери отца. Он решил еще раз попытать счастья у матери.
Он пошел к ней и попросил ее выслушать его спокойно. Он напомнил ей тот день, когда он ушел со старухой, всякие мелкие случаи из своего детства, затем рассказал, как семь лет служил в виде белки у феи и как та превратила его в уродца за то, что он тогда обругал ее. Жена сапожника не знала, что ей и думать. Все, что он рассказывал о своем детстве, было правдой. Глядя на него, она испытывала отвращение к безобразному карлику и не верила, что он может быть ее сыном. Наконец она решила, что самое лучшее – поговорить об этом с мужем. Она собрала корзины и велела Якобу идти с ней.
– Этот человек, – сказала она мужу, – говорит, что он наш пропавший сын Якоб. Он рассказал мне, как его украли у нас семь лет назад и как его околдовала какая-то фея.
– Вот как? – прервал ее со злостью сапожник. – Все это я рассказал ему час назад, и он пошел морочить тебя! Ну, погоди, я его расколдую!
Он схватил связку ремней, которые только что нарезал, и стал стегать ими по горбатой спине и по длинным рукам Якоба, да так, что тот закричал от боли и убежал прочь.
Несчастному карлику за весь день не удалось ни поесть, ни попить, а ночевать пришлось на жестких и холодных ступенях церкви.
На следующее утро Якоб задумался о том, чем ему жить. Тут вдруг ему подумалось, что он преуспел в поварском искусстве.
Герцог, правивший этой страной, был известный обжора и лакомка. К его дворцу и направился Якоб. Он потребовал главного повара. Привратники засмеялись и повели его через передние дворы к смотрителю дворца.
Тот с трудом удержался от хохота, когда увидел маленького человечка, но взял его за руку и отвел в покои главного повара.
– Ваша милость, – сказал там карлик, низко поклонившись, – не нужен ли вам искусный повар?
Главный повар разразился громким хохотом.
– Это ты повар? – воскликнул он. – Да чтобы только взглянуть на плиту, тебе пришлось бы стать на цыпочки и хорошенько вытянуть шею!
– Разве жаль яичка-другого, сиропа и вина, муки и пряностей? – сказал Якоб. – Позвольте мне приготовить какое-нибудь вкусное блюдо!
– Ну что ж! – воскликнул главный повар. – Пойдем.
Кухней служило просторное помещение. В двадцати плитах постоянно пылал огонь, между ними текла прозрачная вода, где содержалась живая рыба, в шкафах из мрамора и драгоценного дерева были разложены припасы, а слева и справа находилось десять залов, где были собраны все лакомства запада и востока. Челядь бегала взад-вперед, громыхала котлами и сковородками. Но когда в кухню вошел главный повар, все замерли.
– Что заказал герцог на завтрак? – спросил главный повар.
– Датский суп и красные гамбургские фрикадельки!
– Ты слышал, что хочет герцог? – спросил главный повар. – Возьмешься ли ты приготовить эти трудные блюда? С фрикадельками тебе, во всяком случае, не справиться, это наш секрет.
– Нет ничего трудного! – ответил карлик, который, будучи белкой, часто готовил эти кушанья. – Для супа пусть мне дадут такие-то травы и такие-то пряности, кабаньего сала, кореньев и яиц. А для фрикаделек, – сказал он тише, – мне нужны разные виды мяса, немного вина, утиный жир, имбирь и трава, которую называют «радость желудка».
– У какого волшебника ты учился? – воскликнул с удивлением главный повар. – Ты назвал все правильно, а насчет травки «радость желудка» мы и сами не знали! Приступим, однако, к испытанию!
Все необходимое расставили на плите. Но карлик едва доставал до плиты носом. Поэтому сдвинули несколько стульев, положили на них мраморную доску и уже потом пригласили чудо-человечка начать готовить. Покончив с приготовлениями, он велел поставить оба котла на огонь и варить до тех пор, пока он не крикнет. Затем он стал считать и, досчитав до пятисот, крикнул:
– Хватит!
Котлы сняли с огня. Личный повар приказал поваренку подать золотую ложку, ополоснул ее в проточной воде и передал главному повару. Тот зачерпнул из котлов, попробовал, зажмурился, прищелкнул от удовольствия языком и сказал:
– Восхитительно! Не скушаете ли и вы ложечку, смотритель дворца?
Тот попробовал и пришел в восторг.
Повар тоже отведал, после чего почтительно пожал карлику руку и сказал:
– Ты мастер своего дела. Да, травка «радость желудка» придает кушанью особую прелесть.
Кушанья были посланы герцогу. А главный повар повел карлика в свою комнату и стал с ним беседовать. Но тут явился посыльный и позвал главного повара к герцогу. Тот быстро надел праздничное платье и последовал за посыльным.
У герцога был очень довольный вид.
– Послушай, главный повар, – сказал герцог, – кто готовил мой завтрак сегодня? Так хорош он никогда не бывал, с тех пор как я сижу на троне моих предков.
Главный повар рассказал обо всем. Герцог очень удивился, велел позвать к себе карлика и стал расспрашивать его, кто он и откуда. Тот сказал, что сейчас у него нет ни отца, ни матери и что стряпать он научился у одной старой женщины.
– Если ты останешься у меня, – сказал герцог, – я буду платить тебе пятьдесят дукатов в год, праздничное платье и сверх того две пары штанов. В моем дворце все получают имена от меня, ты будешь называться Нос.
Карлик Нос пал ниц перед герцогом и обещал служить верой и правдой.
Герцог ел теперь вместо трех раз в день пять раз, чтобы как следует насладиться искусством своего маленького слуги, и никогда не выражал неудовольствия. Иные из самых знатных мужей добивались у герцога разрешения, чтобы их слуги брали уроки у карлика на кухне, что приносило немалые деньги, ибо каждый платил за день по полдуката.
Так прожил Нос почти два года, и только мысль о родителях огорчала его. Однажды утром он отправился поискать тяжелых жирных гусей. Разглядывая товар, он уже несколько раз прошелся взад и вперед. Его вид не только не вызывал здесь хохота и насмешек, но и внушал всем почтение. Ведь в нем узнавали знаменитого личного повара герцога.
И вот он увидел женщину, сидевшую в самом конце ряда, в углу. Она тоже продавала гусей, но не расхваливала своего товара и не зазывала покупателей. Он подошел к ней и купил трех гусей вместе с клеткой, взвалил ее на свои широкие плечи и пустился в обратный путь. Но тут ему показалось странным, что один из гусей сидел тихонько, вздыхая и постанывая, как человек.
– Гусыня прихворнула, – сказал себе под нос карлик, – надо поскорее прикончить ее и разделать.
Но гусыня ответила очень четко и громко:
– Не убивай меня, я тебе еще пригожусь.
– Вот это да! – воскликнул Нос. – Она умеет говорить? Держу пари, она не всегда носила эти перья.
– Ты прав, – ответила гусыня. – Никто не думал, что Мими, дочь великого Веттербока, закончит свои дни на герцогской кухне!
– Успокойтесь, милая Мими, – утешил ее карлик. – Я отведу вам птичник в собственных покоях. Кухонной прислуге я скажу, что откармливаю гусыню для герцога особыми травами. И как только представится случай, я выпущу вас на свободу.
Гусыня со слезами поблагодарила его. Карлик зарезал двух других гусей, а для Мими построил отдельный птичник под тем предлогом, что готовит ее для герцога особым образом. Как только у него выдавалось свободное время, он ходил побеседовать с ней и утешить ее. Гусыня была дочерью волшебника Веттербока. Он поссорился с одной старой феей, которая в отместку превратила его дочь в гусыню и перенесла сюда. Когда карлик Нос поведал ей свою историю, она сказала:
– Все говорит о том, что ты околдован с помощью трав, а это значит, что ты можешь снять с себя чары, если отыщешь ту траву, которую выбрала фея, когда тебя околдовывала.
Это было для него слабым утешением: где мог он отыскать эту траву? Но он поблагодарил Мими и несколько ободрился.
В это время в гости к герцогу приехал соседний князь, его друг. Поэтому герцог призвал к себе своего карлика Носа и сказал ему:
– Ты должен показать, верный ли ты слуга мне и мастер ли ты своего дела. Этот князь, как известно, великий знаток тонкой кухни. Позаботься о том, чтобы на моем столе каждый день появлялись такие кушанья, которым он удивлялся бы все больше и больше. Не смей ни одно блюдо, пока он здесь, подавать дважды.
– Пусть будет по-твоему, господин! – ответил с поклоном карлик. – Князь останется доволен.
Карлик Нос пустил в ход все свое умение. Чужеземный князь гостил у герцога уже две недели. Они питались не меньше пяти раз в день, и герцог был доволен искусством карлика. На пятнадцатый день герцог велел призвать карлика к столу, представил его своему гостю и спросил того, доволен ли он карликом.
– Ты замечательный повар, – отвечал князь. – Но почему ты до сих пор не подаешь к столу поистине королевское кушанье – паштет «Сюзерен»?
Карлик очень испугался: он никогда не слыхал об этом паштете. Но он ответил:
– О господин! Я надеялся, что ты еще долго пробудешь в нашей столице, потому и не спешил с этим блюдом. Ведь чем повару и почтить тебя на прощанье, как не царем паштетов?
– Вот как? – со смехом сказал герцог. – А что касается меня, то ты, видно, хотел дождаться моей смерти, чтобы уж тогда меня и почтить.
Ведь и мне ты ни разу не предлагал этого паштета. Завтра ты должен будешь подать на стол этот паштет.
– Пусть будет по-твоему, господин! – ответил карлик.
Карлик не знал, как приготовить этот паштет. Он пошел в свою комнатку и заплакал. Гусыня Мими подошла к нему и спросила о причине его слез.
– Не плачь, – сказала она, услышав о паштете «Сюзерен». – Это блюдо часто подавалось у моего отца, и я приблизительно знаю, что для него нужно. Ты возьмешь то-то и то-то, столько-то и столько-то, и хотя это не совсем все, что для него нужно по-настоящему, у твоих господ, наверно, не такой тонкий вкус.
Карлик подпрыгнул от радости и принялся готовить паштет. Сначала он сделал немножко на пробу, получилось превкусно, и главный начальник кухни, которому он дал отведать, снова начал хвалить его великое мастерство.
На следующий день он запек паштет в большой форме и теплым, прямо с огня, послал его к столу, украсив блюдо гирляндами из цветов. А сам надел свое лучшее праздничное платье и пошел в столовую. Когда он вошел, главный разрезыватель как раз разрезал паштет и подавал его на серебряной лопаточке герцогу и его гостю. Герцог откусил изрядный кусок, возвел глаза к потолку и сказал, проглотив:
– Мой карлик – царь поваров! Не так ли, дорогой друг?
Гость откусил несколько маленьких кусочков и насмешливо улыбнулся.
– Приготовлено довольно сносно, – сказал он, отставляя тарелку, – но все-таки это не настоящий «Сюзерен».
Герцог наморщил лоб и покраснел от стыда и негодования.
– Ах ты, собака-карлик! – воскликнул он. – Как смеешь ты так поступать со своим господином? Не отрубить ли тебе голову в наказание за плохую стряпню?
– Сжальтесь! – воскликнул карлик, падая на колени. – Скажите, чего не хватает в этом блюде? Не обрекайте меня на смерть из-за какой-то там горсточки мяса или муки.
– От этого тебе будет мало проку, дорогой Нос, – отвечал чужеземец со смехом. – Не хватает травки, которой здесь и не знают, и называется она «чих-перечих». Без нее в паштете нет остроты, и твоему господину никогда не едать его в таком виде, как ем я.
– И все же я буду его есть! – воскликнул герцог, яростно сверкая глазами. – Клянусь своей честью, завтра я покажу вам либо паштет, либо голову этого малого, приколоченную к воротам моего дворца! Ступай, даю тебе сутки сроку!
Карлик с плачем пошел в свою комнатку и пожаловался гусыне на судьбу, говоря, что ему не миновать смерти.
– Если дело только в этом, – сказала Мими, – то я тебе помогу. Мой отец научил меня распознавать все травы. В другое время ты, может быть, и не избежал бы смерти, но сейчас полнолуние, а травка «чих-перечих» цветет именно в это время. Но скажи мне, есть ли вблизи дворца старые каштановые деревья?
– Да! – с облегчением отвечал Нос. – У озера, в двухстах шагах от дворца, их очень много.
– Только возле старых каштанов цветет эта травка, – сказала Ми-ми. – Не будем терять время и пойдем искать то, что тебе нужно.
Он взял ее на руки и пошел с ней к воротам дворца. Но привратник преградил ему дорогу и сказал:
– Милый мой Нос, выпускать тебя из дворца запрещено. Я получил строжайший приказ.
– Но в сад-то мне можно выйти? – спросил карлик. – Пошли кого-нибудь из своих помощников к смотрителю дворца и спроси, нельзя ли мне поискать всяких трав.
Привратник так и сделал, и разрешение было дано. Сад был обнесен высокой стеной, и о том, чтобы сбежать оттуда, не могло быть и речи. Выйдя наружу, Нос опустил гусыню на землю, и она быстро пошла впереди него к озеру, где росли каштаны. Гусыня все обшарила под всеми каштанами, перевернула клювом каждую травинку, но ничего не нашла. Уже смеркалось, и различать окружающие предметы стало труднее.
Тут взгляд карлика упал на другой берег озера, и он воскликнул:
– Погляди, там, за озером, есть еще одно большое старое дерево. Пойдем туда и поищем!
Каштановое дерево отбрасывало большую тень, кругом было темно, и почти ничего нельзя было уже разглядеть. Но вдруг гусыня остановилась, захлопала от радости крыльями, затем быстро забралась головой в высокую траву и, что-то сорвав, изящно подала это клювом изумленному Носу со словами:
– Это та самая травка, и здесь ее много, так что у тебя никогда не будет в ней недостатка.
Карлик задумчиво разглядывал травку. Она источала сладкий аромат, невольно напомнивший ему сцену его превращения. Стебли и листья были синевато-зеленые, а цветок – огненно-красный с желтыми краями.
– Какое чудо! – воскликнул он наконец. – Я думаю, это та самая трава, что превратила меня в уродца. Не попытать ли мне счастья?
– Не сейчас, – попросила гусыня. – Возьми с собой пучок этой травы, мы пойдем в твою комнату, соберем твои деньги и все твое добро, а уж потом проверим действие этой травы!
Они пошли в его комнату, и сердце карлика громко стучало от нетерпения. Связав в узел пятьдесят или шестьдесят дукатов, накопленных им, а также немного одежды и обуви, он засунул нос глубоко в траву и вдохнул ее аромат.
Тут все его суставы стали вытягиваться и трещать, он почувствовал, как голова его вылезает из плеч, он скосил глаза на свой нос и увидел, что тот делается все меньше и меньше, его спина и грудь начали выравниваться, а ноги стали длиннее.
– Какой ты рослый, какой красивый! – воскликнула гусыня.
Якоб очень обрадовался, но и радость не позволила ему забыть, как он обязан Мими. Хотя ему не терпелось отправиться к родителям, он преодолел это желание и сказал:
– Кого, как не тебя, благодарить мне за это? Без тебя я не нашел бы этой травы и сохранил бы уродливый облик, а то и умер бы под топором палача. Я не останусь перед тобой в долгу – доставлю тебя к твоему отцу. Он, волшебник, расколдует тебя в два счета.
Гусыня заплакала от радости. Якоб благополучно вышел из дворца с гусыней неузнанным и отправился на родину Мими.
Веттербок расколдовал свою дочь и отпустил Якоба с богатыми подарками. Юноша вернулся в свой родной город, и его родители узнали в нем своего пропавшего сына, а на подарки, полученные от Веттербока, он купил себе лавку, разбогател и был счастлив.
А во дворце герцога поднялся переполох. Ведь на следующий день, когда герцог пожелал сдержать свою клятву и отрубить голову карлику, оказалось, что тот как в воду канул. Тогда князь заявил, что герцог тайком, чтобы не лишиться своего лучшего повара, помог карлику скрыться, и обвинил герцога в том, что он не держит своего слова. Из-за этого между обоими владыками вспыхнула жестокая война, известная под названием «Травяной». Когда наконец был заключен мир, его назвали «Паштетным», потому что в честь примирения повар князя приготовил «Сюзерен», и блюдо очень понравилось герцогу.
Один скромный подмастерье по имени Лабакан учился ремеслу в Александрии у умелого портного.
Бывало, что он часами шил без передышки, а иной раз – и случалось это часто – он сидел в глубокой задумчивости, глядя в одну точку.
– Лабакан снова принял вид знатной особы, – говорили тогда о нем портной и другие подмастерья.
А по пятницам, когда люди спокойно шли с молитвы, Лабакан выходил из мечети в нарядной одежде и медленно шагал по городу, величественно кивая знакомым. И когда портной говорил ему в шутку: «В тебе пропадает принц, Лабакан», он очень радовался и отвечал: «Я уже давно об этом думал!»
Но портной мирился с таким поведением, потому что Лабакан был, в общем-то, хороший человек и умелый работник.
Но вот однажды Селим, брат султана, послал мастеру свою праздничную одежду для небольшой переделки, и мастер дал ее Лабакану, потому что тот всегда выполнял тончайшую работу. Вечером Лабакан долго стоял перед этой одеждой в задумчивости, любуясь великолепием вышивки и переливчатыми красками бархата и шелка. Он не мог ничего поделать с собой, надел ее, и она пришлась ему впору. Он тут же вообразил себя неизвестным царским сыном и решил отправиться в мир. Поэтому Лабакан, взяв свои скудные пожитки, вышел ночью из городских ворот.
Повсюду новый принц вызывал изумление: его великолепная одежда и величавость не подобали обыкновенному пешеходу. Когда его спрашивали об этом, он с таинственным видом отвечал, что на то есть особые причины. Но, заметив, что передвижение пешком делает его смешным, он купил по дешевке старого коня.
Однажды к нему присоединился какой-то всадник, веселый молодой человек, и завел разговор о том, откуда и куда тот едет. Оказалось, что и он тоже пустился в мир наудачу. Он сказал, что его зовут Омар и что он слоняется по миру для того, чтобы исполнить наказ, который дал ему на смертном одре его дядя.
Лабакан дал лишь понять, что происхождения он высокого и путешествует для своего удовольствия.
На второй день их совместного пути Лабакан спросил Омара о наказе, который тот должен исполнить, и вот что тот рассказал.
Дядя, каирский паша, воспитывал Омара с раннего детства, и родителей своих тот не знал. Но когда на пашу напали враги и пришлось бежать, он открыл Омару, что тот не его племянник, а сын одного могущественного властителя, который из страха перед пророчествами своих звездочетов удалил юного принца от своего двора и поклялся, что снова увидит его лишь в день его двадцатидвухлетия. Паша не назвал имени отца, но наказал прибыть на пятый день будущего месяца рамадана, когда ему как раз и исполнится двадцать два года, к знаменитой колонне Эль-Серуйя. Там он должен передать людям, которые будут стоять у колонны, кинжал и сказать: «Вот он я, которого вы ищете». Когда они ответят: «Хвала пророку, тебя хранившему!», он должен последовать за ними, и они отведут его к отцу.
Лабакан смотрел теперь на принца с завистью. А на следующее утро у него возникла мысль добыть себе хитростью или силой то, в чем ему отказала судьба. Кинжал торчал из-за пояса спавшего принца. Лабакан тихонько вытащил кинжал, заткнул себе за пояс и пустился вскачь на более резвой лошади принца. Когда Омар проснулся, его вероломный спутник был уже далеко.
…У подножия колонны шестеро мужчин стояли вокруг царственно-величавого старика. Лабакан подошел к нему, низко поклонился и сказал, протягивая кинжал:
– Вот он я, которого вы ищете.
– Хвала пророку, тебя хранившему! – ответил старик со слезами радости. – Обними своего старого отца, любимый мой сын Омар!
Портной бросился в объятия старому князю со смесью радости и стыда.
Но лишь миг суждено было ему наслаждаться своим новым положением. Он увидел торопливо приближающегося всадника. Из упрямства или от усталости конь, казалось, не хотел идти вперед. Он ковылял странным аллюром, а всадник всячески подгонял его руками и ногами. Лабакан узнал своего коня и настоящего принца Омара. Но в него уже вселился злой дух лжи, и он решил упорно отстаивать присвоенные права.
– Остановитесь! – закричал всадник, спрыгнув с коня. – Не дайте вас одурачить!
Стоявшие вокруг были изумлены. Особенно был потрясен старик. С напускным спокойствием Лабакан сказал:
– Милостивый господин и отец, не дайте этому человеку ввести вас в заблуждение! Это бесноватый портняжка из Александрии, его зовут Лабакан.
Слова эти привели принца в неистовство. Кипя от негодования, он хотел кинуться на Лабакана, но стоявшие рядом схватили его, а старик сказал:
– И правда, дорогой мой сын, этот бедняга сошел с ума! Пусть его свяжут!
– Мое сердце говорит мне, что вы мой отец, – сказал принц старику, рыдая. – Заклинаю вас памятью моей матери: выслушайте меня!
– Он опять начинает бредить, – ответил тот. – Как только может прийти такое в голову!
Старик взял Лабакана под руку и сошел с его помощью с холма. Оба сели на прекрасных лошадей и поехали по равнине во главе каравана. А несчастному принцу связали руки, привязали его к верблюду, и рядом с ним ехали два всадника, следя за каждым его движением.
Царственный старик был не кто иной, как султан. У него долго не было детей, но в конце концов родился принц. Звездочеты, однако, предсказали: «До двадцати двух лет ему грозит опасность, что его вытеснит враг». Поэтому султан отдал сына на воспитание своему другу и двадцать два года ждал встречи с ним.
Наконец караван достиг столицы. Жена султана ждала их со всем своим двором в самом великолепном зале дворца. Вещие сны показывали ей долгожданного сына так явственно, что она узнала бы его из тысячи. Наконец двери зала распахнулись и султан рука об руку со своим мнимым сыном поспешил к трону жены.
– Это не мой сын! – воскликнула она. – Это не те черты, которые показал мне во сне пророк!
Как раз в этот миг дверь зала открылась и вбежал принц Омар, преследуемый своими стражами, из чьих рук он вырвался с величайшими усилиями. Задыхаясь, он припал к трону.
– Вели убить меня, жестокий отец!
Подоспевшие стражи хотели уже схватить его, но тут жена султана вскочила.
– Стойте! – закричала она. – Этот – настоящий! Он тот, кого мои глаза не видели, но сердце знало!
Стражи отпустили Омара. Но султан, пылая гневом, приказал им связать безумца.
– Здесь распоряжаюсь я, – сказал он властно, – и здесь судят не по снам, а по совершенно точным признакам. Этот, – он указал на Лабакана, – представил мне знак моего друга – кинжал.
– Он украл его! – вскричал Омар. – Он предал меня!
Но султан не слушал. Он велел вытащить несчастного Омара из зала силой, а сам удалился с Лабаканом в свои покои.
Жена султана была убеждена, что сердцем супруга завладел обманщик, и стала думать, как убедить в этом султана. Наконец она отправилась к мужу и сделала вид, что готова уступить и признать сына, но попросила только об одном условии. Султан согласился, и она сказала:
– Я хочу дать им задачу, требующую находчивости. Пусть каждый сошьет по кафтану и по паре штанов, а мы посмотрим, у кого выйдет лучше.
Султан уступил, пошел к Лабакану и попросил его исполнить каприз матери. У простодушного портного сердце взыграло от счастья.
Каждому из юношей отвели по комнате и дали достаточно шелка, ножницы, иглу и нитки.
На третий день султан послал за обоими кафтанами и за их мастерами.
Лабакан торжествующе развернул свой кафтан перед изумленным султаном.
– Взгляните, отец и мать, – сказал он. – Готов поспорить с самым искусным придворным портным, что такого ему не сшить!
Султанша усмехнулась и повернулась к Омару:
– Ну, а у тебя, сын мой, что получилось?
Тот яростно швырнул на пол шелк и ножницы.
– Меня учили укрощать коней и держать в руке саблю, и мое копье попадает в цель на расстоянии шестидесяти шагов, – но искусство иглы мне чуждо и недостойно меня!
– О истинный сын моего господина! – воскликнула султанша. – Ах, как хочется мне обнять тебя, назвать своим сыном! Супруг мой и повелитель, – обратилась она к султану, – разве вы все еще не видите, кто принц и кто портной?
Султан сидел в глубокой задумчивости, недоверчиво поглядывая то на свою жену, то на Лабакана.
– Этого доказательства мало, – сказал султан. – Но я знаю способ выяснить, обманут я или нет.
Он приказал оседлать самого быстрого коня и поскакал в лес, где жила добрая фея, которая часто помогала советом султанам из его династии.
Прибыв туда, султан привязал коня к дереву, стал посреди поляны и громко сказал:
– Не отвергни просьбы внука моих предков и посоветуй мне, как решить дело!
Едва он произнес последние слова, один из кедров отворился и оттуда вышла закутанная в длинные белые одежды женщина.
– Я знаю, почему ты пришел ко мне, султан. Возьми эти две шкатулки! Пускай те двое, что хотят быть твоими сыновьями, сделают выбор! Твой настоящий сын выберет то, что нужно.
Сказав это, фея протянула ему две маленькие шкатулки из слоновой кости, украшенные золотом и жемчугами. На крышках были надписи из алмазов.
Шкатулки, сколько султан ни старался, открыть не удалось. На одной крышке значилось: «Честь и слава», на другой – «Счастье и богатство». Султан подумал, что и ему был бы труден выбор.
Вернувшись во дворец, он позвал жену и сообщил обо всем.
Перед троном султана установили два стола. Султан поставил на них обе шкатулки, сел на трон и знаком велел одному из рабов открыть двери. Созванные султаном эмиры и паши со всей державы опустились на роскошные подушки, положенные вдоль стен.
Король дал знак, и ввели Лабакана. Он гордо прошел через зал, пал ниц перед троном и сказал:
– Что прикажет мой господин и отец?
– Сын мой! – сказал султан. – Одна из этих шкатулок содержит подтверждение истинного твоего происхождения. Выбирай!
Лабакан поднялся и подошел к шкатулке. Он долго думал и наконец сказал:
– Что может быть выше, чем счастье быть твоим сыном, что благороднее, чем богатство благоволения? Я выбираю шкатулку, на которой написано: «Счастье и богатство».
– Мы потом узнаем, верен ли твой выбор. А пока что сядь вон туда, на подушку, – сказал султан.
Ввели Омара. Взгляд его был мрачен, лицо печально. Он пал ниц перед троном и спросил, какова воля султана.
Султан объяснил Омару, что он должен выбрать одну из шкатулок. Тот встал и подошел к столам.
Он внимательно прочел обе надписи и сказал:
– Последние дни научили меня, сколь хрупко счастье и ничтожно богатство, но честь – нерушимое благо и звезда славы не исчезает вместе с богатством. Честь и слава, я выбираю вас!
Он положил руку на шкатулку, но султан приказал подождать. Он знаком приказал Лабакану подойти к столу, и тот тоже положил руку на свою шкатулку.
Шкатулки открылись сами собой.
В шкатулке, выбранной Омаром, лежали маленькая золотая корона и скипетр, а в шкатулке Лабакана – большая игла и нитки. Султан велел обоим подойти со своими шкатулками к нему. Он снял с подушки коронку, и в его руке она стала расти, пока не достигла размеров настоящей короны! Он надел ее на голову своему сыну Омару, поцеловал его в лоб и велел ему сесть по правую руку от себя. А повернувшись к Лабакану, он сказал:
– Ты и не заслужил моей милости, но я дарю тебе твою жалкую жизнь. Однако поспеши убраться из моей страны!
Лабакан не мог ответить. Он пал ниц перед принцем.
– Вы можете простить меня? – сказал он.
– Верность другу, великодушие к врагу – вот гордое правило Абассидов, – ответил принц, поднимая его. – Ступай с миром.
– О истинный сын мой! – воскликнул старый султан и припал к груди Омара.
Эмиры и паши встали со своих мест и воскликнули:
– Ура сыну султана!
Лабакан же со своей шкатулкой под мышкой вышмыгнул из зала.
Он взнуздал своего коня и выехал за ворота. Прибыв в Александрию, он продал ювелиру свою шкатулку, купил дом и устроил там мастерскую. Повесив над окном вывеску с надписью: «Лабакан, портной», он принялся той иглой и теми нитками, что нашел в шкатулке, чинить кафтан. Кто-то оторвал его от этого занятия, куда-то позвав, и, когда он снова сел за работу, глазам его предстала удивительная картина: игла усердно шила, хотя ее никто не держал, и делала такие изящные стежки, каких Лабакан не делал даже в минуты удачи! Впоследствии выяснилось, что моток ниток никогда не переводился.
Лабакан вскоре стал самым знаменитым портным в Александрии. Он кроил одежды и делал своей иглой первый стежок, а дальше игла шила сама, не останавливаясь, пока одежда не была готова.
Так сбылось обещание шкатулки, сулившей счастье и богатство. Часто Лабакан слышал о славе молодого султана Омара, имя которого было у всех на устах и который стал гордостью и любимцем народа и грозой врагов. Лабакан жил, уважаемый всеми, а игла и сегодня шьет вечными нитками доброй феи.
Давным-давно жил богатый и знатный человек. Они с женой очень любили друг друга. У них была единственная дочка.
Но когда девочке было шестнадцать лет, ее мать тяжело заболела и через несколько дней умерла. В дом пришло горе.
Спустя какое-то время отец девочки познакомился с вдовой, у которой были две дочери, и вскоре женился на ней.
Но мачеха оказалась бессердечной гордячкой. С первого же дня она возненавидела падчерицу. Она заставляла ее делать всю черную работу, и у бедной девушки не было ни минутки покоя. Только и слышалось:
– А ну-ка, принеси воды!
– Бездельница, подмети пол!
– Подкинь наконец дров в камин!
Девушка была добрая и кроткая, вся в покойную мать, и никогда не перечила мачехе. Она работала дни и ночи напролет и потому постоянно была запачкана золой и пылью. Вскоре все, даже отец, стали называть ее Золушкой, а потом и вовсе позабыли ее имя.
Мачехины дочери были такие же злые и ворчливые, как их мать. Они завидовали красоте сводной сестры и потому все время придирались к ней.
Как-то по стране разнесся слух, что молодой принц собирается устроить бал, который будет длиться несколько дней.
– Милые доченьки, – сказала мачеха, – наконец-то вам улыбнулась удача. Мы поедем на бал. Одна из вас обязательно понравится принцу и выйдет за него замуж.
– А другая? – в один голос спросили сестры.
– А для другой мы уж найдем какого-нибудь министра.
С того дня сестры ни на шаг не отходили от зеркала, примеряли новые наряды.
Они заказали платья лучшей мастерице, купили самые дорогие украшения и ленты. И во всем спрашивали совета у Золушки, потому что у нее был очень хороший вкус. Она старалась помочь сестрам и даже предложила их причесать. Они радостно согласились.
Пока Золушка причесывала их, они спрашивали:
– Признайся, Золушка, тебе очень хотелось бы попасть на бал?
– Ах, не смейтесь надо мной! Разве меня туда пустят?
– Да, ты права! Все бы покатились со смеху, если бы увидели такую замарашку на балу.
Другая бы за это нарочно причесала их похуже, но добрая Золушка постаралась сделать прически как можно лучше.
Наконец настал день, когда, разряженные, они сели в карету и поехали во дворец. Перед отъездом мачеха строго сказала Золушке:
– Даже не думай, что станешь бездельничать, пока нас не будет дома.
На столе стояли две миски: одна с просом, другая с маком. Мачеха высыпала просо в миску с маком и перемешала.
– Вот тебе и работа: отдели за ночь просо от мака.
Все уехали на бал, и Золушка осталась одна. Впервые она заплакала от обиды. Как же отделить просо от мака? И как не плакать, когда она сидит здесь, в лохмотьях, одна-одинешенька?
Вдруг комнату залил яркий свет и появилась красавица в белом платье и с хрустальной палочкой в руке. Это была Золушкина крестная – самая настоящая фея!
– Не плачь, Золушка, – сказала она. – Я могу помочь твоей беде.
Фея дотронулась палочкой до миски, и в одно мгновение просо отделилось от мака. Потом она коснулась волшебной палочкой лохмотьев Золушки, и они превратились в роскошное бальное платье, расшитое золотом и серебром, а на ногах появились хрустальные туфельки.
Фея огляделась и дотронулась палочкой до тыквы, которая лежала на столе, и до мышек, с любопытством выглянувших из норки. Во дворе послышалось лошадиное ржание. Золушка выглянула в окно и не поверила глазам. Перед домом стояла великолепная золотая карета, запряженная четверкой белых лошадей, а на облучке сидел кучер в бархатной ливрее.
– Поезжай на бал, моя милая Золушка! Ты это заслужила! – воскликнула фея. – Но помни, ровно в полночь твое платье снова превратится в лохмотья, а карета – в тыкву!
Золушка обещала уехать из дворца до полуночи и отправилась на бал.
Когда она вошла в главный зал дворца, музыка смолкла, разговоры стихли и все повернулись, чтобы посмотреть на незнакомую красавицу.
– Кто это? – спрашивали удивленные гости друг у друга.
– Это еще кто такая? – недовольно спрашивали и Золушкины сводные сестры.
Молодой принц подошел к девушке, поклонился и подал ей руку. Весь вечер он ни на шаг не отходил от Золушки и ни на минуту не сводил с нее глаз. Золушка и принц все танцевали и танцевали, а мачеха и ее дочери скрипели зубами от зависти.
Но Золушка все время поглядывала на часы. Без пяти двенадцать она улыбнулась принцу, освободила руку из его руки и выбежала из главного зала. Принц бросился за ней, но у крыльца девушку уже ждала золотая карета, лошади радостно заржали и повезли Золушку домой.
Мачеха и сестры вернулись мрачные.
– Он только на нее и смотрел!
– Он только с ней и танцевал!
– О ком вы говорите, сестры? – спросила Золушка.
– Не твое дело, замарашка! Ты сделала то, что было велено? – сурово спросила мачеха.
Еще больше разозлились мачеха и ее дочери, когда увидели, что в доме необыкновенная чистота, а мак отделен от проса!
Назавтра мачеха с дочерьми снова собралась на бал.
– Вчера у тебя было мало работы, – сказала мачеха, – но сегодня все будет по-другому. Вот мешок гороха, перемешанного с фасолью. К утру отдели горох от фасоли, иначе плохо тебе придется!
Мачеха и сестры уехали, и Золушка осталась одна. Но комната вновь озарилась чудесным светом.
– Не будем терять время, Золушка, – сказала добрая фея. – Нужно собираться на бал. – Одним взмахом волшебной палочки фея отделила горох от фасоли.
Золушка приехала на бал, и снова музыка смолкла и все замерло при ее появлении – так она была прекрасна. Красавец принц опять весь вечер танцевал только с ней. Но на этот раз девушка совсем забыла о времени.
Она опомнилась, только когда часы пробили двенадцать раз.
Золушка поспешила из дворца. Хрустальные туфельки так и мелькали по ступеням широкой дворцовой лестницы. Принц бросился догонять девушку, но услышал только, как заскрипели колеса отъезжавшей кареты.
Опечаленный и растерянный, он стоял наверху лестницы и вдруг заметил внизу туфельку, которую в спешке потеряла прекрасная незнакомка.
Юноша осторожно, словно драгоценность, поднял хрустальную туфельку и прижал к груди. В эту минуту он поклялся, что найдет таинственную красавицу, даже если придется искать ее всю жизнь!
Когда Золушка вернулась, мачеха и сводные сестры уже были дома.
– Опять бездельничала?! – зло крикнула мачеха.
Но тут в углу кухни она увидела два мешка – один с горохом, другой с фасолью, – и ее лицо еще больше перекосилось от злости.
Прошло некоторое время. Принц больше не давал балы во дворце, и разнесся слух, что он ищет ту самую таинственную красавицу, которая дважды появлялась на балу, но исчезала ровно в полночь. Говорили, что принц не может забыть эту девушку и женится только на той, кому придется впору хрустальная туфелька. Скоро принц прибыл и в дом, где жила Золушка. Мачехины дочери бросились примерять туфельку, только она никак не налезала на их большие ноги. Принц уже собирался уходить, но вдруг отец Золушки сказал:
– Подождите, ваше высочество, у нас есть еще одна дочка!
– Не слушайте его, ваше высочество, – вмешалась мачеха. – Разве это дочка? Это просто замарашка.
Принц грустно взглянул на грязную, одетую в лохмотья Золушку и вздохнул.
– Что ж, каждая девушка в моем королевстве должна примерить туфельку.
Золушка сняла грубый башмак и без труда надела туфельку на свою изящную ножку. Сестры застыли от изумления. А Золушка достала такую же туфельку и надела ее на другую ножку! Принц посмотрел в глаза девушке – и узнал ее.
– Это ты, моя прекрасная незнакомка!
Мачеха и ее дочери оцепенели, а в последующие дни у них было еще больше поводов для зависти. Принц женился на Золушке, и во дворце был дан великолепный бал, на котором Золушка была еще красивее, чем всегда, и, одетая в восхитительный наряд, танцевала с принцем до самого утра.
Принц и Золушка жили долго и счастливо. А мачеха и ее дочери так и не смирились со счастьем Золушки, от зависти тяжело заболели и вскоре умерли.
Давным-давно в небольшом домике на опушке леса жил дровосек с женой и семью сыновьями. Шестеро сыновей были высокими и крепкими, только седьмой не вышел ростом. Он был такой маленький, что его прозвали Мальчик-с-пальчик. Он действительно был ненамного больше пальца, но зато умом во сто крат превосходил любого здоровяка. Братья и даже отец часто обращались к нему за советом.
Семья была очень бедна. Особенно тяжело приходилось зимой, когда в лесу не было ни грибов, ни ягод. А тут еще выдался неурожайный год, и в стране наступил страшный голод. Так что нашим беднякам пришлось совсем туго.
Как-то братья отправились в лес за хворостом. Но хвороста попадалось мало, они шли все дальше и дальше в чащу и в конце концов заблудились.
Наступила ночь, и в лесу совсем стемнело. У братьев зуб на зуб не попадал от холода. Было очень тихо, только иногда издали доносился волчий вой. Детям стало страшно. Они еле держались на ногах от холода и усталости. Им чудилось, что со всех сторон воют волки, что сейчас они набросятся на них и съедят. Бедные ребятишки боялись произнести хоть слово, боялись оглянуться. А тут еще хлынул дождь и промочил их до костей. Они спотыкались, падали в грязь, поднимались и снова падали, но шли все дальше.
– Что же делать? – спросил старший брат.
Мальчик-с-пальчик огляделся вокруг.
– Надо забраться на высокое дерево. Там нас не достанут голодные волки, а мы сможем увидеть, в какой стороне наш дом.
Мальчик-с-пальчик забрался на самую верхушку сосны и крикнул:
– Жилье!
Далеко в лесу слабо мерцал огонек.
– Мы наверняка сможем там переночевать, – сказал Мальчик-с-пальчик. – Пойдемте скорее, пока мы совсем не окоченели.
Долго шли братья по глубокому снегу туда, где виднелся огонек.
Наконец они вышли к большому каменному дому. В одном из окон горел свет. Мальчик-с-пальчик постучал в тяжелую дубовую дверь.
– Кто там? – спросил женский голос.
– Мы сыновья дровосека, пошли за хворостом и заблудились. Впустите нас, пожалуйста. Мы замерзли и голодны.
Дверь отворилась, на пороге появилась женщина и спросила, что им нужно.
– Позвольте нам погреться у огня и съесть немного горячей еды, – обратился к ней Мальчик-с-пальчик.
– Тс-с! – шикнула женщина. – Тише! Мой муж скоро вернется с охоты. Если он увидит вас, тут же съест. Он людоед и особенно любит маленьких детей.
Братья замерли от ужаса.
– Может, господин людоед нас и не заметит, – сказал Мальчик-с-пальчик. – А далеко ли он охотится?
– Ровно в семидесяти милях, – ответила женщина. – Но это всего лишь десять шагов для него. Он носит семимильные сапоги. Он делает один шаг и проходит семь миль. Уходите, пока не поздно. Вам нужно бежать!
– Как же нам быть? Если вы нас прогоните, нас все равно этой же ночью съедят в лесу волки, – сказал Мальчик-с-пальчик. – Пусть уж лучше мы достанемся Людоеду. Может, он сжалится над нами, если вы, сударыня, заступитесь за нас.
Женщина тяжело вздохнула, но впустила братьев в дом.
Они едва успели немного отогреться, как раздался громкий стук.
– Это он! – в ужасе прошептала хозяйка. – Прячьтесь скорее!
Все братья быстро спрятались – кто под стол, кто под лавку. Хозяйка пошла открывать мужу дверь.
Людоед был огромного роста, самый настоящий великан. Его семимильные сапоги на первый взгляд ничем не отличались от обычных сапог, разве что были очень большими.
– Жена, дай мне поесть! – еще с порога рявкнул Людоед. – Я проголодался!
Жена подала ему на стол целого, даже еще не дожаренного барана и большущий кувшин с вином. Людоед жадно набросился на еду и вино.
После ужина Людоед снял сапоги и развалился на лавке.
– Чую запах человеческого мяса, – сказал он.
– Это, должно быть, пахнет теленком, с которого я только что сняла шкуру, – ответила ему жена.
– Нет, это пахнет свежим человеческим мясом! – закричал Людоед. – Кто это?! – И он вытащил из-под стола перепуганного Мальчика-с-пальчик.
– Это сынишки дровосека, – сказала побледневшая хозяйка дрожащим голосом.
– Ах, сынишки! – зарычал Людоед. – Значит, он тут не один! А ну, вылезайте! Жена, ты хотела меня надуть! За такой обман и тебя следовало бы съесть!
И он вытащил одного за другим всех братишек из-под кровати.
Бедные дети упали перед ним на колени. Они умоляли Людоеда пощадить их. Но он их не слушал. Великан схватил одного из мальчуганов за ногу и хотел было тут же с ним расправиться.
– Подождите, сударь! – воскликнул Мальчик-с-пальчик. – Ваша жена нашла нас в лесу и оставила для завтрака. Но мы сильно замерзли. А мясо, как известно, лучше сначала разморозить, чтобы оно стало нежнее.
– Это верно, – согласился Людоед и сказал жене: – Ты покорми ребят получше, чтобы они не похудели, да уложи их спать.
Женщина кивнула и отвела братьев в кладовку.
– А ты сообразительный, – шепнула она Мальчику-с-пальчик. – Я вам помогу. Сейчас напою мужа вином, а когда он уснет, приоткрою дверь, и вы сможете убежать.
– Договорились, – ответил Мальчик-с-пальчик.
Хозяйка с трудом вкатила в комнату огромную пузатую бочку.
– Выпей вина, дорогой, – предложила она.
Людоед одну за другой осушил несколько огромных кружек вина, и скоро его сморил сон.
– Скорее, – подгоняла братьев его жена. – Он уснул крепко, и все-таки бегите быстрее ветра, если вам дорога жизнь.
Братья выбежали в приоткрытую дверь и пустились бегом через лес.
Утром людоед проснулся и сразу почувствовал ужасный голод. Конечно, он тут же вспомнил о семерых мальчиках, которые уже наверняка разморозились. Людоед встал с лавки и заглянул в кладовку.
– Где они?! – зарычал он в ярости. – Неужели удрали? Жена, дай мне семимильные сапоги, от меня убежал завтрак!
Людоед бросился из дому. Огромными семимильными шагами он в мгновение ока пробежал через леса, поля, реки, озера, горы, даже деревни и города.
Наконец людоед устал, остановился, присел на скалу и задумался. Куда могли подеваться негодные, непослушные мальчишки? Вдруг на дороге появилась королевская карета. В окне ее показалась принцесса и с любопытством взглянула на Людоеда.
– Настоящий людоед! – воскликнула она и даже захлопала в ладоши от восторга.
Людоед, которому это польстило, галантно поклонился.
– Ваше высочество, не видели ли вы семерых мальчишек, удравших от меня?
– За пять дней, что я путешествую, мне не встретился никто, кроме вас, – ответила принцесса, хотя она и видела, как Мальчик-с-пальчик и его братья пробирались через лес по сугробам.
Людоед молча поклонился и отправился домой. «Нужно делать шаги поменьше, – решил он. – Они не могли далеко убежать. Поищу-ка я их поближе к дому».
Наконец Людоед добрался до леса, по которому, выбиваясь из последних сил, брели мальчики.
Но ведь и Людоед, не позавтракав и проделав в семимильных сапогах такой путь, очень устал. Ноги у него болели, и хотелось немного отдохнуть. Несмотря на мороз, он улегся под деревом, надвинул на глаза шляпу и задремал.
Тем временем братья вышли из чащи как раз в том месте, где спал великан. Они застыли как вкопанные, увидев своего преследователя, похрапывающего под деревом.
– Это людоед… Мы пропали! – прошептали братья.
– Как бы не так! – сказал Мальчик-с-пальчик. – Спрячьтесь в кустах, сидите тихо и ждите меня. А если людоед меня схватит, бегите домой.
Мальчик-с-пальчик подкрался к Людоеду, осторожно стащил с него семимильные сапоги и вернулся к спрятавшимся в кустах братьям. Людоед по-прежнему спал.
– А теперь, – сказал Мальчик-с-пальчик, – бежим скорее!
Собрав последние силы, братья бросились через лес и вскоре прибежали к своему домику, где их ждали родители.
Людоед проснулся и, увидев, что кто-то украл его сапоги, закричал так громко, что с деревьев осыпался снег.
– Воры! Ограбили! – кричал он, размахивая огромными ручищами.
Без семимильных сапог ему трудно было догнать даже замерзшего, голодного зайца. Пришел конец его владычеству. С тех пор Людоед затосковал, однажды ушел из дому, и больше его никто не видел.
А семья дровосека по-прежнему жила бедно, впроголодь. Часто братья ложились спать без ужина, но все равно росли и мужали не по дням, а по часам. Даже Мальчик-с-пальчик немного подрос, хотя, как и раньше, рядом с высокими и крепкими братьями выглядел маленьким и слабым. Ну и что, зато он стал еще смышленее и все чаще задумывался над тем, как бы заработать денег для родителей.
Однажды Мальчик-с-пальчик достал из старого сундука пару сапог с золотыми пряжками, которые он стащил у злого людоеда. Все-таки это были семимильные сапоги, так почему же не извлечь из них пользу?
– Я пойду в королевский дворец, – сказал родителям Мальчик-с-пальчик, – и поступлю на службу к королю. Буду гонцом: стану разносить королевские письма и указы.
– Это очень нелегко, – вздохнул отец.
– Что ты, отец! У меня же есть семимильные сапоги!
Мальчик-с-пальчик обулся и пустился в путь.
Не успел он сделать и нескольких шагов, как был уже во дворце. Король, королева и все придворные выглядели очень печальными.
– Что случилось, ваше величество? – спросил Мальчик-с-пальчик.
– Беда! – ответил король. – Враг наступает, а мои войска стоят за сто миль отсюда и ничего не подозревают. Ни один гонец, даже на самом быстром коне, не успеет доставить им сообщение.
– Поручите это мне, ваше величество, – сказал Мальчик-с-пальчик, – и я вмиг доставлю послание!
– Отправляйся скорее! – воскликнул король. – Если исполнишь приказ, я осыплю тебя золотом!
Мальчик-с-пальчик мигом очутился в военном лагере и отдал письмо королевскому генералу, а потом так же быстро вернулся во дворец.
– Вот чудеса! – закричал радостно король, прочитав письмо от генерала. – Благодарю тебя за добрые вести и назначаю королевским гонцом. За каждое принесенное письмо ты будешь получать тысячу золотых.
Так и стал Мальчик-с-пальчик носиться по свету с королевскими письмами и поручениями. Когда же он стер до дыр семимильные сапоги и скопил достаточно денег, то вернулся в родной маленький домик на опушке леса.
Теперь семья дровосека не знала нужды. Мальчик-с-пальчик и его братья стали всеми уважаемыми людьми. Правда, Мальчик-с-пальчик так и остался самым маленьким среди братьев, зато все, и даже сам король, всегда спрашивают у него совета.
Давным-давно жили на свете король с королевой. Детей у них не было, а им очень хотелось иметь наследника. И вот наконец родилась у них дочка. Родители были так счастливы, что устроили пышные крестины и пригласили в гости семь фей.
Веселье было в разгаре, когда по залу вдруг пролетел холодный ветер и огонь в камине заметался. Шум и музыка стихли. У дверей неожиданно появилась восьмая фея, одетая во все черное. Ее почему-то забыли пригласить на крестины.
Королю было очень неловко и стыдно за свою забывчивость, и он попытался исправить положение: вел себя с феей очень любезно и оказывал ей всяческие знаки внимания.
Когда пир закончился, семь фей подошли к колыбельке принцессы. Первая фея одарила ее красотой, вторая – добрым сердцем, третья – обаянием, четвертая – умом, пятая – остроумием, шестая – ловкостью, а седьмая – прелестным голосом.
Наконец настал черед последней, восьмой феи. Она подошла к колыбельке, достала волшебную палочку, коснулась ею маленькой принцессы и зловеще прошипела:
– Когда принцессе исполнится пятнадцать лет, она уколет веретеном палец и заснет навеки!
– Значит, так ты отблагодарила нас за гостеприимство? – воскликнул король. – Стража, схватить ее!
Стражники бросились выполнять приказ, но алебарды выпали у них из рук, а ноги одеревенели. Злая фея громко расхохоталась:
– Против меня вы бессильны!
Она снова взмахнула волшебной палочкой и сказала:
– Когда принцесса уколется о веретено, весь дворец, каждый человек и каждое живое существо заснут навеки!
С этими словами злая фея исчезла.
Заговорила одна из оставшихся фей:
– Друзья мои, не бойтесь! Принцесса не будет спать вечно. Явится прекрасный принц, снимет заклятие, и она проснется!
– Когда же, когда это случится? – наперебой спрашивали фею.
– Этого никто не знает. Может, через сто лет, а может, и раньше.
– О горе нам, о горе! – запричитали король с королевой, а с ними придворные и гости.
На следующее утро король проснулся угрюмый и молчаливый. Во дворце стояла гнетущая тишина.
– Глашатаи, ко мне! – крикнул король. – Объявите повсюду мой приказ: все жители королевства должны срочно принести на главную площадь свои веретена, которые будут там сожжены, а пепел развеян по ветру. Каждому, кто ослушается приказа, отрубят голову!
И глашатаи отправились в путь.
Повинуясь королевскому приказу, перепуганные подданные несли свои веретена на главную площадь. Казалось, уже нигде не было ни одного веретена, которым бы королевская дочка могла уколоться. Но король никому не доверял, и нанятые им сыщики постоянно рыскали по домам в поисках спрятанных веретен.
Шли годы. Принцесса выросла и превратилась в красивую и умную девушку. В день, когда принцессе исполнилось пятнадцать лет, она, как всегда, побежала в сад поиграть со своей любимой собачкой. Принцесса зашла в самый дальний, всеми давно забытый уголок сада, где никогда раньше не бывала, и вдруг увидела за деревьями высокую мрачную башню. Охваченная любопытством, девушка поднялась по крутым ступеням и толкнула тяжелую дубовую дверь. В маленькой комнатке у какого-то странного приспособления сидела сухонькая сгорбленная старушка.
– Здравствуйте, бабушка! Что это такое? – спросила девушка.
– Здравствуй, милая. Это прялка и веретено, – ответила старушка.
– А что вы делаете? – не унималась принцесса.
– Я пряду, – ответила старушка. – Хочешь, и тебя научу?
– Как интересно! Конечно, хочу! – воскликнула принцесса и коснулась веретена.
Вдруг острая боль пронзила ей руку. На безымянном пальце заблестела капля крови.
В ту же секунду молния пронзила небо и раздался гром.
Принцесса расплакалась, выбежала из башни и бросилась во дворец.
Навстречу ей уже спешили король с королевой. Увидев кровь на пальце дочери, королева упала в обморок, а король смертельно побледнел.
Ничто не помогло! Сбылось проклятие злой феи! В тот же миг все обитатели замка заснули, прямо там, где стояли. Отовсюду раздавался мерный храп.
Теперь оставалось только ждать прекрасного и смелого принца…
Прошло сто лет. Густые кроны деревьев скрыли заснувший дворец от человеческих глаз, дороги к нему заросли колючим кустарником.
В одном дальнем королевстве был юный принц. Ему очень нравились таинственные истории, и он мечтал найти клад или спасти прекрасную принцессу. Услышав легенду о заколдованном дворце, он тут же воскликнул:
– Эй, слуги, седлайте коней! Мы отправляемся в путь!
Они долго ехали по разбитым дорогам и темным чащам и всех встречных расспрашивали о заколдованном дворце. Но никто не мог сказать, где его найти. Лишь через много дней принц и его свита с вершины высокого холма, откуда все окрестные поля, леса и горы были как на ладони, разглядели поросший мхом дворец, похожий на спящего каменного великана.
Пришпорив коня, принц поскакал вперед.
И вот он въехал во двор. Стояла мертвая тишина. По обе стороны от ржавых ворот похрапывали два стражника. Даже собаки спали во дворе рядом с фонтаном. Значит, люди говорили правду!
Распахнув высокие двери в королевские покои, принц увидел спящую принцессу.
Она так безмятежно спала и была так прекрасна, что принц застыл на месте, не в силах шевельнуться. Он подошел к ее ложу и опустился на колени. Потом наклонился и с замирающим сердцем поцеловал ее. В тот же миг девушка открыла глаза.
– Это вы, мой принц! – воскликнула она.
Вместе с принцессой проснулся весь дворец. Стражники, кряхтя, поднялись с земли, собаки весело залаяли, а в кухне впервые за сто лет опять загремели кастрюлями.
В дверях стояли король, королева и придворные. Все сияли от счастья.
– Да здравствует наш спаситель! – воскликнул король. – Такого прекрасного молодого человека стоило ждать целых сто лет! За то, что вы сняли с моего королевства страшное заклятие, я выполню любое ваше желание!
Принц склонил голову.
– Только одно смею я просить у вас, ваше величество, – руку вашей прекрасной дочери.
Король и королева переглянулись.
– Я с радостью отдам ее тебе, – ответил король.
Счастливый принц взял свою невесту за руку, а королева улыбнулась.
– Добро пожаловать на пир, ваше высочество, – пригласил король, смеясь. – Я уже сто лет ничего не ел!
– Да, да, – подтвердили проголодавшиеся придворные.
В камине главного зала уже полыхал огонь. Зазвучали молчавшие сто лет инструменты музыкантов. Жаркое аппетитно пахло, вино лилось рекой. Принцесса сидела рядом с прекрасным принцем, и они были очень счастливы.
На следующий день сыграли пышную свадьбу. Принцесса получила в приданое полкоролевства, и принц правил им мудро и справедливо. Веретена уже никто не запрещал, и в каждом доме снова зазвучал забытый стук прялки.
У одного богатого и могущественного короля жена была самой красивой и умной женщиной на свете. Супруги жили дружно и счастливо, но у них не было детей. Один из друзей короля умер, и сиротой осталась его дочь, молодая принцесса. Но король с королевой тотчас перевезли ее к себе во дворец и стали воспитывать как родную. Вскоре королева опасно заболела. Она все слабела и слабела, и доктора в один голос сказали, что королева уже не встанет с постели. Чувствуя приближение смерти, она подозвала короля и сказала ему слабым голосом:
– Я знаю, что скоро умру. Я хочу попросить только об одном: если вы захотите жениться во второй раз, то женитесь только на той женщине, которая будет красивее и лучше меня.
Король, громко рыдая, обещал королеве исполнить ее желание, и она умерла.
Похоронив жену, король не находил себе места от горя. Однажды к нему явились министры и стали просить его, чтобы он перестал горевать и поскорее женился. Король даже и слышать не хотел об этом.
– Я обещал покойной королеве жениться во второй раз, если найду женщину, которая будет красивее и лучше ее, но такой женщины нет во всем свете. Поэтому я никогда не женюсь, – сказал он.
Тогда министры стали каждый день показывать ему портреты самых замечательных красавиц, чтобы король выбрал себе жену, но король говорил, что умершая королева была лучше, и министры уходили ни с чем.
Наконец главный министр сказал королю:
– Ваше величество, неужели ваша воспитанница кажется вам и по уму и по красоте хуже покойной королевы? Она так умна и красива, что лучшей жены вам не найти!
Королю показалось, что его молодая воспитанница-принцесса и в самом деле лучше и красивее королевы, и, не отказываясь более, он согласился жениться на воспитаннице.
Министры и все придворные были довольны, но принцессе это показалось ужасным. Ей вовсе не хотелось стать женой старого короля. Однако тот не слушал ее возражений и приказал ей как можно скорее готовиться к свадьбе.
Принцесса вспомнила о своей тетке, волшебнице, и решила посоветоваться с ней. В ту же ночь она отправилась к волшебнице.
– Потребуй у короля платье, голубое, как небо. Такого платья он не сможет тебе достать, – сказала волшебница.
Принцесса поблагодарила волшебницу за совет и вернулась домой. На следующее утро она сказала королю, что до тех пор не согласится выйти за него замуж, пока не получит от него платья, голубого, как небо.
Король немедленно созвал самых лучших мастеров и приказал им сшить платье, голубое, как небо.
На другой же день мастера принесли заказанное платье, и в сравнении с ним сам голубой небесный свод, окруженный золотыми облаками, показался не таким красивым.
Получив платье, принцесса испугалась. Она опять поехала к волшебнице и спросила, что ей теперь делать. Волшебница была очень раздосадована, что замысел ее не удался, и велела принцессе потребовать у короля платье лунного цвета.
Король послал за самыми искусными мастерами и таким грозным голосом отдал им приказание, что не прошло и суток, как мастера уже принесли платье.
При виде этого прекрасного наряда принцесса загоревала еще сильнее.
Волшебница явилась к принцессе и, узнав о второй неудаче, сказала ей:
– Ив тот, и в другой раз королю удалось исполнить твою просьбу. Потребуй у него платье, блестящее, как солнце.
Принцесса согласилась и потребовала от короля такое платье. Король отдал все бриллианты и рубины из своей короны, лишь бы платье блестело, как солнце. Поэтому, когда платье принесли и развернули, все сейчас же зажмурились: оно и вправду блестело, как настоящее солнце.
Не радовалась одна принцесса. Волшебница была очень опечалена тем, что все ее советы ни к чему не привели.
– Ну, теперь, дитя мое, – сказала она принцессе, – потребуй у короля шкуру его любимого осла. Уж ее-то он наверняка не даст тебе!
А надо сказать, что осел, шкуру которого волшебница велела потребовать у короля, был не обыкновенный. Каждое утро он вместо навоза покрывал свою подстилку блестящими золотыми монетами.
Принцесса обрадовалась. Она весело побежала к королю и потребовала ослиную шкуру.
Король хотя и удивился, но, не раздумывая, исполнил ее желание. Осла убили и его шкуру торжественно принесли принцессе. Теперь-то уж она совсем не знала, что ей делать.
– Не горюй так сильно, милая! – сказала волшебница. – Завернись в ослиную шкуру и поскорее уходи из дворца. С собой ничего не бери: сундук с твоими платьями будет следовать за тобой под землей. Вот тебе моя волшебная палочка. Когда понадобится сундук, ударь палочкой по земле, и он явится перед тобой.
Принцесса поцеловала волшебницу, натянула на себя мерзкую ослиную шкуру, вымазала лицо сажей, чтобы ее никто не узнал, и вышла из дворца.
Исчезновение принцессы произвело большой переполох. Король разослал в погоню за принцессой тысячу всадников. Но волшебница сделала принцессу невидимой для глаз королевских слуг, и королю пришлось отказаться от напрасных поисков.
А принцесса между тем заходила во многие дома и просила взять ее хоть служанкой. Но никто не хотел брать принцессу к себе, потому что в ослиной шкуре она казалась необыкновенно безобразной.
Наконец она дошла до какого-то большого дома. Хозяйка этого дома согласилась принять бедную принцессу к себе в работницы. Принцесса поблагодарила хозяйку и спросила, что она должна делать. Хозяйка велела ей стирать белье, смотреть за индюшками, пасти овец и чистить свиные корыта.
С первого же дня прислуга стала грубо насмехаться над девушкой, однако понемногу к ней привыкли. К тому же работала она очень усердно, и хозяйка не позволяла ее обижать.
Однажды в доме был праздник и принцессу не заставляли работать. Она воспользовалась этим и решила нарядиться в одно из своих богатых платьев.
Принцесса ударила по земле волшебной палочкой, и сундук с нарядами явился перед ней. Принцесса достала голубое платье, которое получила от короля, ушла в свою комнатушку и стала наряжаться.
Она посмотрела на себя в зеркало, полюбовалась чудесным нарядом и с тех пор каждый праздник наряжалась в свои богатые платья. Но, кроме овец да индюшек, никто об этом не знал. Все видели ее в гадкой ослиной шкуре и даже прозвали Ослиной Шкурой.
Как-то молодой королевич возвращался с охоты и заехал в дом, где служила Ослиная Шкура. Он отдохнул немного, а потом принялся бродить по дому и по двору. Случайно он забрел в темный коридор, в конце которого находилась запертая дверь. Королевич был очень любопытен, и ему захотелось узнать, кто живет за этой дверью. Он заглянул в щелку. Каково же было его удивление, когда он увидел в маленькой тесной комнатушке прекрасную нарядную принцессу! Он побежал к хозяйке узнать, кто эта девушка.
Ему сказали, что там живет служанка, которую взяли в дом пасти овец да чистить свиные корыта.
Больше королевич ничего не узнал. Он возвратился во дворец, но не мог забыть красавицу, которую случайно увидел в дверную щелку. Он жалел, что не зашел тогда в комнату и не познакомился с ней.
Беспрерывно думая о чудесной красавице, королевич тяжело заболел. Король и королева, его родители, были в отчаянии. Они призвали докторов, но доктора ничего не могли сделать. Наконец они сказали королеве: наверное, ее сын заболел от какого-то большого горя. Королева стала расспрашивать сына, что с ним случилось.
– Я хочу, чтобы Ослиная Шкура испекла пирог и принесла его, как только он будет готов, – сказал королевич.
Королева удивилась, позвала придворных и спросила, кто такая Ослиная Шкура.
– Ах, это гадкая грязнушка! – объяснил один придворный. – Она живет недалеко отсюда и пасет овец и индюшек.
– Ну, кто бы ни была эта Ослиная Шкура, – сказала королева, – пусть она сейчас же испечет пирог для королевича!
Придворные побежали к Ослиной Шкуре и передали ей приказание королевы. Принцесса заперлась в своей комнатушке, сбросила ослиную шкуру, вымыла лицо и руки, надела чистое платье и принялась готовить пирог. Муку она взяла самую лучшую, а масло и яйца – самые свежие.
Замешивая тесто, нарочно или нечаянно, она уронила с пальца колечко. Оно упало в тесто и осталось там. Когда пирог испекся, принцесса надела противную шкуру, вышла из комнаты, подала пирог придворному и спросила его, идти ли ей с ним к королевичу. Но придворный даже не захотел отвечать ей и побежал с пирогом во дворец.
Королевич выхватил пирог из рук придворного и принялся есть его так поспешно, что все доктора качали головами и разводили руками.
Королевич чуть не подавился кольцом, которое оказалось в одном из кусков пирога. Но юноша быстро вынул колечко изо рта и после того стал есть пирог уже не так поспешно. Он долго рассматривал колечко. Оно было такое маленькое, что могло прийтись впору только самому хорошенькому пальчику на свете. Королевич то и дело целовал колечко, потом спрятал его под подушку и доставал оттуда всякий раз, когда думал, что на него никто не смотрит.
Все это время он думал об Ослиной Шкуре, но вслух говорить о ней боялся. Поэтому болезнь его усиливалась, и доктора не знали, что и подумать. Наконец они объявили королеве, что сын ее болен от любви.
– Сын мой, – сказал опечаленный король, – назови нам девушку, которую ты любишь. Обещаем, что женим тебя на ней, будь она даже самая последняя служанка!
– Дорогие отец и мать! – сказал растроганный королевич. – Я и сам не знаю, кто та девушка, которую я так горячо полюбил. Я женюсь на той, которой это колечко будет впору, кто бы она ни была.
Он вынул из-под подушки колечко Ослиной Шкуры и показал его королю и королеве.
Король с королевой взяли колечко, с любопытством рассмотрели его и, решив, что такое колечко может прийтись впору только самой прекрасной девушке, согласились с королевичем.
Король приказал немедленно разослать по всему городу скороходов, чтобы они созывали во дворец всех девушек примерять колечко.
Скороходы бегали по улицам и возглашали, что девушка, которой колечко придется впору, выйдет замуж за молодого королевича.
Сначала во дворец явились принцессы, затем придворные дамы, но ни одна не могла надеть его. Пришлось пригласить швеек. Они были хорошенькие, но пальцы их оказались слишком толсты и не пролезали в колечко.
Наконец очередь дошла до служанок, но и их постигла неудача. Тогда королевич приказал призвать кухарок, судомоек, свинопасок. Однако их огрубевшие от работы пальцы не могли пролезть в колечко дальше ногтя.
– А приводили Ослиную Шкуру, которая недавно испекла пирог? – спросил королевич.
– Ослиную Шкуру не позвали во дворец, потому что она слишком грязная и противная! – захохотали придворные.
– Сейчас же послать за ней! – приказал королевич.
И придворные, посмеиваясь, побежали за Ослиной Шкурой.
Принцесса слышала бой барабанов, крики скороходов и догадалась, что вся эта суматоха – из-за ее колечка. Она очень обрадовалась, когда увидела, что идут за ней. Она поскорее причесалась и нарядилась в платье лунного цвета. Как только принцесса услышала, что ее зовут к королевичу, она поспешно накинула поверх платья ослиную шкуру и отворила дверь.
Придворные с насмешками объявили Ослиной Шкуре, что король хочет женить на ней своего сына, и повели ее во дворец.
Удивленный необычным видом Ослиной Шкуры, королевич не мог поверить, что это та самая девушка, которую он видел сквозь дверную щелку. Опечаленный и смущенный, королевич спросил:
– Это вы живете в конце темного коридора, в том большом доме, куда я недавно заезжал с охоты?
– Да, – ответила она.
– Покажите мне свою руку, – продолжал королевич.
Каково же было изумление короля и королевы и всех придворных, когда из-под ослиной шкуры показалась маленькая нежная ручка и кольцо пришлось девушке впору. Тут принцесса сбросила с себя ослиную шкуру. Королевич, пораженный ее красотой, бросился к ее ногам, не помня себя от радости.
Вдруг потолок раскрылся и в зал на колеснице из сиреневых цветов и веток спустилась волшебница и рассказала всем историю принцессы.
Король и королева, выслушав этот рассказ, сразу полюбили принцессу и выдали ее замуж за своего сына.
На свадьбу съехались короли разных стран. Ее отпраздновали с роскошью и пышностью. Но королевич и его молодая жена смотрели только друг на друга и только друг друга и видели.
Давным-давно в старом бедном домике на опушке леса жили брат и сестра, Жан и Мари. Отец их был дровосеком. Очень часто у них даже поужинать было нечем, и тогда вся семья ложилась спать голодной.
Единственным лакомством детей были ягоды. В воскресные дни Жан и Мари брали корзинки и отправлялись за ними в лес.
Как-то дети, собирая грибы и ягоды, очень увлеклись и не заметили, как наступил вечер. Солнце скрылось за темными тучами, а ветки деревьев зловеще зашумели. Мари и Жан в страхе огляделись вокруг.
– Похоже, мы заблудились, – сказала Мари.
– Я боюсь, – пролепетал Жан.
Стало совсем темно. Мари обняла брата, и дрожащие от холода дети прижались друг к другу. Где-то ухала сова, а издалека доносился вой голодного волка.
Дети, прислушиваясь к зловещим голосам, всю ночь так и не сомкнули глаз. Наконец блеснуло солнце, и постепенно лес перестал быть мрачным и страшным. Жан и Мари поднялись и пошли искать дорогу домой.
Они шли по незнакомым местам. Кругом росли громадные грибы и ягоды, намного больше тех, что они обычно собирали. Все было каким-то необычным и странным.
Наконец Жан и Мари вышли на поляну, посреди которой стоял домик. Крыша у него была сделана из шоколадных пряников, стены – из розового марципана, а забор – из больших миндальных орехов. Вокруг него был сад, в котором росли разноцветные конфеты, а на маленьких деревцах висел изюм. Жан не поверил своим глазам.
– Пряничный домик! – радостно воскликнул он.
– Садик из конфет! – воскликнула и Мари.
Голодные дети бросились к чудесному домику. Жан тут же отломил от крыши кусок пряника и принялся за еду. Мари стала лакомиться марципановыми кирпичиками, миндалем с забора и изюмом с деревьев.
Когда дети наелись, им захотелось пить. Посреди садика был фонтан, в котором, переливаясь всеми цветами, журчала вода. Жан отхлебнул из фонтана и удивленно воскликнул:
– Да это же лимонад!
Но вдруг в саду появилась старушка.
– Вкусный домик, не правда ли, детишки? – спросила она.
– Мы потерялись в лесу… мы так проголодались… – пролепетала Мари.
Но старушка совсем не рассердилась.
– Входите в дом, дети, и получите кое-что повкуснее.
Однако, стоило двери домика захлопнуться за детьми, старушка из доброй и приветливой превратилась в злую ведьму.
– Вот вы и попались! – прохрипела она.
Не успели дети глазом моргнуть, как ведьма схватила Жана, втолкнула его в темный чулан и заперла за ним тяжелую дубовую дверь.
– Мари! – кричал бедный мальчик. – Мне страшно!
– Сиди тихо! – прикрикнула ведьма. – Ты ел мой дом, а теперь я съем тебя! Но сначала немножко откормлю – ты слишком худенький.
Жан и Мари громко заплакали. Родители были далеко, и никто не мог прийти к ним на помощь.
Злая ведьма подошла к чулану.
– Просунь-ка палец в щелку! – приказала она Жану.
Мальчик послушно просунул в щелку пальчик. Ведьма пощупала его и недовольно сказала:
– Одни кости. Ничего, через недельку ты у меня будешь толстеньким-претолстеньким.
И ведьма начала откармливать Жана. Каждый день она готовила ему что-нибудь вкусное, приносила много меда, марципанов, горы шоколада и изюма, а вечером приказывала просовывать в щелку пальчик и ощупывала его.
– Мой золотой, – говорила она, сладко улыбаясь, – ты толстеешь на глазах!
И правда, Жан быстро толстел. Мари не знала, что делать, но однажды придумала.
– Жан, в следующий раз покажи ей вот это, – сказала она и просунула в чулан тоненькую палочку.
Вечером ведьма велела Жану:
– Покажи пальчик, мой сладенький.
Жан просунул в щелку палочку, которую дала ему сестра. Старуха потрогала ее и закричала:
– Что такое? Опять одни кости!
На следующий день, когда Жан снова просунул в щелку палочку, ведьма не на шутку разозлилась.
– Не верю! Не может быть, чтобы ты был такой худой! Покажи-ка еще раз палец.
Жан снова просунул в щель палочку, но старуха вдруг дернула ее изо всей силы. Палочка осталась у нее в руке.
– Ах ты, обманщик! – крикнула она в ярости.
Ведьма открыла чулан и вытащила оттуда перепуганного Жана.
– Из тебя получится отличное жаркое! – кричала она.
Дети оцепенели от ужаса. А ведьма затопила печь, и через минуту она уже разгорелась.
Ведьма посадила Жана на большую деревянную лопату, на которой обычно кладут в печь хлеб, и попыталась сунуть в огонь. Но мальчик так растолстел, что не пролезал в печку.
– А ну, слезай! – приказала старуха. – Ложись-ка на лопату.
– Но я не знаю, как лечь, – захныкал Жан.
– Вот дурень! – буркнула ведьма. – Отойди! Я тебе покажу!
И она легла на лопату. В тот же миг Мари схватила лопату и сунула ведьму прямо в печь. Потом быстро закрыла железную дверцу и, схватив брата за руку, крикнула:
– Бежим скорее!
Дети выбежали из пряничного домика и со всех ног помчались прочь.
Не разбирая дороги, они долго бежали по лесу и замедлили шаг только тогда, когда на небе появились первые звезды.
Вдруг они заметили вдали слабый мерцающий огонек.
– Мари, это наш дом! – радостно крикнул запыхавшийся Жан.
Действительно, это был их старый, бедный, покосившийся домик.
На пороге стояли их мать и отец, с тревогой и надеждой вглядываясь в темноту.
Как же они обрадовались, когда увидели бегущих к ним детей!
А о злой ведьме, жившей в глухом лесу, никто больше никогда не слышал. Она так и сгорела в собственной печи, а ее пряничный домик развалился на тысячи крошек, которые склевали лесные птицы.
Жил да был дровосек. Сказать по правде, он был неудачник. Ему постоянно не везло, то дерево повалит на чужую кобылу, то лес запалит. Одним словом – неудачник. И сжалились над ним небеса. Прилетел однажды к нему ангел и сказал:
– Я выполню любые твои три желания.
Дровосек опешил и растерялся. Он попросил ангела обождать с желаниями и поспешил домой к жене. Она у дровосека была весьма сварлива, поэтому самолично принимать важные решения он не мог.
Придя домой и рассказав жене обо всем, что с ним произошло, дровосек поел и лег отдыхать, решив, что желания он станет загадывать завтра.
– Мы сможем стать самыми богатыми людьми на земле, – мечтала жена, – мы станем королями, и все нынешние правители будут присягать нам в верности.
– Да успокойся ты, – бурчал дровосек, – зачем тебе это?
– Как зачем? – удивилась жена. – Мне надоело жить в этой халупе, хочу жить в замке и чтобы за мной ходила свита фрейлин.
– А я бы хотел сейчас колбаски, – сладко зевнув, промолвил дровосек.
Не успел он это сказать, как из-за плиты вылезла большая палка колбасы и упала на стол. От удивления и неожиданности дровосек потерял дар речи. Он понял, что это было его первое желание. Но на его беду, это поняла и жена, которая также была свидетелем этого «чуда».
– Ты на что потратил свое желание, дуралей? – взвилась она. – Вместо того чтобы стать королем и купаться в алмазах, ты загадал палку колбасы, которую и я бы смогла тебе состряпать!
Понимание правоты жены расстроило дровосека.
– Ты права, дурак я дурак, – вздохнул он.
Но супруга не унималась, ее гнев был столь велик, что заткнуть фонтан ругани, извергавшийся из ее рта, было просто невозможно, равно как и продолжать его слушать. Тогда дровосек смекнул и потратил второе свое желание:
– Господи, если это в твоих силах, сделай так, чтобы моя жена замолчала, – взмолился дровосек под неумолкающую ругань жены.
А дальше произошло еще одно «чудо»: от палки колбасы, которая лежала на столе, отделился один кругляшок и прирос к носу жены дровосека. От неожиданности произошедшего она замолчала.
– Экий у тебя стал носик красивый, – с издевкой промолвил дровосек. Он ожидал, что его женушка разразится новым приступом брани, но она, пораженная ужасной переменой в своем облике, крутилась перед зеркалом, разглядывая свой нос.
Осталось одно желание, и дровосек решил, что надо отдать право им воспользоваться своей жене.
– Теперь, дорогая, у нас есть только одно желание, и сейчас ты можешь выбрать – или быть царицей с колбасным носом и купаться в бриллиантах, или остаться все той же женой дровосека, но вернуть себе свой нормальный нос, – ехидно подытожил он.
Нетрудно догадаться, что выбрала жена дровосека, она так и осталась в своей лачуге и так и не стала королевной.
Вот так часто бывает, что человек совершенно не ценит то, что у него есть, а только и делает, что мечтает о несбыточном.
Жили-были король и королева, у которых родились однажды дочки-близнецы. Родители пригласили на крестины фей. А в те далекие времена, если феи приходили крестить ребенка, они приносили ему в дар множество подарков. Они могли превратить обычного ребенка в красивейшего и умнейшего в мире. Но изредка феи, обидевшись на что-либо, могли пожелать младенцу много плохого, поэтому все родители старались всячески угодить феям.
И вот во дворце был устроен шикарный бал в честь крестин, ну и для того, чтобы феи остались довольны. Не успели феи приняться за еду, как появилась старая-старая фея, которую уже много лет никто не видел и которую никто на пригласил на бал. Королева затряслась от страшного предчувствия.
Старая карга подошла к кроватке первого ребенка и сказала:
– Я желаю тебе быть самой отвратительной и ужасной на всем белом свете.
Она подошла уже было к другой кроватке, но тут к ней подскочила молоденькая смелая фея, оставшаяся в тронном зале, и схватила ее за горб. Старуха от злости вспыхнула и сгорела. Вернувшиеся феи постарались наградить бедную пострадавшую малышку самыми лучшими своими дарами. Но королева была безутешна, видя, что с каждой минутой ее дочь становится все уродливей и уродливей.
Феи подумали, как можно помочь бедняжке, и сказали:
– Ваше величество, не печальтесь. Мы обещаем вам, что в один прекрасный день ваша дочь станет счастливейшей девушкой на свете.
– А будет ли она красивой? – спросила безутешная королева.
– Мы не можем всего объяснить, – ответили феи. – Но верьте нам – она будет счастливой.
Королева поблагодарила их. Первую дочь она назвала Дорагли, а вторую – Дорабелла. Дорагли с годами становилась все уродливее, а Дорабелла – все прекрасней. Когда Дорагли исполнилось 12 лет, она стала такой ужасной, что никто без брезгливости не мог даже смотреть на нее. Поэтому король купил самый отдаленный замок в королевстве и поселил ее туда жить в одиночестве. Она поехала туда со своей старой нянькой и несколькими слугами. Старый замок стоял на берегу моря. Здесь и жила Дорагли долгих два года.
Она занималась музыкой и живописью и даже сочинила целую книгу стихов. Но она очень скучала по родителям и однажды решила навестить их. Дорагли приехала как раз в то время, когда ее сестра выходила замуж за принца из соседнего королевства. Родственники были совсем не рады ей. Им было неприятно смотреть на ее уродство, и они боялись, что принц, увидев ее, откажется жениться на ее сестре, Дорабелле.
Бедная Дорагли сквозь слезы сказала им:
– Я приехала только, чтобы на минуточку увидеть вас. Я так скучала! Но вы не желаете меня видеть, и я сейчас же уезжаю обратно!
Она хотела было напомнить им, что ее уродство – это не ее вина, а их, но у нее было очень доброе сердце, и она не стала этого делать, а лишь в слезах покинула дворец.
Однажды, гуляя по лесу, она увидела огромную зеленую змею, которая, приподняв голову, сказала ей человеческим голосом:
– Доброе утро, Дорагли. Не грусти. Посмотри на меня. Я гораздо уродливей тебя. А когда-то я была привлекательной.
Дорагли очень испугалась и побежала домой. Пару дней она боялась выходить из дома, но однажды вечером, устав от однообразности дворцовых комнат, она вышла прогуляться на берег. Подойдя к берегу, она увидела роскошную маленькую золотую лодочку, всю усыпанную драгоценными камнями и сияющую в лучах заходящего солнца. Ее весла были сделаны из чистого золота. Лодочка потихоньку качалась на волнах, и Дорагли подошла посмотреть ее поближе. Она вошла в лодочку и спустилась в маленькую кабину, обшитую зеленым бархатом. Пока она рассматривала убранство каюты, подул ветер, и лодочка быстро поплыла в открытое море. Дорагли сначала пыталась остановить лодочку, но потом подумала:
– Я скорее всего погибну, и тогда мои страдания закончатся. Я такая уродина, что все ненавидят меня. Моя сестра стала королевой, а я осталась страшной уродиной. Только гадкие змеи хотят говорить со мной.
Вдруг среди волн появилась зеленая змея, которая сказала человеческим голосом:
– Дорагли, если ты не отвергнешь помощь гадкой змеи, я смогу спасти тебе жизнь и вернуть красоту.
– Лучше я умру, – сказала Дорагли, так как всю жизнь боялась змей.
Ни слова не сказав, змея исчезла в волнах.
«Это зеленое чудовище наводит на меня ужас. Я просто трясусь от страха, когда вижу эти глаза и жало, которое торчит из ее ужасной пасти. Лучше я погибну, чем доверю ей свою жизнь. Но почему она преследует меня? И как она научилась говорить?» – подумала Дорагли.
Вдруг ветер донес до нее слова:
– Принцесса, не будь жестока с зеленой змеей. Она может тебе помочь даже в том, в чем ты не предполагаешь. Позволь ей сделать это.
Тут налетел вихрь, он погнал лодку на рифы и, разбив ее вдребезги, стих. Дорагли схватилась за обломок лодки, едва умещаясь на нем. Вдруг она с ужасом поняла, что держится не за обломок лодки, а на зеленой змее. Через какое-то время они подплыли к скале, и змея, высадив Дорагли на берег, исчезла в волнах. Дорагли, в одиночестве сидя на скале, плакала, приговаривая: «Я спаслась от бури, но здесь я точно умру».
Приближался вечер. Вскарабкавшись на верхушку скалы, Дорагли прилегла и вскорости заснула. Во сне ей слышалась самая чудесная музыка, которую она когда-либо могла слышать. «Какой дивный сон», – подумалось Дорагли, и, потянувшись, она открыла глаза. Но как же она удивилась, когда неожиданно увидала вокруг себя не море и не скалу под собою, а кровать резного дерева в прекрасном золотом зале.
– Что это со мной и где я нахожусь? – удивилась Дорагли.
Неожиданно она услышала легкий стук в дверь. Подойдя и открыв ее, она обнаружила на пороге много маленьких куколок, живых, как обычные люди. Они были величиной не больше ладони, но хохотали и болтали, как люди. Куколки поздоровались с Дорагли и выразили надежду, что ей пришлось по вкусу в их чудесном королевстве.
– Наша дорогая гостья, – сказала самая маленькая куколка, – наш великий король приказал, чтобы мы сделали ваше пребывание здесь как можно счастливее. Поэтому мы в вашем распоряжении.
Они повели Дорагли в сад, где показали ей роскошный бассейн. Рядом с бассейном она увидела два больших стула.
– Чьи это? – спросила она.
– Один короля, – сказали куколки, – а второй – ваш.
– Но где же сам король? Я его не вижу, – сказала Дорагли.
– Он сейчас сражается на войне, – ответила одна из куколок.
– А у него есть жена? – поинтересовалась Дорагли.
– Нет, – ответила куколка. – Он еще не встретил свою мечту.
Искупавшись в бассейне, Дорагли надела роскошные одежды, которые принесли ей куколки. Они расчесали ее и украсили прическу драгоценными самоцветами. Дорагли была счастлива. Впервые в жизни она почувствовала себя принцессой.
Незаметно пролетела неделя. Дорагли была счастлива, куколки тоже. Они полюбили ее за доброе сердце. Однажды ночью, лежа в своей постели, она размышляла, что же будет дальше. Она чувствовала себя почему-то все равно одиноко.
«Это потому, что не знаешь любви, – ответил ее мыслям голос сверху. – Настоящее счастье приходит только к любящим людям».
– Кто из куколок разговаривает со мной? – поинтересовалась Дорагли.
– Это не куколка. Это я, владыка всех этих земель, моя дорогая. И я люблю вас всем своим сердцем.
– Король любит меня? – спросила пораженная Дорагли. – Вы, наверное, слепы. Я уродливее всех на свете.
– Нет, я прекрасно вижу вас и все же настаиваю, что вы самая прекрасная девушка на свете.
– Вы очень великодушны, – сказала Дорагли. – У меня нет слов.
Невидимый король больше не вымолвил ни слова в эту ночь. На следующий день Дорагли спросила куколок, не вернулся ли с полей сражений король, и их ответ: «Нет еще», очень ее удивил.
– Молод ли и хорош ли он собой? – спросила она.
– Да, – ответили куколки. – И еще он очень внимателен. Он сообщает нам новости о себе каждый день.
– Но знает ли он, что я здесь?
– Да, он знает о вас все. Каждый час скороходы доставляют ему подробный отчет о вашем пребывании в его королевстве.
С тех пор, почувствовав себя одиноко, Дорагли тут же слышала голос невидимого короля. Он всегда говорил ей приятные и нежные слова. Однажды ночью, проснувшись, она увидела рядом со своей кроватью туманный силуэт. Она решила, что это одна из куколок охраняет ее сон, и протянула руку, пытаясь дотронуться до фигурки. Вдруг кто-то начал целовать ее руку, и несколько капель слез пролилось на нее.
Дорагли вдруг поняла, что это невидимый король.
– Чего ты хочешь от меня? – спросила она. – Как я могу полюбить тебя, если никогда не видела твоего лица?
– Моя возлюбленная принцесса, – ответил невидимый король. – Дело в том, что я не могу показать тебе свое лицо. Злая старая колдунья, которая так жестоко поступила с тобой, наложила на меня семилетнее заклятье. Пять лет уже минуло, осталось лишь два года. И если ты сейчас согласишься выйти за меня замуж, они будут самыми счастливыми в моей жизни.
Тронутая добротой и благородством невидимого короля, Дорагли сразу же полюбила его и дала согласие выйти за него замуж. При этом она обещала, что не будет стараться увидеть его, пока не пройдут эти злополучные два года.
– Все дело в том, моя любимая, – сказал невидимый король, – что если ты нарушишь свой обет, то с этого момента семь лет заклятья начнутся вновь. А если ты сдержишь свое обещание, то я через два года предстану пред тобой самым красивым мужчиной на свете, и ты тоже станешь прекраснейшей из королев, поскольку и к тебе вернется твоя красота, отобранная злой колдуньей.
Дорагли пообещала ему быть терпеливой и нелюбопытной, и вскоре они поженились. Но однажды ночью она поставила у своей кровати лампу, и когда король подошел к ее кровати, она осветила его лицо. О ужас! Это был вовсе не король, а огромная зеленая змея.
– О боже! – вскричал, заливаясь слезами, король. – За что ты так поступила со мной, ведь я так сильно люблю тебя!
Дорагли в ответ только молча тряслась от страха. Зеленая змея исчезла. Утром явились куколки, очень грустные, поскольку только что получили новости, что злая колдунья наслала на их королевство врагов – марионеток. Куколки храбро сражались и победили их. Тогда колдунья закружила вихрь из пыли и грязи на все королевство невидимого короля. Уцелела только Дорагли. Марионетки взяли ее в плен и привели к старой колдунье.
– Здравствуй, дорогуша, – сказала старуха. – Мне кажется, что мы раньше встречались с тобой. – Она захохотала. – Я как-то раз преотличненько погуляла на твоих крестинах.
– Неужели, – взмолилась Дорагли, – ты тогда недостаточно наказала меня, сделав отвратительной уродиной? Зачем же сейчас ты продолжаешь делать мне больно?
– Ты слишком много болтаешь, – сказала старуха. – Эй, слуги, принесите железные башмаки и наденьте их на эту… королеву.
Слуги натянули узкие и тяжелые башмаки на королеву. Потом старуха дала ей ужасное веретено, колющее пальцы до крови, и спутанный клубок паутины.
– Распутай ее в течение двух часов и спряди в красивую пряжу.
– Я не умею прясть, но постараюсь, – ответила Дорагли.
Ее отвели в темную-претемную маленькую каморку и закрыли на замок. Дорагли несколько раз пыталась распутать паутину, но у нее ничего не получалось. Она до крови исколола себе пальцы.
Уронив голову на грудь, она горько зарыдала, вспомнив свою безмятежно-счастливую жизнь во дворце, которую она потеряла по собственной глупости.
Вдруг она услышала знакомый голос.
– Моя возлюбленная, зачем ты заставила меня так страдать? Но я люблю тебя и хочу, чтобы ты спаслась. У меня остался один друг – Фея Покровительница, и я попросил ее помочь тебе.
Тут кто-то три раза хлопнул в ладоши, и паутина Дорагли превратилась в прелестную пряжу.
Через два часа явилась колдунья, предвкушая расправу.
– Ну что же ты не напряла, гадкая ленивая девка? – еще с порога завопила она.
– Я сделала все, что смогла, – ответила Дорагли, протягивая ей моток красивой пряжи.
– Ты думаешь, что ты можешь перехитрить меня, – затряслась от злости ведьма. – Ну так вот, мое второе задание. Сплети из этой пряжи сеть, причем такую, чтобы ею можно было ловить рыбу.
– Но, бабуля, – отвечала ей Дорагли, – даже мухи иногда прорывают сеть из паутины.
– Я испепелю тебя, если ты не выполнишь мое задание, – злобно зашипела старуха.
Как только она покинула комнатушку, Дорагли горько заплакала и, воздев к небу руки, сказала:
– Фея Покровительница, умоляю тебя, помоги мне.
Не успела она договорить, как сеть была готова. Дорагли воздала хвалы фее и добавила:
– Мой любимый король! Только теперь я поняла, как не ценила твою любовь и причинила тебе столько страданий. Прости меня, если можешь.
Когда ведьма увидела сеть, она пришла в бешенство.
– Я заберу тебя к себе во дворец, и там уже никто не сможет тебе помочь! – вскричала она.
Она схватила Дорагли и велела слугам увезти ее на корабле к себе в замок. Ночью, сидя на палубе, Дорагли смотрела на звезды и оплакивала свою несчастную судьбу. Вдруг она услышала знакомый голос.
– Не беспокойся, любовь моя. Я спасу тебя.
Дорагли посмотрела на воду и увидела зеленую змею. Вдруг откуда ни возьмись появилась злая колдунья. Она никогда не спала и услышала голос невидимого короля.
– Зеленая змея! – закричала она страшным голосом. – Я приказываю тебе уплыть отсюда на самый край света и больше здесь не появляться. Ты же, Дорагли, увидишь, что я сделаю с тобой, когда мы прибудем на место.
Зеленая змея уплыла к месту своего заключения. Наутро корабль прибыл на место. Колдунья взяла Дорагли, привязала ей на шею огромный камень и дала в руки дырявое ведро.
– Взберись на скалу, – приказала она ей, – на вершине скалы растет лес, полный злобных зверей, которые охраняют колодец Знаний и Терпения. Иди туда и принеси мне ведерко, полное воды, из этого колодца. И поспеши, я даю тебе на это три года.
– Но как я могу взобраться на эту скалу? – взмолилась Дорагли. – Как я могу принести воды в дырявом ведерке?
– Меня не интересует, как ты исполнишь мой приказ, – захохотала ведьма, – сделай это, или я убью зеленую змею.
Дорагли пообещала себе, что зеленая змея больше никогда не пострадает из-за нее, и принялась за дело. Фея Покровительница помогала ей как могла. Поднявшийся сильный ветер забросил Дорагли на самую верхушку скалы. Фея усмирила диких зверей своим волшебством. После еще одного взмаха волшебной палочкой появилась колесница, запряженная двумя соколами. Дорагли начала горячо благодарить фею, но та, улыбнувшись, сказала:
– Зеленая змея попросила меня помогать тебе. Соколы вмиг доставят тебя до колодца Знаний и Терпения. Они также наполнят доверху водой твое ведерко. Когда ты получишь воду из колодца, омойся ею, и к тебе вернется твоя красота.
– Как это чудесно! – воскликнула Дорагли.
– Но ты должна поторопиться и сделать то, что я тебе скажу, прежде чем вернуться к колдунье. Твое заклятье сделало тебя рабыней ровно на семь лет. Птицы домчат тебя до леса. Пережди срок своего заклятья там.
Дорагли горячо поблагодарила фею и сказала:
– Все твои подарки и даже красота, которая должна вернуться ко мне, не принесут мне удовлетворения. Я не могу быть счастливой, пока страдает зеленая змея.
– Если ты будешь храброй все оставшиеся годы твоего заклятья, ты будешь свободна и зеленая змея тоже, – пообещала фея.
– Неужели такое долгое время я не увижу и не услышу его? – спросила Дорагли.
– К сожалению, нет, – ответила фея. – Твое заклятье не позволяет тебе получать от него вести.
Слезы брызнули из глаз Дорагли при этих словах. Она села в колесницу, и соколы помчали ее к колодцу Знаний и Терпения. Когда они наполнили ее ведерко водой так, что не пролилось ни капельки, Дорагли подумала: «Эта вода может сделать меня мудрее. Я, пожалуй, выпью глоток и стану разумнее. А уж потом умоюсь, чтобы быть красивой». Она сначала выпила глоток волшебной воды. Потом умылась. Она стала такой привлекательной, что все птицы вокруг сразу же запели, глядя на ее красоту.
Тут же появилась добрая фея и сказала:
– Твое желание стать мудрее, чем красивее, радует меня. И я сокращу твое заклятье на три года. Но посмотри на себя. Какой прекрасной ты стала, ты не можешь называться больше Дорагли. Я дала тебе новое имя – королева Дискрит.
Перед тем как исчезнуть, фея коснулась ног королевы, и тесные уродливые железные башмаки превратились в пару золотых туфелек. Птицы примчали королеву Дискрит в лес. Как прекрасно там было. Райские птицы пели на райских деревьях, а звери вокруг говорили человеческими голосами.
– Фея прислала нам гостью, – оповестили соколы всех вокруг. – Это королева Дискрит.
– О, как она прекрасна! – зашумели звери. – Стань, пожалуйста, нашей повелительницей!
– С удовольствием, – сказала Дискрит. – Но скажите мне сначала, что это за место, где мы сейчас находимся?
Старый и мудрый крот ответил ей:
– Много-много лет назад феи устали бороться с людской ленью, ложью и бездельем. Сначала они пытались образумить людей, но потом рассердились на них и превратили хамов в свиней, болтливые сплетницы стали попугаями или курицами, а лгуны – обезьянами. Этот лес стал их домом. Они будут здесь находиться до тех пор, пока феи не посчитают, что они достаточно проучены.
Звери очень полюбили добрую и мудрую Дискрит. Они собирали для нее орехи, кормили ее ягодами и развлекали сказками. Поистине, любой бы обрел счастье в этом раю. Но Дискрит постоянно мучилась мыслями о том, какое несчастье она принесла зеленой змее. Быстро пролетели три года.
Королева Дискрит опять надела свои железные башмаки, взяла ведерко с водой мудрости, надела на шею цепь с камнем и попросила соколов отправить ее к старой ведьме.
Старуха очень удивилась, когда увидала ее. Она думала, что Дискрит уже давно умерла, или ее растерзали дикие звери в лесу. Но вот перед ней стояла живая и здоровая Дискрит и протягивала ей ведерко с волшебной водой. Увидев ее лицо, ведьма впала в неописуемую ярость.
– Что сделало тебя такой красивой? – зарычала она диким от злобы голосом.
– Я умылась водой мудрости, – сказала королева.
– Ты посмела ослушаться меня, – закричала колдунья, в ярости топая ногами. – Я накажу тебя. Отправляйся в своих железных башмаках на край света. Там в глубокой яме лежит бутыль с эликсиром долголетия. Принеси ее мне. Я запрещаю тебе открывать бутыль. Если ты ослушаешься меня, твое заклятье будет длиться вечно.
Слезы навернулись на глаза Дискрит. Увидев их, колдунья злорадно засмеялась.
– Беги быстрее, – зашипела она. – И попробуй не выполнить мой приказ!
Принцесса побрела, даже не зная, где находится этот конец света. Она шла много-много дней и ночей, но однажды ее израненные и кровоточащие ноги подкосились от усталости. Она упала на землю и подумала, что умирает и сожалеет только о том, что больше не увидит зеленой змеи. Вдруг перед ней появилась добрая фея и сказала ей:
– Дискрит, знаешь ли ты, что ты сможешь расколдовать зеленую змею только в том случае, если принесешь колдунье эликсир долголетия?
– Я обязательно дойду туда, – пообещала Дискрит. – Но как мне узнать, где находится край света?
– Возьми эту волшебную ветвь, – сказала фея, – и воткни ее в землю.
Поблагодарив фею, королева все исполнила, как она велела. Со страшным гулом перед ней раздвинулась земля, и королева увидела глубокую темную яму. И хотя она очень боялась, смело спустилась на ее дно. Отвага была заслуженно вознаграждена. Внизу ее ждал красивейший юноша на свете, и Дискрит поняла, что это зеленая змея. Увидев ее, король лишился дара речи, пораженный ее красотой.
Долгое время они сидели, обнявшись и плача от счастья. Затем появилась колдунья, охраняющая эликсир, и вручила Дискрит бутыль. Как будто чтобы испытать ее, бутыль была открыта. Но Дискрит хорошо помнила уроки судьбы и преодолела искушение отпить из бутыли.
Король и королева принесли эликсир старой ведьме. Выпив его за один глоток, она стала такой красивой и доброй, что сразу же забыла про все те гадости, которые она делала в жизни. Взмахнув своей палочкой, она превратила разрушенное королевство зеленой змеи в еще более прекрасное, чем прежде. Затем она отослала прекрасного короля и мудрую королеву домой к своим любимым куколкам.
Там они и прожили долго и счастливо много-много лет.
Жили-были однажды дед со старухой. Как-то раз, убираясь в сарае, дед нашел медную монетку.
– Что мы будем с ней делать? – спросил дед.
– Поедем завтра на базар и купим курицу, – ответила старуха.
Утром они отправились на базар и купили курицу. Она снесла им много яиц, старуха их удачно продала на базаре, и зажили они с дедом припеваючи.
Через некоторое время, убираясь в сарае, дед опять нашел медную монетку.
– Что мы будем с ней делать теперь? – спросил он.
– Поедем на базар и купим петуха, – ответила жена.
Они отправились на базар и купили петушка. Курочка с петушком привели цыплят, которых старуха продала на базаре, и зажили они лучше прежнего.
Через несколько дней старик опять нашел монетку в сарае. На нее была куплена коза. Старуха доила много молока и продавала его. Их семья стала еще богаче. Прошло еще немного времени, и во все том же сарае дед нашел еще одну монетку. На нее старуха купила на базаре козла. Козел с козой наплодили козлят, которых дед с бабкой продали на базаре, еще больше пополнив свою копилку. Спустя несколько дней в сарае опять была найдена монетка, но уже золотая. На нее старики купили себе корову, а на следующую монетку, которая не замедлила с появлением, купили быка. Так их хозяйство разрослось, а копилка стала наполняться быстрее.
Однажды, убираясь в сарае, бабка опять нашла монетку и купила большого пушистого кота. Кот тут же переловил в доме всех мышей, которые портили хозяйское добро, и дед со старухой не могли на него нарадоваться.
Когда в сарае была найдена еще одна монетка, то старики стали думать, что бы на нее купить.
– Теперь мы достаточно богаты, – сказала бабка. – Давай построим хрустальный мост.
И мост был построен, но вот насколько крепок он получился? Решили дед да бабка проверить и пустили по нему курочку. Она прошлась по мосту туда-сюда – мост выдержал. Следом за курочкой, гордо звеня шпорами, прошелся петушок, и опять-таки мост устоял. Потом по нему пускали козу и козла, корову и даже быка. Мост даже не треснул. И вот пришла очередь кота. Как только кот дошел до середины моста – раздался треск и мост развалился.
Так кто же был всех тяжелее? Кот! А почему? Потому что он пил много молока!
Однажды зимой королева сидела у окна и шила. Она загляделась на кружащиеся в воздухе снежинки и уколола иглой палец. На снег упали капельки крови.
«Пусть у меня родится дочка с кожей, белой как снег, щеками, румяными как кровь, и волосами, черными как дерево», – подумала королева.
Вскоре королева родила дочку, белую как снег и румяную как кровь, а волосы у нее были как черное дерево. Прозвали девочку Белоснежкой. Но когда она родилась, королева умерла.
Через год король женился на другой. Она была очень красива, но горда и высокомерна и не терпела, если кто-то превосходил ее красотой. У нее было волшебное зеркальце, она часто спрашивала его:
– Кто под солнцем и луной
Затмевает всех красой?
А зеркальце ей отвечало:
– Краше вас я не встречало.
Белоснежка тем временем росла и хорошела. Когда ей исполнилось семь лет, королева опять спросила у зеркальца:
– Кто под солнцем и луной
Затмевает всех красой?
А зеркальце промолвило с усмешкой:
– Прекраснее вас Белоснежка.
Королева позеленела от злости и зависти и с того дня возненавидела падчерицу.
Позвала она как-то одного из своих егерей и приказала:
– Заведи Белоснежку подальше в лес, убей и принеси мне ее сердце.
Егерь повел девочку в лес, но когда он вытащил охотничий нож и хотел уже пронзить сердце Белоснежки, она заплакала и стала просить:
– Милый егерь, сжалься, оставь меня в живых! Я уйду в дремучий лес и никогда не вернусь домой.
Сжалился егерь и сказал:
– Так и быть, бедная девочка, беги!
Белоснежка убежала без оглядки. А егерь заколол молодого оленя, вырезал у него сердце и принес королеве в знак доказательства, что ее приказание исполнено. Повару было велено сварить сердце в соленой воде, и злая королева съела его, думая, что это сердце Белоснежки.
А девочка осталась в лесу одна-одинешенька. Она в страхе озиралась по сторонам, не зная, куда идти. Она брела по острым камням, пробиралась через колючие заросли, пряталась от диких зверей. Она уже совсем выбилась из сил, но тут увидела маленький нарядный домик под черепичной крышей. Белоснежка вошла внутрь. Домик был чисто прибран, все в нем было крошечное и красивое. На покрытом белой скатертью столике стояло семь тарелочек, возле каждой тарелочки лежали ложечка, вилочка, ножичек и стояли семь маленьких кубков. У стены стояли в ряд семь кроваток, а на них были белоснежные покрывала.
Белоснежка была очень голодна, поэтому взяла из каждой тарелочки немного еды и кусочек хлеба и выпила из каждого кубка по капле вина. Девочка очень хотела спать, она легла в одну из кроваток и тут же заснула.
Когда стемнело, пришли хозяева – семеро гномов, которые в горах добывали руду. Они зажгли семь лампочек, и, когда в домике стало светло, гномы заметили, что у них в гостях кто-то побывал.
– Кто-то ел из моей тарелочки! – закричал самый маленький гном.
– И из моей! – почти хором ответили другие гномы.
– Кто-то пил из моего кубка! – опять закричал он.
– И из наших! – отозвались гномы.
Огляделись гномы и увидели в одной из кроваток спящую девочку. Они закричали все разом от удивления, принесли свои лампы и осветили Белоснежку.
– Какая красивая девочка! – воскликнули гномы.
Они так обрадовались, что не стали ее будить. А седьмой гном спал у каждого из своих товарищей по часу – так и ночь прошла.
Утром Белоснежка проснулась, увидела семерых гномов и очень испугалась. Но они ласково спросили ее:
– Как тебя зовут, девочка?
– Белоснежка, – ответила она.
– Как ты попала к нам? – продолжали спрашивать гномы.
И девочка рассказала, что злая мачеха приказала ее убить, но егерь сжалился над ней, и что целый день она бродила по лесу, пока случайно не увидела их домик.
– Оставайся у нас, – сказали гномы. – Хочешь быть у нас хозяйкой? Будешь готовить, шить и вязать, все содержать в чистоте и порядке? Если согласна, будет у тебя всего вдоволь.
Белоснежка согласилась и осталась у них хозяйничать. Утром гномы уходили в горы копать руду и золото, а поздно вечером возвращались домой. К их приходу Белоснежка готовила ужин. Целый день девочка была одна, поэтому добрые гномы предостерегали ее:
– Берегись своей мачехи: она скоро узнает, что ты здесь. Смотри, никого не впускай в дом.
А злая королева снова считала себя первой красавицей в королевстве. Как-то взяла она волшебное зеркальце и спросила:
– Кто под солнцем и луной
Затмевает всех красой?
– У гномов в лесу вы ищите ответ –
Милей Белоснежки на свете нет.
Догадалась королева, что егерь ее обманул. Опять не было ей покоя – стала она придумывать, как избавиться от Белоснежки. И наконец придумала.
Она переоделась старухой торговкой и отправилась через лес к семи гномам. Постучалась в дверь и закричала:
– Шнурки, разноцветные шнурки! Продаю!
Белоснежка услышала, выглянула из окошка и сказала:
– Здравствуй, старушка! Покажи мне, пожалуйста, свой товар.
– Смотри, – ответила та и вынула шнурки из яркого шелка.
«Эту добрую старушку можно и в дом пустить», – подумала Белоснежка и открыла дверь.
Она купила себе красивые шнурки.
– Дай-ка, девочка, я зашнурую тебе лиф как следует, – сказала старуха.
Белоснежка стала перед ней и позволила затянуть на себе новые шнурки. Но старуха начала шнуровать так быстро и так туго, что девочка задохнулась и замертво упала наземь.
– Это за то, что ты была самой красивой, – сказала королева и быстро ушла.
Вернулись к вечеру семь гномов – лежит Белоснежка, словно мертвая! Как они испугались! Подняли ее и увидели, что она крепко-накрепко зашнурована. Разрезали гномы шнурки, стала Белоснежка понемногу дышать и наконец пришла в себя.
– Старая торговка – на самом деле злая королева, – сказали гномы. – Будь осторожна, не впускай никого, когда нас нет дома.
А злая мачеха возвратилась тем временем домой, взяла зеркальце и спросила:
– Кто под солнцем и луной
Затмевает всех красой?
– У гномов в лесу вы ищите ответ –
Милей Белоснежки на свете нет.
Вся кровь прилила к сердцу королевы: она поняла, что Белоснежка ожила. Но она уже придумала, что делать. Королева умела колдовать. Она пропитала ядом гребень, переоделась старухой и отправилась в лес к семи гномам.
Она снова постучалась в дверь и крикнула:
– Продаю хорошие товары! Купите!
Белоснежка выглянула из окошка:
– Идите дальше, бабушка, мне в дом никого пускать не велено!
– Посмотри, какая красота! – сказала старуха и показала ядовитый гребень. – Хочешь, я тебя как следует причешу?
Белоснежке очень понравился гребень, и она дала старухе себя причесать. Лишь коснулась та гребнем ее волос, Белоснежка замертво упала на землю.
– Пришел тебе конец, красавица! – сказала королева и ушла.
Наступил вечер, семеро гномов вернулись домой и увидели мертвую Белоснежку. Как только они вытащили ядовитый гребень, девочка пришла в себя и рассказала им обо всем. Гномы опять велели ей никого в дом не пускать.
А королева вернулась домой, села перед зеркалом и говорит:
– Кто под солнцем и луной
Затмевает всех красой?
– У гномов в лесу вы ищите ответ –
Милей Белоснежки на свете нет.
Услышала это королева и задрожала от гнева. Она пошла в потайную каморку, куда, кроме нее, никто никогда не входил, и приготовила ядовитое яблоко. На вид оно было очень красивое и румяное, но тот, кто откусил бы хоть кусочек, тут же упал бы мертвым. Потом королева переоделась старухой и отправилась в лес к семи гномам.
Она постучалась, и Белоснежка высунулась в окошко:
– Я не пущу вас, бабушка, гномы запретили мне открывать дверь.
– Это правильно, – ответила злая королева. – Но как же быть? Смотри, какие у меня яблочки. Давай я угощу тебя одним.
– Нет, – сказала Белоснежка, – мне ничего брать не разрешают.
– Ты боишься? – спросила старуха. – Я разрежу яблоко на две половинки: румяную съешь ты, а белую я.
А яблоко было сделано так хитро, что только румяная его половинка была отравленной. Захотелось Белоснежке яблочка, и, увидев, что старушка его ест, она не удержалась и взяла отравленную половинку. Только она откусила кусочек, как упала мертвая.
Вернулась королева домой и спрашивает у зеркала:
– Кто под солнцем и луной
Затмевает всех красой?
И зеркальце ответило:
– Краше вас я не встречало.
Успокоилось тут завистливое сердце королевы, насколько может такое сердце успокоиться.
А гномы нашли Белоснежку бездыханной, подняли ее, расшнуровали, причесали ей волосы, обмыли ее водой и вином. Ничего не помогло – девочка осталась мертвой. Тогда они положили Белоснежку в кроватку, уселись вокруг и заплакали. Они хотели ее похоронить, но она выглядела как живая и щечки ее были свежие и румяные. Они сделали для нее хрустальный гробик и написали на нем золотыми буквами ее имя. Потом они отнесли гробик на гору.
Долго лежала в своем гробу Белоснежка, и казалось, что она спит, – бела как снег, румяна как кровь, с волосами как черное дерево. Однажды проезжал мимо королевич и увидел в гробу прекрасную Белоснежку.
– Я не смогу жить без нее! – решил он и приказал своим слугам нести ее гроб на плечах во дворец.
Один из слуг споткнулся, гроб качнулся, и кусок отравленного яблока выскочил из горла Белоснежки. Она открыла глаза и тихо сказала:
– Как же долго я спала!
– Очень долго, милая! – ответил обрадованный королевич и рассказал ей, как все было. – Ты мне дороже всего на свете. Будь моей женой.
Белоснежка согласилась, и вскоре они сыграли пышную свадьбу. На пир была приглашена и злая мачеха Белоснежки. Она надела красивое платье, взяла зеркальце и спросила:
– Кто под солнцем и луной
Затмевает всех красой?
А зеркало ей в ответ:
– Прекраснее королевны в мире нет.
Закричала злая королева страшным голосом и упала мертвая.
Жил на свете мельник, и был у него осел, умный и сильный. Долго работал осел на мельнице и наконец состарился. Хозяин увидел, что осел больше работать не может, и выгнал его из дому. «Пойду-ка я в город Бремен и стану уличным музыкантом», – подумал осел.
Так он и сделал.
Идет осел и кричит по-ослиному. Вдруг видит: лежит на дороге охотничья собака и тяжело дышит.
– Что с тобой, собака? – спрашивает осел.
– Ах, осел, пожалей меня! – говорит собака. – Жила я у одного охотника, а теперь постарела, для охоты больше не гожусь, и задумал хозяин убить меня. Вот я и убежала от него.
– Пойдем со мной в Бремен, – отвечает осел, – будем уличными музыкантами. Лаешь ты громко, будешь петь и в барабан бить, а я буду петь и на гитаре играть.
– Что ж, – говорит собака, – пойдем.
Осел идет – кричит по-ослиному, собака идет – лает по-собачьи. Вдруг видят: сидит на дороге кот.
– Что ты такой невеселый? – спрашивает собака.
– Ах, пожалейте меня, осел и собака! – говорит кот. – Жил я у своей хозяйки, ловил крыс и мышей. А теперь вот стар стал, зубы притупились. Хозяйка задумала утопить меня, я и убежал. Как теперь прокормиться, не знаю.
– Пойдем с нами, кот, в город Бремен, будем уличными музыкантами. Голос у тебя хороший, ты будешь петь и на скрипке играть, собака – петь и в барабан бить, а я – петь и на гитаре играть.
– Что ж, – говорит кот, – пойдем.
Осел идет – кричит по-ослиному, собака идет – лает по-собачьи, кот идет – мяукает по-кошачьи.
Вдруг видят: сидит на воротах петух и кричит во все горло:
– Ку-ка-ре-ку!
– Чего ты кричишь? – спрашивает осел.
– Ах, пожалейте вы меня, осел, собака и кот! – говорит петух. – Завтра к моим хозяевам приедут гости, а меня хотят зарезать и сварить для них суп. Что мне делать?
– Пойдем, петушок, с нами в Бремен – будем уличными музыкантами. Голос у тебя хороший, ты будешь петь и на балалайке играть, кот будет петь и на скрипке играть, собака – петь и в барабан бить, а я петь и на гитаре играть.
– Что ж, – говорит петух, – пойдем.
Осел идет – кричит по-ослиному, собака идет – лает по-собачьи, кот идет – мяукает по-кошачьи, петух идет – кукарекает.
Долго шли, и настала ночь. Осел и собака легли под большим дубом, кот сел на ветку, а петух взлетел на верхушку дерева и стал смотреть по сторонам. Смотрел, смотрел и увидел невдалеке огонек.
– Огонек! – кричит петух.
Осел говорит:
– Надо узнать, что это за огонек. Может быть, поблизости дом стоит.
Собака говорит:
– Может, в этом доме мясо есть. Я бы поела.
Кот говорит:
– Может, в этом доме молоко есть. Я бы попил.
А петух говорит:
– Может, в этом доме пшено есть. Я бы поклевал.
Встали они и пошли на огонек.
Вышли на поляну, а на поляне дом стоит, и окошко в нем светится.
Осел заглянул в окошко.
– Что ты там видишь, осел? – спрашивает петух.
– Сидят за столом разбойники, едят и пьют, – отвечает осел.
– Ох, как есть хочется! – сказала собака.
– Ох, как пить хочется! – сказал кот.
– Как бы нам разбойников из дома выгнать? – сказал петух.
Думали они, думали и наконец придумали.
Осел поставил передние ноги на подоконник, собака взобралась на спину ослу, кот вскочил на спину собаке, а петух взлетел на голову коту. И они разом закричали: осел – по-ослиному, собака – по-собачьи, кот – по-кошачьи, а петух закукарекал. Ввалились они через окно в комнату, разбойники испугались и убежали в лес.
Осел, собака, кот и петух сели за стол и принялись за еду, а потом спать легли. Осел улегся во дворе на сене, собака – перед дверью, кот свернулся клубком на печи, а петух взлетел на ворота.
Увидели разбойники из леса, что огонек в доме погас, и послали одного разбойника посмотреть, что случилось.
Зашел разбойник на кухню, видит – на печи два огонька горят.
«Наверное, это угли, – подумал разбойник. – Сейчас лучинку разожгу».
Ткнул он лучинкой, а это был не огонек, а кошачий глаз. Кот вскочил, зафыркал, зашипел и как цапнул разбойника лапой!
Разбойник бросился к двери, а тут его собака за ногу схватила.
Разбойник выскочил во двор, а тут его осел копытом лягнул.
Разбойник побежал за ворота, а петух как закричит:
– Ку-ка-ре-ку!
Еле-еле добежал перепуганный разбойник к своим товарищам и кричит:
– Беда! В нашем доме поселились страшные великаны. Один мне в лицо вцепился, другой ножом ногу порезал, третий по спине дубиной стукнул, а четвертый кричал вслед: «Держи вора!»
– Надо поскорее уходить отсюда! – решили разбойники.
И ушли из этого леса навсегда.
А бременские музыканты – осел, собака, кот и петух – остались жить у них в доме.
Давным-давно жил мудрый король. Не было на свете ничего, что от него бы укрылось. Поговаривали о странном его обычае: каждый день после обеда он отсылал всех, деливших с ним трапезу, и проверенный слуга приносил ему совершенно особенное блюдо.
Однажды слуга не смог совладать с любопытством, ведь даже он не знал, что ест король в полном одиночестве, и тайком ото всех заглянул под крышку. Найдя под ней белую змею, поддался соблазну и откусил кусочек. С той минуты он начал понимать язык животных.
В этот злосчастный день королева потеряла свое любимое кольцо. В похищении заподозрили этого самого слугу. Король бранил его на чем свет стоит и велел назвать вора, если, конечно, слуга не хочет суда над собой. Не зная, как из этой истории выпутаться, слуга пошел на берег ручья и услышал разговор двух уток.
– У меня словно камень в зобу, оттого что я впопыхах проглотила оброненное королевой кольцо, – жаловалась одна.
Схватил слуга птицу и поспешил на кухню к повару:
– Зарежь эту утку, она уже достаточно жирная.
Таким образом, повар нашел в утином зобу кольцо королевы, а слуга очистил свою репутацию. Ему сулили любую должность при дворе, но слуга предпочел покинуть его и отправиться странствовать, приняв от короля лишь коня и немного денег на дорожные издержки.
Как-то ехал он по берегу озера и заметил, что три рыбы оказались в ловушке в камышах и не могут подобраться к воде. Сжалился он над ними, спешился и бросил их в озеро. Вынырнув из воды, рыбы сказали:
– Мы найдем способ отблагодарить тебя за спасенные жизни.
Едет он дальше и слышит где-то внизу голос муравьиного царя:
– Вот бы люди обходили нас десятой дорогой, как и неуклюжие животные!
И съехал слуга на обочину, и муравьиный царь поклялся:
– Мы найдем способ отблагодарить тебя за это.
Затем пролегла его дорога через лес, и увидал он, как ворона с вороном выталкивали из гнезда своих птенцов.
– Убирайтесь, троглодиты! – каркали они. – Вон как вымахали. Сами ищите себе пропитание!
Бедные воронята махали крыльями, но были не в силах взлететь и кричали:
– Мы всего лишь хрупкие птенчики, вы обязаны нас кормить, пока мы не научимся летать! Иначе нас ждет голодная смерть.
Пронзил тогда добрый малый своего коня шпагой, чтобы молодым воронятам как-то можно было питаться, пока они не окрепнут. Утолив голод, они загалдели:
– Мы найдем способ отблагодарить тебя за это!
Пешим путником пришел наш герой в стольный град. На улицах царило оживление, люди сновали туда-сюда. Сквозь толпу проскакал глашатай и объявил во всеуслышанье:
– Принцесса пойдет под венец с тем, кто решит ее задачу. А кто посватается и оплошает, пойдет на казнь.
Сколько людей уже за одну попытку полегло. Но стоило юноше увидеть принцессу, как он, плененный ее красотой, пренебрег опасностью и явился к королю свататься.
Его немедля доставили на берег моря и бросили в пучину кольцо, которое жениху предстояло достать. Никто не хотел смотреть, как утонет добрый юноша, и его оставили у моря одного. Стоит он на берегу и не знает, как поступить. И вот подплыли к нему три рыбы, которых он спас от гибели. Средняя держала во рту золотое кольцо. Обрадованный юноша вручил кольцо королю, но вместо награды получил новое задание – очень уж не хотелось гордой принцессе выходить за простого слугу. Собственными руками она высыпала в траву десять огромных мешков проса и сказала:
– До рассвета чтоб просо было обратно в мешках до единого зернышка.
Сел парень в саду и стал раздумывать, как выполнить ему такую задачу, но ничего придумать не мог и сидел пригорюнившись и ждал, что с наступлением утра его поведут на казнь. Но вот засияли в саду первые лучи солнца, и он увидел, что все десять мешков полны проса и стоят все в ряд, и не пропало при этом ни одного зернышка. Явился ночью царь муравьиный со своими тысячами муравьев, и благодарные насекомые с великим усердием выбрали просо и сложили его в мешки.
Вот сошла сама принцесса в сад и увидала, к своему удивлению, что парень выполнил то, что было ему поручено. Но она не могла осилить своей гордыни и сказала:
– Хотя он и выполнил обе задачи, но не стать ему моим мужем, пока не принесет он мне яблока с дерева жизни.
Юноша не знал, где растет дерево жизни; но он собрался в путь-дорогу и решил искать его до тех пор, пока ноги будут идти, но у него не было никакой надежды его отыскать. Вот обошел он уже три королевства и зашел под вечер в лес. Сел под деревом, и захотелось ему спать, – но он услыхал в ветвях шелест, и упало ему в руку золотое яблоко. А тут слетели к нему вниз три ворона, уселись к нему на колени и сказали:
– Мы три молодых вороненка, которых ты спас от голодной смерти. Мы теперь выросли и, когда услыхали, что ты ищешь золотое яблоко, прилетели из-за моря, долетели до самого края земли, где растет дерево жизни, и принесли тебе это яблоко.
Обрадовался юноша, пустился в обратный путь и принес прекрасной принцессе золотое яблоко. И уж теперь отговариваться ей было невозможно: они поделили яблоко жизни и съели его вдвоем; и исполнилось ее сердце к нему любовью, и дожили они в безмятежном счастье до самой глубокой старости.
Водно прекрасное летнее утро у своего окна сидел портняжка. Он был молод, весел и работал изо всех сил.
В это время на улице появилась торговка.
– Варенье! Вкусное варенье! – кричала она.
Портняжка высунул в окно голову и крикнул:
– Идите сюда! Я хочу купить варенья!
Торговка поднялась с тяжелой корзиной к портняжке на верхний этаж. Он заставил ее открыть все горшки, долго осматривал их, взвешивал, нюхал и наконец сказал:
– Варенье, кажется, хорошее. Взвесьте-ка мне восьмушку или даже четверть фунта.
Женщина, которая надеялась продать много варенья, отвесила ему четверть фунта и ушла, сердито ворча. А портняжка отрезал огромный ломоть хлеба и намазал его вареньем.
– Нет, – сказал он, – прежде чем поесть, я должен дошить куртку.
Он положил хлеб возле себя и принялся за шитье.
Мухи, сидевшие на стенах, учуяли запах варенья и слетелись.
– Кто вас сюда звал? – закричал портняжка и стал гнать их с хлеба.
Но мухи налетали целыми стаями.
– Ну, погодите! – закричал портняжка, схватил тряпку и ударил по хлебу.
Когда он поднял тряпку, на столе лежало целых семь убитых мух.
– Вот какой я молодец! – воскликнул портняжка.
Он скроил себе пояс и вышил на нем большими буквами: «Одним ударом семерых!»
Портняжка надел пояс и решил отправиться в дальние страны. Мастерская теперь казалась ему слишком тесной для его доблести.
Прежде чем пуститься в путь, он обшарил весь дом, разыскивая что-нибудь съестное, но не нашел ничего, кроме куска сыру, который и положил в карман.
В кустах портняжка заметил запутавшуюся в силках птичку, схватил ее и тоже сунул в карман. Потом он весело пустился в путь.
Дорога привела портняжку к горе. Он взобрался на самую вершину и увидел там великана.
– Здорово, приятель! – сказал ему портняжка. – Почему ты сидишь здесь? Хочешь, пойдем вместе странствовать?
– С тобой, жалкий человечишка?! – презрительно ответил ему великан.
– А что? – возмутился портняжка.
Он расстегнул кафтан и показал великану свой пояс:
– Вот, прочти, что я за человек.
Великан прочел: «Одним ударом семерых!» – и подумал, что речь идет о врагах, которых убил портной. Он почувствовал уважение к маленькому человечку, но все-таки захотел его испытать. Великан поднял камень и так сдавил его в руке, что из камня закапала вода.
– Сделай так, если ты сильный! – сказал он.
– Да это для меня забава! – смеясь, воскликнул портняжка.
Он вытащил из кармана мягкий сыр и сжал его в руке: сок так и полился.
– Ну что? – спросил он.
Великан не знал, что сказать, он не верил собственным глазам. Он взял камень и подбросил так высоко, что его едва было видно.
– Сделай и ты так!
– Твой камень все-таки упал обратно на землю, – сказал портняжка. – А я так брошу, что камень совсем не вернется.
С этими словами он вытащил из кармана птичку и подбросил ее вверх. Обрадованная птичка быстро взвилась в высоту и, конечно, не вернулась.
– Бросать ты умеешь, – сказал великан. – А можешь ли носить тяжести?
Он подвел портняжку к огромному срубленному дубу и сказал:
– Если ты так силен, помоги вынести это дерево из лесу.
– С удовольствием! – ответил портняжка. – Ты возьми на плечи только ствол, а я подниму и понесу сучья и ветви – это ведь тяжелее.
Великан взвалил себе на плечи ствол, а портной уселся на сучке. И великану, который не мог обернуться, пришлось тащить все дерево и портняжку в придачу.
Портняжка в это время насвистывал веселую песенку, как будто таскать деревья было для него детской забавой.
А великан протащил немного огромную тяжесть, не выдержал и закричал:
– Я сейчас брошу!
Портной соскочил с дерева, подхватил ветви обеими руками, как будто все время нес их, и сказал великану:
– Ты такой огромный, а не можешь одно дерево донести!
Пошли они дальше. Великан увидел вишневое дерево, ухватил его за верхушку, пригнул и дал подержать портняжке. Тот хотел было полакомиться спелыми вишнями, но не смог удержать дерево. Как только великан отпустил ветку, вишня выпрямилась и подбросила портняжку вверх.
Когда он упал на землю, великан спросил:
– У тебя не хватает сил удержать такой прутик?
– Я перепрыгнул через дерево просто потому, что внизу охотники стреляют по кустам, – ответил портняжка. – А сможешь ли ты так прыгнуть?
Великан попробовал, но не смог перепрыгнуть через дерево и повис на ветвях.
– Да, превзошел ты меня, – сказал великан. – Пойдем ночевать в мою пещеру.
Портняжка с радостью согласился.
Великан предложил портняжке лечь на кровать и выспаться как следует. Но кровать была слишком велика для портняжки, поэтому он забрался в уголок и заснул.
В полночь великан встал, схватил железный лом и одним ударом расколол кровать надвое. Он был уверен, что портняжка спит посреди кровати и что теперь он наконец уничтожил его.
Рано утром великан ушел в лес и забыл о портняжке. Вдруг видит – он идет навстречу, живой и здоровый. Великан испугался, что портняжка изобьет его до смерти, и в страхе убежал подальше.
А портняжка отправился прямо к королевскому дворцу. Поскольку он очень устал, то недолго думая растянулся перед дворцом на траве и заснул.
Пока он спал, вокруг него собрался народ. Люди стали разглядывать портняжку и прочли на его поясе надпись: «Одним ударом семерых!»
– Что нужно этому великому воину в нашем королевстве? – удивились они и отправились к королю, чтобы сообщить ему о портняжке.
Король приказал одному из придворных пойти к портняжке и, как только он проснется, предложить ему поступить на военную службу.
Портняжка выслушал королевского посланца и сказал:
– Я именно для этого и прибыл!
Король принял портняжку с большими почестями, но его воины невзлюбили нового товарища.
– Что будет, – говорили они, – если мы когда-нибудь поссоримся с ним? Ведь тогда погибнет сразу семеро.
Они решили все вместе идти к королю и просить отставки.
– Мы не можем равняться с человеком, который убивает одним ударом семерых, – сказали они.
Король не хотел ради одного лишиться всех своих верных слуг и решил избавиться от портняжки, но не знал, как это сделать. Он боялся, что портняжка, рассердившись, уничтожит его и захватит трон.
Наконец король придумал, как поступить. Он велел передать портняжке, что ему, как великому воину, дается важное поручение.
В одном из лесов королевства поселились два великана, которые занимались грабежами и разбоями, поджогами и убийствами. Никто не мог приблизиться к ним, не рискуя жизнью. Портняжка должен был убить великанов, за что король пообещал ему руку своей единственной дочери и полкоролевства. В помощь себе портняжке разрешили взять сто рыцарей.
«Неплохо! – подумал портняжка. – Прекрасная принцесса и половина королевства – такое не каждому предлагают!»
– О да, великанов я усмирю, – ответил он гордо. – А сотни рыцарей мне не нужно. Кто одним ударом побивает семерых, тому нечего бояться двоих.
Портняжка отправился в путь.
Вскоре он увидел обоих великанов. Они спали, и от их храпа гнулись деревья.
Портняжка поскорее набрал полные карманы камней и взобрался на то дерево, под которым спали великаны. Он уселся как раз над их головами и стал бросать камни на грудь одному из них.
Великан долго не чувствовал этого; наконец он проснулся, толкнул второго великана в бок и сказал:
– Чего ты дерешься?
– Это тебе приснилось, – ответил тот, – я и не думал тебя бить.
Великаны опять уснули. Тогда портняжка стал бросать камни на второго великана.
– Чем это ты в меня кидаешь? – закричал тот.
– Ничем! – рассердился первый великан.
Они немного поспорили, но успокоились и опять уснули.
А портняжка принялся за свое. Он выбрал самый крупный камень и бросил его на грудь первому великану.
– Ну, это уже слишком! – закричал тот, вскочил и так ударил своего приятеля, что он закачался.
Второй великан рассвирепел и ответил тем же. Они стали вырывать с корнями деревья и колотили ими друг друга до тех пор, пока оба не свалились замертво.
Тогда портняжка спрыгнул на землю.
– Счастье еще, – сказал он, – что они не вырвали то дерево, на котором я сидел! А то мне пришлось бы, как белке, перескакивать на другое!
Он вынул меч и нанес великанам по нескольку ударов в грудь, потом вернулся к королю и сказал:
– Я прикончил обоих. Нелегко это мне далось, но я ведь одним ударом убиваю семерых. Они у меня и волоса на голове не успели тронуть.
Портняжка потребовал от короля обещанной награды. Но тот уже раскаивался в своем обещании и думал о том, как избавиться от опасного героя.
– Ты должен совершить еще один подвиг, – сказал король. – В лесу живет единорог. Поймай его.
– Единорога я боюсь еще меньше, чем великанов, – ответил портняжка.
Он взял веревку и топор и пошел в лес. Единорог сейчас же выскочил из чащи и бросился прямо на портняжку.
– Потише, потише! – сказал тот и стал ждать животное у дерева.
Когда зверь приблизился, портняжка отскочил за дерево. Единорог не успел остановиться и так крепко вонзил свой рог в ствол, что уже не мог его вытащить.
Портняжка вышел из-за дерева, накинул единорогу веревку на шею, отрубил топором рог и повел зверя к королю.
Но король и теперь не хотел давать обещанную награду, поэтому поставил еще одно условие: прежде чем жениться на принцессе, портняжка должен был поймать дикого кабана.
– С удовольствием! – ответил юноша.
Когда кабан увидел портняжку, он бросился на него, грозно оскалив клыки. Но портняжка шмыгнул в часовню, которая находилась поблизости, и сейчас же выскочил оттуда через маленькое окошко с другой стороны.
Кабан бросился за ним, а портняжка обежал вокруг часовни и захлопнул дверь.
Разъяренный зверь был пойман, ведь он был огромен и не мог выскочить в окно.
Портняжка отправился к королю. Тот волей-неволей вынужден был выполнить обещание и отдать портняжке свою дочь и половину королевства.
Свадьбу сыграли с большой пышностью, и портной стал королем.
Однажды ночью принцесса услышала, как муж сказал во сне:
– Эй, сшей мне куртку и заштопай штаны, иначе я отколочу тебя аршином!
Она поняла, что великий герой был на самом деле портным, и наутро пожаловалась отцу.
Король успокоил ее и сказал:
– Ночью оставь дверь спальни незапертой. Как только твой муж уснет, мои слуги свяжут его и отнесут на корабль, который увезет его в дальние страны.
Но королевский оруженосец все слышал и рассказал портняжке.
Когда королеве показалось, что муж уснул, она встала, подала знак слугам и опять легла.
А портняжка, который только притворялся, что спит, стал кричать:
– Эй, сшей мне куртку и заштопай штаны, иначе я отколочу тебя аршином! Я прикончил семерых одним ударом, убил двух великанов, привел из лесу единорога, поймал дикого кабана. Мне ли бояться тех, кто стоит за дверью!
Слуги услышали, испугались и бросились бежать так, будто за ними гналось целое войско.
С тех пор никто не решался тронуть портняжку, и он оставался королем до конца своей жизни.
Жил-был бедный дровосек. Было у него двое детей и жена – но не родная мать, а мачеха. Мальчика звали Гензель, а девочку Гретель. Настал такой день, когда не на что было купить даже хлеба. Целые ночи дровосек не спал, вздыхал и наконец сказал жене:
– Что теперь будет? Как нам детей прокормить, ведь и самим есть нечего!
– А знаешь что, – отвечала жена, – заведем завтра утром детей в самую чащу, разведем там костер и дадим им по кусочку хлеба. А сами уйдем и оставим их одних. Не найдут они дороги обратно – и мы от них избавимся.
– Нет, жена, – возразил дровосек, – этого я не сделаю. Не могу я бросить детей в лесу. Их ведь дикие звери съедят.
– Тогда придется нам всем с голоду умирать! – сердито ответила жена.
– А все-таки жалко моих бедных детей! – сказал дровосек.
Но дети от голода не могли заснуть и слышали все, что говорила мачеха отцу. Заплакала Гретель и сказала Гензелю:
– Бедные мы с тобой! Видно, пропадать придется!
– Не плачь, Гретель! – сказал Гензель. – Я что-нибудь придумаю.
Глубокой ночью он встал, отворил дверь и тихо вышел на улицу. На небе ярко светил месяц. Белые камешки во дворе блестели под его лучами. Гензель набил ими битком карманы. Потом он вернулся домой и сказал Гретель:
– Теперь ничего не бойся, сестричка!
И как ни в чем не бывало улегся в постель.
На рассвете мачеха разбудила детей.
– Вставайте, лентяи! Нужно идти в лес за дровами. – Потом дала им по кусочку хлеба и сказала: – Это вам на обед, больше ничего не получите.
Гретель спрятала хлеб под фартук. Гензелю некуда было спрятать хлеб, у него карманы были набиты камешками. Пошли они в лес, а Гензель все время незаметно доставал из карманов камешки и бросал их на дорогу.
Когда пришли в самую чащу леса, дровосек сказал детям:
– Собирайте хворост, а я костер разведу, чтобы вы не замерзли.
Гензель и Гретель набрали целую кучу хворосту. Когда огонь хорошо разгорелся, мачеха велела:
– Ложитесь у костра и отдохните как следует, а мы пойдем дрова рубить, а потом вернемся за вами.
Гензель и Гретель улеглись у костра, а в полдень съели свой хлеб. Они все время слышали стук топора и думали, что где-то недалеко работает отец. А на самом деле постукивал сухой сук, который отец подвязал к старому дереву. Сук раскачивало ветром, он ударялся о ствол и стучал. Дети очень устали и крепко уснули. Когда они проснулись, было уже совсем темно. Гретель заплакала:
– Как же мы найдем дорогу домой?
– Не бойся, – утешал ее Гензель, – вот взойдет месяц, и мы найдем дорогу.
Когда взошел месяц, Гензель взял Гретель за руку, и они отправились в путь. Камешки блестели и указывали детям дорогу. Всю ночь шли брат с сестрой, а на рассвете пришли к родному дому и постучали в дверь. Открыла мачеха, видит – стоят перед ней Гензель и Гретель.
– Ах вы, скверные дети! – закричала мачеха. – Что вы так долго в лесу отсыпались? Мы уже подумали, что вы не хотите домой возвращаться.
Отец очень обрадовался, увидев детей.
Но вскоре в доме дровосека опять стало нечего есть. И снова дети услышали, как мачеха ночью говорит отцу:
– У нас остался один кусок хлеба! Надо отделаться от детей – заведем их в лес подальше, чтобы не нашли дороги назад!
– Лучше последним куском с детьми поделиться, – сказал дровосек, но жена и слышать об этом не хотела.
Уступил он раз, пришлось и сейчас уступить.
Когда отец с мачехой заснули, Гензель встал и хотел набрать камешков, как в прошлый раз. Но мачеха заперла дверь, и он не смог выйти из хижины. Гретель заплакала, но брат стал утешать ее:
– Не плачь, мы не пропадем.
Рано утром мачеха разбудила их и дала по маленькому кусочку хлеба. Пошли они в лес, а Гензель по дороге крошил хлеб в кармане и бросал хлебные крошки на дорогу.
Они зашли еще дальше в чащу и развели костер.
– Посидите здесь, детки, поспите немного. А мы пойдем в лес дрова рубить и к вечеру придем за вами, – сказала мачеха.
Гретель поделилась своим куском хлеба с Гензелем, ведь он свой хлеб по дороге раскрошил. Потом дети уснули. Когда проснулись, была уже темная ночь. Гретель заплакала, а Гензель стал ее утешать:
– Не плачь, сестренка, скоро луна взойдет, и мы отыщем дорогу по хлебным крошкам.
Когда взошла луна, отправились они искать дорогу, но так ее и не нашли. Наверное, птицы все склевали. Шли дети всю ночь и весь день с утра до вечера и сильно проголодались: они съели только немного ягод, которые нашли по дороге. Наконец они улеглись под деревом и заснули.
Дети проснулись утром и снова отправились в путь. В полдень они заметили красивую белоснежную птичку. Она сидела на ветке и пела так чудесно, что дети остановились и заслушались. Вдруг птичка взмахнула крыльями и полетела, а Гензель и Гретель пошли за ней. Птичка привела их к маленькому домику и уселась на крыше. Посмотрели дети, а домик не простой: сделан он из хлеба и сахара. Отломили они по кусочку хлеба от стены, присыпали сахаром и съели.
Вдруг открылась дверь и из домика вышла, опираясь о костыль, старуха. Гензель и Гретель испугались. Но старуха только покачала головой:
– Какие милые детки! Как вы сюда попали? Заходите, я вам зла не сделаю.
Старуха принесла детям угощение – молоко с оладьями, яблоки и орехи. Потом она постелила им две красивые постельки и укрыла их белыми одеялами. Гензель и Гретель улеглись и подумали: «Наверное, мы попали в рай».
Но старуха только притворялась доброй, а на самом деле она была злой ведьмой и домик из хлеба и сахара построила для того, чтобы приманивать детей. Она любила варить маленьких детей в котле – это было ее любимое лакомство.
Рано утром, когда дети еще спали, она встала, посмотрела на их румяные щечки и размечталась о том, какое вкусное блюдо из них приготовит. Ждать было невмоготу, и она разбудила детей.
– Сначала мы испечем хлеб, – сказала старуха. – Я уже истопила печь и вымесила тесто. А потом я сварю вас и съем! Вот так лакомые кусочки!
Бедные дети оторопели. Они очень испугались и не понимали, что случилось с доброй и приветливой старушкой. Гретель заплакала, а Гензель пытался придумать, как им спастись.
Ведьма толкнула бедную Гретель к печи, где полыхало пламя.
– Ну, полезай в печь, – сказала она. – Погляди, хорошо ли она натоплена. Не пора ли хлебы сажать?
Гретель полезла было в печь, но догадалась, что затевает старуха: она хотела закрыть печь заслонкой, зажарить девочку и съесть.
– Я не знаю, как это сделать! Как же мне туда залезть? – спросила Гретель.
– Вот глупая, – с досадой сказала старуха. – Даже я могу туда залезть. – И она просунула голову в печь.
Тут Гретель толкнула ведьму, и та очутилась прямо в печи. Гретель прикрыла печь железной заслонкой и заперла. Как страшно завыла ведьма!
– Мы спасены! – закричали Гензель и Гретель.
По углам домика стояли сундуки. Дети открыли их, и оказалось, что сундуки доверху наполнены золотом и драгоценными камнями. Брат и сестра набили ими полные карманы.
– А теперь бежим отсюда! – сказал Гензель. – Надо выбраться из ведьминого леса.
Шли они долго и наконец подошли к большому озеру.
– Как же мы переберемся через него? – спросила Гретель. – Тут ведь нет ни лодочки, ни моста.
– Вон плывет белая уточка, – ответил Гензель. – Давай попросим ее перевезти нас на тот берег.
– Добрая уточка! – крикнула Гретель. – Помоги нам, пожалуйста! Мы не можем перебраться через озеро, здесь нет ни лодочки, ни моста.
Уточка подплыла, Гензель сел на нее и позвал сестру.
– Нет, – ответила Гретель, – уточке будет слишком тяжело. Пусть перевезет она сначала тебя, а потом и меня.
Добрая уточка так и сделала. Дети переправились на другой берег, пошли дальше и наконец увидели отцовский дом. Тут дети пустились бежать, влетели в дом и бросились отцу на шею.
С той поры, как отец оставил детей в лесу, не было у него ни минуты радости, а злая мачеха уже умерла.
Гретель раскрыла передник, и по полу рассыпались драгоценные камни, а Гензель выбрасывал из карманов золото целыми пригоршнями. Настал конец их нужде и горю, и зажили они счастливо и богато.
У одного мельника не было семьи – только три ученика. Как-то раз он созвал их и говорит:
– Не имея родных детей, я хочу завещать мельницу одному из вас. Ее получит тот, кто сыщет мне самую красивую в мире лошадь. Ступайте и через семь лет возвращайтесь не с пустыми руками.
Младший из учеников, Ганс, был чертовки ленив и непроходимо глуп, – словом, объект всеобщих насмешек.
– Ты-то куда собрался? – подшучивали над ним старшие ученики. – Допустим, повезет тебе с мельницей – так она тебе что корове седло.
Ганс молчал и не отставал от остальных, но ночью они нашли способ сбежать от него. Ганс проснулся в расстроенных чувствах: «Как теперь быть? – ныл он. – Мне не сыскать лошадь без посторонней помощи».
Теперь только он заметил у своего изголовья полосатого кота.
– Куда направляешься, дорогой Ганс? – молвил зверь человеческим голосом.
– Понятия не имею, – вздохнул Ганс.
– Держись меня, не прекословь мне ни в чем, и через семь лет лучшая в мире лошадь будет наша.
– Идет, – согласился Ганс. – Если тебе далась человеческая речь, значит все тебе по плечу.
Вместе они проследовали во дворец кота, где многочисленные прислужники занялись его туалетом и накормили изысканной пищей. Он занял богато убранную опочивальню и привыкал спать на настоящих шелках.
День за днем Ганс делал все, что ему приказывал кот: рубил кустарник серебряным топориком, поливал из золотого кувшина розы в саду, обрезал бриллиантовыми ножницами деревья.
Когда он обратил внимание, что вырос из своей одежды и обуви, Ганс спросил у кота:
– Милый кот, я потерял счет времени, если минуло семь лет, то я готов забрать обещанную мне лошадь?
– Не торопись, – осадил его кот. – Сперва построй дом из серебра. В твоем распоряжении будут серебряные гвозди, молоток и доски!
– Ладно, – кивнул Ганс и приступил к работе. Когда все было исполнено, кот пригласил его на конюшню, чтобы он мог выбрать лошадь по своему вкусу.
Лошади были одна лучше другой, поэтому Ганс не смог указать на понравившуюся.
– Тогда поступим по-другому, – предложил кот. – Возвращайся на мельницу, а через три дня я сам приведу твою лошадь.
Ганс переоделся в свое старое ветхое платье и пошел к мельнику. Каково же было его удивление, когда он застал у него старших учеников с двумя клячами, с которых, прямо скажем, песок сыпался.
– А где твоя лошадь, Ганс? – поинтересовались они.
– Она прибудет через три дня, – сказал Ганс.
– А не через три года? Хорош конь, что тащится медленнее путника! – старшие ученики подняли его на смех.
Мельник тоже напустился на Ганса:
– Как ты посмел прийти на мою белоснежную, как мука, мельницу в этих пыльных обносках? Прочь!
Ганс поселился в хлеву. Через три дня перед мельницей остановилась золоченая карета с шестеркой лихих коней.
Седьмая лошадь, в сто раз лучше остальных, на привязи шла следом за каретой. Ею правила юная принцесса дивной красоты.
– Мельник! – закричала она.
Тот, ослепленный представшим его взору великолепием, приветствовал наездницу поклонами.
– Где твой младший ученик Ганс, служивший у меня семь лет? – спросила принцесса.
– В коровьем хлеву, ваша светлость, – признался мельник.
Из кареты показались слуги с кадкой чистейшей воды, чтобы вымыть Ганса. Его облачили в одежды, достойные короля.
– Мельник, – распоряжалась принцесса, – вот лошадь, которую добыл для тебя Ганс.
– Это самая красивая в мире лошадь, – обрадовался мельник. – Мельница твоя, Ганс!
Но ни Гансу, ни тем более принцессе мельница не была нужна. Они вместе уехали в золоченой карете. Дом, который построил Ганс из чистого серебра, разросся до размеров дворца. Ганс и принцесса обвенчались и провели в нем долгую и счастливую жизнь.
У одного зажиточного крестьянина не было детей. Его бездетность так часто становилась поводом для насмешек, что однажды в сердцах он заявил жене:
– У нас просто обязан появиться ребенок, будь он хоть ежом!
Супруга родила ему дивное существо: от головы до пояса это был еж, а ниже – мальчик. И назвали его Ганс мой Еж.
На крестинах поп заметил:
– Как такому колючему постель стелить?
Бросили они за печку пук соломы – чем не кровать для Ганса-Ежа? Там он пролежал ни много ни мало – восемь лет и до того опротивел отцу, что тот ждал смерти сына как избавления, да так и не дождался. Как-то собрался крестьянин на ярмарку и спрашивает у жены, что ей прикупить.
– Возьми мяса и сдобных булок, – попросила она.
Спрашивает он тогда работницу, чего ей с ярмарки привезти. Сговорились на паре туфель и теплых чулок. Пришел черед Ганса-Ежа сделать заказ, и загадал он волынку.
Вернулся крестьянин с гостинцами: жене – мясо и сдобные булки, работнице – туфли и теплые чулки, Гансу-Ежу – за печку волынку бросил. Поймал Ганс-Еж волынку и сказал:
– Отец, пусть кузнец подкует моего петуха, и больше вы меня не увидите.
Крестьянину только того и надо было. Подковали петуха, Ганс-Еж оседлал его и уехал, захватив с собой свиней и ослов, которых намеревался пасти в лесу. Как добрались они до места, взлетел петух со своим всадником на высокое-высокое дерево, ослов и свиней Ганс-Еж пустил пастись, и пока стадо росло, сам он со своего наблюдательного поста не слазил – знай себе на волынке играл.
Как-то раз дивные звуки его волынки привлекли внимание короля. Его величество сбился с пути и послал своего слугу найти источник этой музыки. Заметил слуга среди ветвей петуха, а на нем и Ежа с волынкой. Король велел слуге спросить у него дорогу. Впервые за много лет спустился Ганс-Еж с дерева и обещал указать королю дорогу домой взамен на дарственную грамоту с заверением отдать ему в жены первую девушку, которая встретит короля у ворот замка. Король решил, что Еж едва ли умеет читать, и подал ему бумагу со своим монаршим росчерком. Ганс-Еж показал ему самую короткую дорогу, по которой король добрался домой. У ворот замка отца встречала принцесса. Она кинулась ему на шею, и король рассказал ей, как отдал ложную дарственную грамоту странному существу, оседлавшему петуха и виртуозно игравшему на волынке. На самом деле на гербовой бумаге, что он вручил неграмотному Ежу, было написано: «Я никому ничего не должен. Король». Принцесса одобрила его находчивость.
Прошло время. Ганс-Еж, как обычно, пас свое стадо, задорно наигрывая на волынке, и ехал через тот лес король в сопровождении слуг и ходоков. Сбился королевский поезд с пути, а лес непролазный: ни тропки, ни дорожки. Послал тогда король ходоков на звуки музыки с приказом разузнать, что и как. Подошел ходок к дереву, заметил среди ветвей петуха, а на нем – Ганса-Ежа и спросил странное существо, чем это оно занимается.
– Пасу свое стадо. А вам что нужно?
Рассказал ходок, что они не могут выбраться из лесу. Слетел Ганс-Еж на своем петухе с дерева и поставил этому королю то же самое условие, что и первому. Король в своих обязательствах расписался, и Ганс-Еж верхом на петухе вывел его из лесной чащи. У ворот родного замка короля ждала его единственная дочь. Красавица не могла нарадоваться его возвращению и засыпала старика вопросами о его продолжительных странствиях. И поведал он ей, что обязан своим счастливым возвращением зачарованному волынщику, кому-то среднему между ежом и человеком. С грустью признался король, что цена этого возвращения – она сама. Принцесса поклялась, что ради своего отца она беспрекословно выйдет замуж за Ежа, стоит ему явиться за ней.
А тем временем многократно увеличившееся стадо Ганса-Ежа наводнило собой весь лес. Тогда он послал весточку своему отцу с просьбой освободить хлевы в селении, ибо он намеревается привести скот, которого хватит на всех. Крестьянин, привыкший считать своего сына мертвым, не очень-то обрадовался его «воскрешению».
Как бы то ни было, стадо Ганс-Еж верхом на петухе пригнал, а потом распорядился:
– Отец, пусть кузнец перекует моего петуха, и больше вы меня никогда не увидите.
Крестьянин мигом все устроил на радостях, что от Ганса-Ежа навсегда избавится.
А Ганс-Еж отправился в первое королевство. Король-обманщик к его визиту подготовился: велел, если волынщик верхом на петухе покажется, всем в музыканта стрелять и прочее оружие на него поднять, чтобы он замок обходил десятой дорогой.
Вот приблизился Ганс-Еж к замку, а на него народ с пиками повалил. Пришпорил тогда Еж своего петуха, через ворота перемахнул и на окне тронного зала устроился. Стал он кричать, чтобы король отдавал, что должен, или вместе с принцессой к смерти готовился. Испугался король и упросил свою дочь с Гансом-Ежом идти. Надела она подвенечный наряд, прихватила с собой приданое и небольшую свиту и села в карету с Гансом-Ежом да его петухом и волынкою. Король решил, что больше никогда не увидит своей дочери… А вот что произошло на самом деле. Когда город остался немного позади, Ганс-Еж сорвал с принцессы подвенечный наряд и давай ее своими иглами колоть, приговаривая:
– По верности твоей и награда, а теперь убирайся, не жить нам с тобой вместе!
Опозоренная, вернулась она домой.
А Ганс-Еж верхом на петухе да с волынкой в руках за другой невестой поехал. А второй король распорядился, если явится Ганс-Еж, чтобы стражники ему салютовали, чтобы его под белы рученьки в королевский замок проводили. Увидала его королевна, да так и ахнула: ну что за страшилище! Но приняла Ганса-Ежа все же радушно, под венец с ним пошла, за свадебный стол на место жениха усадила. А ближе к вечеру страшно ей сделалось – как с таким колючим спать ложиться? Успокоил жених свою невесту и велел поставить у дверей опочивальни караул и чтобы стражники развели огромный костер и явились по первому его зову.
Ровно в одиннадцать часов вошли молодые в спальню, снял Ганс с себя ежовую шкуру и позвал караульных. Те колючки подхватили и швырнули в костер. Когда от нее осталась горстка пепла, спали с Ганса колдовские чары, и теперь он ничем не отличался от обычного человека, если не считать почерневшего, словно от огня, тела. Но и с этой бедой придворный лекарь благодаря целебным мазям сладил. Перед восхищенной принцессой Ганс предстал белокожим красавцем. Сыграли они заново свадьбу, и Ганс-Еж наследовал трон. Через пару лет нанесли молодые король с королевой визит крестьянину, его отцу. Тот его узнал не сразу, но, узнав, так обрадовался, что переехал жить в королевство Ганса. На том сказка и кончилась.
Жила-была девочка. Как-то пошла она в лес за ягодами и встретила старушку.
– Здравствуй, девочка, – сказала старушка. – Дай мне ягод, пожалуйста.
– Бери, бабушка, – ответила девочка.
Поела старушка ягод и сказала:
– Я тебе тоже что-то подарю. Вот тебе горшочек. Стоит только сказать: «Раз, два, три, горшочек, вари!» – и он начнет варить вкусную сладкую кашу. А если сказать: «Раз, два, три, горшочек, не вари!» – он сразу перестанет варить.
– Спасибо, – сказала девочка, взяла горшочек и пошла домой.
Теперь у них с матерью всегда на обед была вкусная сладкая каша.
Однажды девочка ушла из дому, а мать поставила горшочек перед собой и сказала:
– Раз, два, три, горшочек, вари!
Горшочек начал варить и наварил очень много каши. Мать наелась досыта, но забыла, как остановить горшочек. Каша заполнила комнату, вылилась на крыльцо и потекла по улице, а горшочек все варил. Испугалась мать, побежала за дочкой, да не смогла перебраться через дорогу – горячая каша текла рекой.
Хорошо, что девочка была недалеко. Увидела она, что делается, и побежала домой. Кое-как взобралась на крыльцо, открыла дверь и крикнула:
– Раз, два, три, горшочек, не вари!
Горшочек перестал варить кашу. Но еще долго горожане ели кашу, черпая прямо из окон, а тот, кому приходилось ехать или идти по улице, должен был проедать себе в каше дорогу.
Но никто не жаловался. Очень уж вкусная и сладкая была каша!
Семь лет работал Ганс на хозяина и решил уволиться:
– Срок моей службы истек. Отпусти меня, хозяин, домой, к матушке, заплатив за труды мои.
Хозяин не поскупился и отдал бывшему работнику золотой слиток размером с Гансову голову. Завернул Ганс свою награду в платок, за спиной тяжкую ношу домой тащит.
А навстречу ему – наездник на лихом коне. «Ах, – размечтался Ганс, – что за счастье ездить верхом! Сидишь себе как на троне, на камни не натыкаешься, туфли не снашиваешь, продвигаешься вперед без малейших усилий со своей стороны». А всадник словно мысли его читает – окликнул:
– Здорово, Ганс, куда это ты пешком-то направляешься?
– Надо мне, – отвечает, – дотащить домой этот золотой слиток, а я под его тяжестью пополам складываюсь.
– Так давай меняться, – предложил наездник, – я тебе – коня, ты мне – золото.
– Я-то с радостью, – сказал Ганс, – да тебе с ним будет много мороки.
Спешился наездник, забрал слиток, подсадил Ганса на коня, подал ему поводья и напутствует:
– Когда захочешь скакать побыстрее, щелкнешь языком «гоп-гоп».
Едет Ганс на коне, плечи расправил, дай, думает, коня галопом пущу:
«гоп-гоп» – щелкает языком. А конь как понесет – пришлось горе-наезднику из придорожной канавы выбираться. А навстречу ему крестьянин, гнавший корову на пастбище. Поднявшись на ноги, Ганс крестьянину пожаловался:
– Сущее наказание ездить на этой норовистой кляче: только и думает, как седока сбросить. То ли дело твоя корова – уж и смирная, и дойная. Ты всегда при молоке, при масле да при сыре. Вот бы и мне такую!
– Коли хочешь, – говорит крестьянин, – бери, а мне отдай коня.
Гансу только того и надо, поменялись.
Ганс, довольный удачной сделкой, пошел пешком следом за коровой. Но вскоре полуденный зной вызвал в нем жажду. Надумал Ганс свою корову подоить и молочка испить. Сказать, что у неумехи не получилось – ничего не сказать. Смирная корова так лягнула его задней ногой, что он крепко головой оземь стукнулся, долго в себя приходил. А мимо как раз шел мясник, толкая повозку с поросенком.
– Что с тобой произошло? – спросил он, поднимая Ганса на ноги.
Тот рассказал. Мясник протянул ему бурдюк с водой:
– Пей, тебе полезно. Корова, знать, старая, хоть на убой отдавай.
– Ну и ну, – пожал плечами Ганс, – и ладно бы ее дома зарезать: мяса много получится. Только я говядину не люблю. Вот поросенок мне по вкусу: это ж сколько колбас можно накоптить!
– Так и быть! – Ударили по рукам. – Меняем корову на поросенка.
Идет Ганс дальше, поросенка на веревке ведет, удаче своей не нарадуется, и увязался за ним молодчик с жирным белым гусем под мышкой. Разговорились попутчики. Ганс поведал молодчику о своих выгодных менах, а тот признался, что несет своего гуся на торжество по случаю крестин.
– Ты ж его не поднимешь, – хвастался хозяин птицы, хватая ее за крылья, – тяжелехонек! Два месяца его откармливали. Как зажарим его, как станем уписывать, только жир по щекам потечет.
– Твоя правда, – согласился Ганс, взвешивая гуся на руке, – всем гусям гусь, но до моего поросенка ему далеко.
Оглянулся молодчик по сторонам, словно опасаясь чего, и зашептал Гансу на ухо:
– Как бы с твоим поросенком накладки не вышло. В соседней деревне у старосты свинья недавно украдена – точь-в-точь как твой поросенок. Как бы вас с ним не поймали да не заперли куда следует.
Испугался Ганс.
– Ну что за напасть! – досадовал он. – Окажи услугу, возьми поросенка взамен своего гуся, ты, видно, человек бывалый.
– Доля риска есть, – покачал головой молодчик, – но уж выручу тебя, приятель, – сказал и погнал свинью окольными путями.
А Ганс с гусем под мышкой весело отправился в родное село, до которого оставалось пройти одну только деревню, как вдруг видит: стоит у своей тележки беззаботный точильщик, колесо поет, и он себе напевает.
– Не жизнь у тебя, а сахар, до чего задорно точишь, – позавидовал Ганс.
– Так и есть, – улыбнулся точильщик, – с моим ремеслом не пропадешь. У умелого точильщика всегда денег куры не клюют. Кстати, где ты раздобыл такого жирного гуся?
– Выменял на поросенка.
– А поросенка купил?
– Выменял на корову.
– А корову?
– Выменял на коня.
– А коня?
– Купил за золотой слиток размером с мою голову.
– А золото откуда?
– Это плата за семь лет службы.
– Смышленый ты парень, – похвалил точильщик, – к твоему уму бы деньжонок прибавить – больше тебе и желать нечего.
– А как это устроить? – поинтересовался Ганс.
– А сделайся точильщиком вроде меня. Тебе понадобится всего ничего – один точильный камень, и такой камень у меня имеется: не скажу, что отборный, ну так я и прошу за него сущую безделицу – твоего гуся… Идет?
– Ты еще спрашиваешь? – обрадовался Ганс. – Не я ли стану самым счастливым человеком на земле? Не обо мне ли скажут: «У этого парня денег куры не клюют?»
И он легко расстался с гусем, обменяв его на точильный камень.
– Держи, – сказал точильщик, давая в довесок тяжелый булыжник, – тоже хороший камень, на нем в самый раз старые гвозди выравнивать. Смотри не потеряй.
Идет Ганс дальше, тяжелые камни за плечами несет, а сам так и светится от счастья… так и валится с ног от усталости. И закралась в его голову шальная мысль, что в самый раз было бы от своей ноши избавиться. Кое-как доплелся он до колодца у дороги, чтобы передохнуть и вдоволь напиться. Опасаясь, как бы не повредить камни, опустил он бережно их у края колодца. Сам присел рядом, подался вперед, чтобы утолить жажду, да ненароком спихнул их прямо в колодец. Услышав всплеск, Ганс запрыгал от радости, а потом, плача и молясь, благодарил Бога за это очередное освобождение.
– Я самый счастливый человек на земле, – кричал он, – больше и желать нечего!
Так вот, налегке, и вернулся он наконец домой, к матушке.
Водном селе жил молодой крестьянин Ганс. Его кузен был одержим идеей женить брата на богатой невесте. Загнал он Ганса за печь, накалил ее как следует. Вручил «жениху» горшок с молоком, буханку белого хлеба да звонкую монетку и говорит:
– Кроши хлеб в молоко и никуда не уходи до моего возвращения.
– Как-нибудь справлюсь, – кивнул Ганс.
Сам сват накинул латаные-перелатаные портки, явился в соседнее селение к зажиточному мужику и стал просить руки его дочери для своего кузена Ганса.
Скряга отец спрашивает:
– А какого он достатка? Прокормить семью сможет?
– Эх, старина, – ведет сват, – брат мой в тепле сидит, звонкую монету крепко держит, своего из рук не выпустит. Да у него больше добра, чем на мне заплат! – И хлопает себя по латаным-перелатаным порткам. – Если дадите себе труд за мной проследовать, своими глазами увидите, что я еще приуменьшаю.
Сам Кощей не упустил бы такого зятя, что уж и говорить о богатой деревенщине.
Сыграли свадьбу без предварительных смотрин. И возжелала молодая с Гансом полем пройтись, владения своего молодого мужа осмотреть. Тот праздничные одежды быстренько сбросил и натянул латаный-перелатаный холщовый жупан со словами: «Хорошее платье ведь запачкать недолго».
Вышли они рука об руку в поле. Что ни встретятся им на пути виноградники ли, поля ли, луга ли, Ганс на них пальцем тычет, а ладонью по большой или малой заплате на своем жупане бьет да знай себе твердит:
– Сама видишь, душенька, вот заплата моя и вон та – тоже.
А душеньке и невдомек, что он о всамделишних заплатах говорит, а не о землях да угодьях, что показывает.
– А ты была на той свадьбе?
– Как не быть, да еще в каком наряде! На голове – шляпка белоснежная, только солнышко взошло – она и растаяла; платье на мне было тонкого сукна – ни дать ни взять паутина, да шла я через колючий кустарник, остались от него одни лоскутки; туфельки на мне были хрустальные, да споткнулась я о булыжник – только осколки зазвенели.
Жили-были старик со старухой. Умер старик, оставив после себя семь сыновей – семь Симеонов, похожих друг на друга, как две капли воды. Каждое утро можно было увидеть семерых пахарей за работой.
А в ту пору проезжал мимо царь, издали приметил, что людей в поле, как на барщине. Удивился царь, так как наверняка знал, что барских земель там быть не должно, и велел своему слуге разузнать, что это за пахари такие.
Поздоровался слуга и спрашивает:
– Вы чьи будете?
А Симеоны в ответ:
– Родила нас матушка семерых Симеонов, чтобы было кому землю предков наших возделывать.
Передал слуга их слова царю. Для него такие пахари в диковинку. И послал царь опять слугу к братьям-пахарям с приглашением явиться к нему во дворец.
Явились все семеро в палаты белокаменные, царю кланяются.
– Говорите, – перешел к делу царь, – что вы делать умеете, по какой части доки?
– Я, – отозвался старший, – на ваших глазах столб железный выкую высотой как две поставленные друг на друга ели.
– А я, – вступил второй, – вгоню его в землю.
– А я, – подхватил третий, – взберусь на него и все увижу, что только в мире происходит.
– А я, – сказал четвертый, – построю вездеходный корабль, которому что море, что суша – все едино.
– А я, – не отставал пятый, – с разными странами торговать всевозможным товаром стану.
– А я, – удивил царя шестой, – с кораблем, экипажем и товаром в море погружусь, сколько угодно под водою проплыву и вынырну, где укажете.
– А я – похититель, – закончил седьмой, – все достану, на что глаз положите.
– Непочетное ремесло в моей державе, – пожурил царь последнего Симеона, – у тебя есть три дня, чтобы покинуть эти места; остальные шестеро поступают ко мне на службу.
Опечалился седьмой Симеон, да разве с монархом поспоришь?
А царь уже давно был влюблен в одну принцессу из заморского королевства. Тут царские советники за седьмого Симеона и вступились: нужен похититель, чтобы принцессу выкрасть. Передумал тогда царь гнать от себя Симеона. А назавтра созвал он всех своих подданных поглядеть, как Симеоны свое мастерство демонстрировать будут.
Первый Симеон на глазах у всего честного народа выковал железный столб высотой как две поставленные друг на друга ели. Велел царь местным богатырям железный столб в землю вогнать, а им и не поднять его. Тогда приказал царь второму Симеону вогнать его в землю. Тот вогнал и глазом не моргнул.
Дождался своей очереди третий Симеон, взобрался по столбу на самый верх и давай во все глаза глядеть, заморскую принцессу высматривать – насилу высмотрел. Сидит у стрельчатого окна красавица: лицом как снег бела, на щеках румянец играет, а кожа до того нежная, до того прозрачная, что видно, как кровь по венам бежит.
– Увидел? – вопрошает царь.
– Да.
– Так спускайся немедля и чтобы добыли мне принцессу любой ценой!
Взошли все семеро Симеонов на корабль, что четвертый брат построил, погрузили на него товары всевозможные и снялись с якоря.
Долго ли, коротко ли они плыли, но пристали наконец к незнакомому берегу.
А надо сказать, седьмой Симеон прихватил с собой ученого кота, что предметы подает, через скакалку прыгает и еще не такие фокусы выделывает.
Пошел он с диковинным котом по острову прогуляться, а братьям велел на палубе своего возвращения дожидаться.
В городе стал он под стрельчатыми принцессиными окнами и давай с котом ученым играть. Как увидела принцесса диковинного зверя, сразу послала свою рабыню разузнать, не продается ли он. Выслушал Симеон рабыню и отвечает:
– Коту моему ученому цены нет, но, если он кому сильно приглянулся, я готов подарить зверя.
И получаса не минуло, как уже шел Симеон со своим подарком в покои принцессы. Взамен своего кота он только и испросил позволения три дня и три ночи в королевском дворце погостить.
Так и остался Симеон на ночь во дворце, якобы с тем, чтобы научить принцессу обращаться ко зверям диковинным… На третий день благодарит Симеон принцессу за гостеприимство и приглашает к себе на корабль на прочие диковинки из мира животных поглядеть. Отпросилась она у короля-отца на вечер и сопровождаемая кормилицами и рабынями пошла на причал. А седьмой Симеон уже тут как тут, убеждает ее оставить на берегу свою свиту и одной взойти на корабль:
– На борту великое множество зверей красоты невиданной: выберешь себе любого, какой приглянется! А каждой рабыне да кормилице такой подарок делать мне не по карману.
Оставила принцесса свою свиту на причале, а сама на палубу ступила. Тут же на корабле паруса подняли, и поплыл он по синему морю. Так король дочери и не дождался. А узнав от рабынь да кормилиц, что произошло, сам возглавил погоню.
Как стал королевский корабль догонять судно братьев Симеонов, погрузил его шестой Симеон вместе с экипажем и товарами под воду и не выныривал, пока родных берегов не достиг. Пришлось королю ни с чем возвращаться.
А семерых Симеонов с красавицей принцессой сам царь у пристани встречает, а с ним и все его подданные. Высадились гости заморские на берег под приветственные крики толпы. Царь с принцессой в тот же день обвенчались, а семерых Симеонов по-царски наградили и домой отпустили.
У одного короля был сын. И посватался принц к дочери всемогущего короля. Дева Малейн (так звали девушку), которая могла спорить красотой с античными богинями, любила этого принца. Но отец-король видел ее женой другого. Стоило ей возразить, что она сама вправе выбирать себе мужу и она свой выбор сделала, как отец заточил ее в темную башню, куда не проникал даже дневной свет, со словами:
– Ты останешься здесь на семь лет и потом, надеюсь, упрямиться не станешь!
Предоставив в распоряжение принцессы и ее верной служанки провизии на семь лет, их замуровали в башне. Сидя там в кромешной тьме, они быстро потеряли счет времени. Принц то и дело ходил кругами возле башни и звал свою возлюбленную, но каменные стены не пропускали звук, и его печаль росла день ото дня. Шли годы, и узницы обратили внимание, что запасы пищи и воды на исходе. Они надеялись, что семь лет истекли и что их вот-вот выпустят, но о них словно позабыли. Не желая умирать голодной смертью, дева Малейн сказала:
– Нам ничего не остается, кроме как попытаться самим пробить стену.
Сменяя друг друга на этом посту, дева Малейн и служанка настойчиво долбили стену столовым ножом. Наконец, они один за другим вытащили несколько камней и увидели сначала небо, а потом руины родового замка девы Малейн, выжженные поселения, вытоптанные поля и поняли: здесь прошла война.
Когда девушки выбрались через дыру, которую они бессонными ночами долбили в стене, им некуда было идти. Так начались их голодные странствия, во время которых им приходилось питаться даже крапивой. Спустя несколько месяцев они вошли в большой город и направились прямиком во дворец, откуда двух бродяжек прогнали бы, не возьми их королевский повар посудомойками на свою кухню.
А надо сказать, что это было королевство того принца, который к ней сватался. Король нашел сыну новую невесту, злую и некрасивую. Дата свадьбы была уже определена, но невеста сидела в отведенных ей покоях взаперти, стесняясь своей уродливости, и деве Малейн велели приносить ей из кухни еду. Настал день венчания, но несчастная невеста так боялась насмешек в свой адрес, что сказала деве Малейн:
– Я подвернула ногу и не смогу пойти в храм. Тебе предстоит большая честь! Наденешь мой свадебный наряд и подменишь меня на венчании.
Дева Малейн было воспротивилась, но невеста принца сначала безуспешно пыталась ее подкупить, а потом и вовсе пригрозила смертью. И вот уже дева Малейн облачается в свадебное платье, надевает ее фамильные драгоценности и под восторженный шепот придворных входит в тронный зал. Жених так и ахнул: «Она как две капли воды похожа на деву Малейн, но ведь моя Малейн томится в башне, если вообще еще жива».
Принц взял невесту под руки и повел в храм, и встретился им на пути куст крапивы, к которому девушка обратилась со словами: «Если бы не ты, крапива, я умерла бы с голоду».
– Что ты сказала? – переспросил королевич.
– Ничего, – покачала головой она, – пришла мне на память дева Малейн.
Принц только руками развел. Идут дальше, а невеста бормочет: «Хоть я и невеста, но не та, за кого меня принимают».
– Что-что? – недоумевает принц.
– Ничего, – отвечает она, – мне все дева Малейн покоя не дает.
– Неужто ты знакома с девой Малейн?
– Лично не знакома, – стала разубеждать его она, – но наслышана.
Вот стали они у самых ворот храма, а невеста опять за свое: «Хоть я и невеста, но не та, за кого меня принимают».
– Что ты сказала? – спросил жених.
– Да я, – неохотно начала она, – не могу выбросить из головы деву Малейн.
Достал он роскошное колье, застегнул на ее нежной шее и повел к алтарю.
После венчания молодая за весь обратный путь не проронила ни слова. А добравшись до замка, опрометью бросилась в комнату невесты, скинула свадебный наряд и фамильные драгоценности, переоделась в свое бедное платье, но колье – подарок жениха – с шеи не сняла.
А вечером остался жених наедине с некрасивой невестой, которая предусмотрительно спрятала лицо за фатой, и принц спрашивает:
– О чем ты говорила по пути в церковь с кустом крапивы?
– В своем ли ты уме? – не поняла она. – Делать мне нечего – с какой-то крапивой беседовать!
– А если не беседовала, значит, ты фальшивая невеста, – отрезал принц.
– Я для памяти служанку держу. Схожу к ней – она за меня и вспомнит! – сориентировалась невеста, а сама со всех ног – к деве Малейн:
– Ну-ка признавайся, о чем ты говорила по пути в церковь с кустом крапивы?
– О сущих пустяках, я сказала: «Если бы не ты, крапива, я умерла бы с голоду».
Вернулась невеста в спальню к принцу и говорит:
– Теперь припоминаю, о чем я говорила с кустом крапивы. – И она слово в слово повторила слова Малейн.
– А что ты сказала потом?
– Потом? – растерялась она. – Потом я молчала!
– Ты два раза повторила одно и то же, а если молчала, значит, ты фальшивая невеста.
Пулей вылетела невеста из спальни и снова напустилась на деву Малейн:
– Признавайся, что ты там еще по дороге в церковь болтала?
– Да тихонечко так шептала: «Хоть я и невеста, но не та, за кого меня принимают».
– Эти слова будут стоить тебе жизни, – прикрикнула на нее невеста и заторопилась в королевскую опочивальню, чтобы повторить жениху услышанное от Малейн.
– А куда подевалось колье, которое я надел на тебя у ворот храма? – не унимался принц.
– Что еще за колье? – не поняла она. – Не получала я от тебя никакого колье.
– А если не получала, значит, ты фальшивая невеста. – Он сорвал с нее фату и, увидев ее уродливое лицо, отпрянул с криком:
– Кто ты и что ты здесь делаешь?
– Я твоя настоящая невеста, но я боялась людских насмешек в свой адрес и приказала посудомойке надеть свадебный наряд и показаться в церкви вместо меня.
– Я должен увидеть эту посудомойку, – настоял принц.
Но вместо того чтобы привести деву Малейн, злая невеста велела слугам немедля схватить и казнить изменницу посудомойку. На отчаянный крик бедной девы Малейн выбежал принц и распорядился тотчас отпустить пленницу. А когда зажгли свет, он заметил на ее шее колье – свой подарок.
– Ты моя настоящая невеста, – произнес он, – ты стояла со мной у алтаря. Следуй за мной.
Когда они остались наедине, принц сказал:
– По пути к храму ты то и дело упоминала деву Малейн, мою первую невесту. Будь я уверен, что она жива, я бы поклялся, что сейчас говорю с ней самой.
Девушка ответила:
– Да, я дева Малейн. Из-за любви к тебе я семь лет была узницей башни, умирала от голода и жажды и ничего не знала, кроме горя. Но сегодня праздник пришел на мою улицу. Я твоя законная жена.
Их уста соприкоснулись, и они жили счастливо до конца своих дней.
Одноглазка, Двуглазка и Трехглазка
У одной вдовы было три дочери. Старшая, с одним глазом на лбу, звалась Одноглазкой. Средняя, с парой глаз, – Двуглазкой. Младшая, с тремя глазами (один – посреди лба), звалась Трехглазкой. Двуглазку сестры с матерью не жаловали – очень уж она напоминала обычного человека. Ее то и дело толкали, одевали в заношенные до дыр платья, кормили объедками да огрызками и всячески измывались.
Послали как-то раз Двуглазку на луг пасти козу. А у девочки с утра маковой росинки во рту не было – сидит и плачет. Смотрит, а над ней незнакомая женщина склонилась:
– Двуглазка, почему ты слезы льешь?
– А что мне делать остается? Невзлюбили меня сестры и мать за мои два глаза: притесняют меня, в новой одежде отказывают, сегодня и вовсе не покормили.
И говорит ей незнакомка:
– Не плачь, Двуглазка, ты навсегда забудешь чувство голода! Просто скажи своей козе: «Козочка, ме, Столик, ко мне!» – и перед тобой явится накрытый заморскими яствами стол. Наевшись, произнеси: «Козочка, ме, Столик, на место!» – и все пропадет.
С этими словами женщина ушла. А голодная Двуглазка решила тотчас испытать Столик:
– Козочка, ме, Столик, ко мне!
И появился перед нею столик, накрытый кружевной скатертью, с серебряными приборами и диковинными блюдами с пылу с жару. Двуглазка наспех помолилась и принялась за еду. Покончив с трапезой, Двуглазка произнесла:
– Козочка, ме, Столик, на место! – и все пропало.
На закате дня она привела козу домой и не притронулась к жалким объедкам, оставленным сестрами ей на ужин. Наутро опять отправилась она с козой на луг, отказавшись от скудного своего завтрака. Так повторялось несколько раз, прежде чем сестры заподозрили неладное. В тот день Двуглазка погнала козу на луг в сопровождении Одноглазки, которая должна была выяснить, не кормит ли кто сестру.
Двуглазка смекнула, что к чему, и говорит Одноглазке:
– А давай, Одноглазка, сядем отдохнем, я тебе песенку спою.
Одноглазка устроилась поудобнее, а Двуглазка запела:
– Спи, мой свет Одноглазка! Спишь, мой свет Одноглазка?
Закрыла Одноглазка единственный глаз и захрапела. А Двуглазке только того и надо:
– Козочка, ме, Столик, ко мне!
Покушала на славу и столик прибрала:
– Козочка, ме, Столик, на место!
Растолкала она Одноглазку и давай журить:
– Одноглазка, вставай, так-то ты козу пасти собиралась? Уже вечер, домой пора.
Дома Двуглазка снова есть не стала, но причины Одноглазка не знала – пришлось рассказать матери, что она на лугу уснула.
Назавтра посылает мать Трехглазку:
– Будь внимательной и разузнай, что на лугу ест Двуглазка.
Вот пошли они на луг, а Двуглазка уже знает, как от соглядатая избавиться:
– А давай, Трехглазка, сядем отдохнем, я тебе песенку спою.
Одноглазка устроилась поудобнее, а Двуглазка запела:
– Спи, мой свет Трехглазка! Спишь, мой свет Двуглазка?
Двуглазка ошиблась самую малость, но в результате у Трехглазки уснули только два глаза, третий же продолжал видеть. А ничего не подозревающая Двуглазка проговорила волшебные слова «Козочка, ме, Столик, ко мне», наелась досыта и проверенным способом заставила столик исчезнуть, а потом стала будить Трехглазку:
– Трехглазка, вставай, так-то ты козу пасти собиралась? Уже вечер, домой пора.
Дома Двуглазка к еде не притронулась, а Трехглазка рассказала матери все, что происходило на лугу.
Как закричит мать на Двуглазку:
– Так ты, значит, для себя одной приберегаешь лучшие куски? Вот я тебя проучу!
Схватила она острый нож и безжалостно зарезала козу.
Горько заплакала Двуглазка, в узелок свои пожитки собрала, из дому уйти собралась… Женщина, научившая ее вызывать Столик, застала ее плачущей на лугу.
– Двуглазка, по ком ты так убиваешься?
– Зарезала мать мою козочку! – рыдала Двуглазка. – Голодное время для меня настало.
– А ты, Двуглазка, попроси у сестер, чтобы отдали тебе внутренности убитой козы. Похорони их возле порога, и все наладится, – сказала и пропала, будто ее и не было.
Поплелась Двуглазка и говорит сестрам:
– Сестрички, вот бы мне получить хоть что-то от моей козы. Не о лакомых кусочках прошу, позвольте мне взять внутренности.
Сестры посмеялись и позволили.
Все сделала Двуглазка, как добрая женщина ее научила, а к утру возле порога выросло волшебное дерево с серебряной кроной и золотыми яблоками. Никто, кроме Двуглазки, и знать не знал, что появилось оно из внутренностей козы.
Посылает мать Одноглазку:
– Взберись, деточка, на дерево и сорви нам яблок.
Полезла Одноглазка на чудо-яблоню, да только ни одно яблоко ей в руки не далось. Пришлось Трехглазке ее на дереве сменить, но и у той ничего не получилось. Тут уж мать не утерпела – сама на яблоню взгромоздилась, только и от нее волшебные плоды ускользнули.
Двуглазка стала проситься:
– Пустите меня на дерево – попробую я яблок нарвать.
Как только оказалась Двуглазка на дереве, как золотые яблоки сами ей в руки попадали… Забрала мать у нее яблоки, и зажила Двуглазка хуже прежнего, ведь теперь мать с сестрами завидовали ей черной завистью и не упускали ни одного случая ее унизить.
Как-то раз стояли вдова с дочерьми возле волшебного дерева, а мимо проезжал юный рыцарь.
– Ну-ка, Двуглазка, – окликнули ее сестры, – прячься под деревом, чтобы мы за тебя не краснели. – И накрыли пустой кадкой и ее, и свежесорванные яблоки.
Завидев волшебное дерево, красавец рыцарь спешился и говорит двум сестрам:
– Кому принадлежит эта золотая яблоня? За одну ветку с нее я заплачу любую цену.
И солгали Одноглазка с Трехглазкой, что яблоня эта их и им ничего не стоит сломать для него ветку. Однако на деле ничего у них не вышло – ветки и плоды словно ускользали от сестер. Рыцарь удивился:
– Как же это вы с собственного дерева и ветки не в состоянии сломать?
В этот момент Двуглазка, возмущенная ложью сестер, вытолкнула из-под кадки два золотых яблока, которые покатились прямо к ногам рыцаря. Тут пришлось Одноглазке и Трехглазке признаться, что это проделки их сестры, которая скрывает от посторонних взглядов два своих бесстыжих глаза.
– Двуглазка, покажись! – потребовал рыцарь.
Вышла тогда Двуглазка из-под кадки, и до того она рыцарю приглянулась, что он сказал:
– Двуглазка, ты ведь сорвешь мне ветку с этого дерева?
– Конечно, – отвечала Двуглазка, – ведь я хозяйка яблони.
Залезла она на дерево, сорвала ветку с серебряными листьями и золотыми яблоками и протянула рыцарю.
– Двуглазка, что я могу дать тебе взамен? – спросил рыцарь.
– Ах, – вздохнула Двуглазка, – здесь меня не ждет ничего хорошего, но вы могли бы увезти меня отсюда.
Сели рыцарь с Двуглазкой на его коня и поехали в его замок. Там облачал он ее в роскошные одежды, угощал яствами заморскими, а потом и свадьбу сыграли. А волшебное дерево следом за хозяйкой перешло.
Давным-давно жили на свете муж и жена. Они мечтали о детях, сколько себя помнили, пока наконец Господь не сжалился над ними и женщина не понесла.
Их окна выходили на дивный сад, полный красивых цветов и всевозможной зелени. Но в сад, огороженный высоким забором, никто не решался проникнуть, ведь это был сад злой ведьмы.
Как-то раз будущая мама увидела, что в ведьмином саду растет великолепный рапунцель. С того дня ее мучила навязчивая идея его съесть. Заметив, как она исчахла, муж спросил:
– О чем тоскует моя милая жена?
– Я умру, – призналась она, – если не съем немного рапунцеля из ведьминого сада.
Муж был готов на все ради своей милой жены, поэтому под покровом ночи перелез через забор, нарвал в ведьмином саду зеленого рапунцеля, сколько смог унести, и порадовал жену.
Она с благодарностью съела все подчистую. И до того ей этот рапунцель понравился, что на следующий день она снова послала мужа в ведьмин сад.
На этот раз за забором его ждала… ведьма.
– По какому праву ты проник в мой сад, – сверкала глазами она, – и воруешь мой рапунцель? Ты поплатишься за свою дерзость!
– Мой грех, – повинился он, – но на такой поступок меня толкнули обстоятельства: моя беременная жена, через окно увидев ваш рапунцель, так захотела его съесть, что могла умереть, не добудь я его.
Ведьма сменила гнев на милость:
– Я дам тебе столько рапунцеля, сколько нужно, и я сама позабочусь о ребенке, который родится у твоей жены.
Муж был слишком испуган, чтобы возражать. И в день, когда его жена родила девочку, пришла ведьма, назвала ребенка Рапунцель и тотчас унесла.
Рапунцель росла самой красивой девочкой в мире. Ей было всего двенадцать, когда ведьма заточила ее в лесную башню без входов и выходов, с одним-единственным крохотным окошком на самом верху. Когда в ведьмины планы входило подняться в башню, она кричала в это окно: «Рапунцель, опусти свои косы!»
А косы у Рапунцель были длинные и отливали золотом. По ним ведьма взбиралась на башню, как по лестнице.
Однажды судьба привела в этот лес принца. Он услышал песню, раздававшуюся из башни, и не смог проехать мимо. Конечно же, это была Рапунцель, которой пение помогало развеять тоску. Вздумалось ему подняться наверх, но тщетно он искал вход в башню. Он вернулся домой, но услышанный в лесу нежный голос не давал ему покоя. Принца то и дело тянуло в лес. Как-то раз он увидел там ведьму и спрятался за деревом, когда она стала кричать: «Рапунцель, опусти свои косы!»
Рапунцель опустила косы, и колдунья вскарабкалась по ним наверх на глазах у принца.
На следующий день, хотя уж вечерело, находчивый принц уже кричал в окошко башни: «Рапунцель, опусти свои косы!»
Тяжелой волной упали волосы Рапунцель вниз, и принц поднялся наверх.
Рапунцель при виде незнакомца не на шутку испугалась, но принц был так учтив и так хвалил ее пение, что, когда он опустился на одно колено, чтобы сделать ей предложение, она с радостью согласилась:
– Я пойду за тобой хоть на край света, но, чтобы мне спуститься вниз, навещай меня почаще и всякий раз приноси с собой немного шелка. Я сплету из него лесенку для своего побега, и мы уедем на твоем коне.
Они договорились, что он будет посещать ее в вечерние часы, чтобы разминуться с ведьмой, обычно являвшейся днем. Ведьма и не подозревала, что она не единственная гостья Рапунцель, пока красавица не проговорилась сама:
– Ответь мне, матушка, почему тебя поднимать наверх тяжелее, чем юного принца?
– Ах ты, дрянь! – завопила ведьма. – Я не верю своим ушам. Я думала, что никто не знает о твоем существовании!
А потом схватила ножницы и безжалостно отрезала ее дивные косы.
Завела ведьма бедняжку Рапунцель глубоко-глубоко в чащу леса да там и бросила.
Приехавший к вечеру принц даже не догадывался, что он поднимается по отрезанным волосам своей возлюбленной прямо в лапы злой ведьмы.
– Попался! – встретила принца старуха. – Ты пришел за своей милой, но твоя любовь здесь больше не живет. Ты никогда, слышишь, никогда больше ее не увидишь.
Убитый горем принц бросился с башни вниз. Он выжил, но колючий кустарник, в который он угодил лицом, оставил его без глаз. Незрячий скитался он по лесу, тоскуя об утраченной возлюбленной, пока однажды не забрел в чащобу, где поселилась Рапунцель вместе с их сыном и дочерью. Да, она родила близнецов.
Когда принц услышал знакомый голос, он пошел на его звуки и очутился… в объятиях своей Рапунцель. Она осыпала его лицо поцелуями, плача от счастья, и две прозрачные слезинки, попав к нему на глаза, вернули ему зрение. Они отправились в его королевство и больше никогда не знали горя.
У одного короля была дочь, которая прославилась на весь свет своей красотой. Но была она и высокомерна, как никто. Никого из женихов не считала она достойным своей руки. Кто ни сватался к ней, все получали отказ, да еще какое-нибудь злое словечко или насмешливое прозвище в придачу.
Как-то старый король велел устроить пышное празднество и созвать из дальних краев и соседних городов всех молодых людей, еще не потерявших надежду понравиться принцессе.
Съехалось немало женихов. Их построили в ряд, одного за другим. Сначала стояли короли и наследные принцы, потом – герцоги, потом – графы, бароны. Принцессу повели вдоль ряда, чтобы она могла выбрать себе в мужья того, кто больше всех придется по сердцу.
Но и на этот раз никто ей не приглянулся.
Один жених показался принцессе слишком толстым. Другой – долговязым и долгоносым, как журавль на болоте. Третий ростом не вышел. Четвертого она посчитала слишком бледным. Пятого – слишком румяным. Шестого – недостаточно стройным…
Но почему-то больше всех досталось молодому королю, который занимал в ряду женихов самое почетное место. Принцесса решила, что бородка его слишком острая и чересчур выдается вперед.
– Посмотрите! – воскликнула она и засмеялась. – У него борода, словно клюв у дрозда! Король Дроздобород! Король Дроздобород!
Когда старый король увидел, что дочь вовсе и не думает выбирать себе жениха, а только зря потешается над людьми, он сильно разгневался и поклялся своей головой и короной, что выдаст ее замуж за первого попавшегося нищего, который постучится в ворота.
Прошло два дня. И вот под окнами дворца задребезжали струны и какой-то бродячий музыкант затянул свою песенку. Король послал за музыкантом слуг.
Грязный, оборванный нищий робко вошел во дворец.
– Какова работа, такова и плата, – сказал король. – Мне так понравилось твое пение, что я решил выдать за тебя замуж свою дочь.
Услышав это, принцесса в ужасе упала перед отцом на колени, но король даже не поглядел на нее.
– Ничего не поделаешь! – сказал он. – Я поклялся своей головой и короной, что отдам тебя за первого попавшегося нищего, и я сдержу свою клятву!
Сколько ни плакала принцесса, сколько ни молила – все было напрасно. Ее тут же обвенчали с нищим музыкантом.
А после венчания король сказал:
– Не пристало жене нищего жить в королевском дворце. Можешь отправляться со своим мужем на все четыре стороны.
Нищий музыкант, не говоря ни слова, взял за руку молодую жену и вывел за ворота. Первый раз в жизни принцесса пешком вышла из дворца. Опустив голову, не глядя по сторонам, шла она вслед за своим мужем.
Когда солнце стало опускаться за холмами, они подошли к стенам большого богатого города. Над золотыми тяжелыми воротами возвышалась круглая башня. Они прошли через весь город и остановились на самой окраине, около маленького, вросшего в землю домика.
– Чей это домик? – спросила принцесса.
– Он мой и твой! – ответил с гордостью музыкант и отворил покосившуюся дверь. – Здесь мы с тобой будем жить. Входи!
Принцессе пришлось наклониться, чтобы, переступая через порог, не удариться головой о низкую притолоку.
– А где же слуги? – спросила она, поглядев по сторонам.
– Какие там слуги! – ответил нищий. – Что понадобится, сделаешь сама. Вот разведи-ка огонек, поставь воду да приготовь чего-нибудь поесть. Я очень устал.
Но принцесса совсем не умела разводить огонь и готовить, и музыканту пришлось самому все это делать. Он приготовил скудный ужин, они поели и легли спать.
А на другой день нищий с рассветом поднял с постели принцессу:
– Вставай, жена, никто за тебя работать не станет!
Так прожили они два дня, и мало-помалу все припасы музыканта подошли к концу.
– Ну, жена, – сказал он, – хорошего понемножку. Это безделье не доведет нас до добра. Начни хоть корзинки плести… Прибыль от этого небольшая, да зато и труд невелик.
Он пошел в лес, нарезал ивняку и принес домой целую вязанку.
Принцесса стала плести корзины, но жесткие прутья не слушались ее, а только царапали и кололи ее белые нежные руки.
– Садись-ка лучше прясть, – сказал муж.
Но грубая нитка врезалась в пальцы принцессы, с них капала кровь, а из глаз текли слезы.
– На что ты годишься?! – упрекнул ее муж. – Попробовать, что ли, торговать глиняными горшками?
Сначала люди нарасхват брали горшки у прекрасной торговки и платили ей, не торгуясь. Но однажды какой-то гусар на горячем коне вихрем вылетел из-за угла и пронесся прямо по горшкам, оставив за собою облако пыли и груду битых черепков.
Принцесса залилась слезами. Она побежала домой и, плача, рассказала мужу о несчастье.
– Да кто же садится с глиняной посудой на рынке с краю, у проезжей дороги! – сказал музыкант. – Ты не годишься ни для какой порядочной работы. Говорят, в королевском замке нужна судомойка. Собирайся!
Теперь прекрасная принцесса была на посылках у повара и делала самую черную работу. В глубоких карманах своего большого фартука она носила по горшочку и складывала туда остатки кушаний, а вечером приносила эти горшочки домой, чтобы поужинать.
В то самое время, когда она чистила котлы и выгребала из очага золу, во дворце готовились отпраздновать свадьбу молодого короля.
Наконец настал торжественный день.
Окончив работу, принцесса пробралась из кухни наверх и притаилась за дверью парадной залы, чтобы хоть издали полюбоваться на королевский праздник.
Мимо принцессы-судомойки вереницей проходили слуги, неся огромные блюда с дорогими кушаньями. А возвращаясь назад, то один, то другой бросал ей то корку от пирога, то крылышко птицы, то рыбий хвост, и она ловила все это, чтобы спрятать в свои горшочки, а потом унести домой.
Вдруг из залы вышел сам молодой король. Увидев за дверью красивую девушку, он схватил ее за руку и потащил танцевать. Она отбивалась от него изо всех сил, отворачиваясь и пряча глаза. Ведь это был король Дроздобород – тот самый, кого совсем недавно она прогнала с позором.
Но не так-то легко было вырваться из его крепких рук. Король Дроздобород вывел принцессу на самую середину залы и пустился с ней в пляс. И тут завязка ее фартука лопнула. Горшочки выпали из карманов, ударились об пол и разлетелись на мелкие черепки. Брызнули во все стороны и первое и второе, и суп и жаркое, и косточки и корочки.
Казалось, стены королевского замка рухнут от смеха. Смеялись знатные гости, смеялись придворные дамы и кавалеры, смеялись юные пажи и седые советники, хохотали и слуги, сгибаясь в три погибели и хватаясь за бока.
От стыда и унижения принцесса готова была провалиться сквозь землю. Закрыв лицо руками, она выбежала из залы и бросилась вниз по лестнице.
Но кто-то догнал ее, схватил за плечи и повернул к себе. Это был король Дроздобород!
– Не бойся! – ласково сказал он. – Разве ты не узнаешь меня? Ведь я тот самый бедный музыкант, который жил с тобой в маленьком покосившемся домике на окраине города. И я тот самый гусар, который растоптал твои горшки на базаре. И тот осмеянный жених, которого ты обидела ни за что ни про что. Из любви к тебе я сменил мантию на нищенские лохмотья и провел тебя дорогой унижений, чтобы ты поняла, как горько человеку быть обиженным и осмеянным, чтобы сердце твое смягчилось и стало так же прекрасно, как и лицо.
Принцесса горько заплакала.
– Я так виновата, что недостойна быть твоей женой… – прошептала она.
– Все плохое осталось позади, – ответил король. – Давай праздновать нашу свадьбу!
Придворные дамы нарядили принцессу в платье, расшитое алмазами и жемчугом, и повели в самую большую и великолепную залу дворца, где ее ждали знатные гости и среди них – старый король, ее отец.
Все поздравляли молодых и желали им счастья.
Жил да был король, и было у него три дочки. Они любили гулять по замковому саду, а надо сказать, что король был большим садоводом и просто обожал плодовые деревья. Его обожание дошло до того, что он объявил: всякого, кто сорвет хоть одно яблоко с дерева, он упечет глубоко под землю. Пришла осень, и покраснели яблоки на одной из яблонь. А три принцессы гуляли каждый день под этим деревом и наблюдали, когда же стряхнет ветер хоть одно из красных яблок наземь. Но яблоки, хоть их и уродилось много, все не падали. И кончилось терпенье у младшей из принцесс.
– Король нас очень любит и ни за что не исполнит своего грозного наказания, если мы отведаем яблок. Это относится скорее к чужим людям, но мы ведь его дочери.
И она сорвала самое аппетитное яблоко и, показав его своим сестрицам, промолвила:
– Вот, попробуйте это яблочко, хоть по кусочку. Оно такое вкусное, я такого никогда не пробовала.
И откусили обе старшие принцессы по разу от яблока, и тотчас же оказались все втроем глубоко в недрах земли.
Вот настало время обеда, и король уж собрался приступать к трапезе, но почему-то дочери запаздывали. Тогда он пошел их искать, но поиски не дали никаких результатов: ни в замке, ни в саду их не было. Король был сильно огорчен, он объявил траур по своим дочерям, но все же не оставлял надежды снова увидеть их. Поэтому он издал указ: кто отыщет дочерей, тот и возьмет любую из них себе в жены.
Много молодых людей, мечтавших о славе, пустились на поиски королевских дочек, к тому же они были так красивы, что уже одно это было хорошим стимулом для подвига. Среди этих женихов были и три охотника, которые в своих поисках принцесс пришли к большому и старинному замку. Замок состоял из множества комнат красивейшей отделки, а в одной из них был накрыт стол различными яствами, но вот что странно – во всем замке не было ни единого человека. Охотники поели и попили, а потом стали дожидаться, когда хоть кто-нибудь придет в этот замок. Но сколько они ни ждали, хозяева не возвращались. Тогда они порешили, что один из них должен остаться здесь, а двое других – продолжить поиски. Кто остается, решил жребий – старший охотник стал ждать в замке, а двое младших со следующего утра отправились в путь.
Пока младшие бродили в поисках принцесс, в полдень пришел в замок маленький человечек и попросил старшего охотника дать ему кусочек хлеба. Тот отрезал хлеба и дал его человечку. Но человечек выронил его и попросил охотника поднять. Когда охотник наклонился за хлебом, человечек схватил его за волосы и стал палкой бить по голове.
На следующий день дежурить в замке была очередь среднего охотника. Его участь была такой же, как и старшего, к нему тоже приходил маленький человечек с большой палкой.
На третий день в замке остался младший. К нему тоже пришел маленький человечек и попросил хлеба, тот, конечно, дал его. Маленький человечек повторил свой фокус: уронил хлеб и попросил охотника поднять его. Но Ганс (так звали младшего охотника) возразил:
– Как, ты сам не в состоянии поднять свой хлеб? Тогда ты не должен и есть его.
Рассвирепел тогда человечек и затопал ногами, требуя, чтобы Ганс поднял ему хлеб. Эта истерика надоела Гансу, и он так отделал человечка, что тот стал просить пощады:
– Не бей меня, смилостивись, отпусти, за это я расскажу тебе, где находятся пропавшие принцессы.
Услыхав такое, Ганс перестал его бить, и человечек поведал Гансу, что живет он под землей, а потому он знает, где пребывают принцессы, и готов охотника отвести к ним. Охотник согласился и пошел за человечком. Тот привел Ганса к колодцу, в котором не было воды. Тогда поведал Гансу человечек, что охотник не должен доверять своим приятелям, ибо не любят они его и хотят королеву добыть, не прилагая усилий. А Ганс сейчас должен взять корзину и нож, после чего спуститься в колодец. Там на дне он найдет три комнаты, в которых и заточены принцессы. Их плен охраняет многоголовый дракон. Ему Ганс должен отрубить все головы и освободить принцесс.
Поведав все это, человечек растворился в воздухе.
Вечером пришли охотники домой и увидали Ганса. Стали они спрашивать, как день прошел. Тогда Ганс возьми и расскажи все как было. Когда охотники услыхали, что Гансу удалось совладать с человечком и даже узнать, где плененные принцессы находятся, они очень разозлились.
На следующее утро они втроем пошли к колодцу и стали жребий кидать, кому из них лезть в колодец. Выпал жребий старшему. Сел он в корзину, взял с собой колокольчик и говорит:
– Когда услышите звон колокольчика, тащите меня как можно быстрее наверх.
Только он начал спускаться, как зазвонил колокольчик. Его сразу вытащили. Со средним было то же самое. Младший же спустился на самое дно колодца. Там он увидал три двери. Взяв охотничий нож, он вошел в первую дверь. За ней сидела девица, вокруг которой обернулся дракон о девяти головах. Дракон спал, и Ганс не стал его будить, а одним движением отрубил с маху все девять голов. Принцесса в знак благодарности подарила ему свое ожерелье червонного золота.
Затем он отправился за второй принцессой. Ее охранял дракон с семью головами. Ганс повторил свой подвиг и освободил принцессу. Третья принцесса была освобождена так же, как и первые две. Позвонил он тогда в колокольчик, и охотники стали вытаскивать по очереди принцессу за принцессой, а когда все принцессы были уже наверху, то охотники обрезали веревку и оставили Ганса сидеть в колодце. Принцесс они заставили сказать королю, что это они спасли его дочерей, а потому просят их руки.
А тем временем Ганс бродил по трем комнатам с мыслями, что вот здесь ему и конец придет. Вдруг он заметил, что висит на стене дудочка, и от нечего делать Ганс начал на ней играть; вдруг откуда ни возьмись явилось множество подземных человечков, и с каждым звуком дудочки их появлялось все больше и больше. Когда он перестал играть, то они спросили, чего он хочет, зачем вызывал их. Сказал тогда Ганс, что хочет он снова вернуться на землю, на солнышко поглядеть, ветру подставить лицо. Подхватили тогда его человечки и вытащили наверх из колодца.
Когда он очутился на земле, то быстро добрался до королевского замка, где как раз в это время должна была состояться свадьба одной из принцесс, и он направился прямо в покои, где был король со своими дочками. Увидав Ганса, они упали на пол без чувств. Разгневался король и велел посадить его тотчас в темницу, думая, что он причинил зло его дочерям. Но когда принцессы снова пришли в себя, они стали умолять короля, чтобы он освободил его из темницы. Король спросил, почему они просят за этого оборванца, и они ответили, что не смеют ничего о том ему рассказать. Тогда он сказал:
– Если мне не можете рассказать об этом, расскажите печке, – а сам быстро вышел из покоев и стал у дверей подслушивать, что же расскажут печке принцессы. И так узнал он обо всем. Приказал тогда король повесить двоих обманщиков, а Гансу отдать свою младшую дочь в жены.
Лучи октябрьского солнца с печалью уходящего лета смотрели в окошко небольшой конторки архитекторов Горация Вентимора и Битвора на Большой Монастырской улице в Вестминстере. И если первому особо не везло с клиентами, то у второго в них не было недостатка. Гораций скучая смотрел в окно, поминутно переводя взгляд на план дома, который заказали его компаньону. Но мысли Вентимора были далеки от архитектуры. Он вспоминал летние каникулы, которые провел в Сен-Люке, крошечном приморском местечке в Нормандии вместе с Сильвией Фютвой. Они вместе катались на велосипедах, подставляя лица скупому северному солнцу. Но по приезде в Лондон ему было явственно дано понять, что знакомство на отдыхе носило временный характер и продолжать его никто не собирается. Это затронуло Горация, и он, обидевшись, перестал навещать дом профессора Фютвоя. И хоть визиты в дом профессора и прекратились, но возвышенные чувства по отношению к его дочери остались. Именно по ней и вздыхал Гораций, сидя один в скромной конторке.
Конторскую тишину развеял вихрем ворвавшийся Битвор.
– Добрый день, мой друг, вы все скучаете? – пропел пролетающий в хаосе бакенбард Битвор.
– Да, коллега, не всем же везет в этой жизни так, как вам, – без тени зависти, но с сожалением заметил Гораций.
– Не печальтесь, друг, просто англичанам не нужны ваши изыски фантазии, они хотят простоты и комфорта, ну да вы это поймете со временем, – менторским тоном заметил Битвор, – а пока у меня заказ в Ларчмире, мне там нужно будет провести пару дней, так что, думаю, вы тут не станете скучать, а заодно и посмотрите план флигеля, который мне заказали из Тускулум-Лодже, ведь вам все равно нечего делать.
– Да, вы правы, делать мне отчаянно нечего, – вздохнул Гораций.
– Вот и славно, до скорой встречи.
Вентимор остался опять один и снова погрузился в воспоминания и мечтания о прекрасной Сильвии Фютвой. Неожиданно тишину конторки разорвал настойчивый стук в двери. Гораций даже сначала решил, что ему это почудилось, но стук повторился все с той же настойчивостью. Гораций поспешил к двери и, открыв ее, к своему удивлению, обнаружил недовольно сопящего профессора Антона Фютвой, отца несравненной Сильвии.
– Вы на месте, вот это удача, – просопел, отдышавшись, профессор, – у меня к вам есть дело.
Неожиданность появления отца возлюбленной вогнала Горация в ступор, он даже не мог подумать, что ему удастся опять сблизиться с домом Фютвой.
– Профессор, очень рад, но как вы тут оказались? – растерянно пробормотал Гораций.
– Извозчиком, как же еще?
Сварливый профессор был в своем репертуаре, он, как и все жертвы науки, был весьма близорук и невнимателен к людям; профессор считал, что Гораций проводил время в его доме только из любви к истории и археологии. Вот только Гораций мирился со скучными лекциями лишь потому, что благодаря им он мог лицезреть свою возлюбленную Сильвию.
– У меня есть к вам поручение, господин Гораций, вы уже достаточно осведомлены в истории Египта и Азии, поэтому я хотел бы вас попросить, чтобы вы вместо меня сходили на аукцион, который состоится в Ковент-Гарден, где один из уважаемых коллекционеров будет распродавать свои экспонаты. У него есть несколько вполне интересных экземпляров. Вот вам каталог, там я отметил все интересующее меня и указал стоимость, которую я готов выложить за них. Я надеюсь на вашу расторопность и бережливость в расходовании моих средств, и ни в коем случае не превышайте указанной мной стоимости.
– Но, профессор, знания мои не столь обширны, чтобы я мог ими руководствоваться в выборе старины, – засомневался в своих силах Гораций, который не хотел оказаться в немилости в глазах профессора из-за своей опрометчивости.
– Да бросьте, вам ничего не надо делать, только прийти и купить, как в магазине, то, что я отметил в каталоге. Ну да пора и честь знать, меня еще ждут в другом месте, так что спешу с вами попрощаться, и не забудьте: вечером я вас жду у себя дома с докладом о прошедшем аукционе. – Профессор так стремительно ретировался, что Гораций больше ничего и не успел возразить.
«Да, вот и попал как кур во щи, – подумал Гораций, – с другой стороны, это ж замечательный шанс вновь увидеться с Сильвией, все-таки нет худа без добра». С такими мыслями он отправился к себе домой, где и стал дожидаться утра, чтобы как можно лучше проявить себя на аукционе, дабы угодить отцу милой Сильвии.
Все то же ласковое солнце светило в окно кареты, на которой добирался Гораций до аукциона. Он думал, что приедет первым, но оказалось, что народу в зал набилось уже порядочно. Гораций занял свое место и стал ждать начала торгов. Как оказалось, профессор указал цены в каталоге весьма заниженные, и поэтому Гораций не смог ничего купить. Чтобы не возвращаться с пустыми руками, он приобрел на торгах за гинею (что было весьма дорого) старинный медный кувшин, запечатанный клеймом, на котором имелись какие-то клиновидные надписи. Ценность кувшина Гораций и сам понимал, поэтому решил не везти его профессору, а отослать себе домой. В дом Фютвой он отправился с пустыми руками.
Когда Гораций приехал к профессору, того еще не было дома. Его встретила госпожа Фютвой, которая предложила Горацию подождать профессора в приемной. Там он и повстречал свою возлюбленную. Сначала он не знал, что и сказать, язык присох к небу, а зубы от волнения выбивали предательскую дробь.
– Здравствуйте, Сильвия, надеюсь, я вас не сильно обременю своим присутствием, пока буду ждать профессора, – выдавил он из себя.
– Что вы, мистер Вентимор, я рада вас видеть, почему же вы перестали бывать у нас? – поинтересовалась Сильвия.
– Как же, ведь ваша матушка мне дала ясно понять, что не стоит продолжать наши отношения… – воскликнул Гораций.
– Ах, да бросьте, в вас говорит ваше высокомерие, матушке показалось, что вы стали с нами общаться на отдыхе лишь потому, что более англичан и не было, но здесь, в милом вашему взгляду Лондоне, вам уж не будет дела до нас, – смущенно проговорила Сильвия.
– Да как вы могли подумать об этом, ведь после нашей разлуки я ни о чем больше и думать не мог! – Гораций в порыве чувств не заметил, как сказал лишнее, и теперь уже ему ничего не оставалось, как продолжать начатое. – Я вас люблю, и люблю уже давно, как вы могли подумать, что я высокомерен и равнодушен к вам?
– Но вы так себя вели… Я, признаться, тоже к вам неравнодушна, но почему вы молчали? – недоуменно подняла кверху брови Сильвия.
– А разве у меня есть право обременять вас этим знанием, ведь мое материальное благополучие таково, что я пока не могу вас позвать замуж. Ваши родители будут против. Как я мог в этой связи признаваться и обязывать вас к чему-либо? – простонал Гораций.
– Но почему в таком случае вы сейчас не смолчали?
– Всему виной долгая разлука с вами, один ваш образ вселяет в меня неспособность держать язык за зубами. Но я придумаю, как разбогатеть, чтобы убедить ваше семейство дать согласие на наш брак! – торжественно проговорил Гораций, и тут в комнату вошла госпожа Фютвой.
– На какой это еще брак? – спросила она, грозно сведя брови к переносице.
– Матушка, – видя, что Гораций замешкался, пришла на помощь ему Сильвия, – мы с Горацием давно любим друг друга…
– Да, и я бы хотел просить руки вашей дочери, – вмешался Гораций, решив, что надо ковать железо, пока оно горячо.
– Да что вы себе возомнили, как вы ее думаете содержать, – изумилась миссис Фютвой, – когда ваша практика не приносит вам прибыли?
– Не стоит об этом беспокоиться, я отлично понимаю, что просить руки у такой почтенной семьи, как ваша, я пока не имею права, но я приложу все усилия, чтобы достичь такого материального благополучия, которое позволит мне взять в жены вашу дочь, – уверил Гораций.
– А пока этого не произошло, давайте оставим этот разговор, мистер Вентимор, – прервала его госпожа Фютвой.
К этому времени к дому подкатила коляска с профессором, и все (Гораций, Сильвия и г-жа Фютвой) не сговариваясь решили не продолжать начатый разговор при главе семейства, но Гораций понял, что особых проблем с госпожой Фютвой не будет, главная проблема – это убедить старика отдать дочь, но пока аргументов к убеждению у Горация не было, а если вспомнить его провал на давешнем аукционе, так и подавно разговор о женитьбе был бы чересчур преждевременным.
– Здравствуйте, милый Гораций, – просопел Антон Фютвой, – ну как, вам удалось добыть для меня что-либо ценное?
Тут Гораций рассказал, как обстояли дела на торгах, что отмеченные профессором экспонаты ушли с торгов втрое дороже, чем Фютвой указал в каталоге.
– Вы что, Гораций, не понимаете, что цены, указанные мною в каталоге, были только приблизительными, я ни в коей мере не надеялся, что вы купите за них эти старинные реликвии, но я надеялся на ваше благоразумие и думал, что вы поймете, что за любой из указанных мною экспонатов можно было дать втрое больше того, что я указал, я надеялся на вашу компетентность, – хрипел профессор, а то, что он говорил Горацию совершенно обратное накануне аукциона, доказать ему было уже нельзя.
– Вы правы, профессор, это моя ошибка, – сдался Гораций, – но я купил там за свои деньги один медный кувшин, который, возможно, вас заинтересует.
– Ах да, кувшин, в котором хранили вино или масло, да на кой черт мне ваш кувшин, он вовсе не стоит той гинеи, которую вы за него отдали! – продолжал негодовать профессор.
– Нет-нет, профессор, вы только послушайте, он запечатан какой-то странной печатью, на которой нанесены клинописью какие-то надписи, может, вам было бы любопытно взглянуть на него, – из последних сил Гораций пытался реабилитироваться в глазах профессора. И это подействовало на него моментально.
– Надписи, говорите. Интересно было бы взглянуть на ваш горшок, в нем могут быть любопытнейшие свитки, – сменил гнев на милость ученый муж, – попытайтесь приоткрыть печать и посмотреть, что внутри, а потом можно будет договориться и о визите к вам, чтобы посмотреть на ваше приобретение, – снисходительно добавил профессор.
– Что ж, тогда не буду вас стеснять своим присутствием, – пролепетал Гораций и стремительно удалился.
По пути домой Гораций искренне просил небеса, чтобы кувшин таки оказался не пустой, потому как иначе профессор убедится в полнейшей непутевости Горация и никогда не позволит ему жениться на своей дочери.
Придя домой, Гораций первым же делом взялся за кувшин. Откупорить его оказалось не так-то и просто. Печать уверенно оставалась на том же месте, что и раньше, как бы сильно Гораций за нее ни тащил. Тогда он решил воспользоваться зубилом и молотком. Печать поддалась и отвалилась. Вслед за ней из кувшина стремительным фонтаном брызнул разноцветный пар, моментально заполнив всю комнату, а из пара показалась как-то сильно увеличенная фигура старика, который расправил плечи и громко вздохнул. Пар постепенно исчез, а старик принял нормальные размеры и уставился на Горация. Последний же решил, что все только что произошедшее – не более чем галлюцинация, которая стала результатом переутомления за день, а этот старикашка восточного вида – очередной квартирант миссис Рапкин, у которой и снимал квартиру Гораций.
– О ты, смертный, ты даже не представляешь, какую мне оказал услугу, даровав свободу. Я был заточен в этой бутылке слишком долго, по вине Сулеймана, обманутого моими врагами. А теперь проси чего хочешь.
– Простите, но я не понимаю, о чем вы говорите. Какой Сулейман, какими врагами? И вообще, я ничего не хочу, кроме покоя, – сказал Гораций, ощущая, как ему вдруг стало хорошо и захотелось спать, – ну еще бы клиента мне, чтобы я ему дом построил… – добавил, уже засыпая сидя, Гораций.
Наутро Горацию показалось, что все происшедшее было не более чем сон. Он проснулся у себя в кровати, а не сидя на полу, в комнате был порядок и не было и намека на вчерашнего старика. В комнату вошла госпожа Рапкин, которая подтвердила, что никакому арабу она квартиру не сдавала. Гораций, еще более уверившись в том, что старик был плодом его фантазии, отправился на работу.
По приходу в контору его там уже ждал крупный промышленник Самуэль Вакербас, известный богач в Лондоне.
– Здравствуйте, господин Вентимор, я к вам с самого раннего утра по очень важному делу.
– Ко мне? – удивился Гораций. – Может, вы перепутали и вам нужен г-н Битвор?
– Нет-нет, именно к вам. Ведь вы самый искусный архитектор в Лондоне? – заискивающе продолжал миллионер.
– О нет, что вы, я лишь скромный и никому не известный архитектор.
– Оставьте лишнюю скромность, хоть она вам и пригодится в дальнейшем, но сейчас не стоит скромничать. Я к вам вот по какому делу: решил я, стало быть, построить себе дачный домик тысяч эдак на шестьдесят, не желаете ли взяться за постройку? – поинтересовался Вакербас.
От такого неожиданного предложения Гораций даже опешил – то ни одного предложения, а то такое, что на вес золота.
– Конечно, господин Вакербас, готов приложить все мои старания и умения, чтобы вам угодить! – отрапортовал Гораций, все еще не веря в свою удачу.
– Вот и славно, а теперь позвольте не стану вам мешать составлять проекты, у меня еще очень много дел, – сказал Вакербас и стремительно покинул конторское помещение.
Гораций все никак не мог прийти в себя и решил, что все же стоит пройтись домой и отобедать, на сегодня он уже может закрывать конторку.
Дома Горация ждал еще один сюрприз: по всей улице растянулся караван верблюдов, они были гружены мешками, а погонщиками были чернокожие рабы. И весь этот караван тянулся к подъезду, в котором жил Гораций. Караван стремительно разгружался, а мешки перекочевывали в подъезд. Когда Гораций пришел домой, он понял, что мешки перекочевали в его квартиру, чем была искренне недовольна г-жа Рапкин.
– Мой господин, это дары для вас, – только и промолвил глава погонщиков и, закончив разгрузку, поспешил ретироваться.
Верблюды исчезли с улицы, как будто их тут и не было.
Заглянув в мешки, Гораций просто обомлел. Они были наполнены самоцветами и золотом. Причем самый маленький из камней был величиной с кулак и стоил баснословных денег. Что это за дары и что с ними делать, Гораций положительно не понимал. Но тут случилось повторение вчерашнего вечера: из ниоткуда, как будто из воздуха, соткался вчерашний старик.
– Приветствую тебя, о мой освободитель, доволен ли ты моими дарами?
– А вы кто? – только и смог пролепетать Гораций.
– Как, ты не помнишь меня? Ты ж меня вчера освободил из бутылки. Я Факраш эль Амаш, самый могущественный джинн Азии, меня предательством и коварством заточили в этой тюрьме. – Джинн пренебрежительно пнул валяющийся под ногами медный кувшин, который Гораций еще вчера приобрел на аукционе, – но ты, свет моих очей и боль моего сердца, освободил меня, проси чего хочешь. Я бросил к твоим ногам сокровища неслыханные, но это лишь малая толика того, что я могу для тебя сделать, моя власть безгранична! – последнюю фразу джинн пророкотал громовым раскатом, чем до смерти напугал и так сомлевшего Горация.
– Но мне не надо столько сокровищ, что я буду с ними делать? – испугался еще больше Гораций.
– О время, ты обесцениваешь людей, где это слыхано, чтобы от богатства отказывались, ты образец скромности и воздержания, мой юный друг. Неужели ты отказываешься от всего этого богатства, о котором не смел и мечтать ни один из смертных? – недоумевал Факраш.
– Прошу не обижаться на меня, уважаемый джинн, но мне не нужны эти богатства, ты бы весьма меня обязал, ежели б забрал их обратно. Твоего ведь могущества достаточно для этого? – решил схитрить Гораций, к которому начало возвращаться самообладание и хитрость, которой природа одарила его.
– Ты не представляешь, мой смертный друг, что в моей власти! – самодовольно воскликнул джинн, и все богатства, которые только что громадными кучами лежали у него под ногами, исчезли. – Но скажи мне, тебе хоть угодил другой мой дар?
– Какой такой «другой дар»? – не понял недосказанности джинна Гораций.
– Как же, к тебе ведь приходил господин с заказом дома? Это я его надоумил и заставил направить свои стопы к тебе, – гордый своей проделкой, выпятил грудь джинн.
Только теперь Горацию стало ясно, кому он обязан богатым заказчиком, который бы даровал ему возможность обвенчаться с Сильвией.
– Так это ваших рук дело? – разочарованно вздохнул Гораций.
– А то чьих же, – ехидно подмигнул джинн, – когда я вылетал от тебя, я услыхал, как этот господин выражал желание, чтобы ему построили дом. И я внушил ему мысль о том, что он должен с этой просьбой идти к тебе.
– О, Бог ты мой, я уж надеялся, что этот господин сам решил предложить мне работу, – простонал Гораций.
– Да не переживай ты, повелитель моих безграничных сил, я помогу тебе выстроить дворец для этого господина. Да и тебе бы самому стоило перебраться в более соответствующие твоему рангу палаты, уж больно нищенское это жилище, – оценивающе оглядев комнату, проговорил джинн.
– Нет-нет, меня все устраивает, тем более что на другую квартиру я пока не заработал, да и в этой мне не стыдно принимать моих гостей. Кстати, о них, господин Факраш, вы бы не могли оставить меня на некоторое время, а то ко мне должны приехать гости, а я совершенно к этому не готов, – попросил заискивающе, чтобы не обидеть старика, Гораций.
– Нет ничего проще, не переживай на этот счет, о мой освободитель, я навек у тебя в долгу, поэтому не буду стеснять тебя, а лишь отблагодарю, – с этими словами Факраш растаял в воздухе.
– За что мне все это? – простонал Гораций.
Но время не желало стоять на месте, Гораций отправил приглашение профессору приехать к нему под предлогом разобрать клинопись на печати, а заодно решил попросить руки дочери профессора – коль скоро у Горация появился столь денежный заказ, то появилось и право на руку и сердце юной Сильвии.
Пока Гораций возился с письмом, в его доме произошла поразительная перемена: вместо обветшалого дома появился восточный дворец. Стены его были затянуты бордовым бархатом, а углы украшали мраморные колонны. По всему дому сновали рабы. С визгом ужаса к Горацию подскочила г-жа Рапкин, которая просто не узнавала свой дом, она в гневе прокричала Горацию, что он не имел права так кардинально переделывать чужую собственность, что в этом доме порядочной английской семье теперь и жить-то не к лицу. После длинного бранного монолога госпожа Рапкин стремительно удалилась.
Ужас от происшедшей перемены в его доме у Горация сменился паникой, ведь в ближайшее время должно приехать семейство Фютвой. Он хотел переодеться к приезду дорогих гостей, но смог найти только халат, роскошно украшенный дорогими камнями и золотой росписью. Гораций решил, что этот халат больше подходит к нынешним чертогам, чем его деловой наряд, и поспешил до прихода гостей переоблачиться.
Профессор Фютвой не успел покинуть карету извозчика, как удивлению его не было конца. «Этот плут, – думал профессор, – притворялся скромным и бедным, а сам живет во дворце!!!» Сильвия и ее мать пребывали в восторге от увиденного. Внутри этого дворца, чье убранство могло равняться в роскоши с Букингемским дворцом, сновала темнокожая прислуга, сам же Гораций, облаченный в дорогой халат, вышел им навстречу.
– Здравствуйте, дорогой профессор, извините за этот прием, но я положительно не знал, что мой учредитель захочет наш скромный ужин оформить в восточном стиле, – извиняясь и понимая, что каждое из сказанного слова загоняет его еще в большую ловушку, говорил Гораций.
– Да это же стоит баснословного состояния, – выдохнул профессор.
– Вовсе нет, уверяю вас, мне все это досталось крайне дешево, – чувствуя, что хоть здесь он говорит правду, уверенно проговорил Гораций.
– Что ж, оставим ваши споры. Не проведете ли нас к столу? – поинтересовалась госпожа Фютвой.
– Ах да, простите мою нерасторопность, – извинился Гораций, тем временем думая, где же здесь могла бы располагаться столовая.
Пока Гораций думал, рабы принесли в гостиную невысокий столик и разложили вокруг него подушки, жестами указывая на них гостям.
– Действительно, господа, присядемте здесь, – наконец-то нашелся Гораций, – дабы соблюсти стилизацию под Восток в полной мере.
– Я о Востоке знаю достаточно, чтобы понимать, что это уже не пойдет на благо старому англичанину, – проворчал профессор.
– Дорогой, прекрати портить нам вечер, садись, я еще никогда не была на восточном приеме, – восторженно проговорила г-жа Фютвой.
– Ты не к шейху пришла, на приеме к которому это было бы уместно, – продолжал ворчать профессор.
Тем временем подали закуски и вино. Ни то, ни другое не могло понравиться своим восточным колоритом профессорской семье, только шербет, который таял во рту, немного исправил положение, да и то лишь в глазах дам. После такого приема уже и речи быть не могло о потенциальной свадьбе. Бедный Горацио не знал, куда ему провалиться от стыда, чтобы выдержать все удары судьбы, выпавшие на его долю.
– Вы крайне неблагоразумный юноша, если хотели этой роскошью пустить мне пыль в глаза. Или вы думали, что можете затмить своим богатством, происхождение которого мне до сих пор не ясно, королеву, продли Боже ее дни? Так нас этим не купишь, – свирепо рычал профессор, – я ценю в людях ум и бережливость, в сегодняшнем же вашем поведении я не наблюдал ни того, ни другого. Надеюсь, что вы лишите нас удовольствия впредь видеть вас в нашем доме.
Сказав так, профессор вместе со своей семьей двинулся к выходу.
– Но, г-н Фютвой, я смогу вам все пояснить, – взмолился Гораций.
– Вы действительно так думаете? – с усмешкой снисхождения промолвил профессор.
– Г-н профессор, позвольте мне вам все рассказать, но только с глазу на глаз, – Гораций решил, что лишь правдой он сможет достучаться до сердца старого и черствого чурбана.
– Что ж, я дам вам такой шанс, сейчас я отправлю своих дам домой и вернусь к вам, а тем временем я бы на вашем месте нашел бы самые убедительные аргументы, на которые вы только способны, чтобы вернуть себе честь и достоинство в наших глазах, – промолвил Фютвой и вышел из дома.
Прошло совсем немного времени, как профессор вернулся обратно к Горацию и уселся обратно на подушку.
– Профессор, прежде всего я хотел бы вам сообщить, что хочу просить руки вашей дочери, – начал было Гораций, но профессор не дал ему возможности закончить.
– Вы не знаете, о чем просите, да к тому же вы пали в моих глазах так низко, что не видать вам Сильвию своей женой как своих ушей, – на удивление спокойно проговорил профессор, – для меня совершенно очевидно, что вы, милостивый государь, для нее не пара, и если вы для этого попросили меня вернуться, то только зря потратили мое время.
– Нет, не только по этой причине, – сказал Гораций уже в спину профессору, на что тот повернулся к нему лицом, – я хотел вам поведать истинную природу этого восточного колорита, быть может, тогда вы меня поймете и простите, быть может, тогда вы пересмотрите свое решение относительно нас с Сильвией.
И Гораций поведал всю невероятную историю, которая с ним произошла после посещения аукциона, на который его послал профессор. Тот выслушал юношу весьма терпеливо, не прерывая, а лишь громко сопя. Когда Гораций закончил, профессор начал свою речь весьма ласково и вкрадчиво:
– Послушайте, мой дорогой друг, вы много работали и сильно устали, вот вам и привиделся этот джинн, а еще я, старый дурак, привязался к вам с этим аукционом. Вот ваша еще не до конца сформировавшаяся и окрепшая психика и не выдержала. Мой вам совет – поезжайте отдохните, смените обстановку, и увидите: ваша навязчивая идея оставит вас. Сделайте так, как я говорю.
– То есть вы мне так и не поверили, – разочарованно вздохнул Гораций, – но если джинн плод моего воображения, то как объяснить все это? – Гораций обвел руками окружающий их интерьер.
– Да все просто, мои рассказы вскружили вам голову, вот вы и собирали все это по крупицам, а сейчас выдаете за работу джинна, – уже теряя самообладание, проговорил Фютвой.
– О, послушайте, профессор, возьмите вот эту печать, именно ею была запечатана медная посудина, в которой находился джинн. На печати видны какие-то письмена, я думаю, что в них идет речь о пленнике сосуда, – промолвил Гораций, искренне надеясь, что на печати действительно надписи повествуют о Факраше.
– Хорошо, г-н Вентимор, давайте условимся вот о чем: если на печати речь идет о вашем сказочном джинне, то вы полностью реабилитируетесь в моих глазах и тогда мы сможем говорить о вашей свадьбе с моей дочерью, но если там речь совершенно о чем-то другом, то вы следуете моему совету и отправляетесь на лечение, ну и, конечно, о свадьбе речи идти больше не будет, – подвел итоговую черту Фютвой, после чего, захватив печать и не прощаясь, вышел из дома Горация.
Как только за профессором закрылась дверь, сквозь стену вошел Факраш, он наблюдал странную картину: молодой человек, которого он так старался осыпать дарами, ходил из угла в угол, охватив свою голову руками, как это делает человек, чьи дела совсем плохи.
– Что случилось, мой неблагодарный друг, или тебе опять мои дары пришлись не по вкусу? – недоуменно спросил Факраш.
– Не по вкусу? Разве они мне могут прийтись по вкусу, из-за них же я потерял возможность жениться на Сильвии, а ее отец меня теперь вообще за человека не считает! Кто вас просил вмешиваться в мою жизнь? – чуть не плача вопрошал Гораций.
– Но ты ведь сам сказал, что твоя хозяйка не сильно искусна в кулинарии, а твоя нищенская лачуга – это совершенно не то место, где надлежит принимать важных гостей, – спокойно возразил ему джинн.
– Однако я не просил что-то менять, – возопил Гораций.
– Конечно, не попросил. Ведь ты образец скромности и воздержанности, поэтому я и не ждал, что ты попросишь, но дал все тебе сам, – в полной уверенности, что все правильно сделал, сказал джинн.
– Факраш, пожалуйста, сделайте мой дом таким, каким он был до вашего вмешательства, и помогите мне реабилитироваться в глазах профессора, – взмолился Гораций, – вы меня поставили в такую ситуацию, что мне не оставалось ничего другого, как сообщить всю правду о вас Фютвою, также я ему дал печать с вашего кувшина.
В глазах джинна промелькнула тень тревоги, но она столь стремительно развеялась, что Гораций ее не успел заметить.
– Не тревожься, мой добродетельный друг, я сам схожу к твоему ученому мужу и поговорю с ним, этим я помогу развеять сомнения в твоей правдивости и честности, – заявил джинн.
– Вы действительно сделаете это? – не поверил своим ушам Гораций.
– Ну конечно, ведь именно ты спас меня от тысячелетнего заточения, разве я могу отказать тебе в такой малости? – удивился Факраш.
– Вы меня очень обяжете этим. Если все станет на свои места, я клянусь у вас больше ничего не просить. – Не успел Гораций договорить этой фразы, как джинн опять исчез. – Что за дурацкие манеры у этого старика, исчезать не попрощавшись, – сонно пробормотал Гораций и отправился на поиски спальни.
Утро встретило Горация все тем же ранним октябрьским солнцем, пробивающимся сквозь занавески, висящие на окнах спальни. Молодого человека искренне порадовал тот факт, что Факраш не обманул и вернул дом в прежнее состояние, а это значило, что и к профессору он сходит. Настроение м-ра Вентимора поднялось, и он, позавтракав на скорую руку, отправился в контору, где его ждал неоконченный план дома. Но вместо плана дома он увидел там разъяренного заказчика, которого пытался успокоить Битвор.
– Что вы о себе возомнили, юноша? – возопил Самуэль Вакербас, как только Гораций переступил порог конторы. – Неужели вы решили, что порядочный англичанин, который ни своим родом, ни своим делом не запятнал своей репутации, станет жить в этом доме?
– О чем вы, мистер Вакербас? – недоуменно спросил Гораций, потому как он не мог понять, о каком доме идет речь, ежели даже план дома еще лежал у него на столе.
– Да он еще и делает вид, будто не понимает, о чем идет речь! – взорвался Вакербас.
– А я ж тебя предупреждал, англичанам не нужны изыски, они любят простоту и комфорт, – менторским тоном сказал Битвор, который не мог простить судьбе, что именно недотепе Горацию повезло отхватить такого выгодного клиента, а не ему, Битвору.
– Я положительно не понимаю, чем мой проект, которого вы даже не видели, мог так вам не понравиться, – продолжал удивляться Гораций.
– Да как же не видел, его теперь все мои соседи могут лицезреть. Нет, в расторопности вам не откажешь, но вот во вкусе… – Вакербас был неумолим.
В голове Горация вдруг как будто что-то щелкнуло: это, наверное, опять проделки джинна, он ведь обещал ему помочь с постройкой. Но не успел Гораций еще и впасть в панику, как в комнате, которую поспешил покинуть Битвор, материализовался Факраш.
– Что тебе не понравилось в твоем новом доме, человек? – сердито воскликнул он.
– Это еще кто? – изумился Вакербас.
– Это мой компаньон, мы вместе работали над вашим домом, – пояснил Гораций.
– То, что вы сделали, нельзя назвать работой, что это за дом – в нем нет ни бильярдной, ни столовой, ни черт еще знает чего! – продолжал бушевать Вакербас.
– Даты, раб, не знаешь границ, – громоподобным голосом пробасил джинн, – я воздвиг тебе дворец, какого не было и у Сулеймана Великого, мир праху его. А ты ведешь себя подобно неблагодарному псу, лаящему на господ своих. Ходить тебе за это на четвереньках!
Вакербас медленно стал опускаться на четвереньки, видно было, что он сопротивлялся, но ничего сделать не мог.
– Да как вы смеете, я состою в палате пэров… Вы знаете, что я могу с вами сделать? – возопил Вакербас, но вовремя понял, что не в его положении требовать и угрожать, и он жалобно стал просить: – Простите мою глупость, верните мне вертикальное положение, я останусь доволен вашей постройкой, ведь это величайший из замков, я никому не буду жаловаться и буду жить в вашем доме.
Лицо джинна опять стало великодушно-милостивым, он щелкнул пальцами, и Вакербас смог подняться на ноги. Промышленник был редкой проницательности человек, он не стал дожидаться продолжения спектакля, а поспешил убраться, пока его не вернули в прежнее состояние.
– Зачем вы опять влезли в мою жизнь? – простонал Гораций.
– О ты, неблагодарнейший из смертных, тебе опять не пришлось по вкусу то, что ради тебя я сделал.
– Я сам хотел довести этот проект до конца! Вы погубили на веки мое имя как архитектора, теперь ко мне точно никто не придет с заказом, – впадая в еще большую депрессию, проговорил Гораций.
– О, ты ошибаешься, не знающий людей глупец, теперь твое имя останется в веках, ибо доселе такого замка еще не видывало человечество, ваш храм Артемиды по сравнению с этим – просто жалкий флигелек.
– Господин Факраш, вы мне лучше скажите, были ли вы в семействе Фютвой и говорили ли с профессором, – оживился Гораций, вспомнив про обещание джинна.
– Да, я был там, и считаю, что девица Фютвой вовсе не пара тебе, – заявил категоричным тоном джинн.
– Но как… – от удивления Гораций даже слова вымолвить не мог, ведь он посылал джинна к профессору, ожидая совершенно другого результата.
– Да очень просто, я женю тебя на принцессе, дочери короля Северных Ифритов, а эта Сильвия – безродная и заносчивая барышня, не трать свой смертный век на эту девицу, – поучающе проговорил джинн и добавил: – Чтобы ты не так сильно негодовал, я помогу тебе согласиться на мое предложение. А помогу вот чем: либо ты соглашаешься, либо профессор остается в облике одноглазого осла до скончания своих дней. Ах да, я, наверное, должен был с этого начать, я его превратил в мерзкого одноглазого осла, чтобы ослабить твое сопротивление, – довольный своей выдумкой, заулыбался джинн какой-то хищной улыбкой.
– Но это же нечестно, я не люблю никакую из принцесс, а люблю Сильвию! – вскричал Гораций.
– Твоей свадьбе с нею все равно не бывать, или ты думаешь, что к алтарю ее под руку будет вести осел? – залился в раскатах смеха джинн. – Я сказал, что ты женишься на принцессе, и любое твое неповиновение отразится на судьбе твоей Сильвии самым плачевным образом.
– Но позвольте, г-н Факраш, как я женюсь на ней, если я никому не известный и безродный житель Лондона, а она принцесса. Зачем я ей нужен? – решил схитрить Гораций.
– Я об этом уже позаботился, – все так же уверенно сказал Факраш, – выгляни во двор.
За окнами конторки собралась большая толпа зевак, которые рассматривали богатый эскорт, ожидающий выхода Горация из конторки.
– Кто у вас, смертных, самый могущественный правитель? – поинтересовался джинн.
– Лорд-мэр, конечно, – не задумываясь сказал Гораций.
– Тогда мы едем к нему на посвящение тебя в почетные горожане города Лондона, – торжественно произнес Факраш.
Горацию больше ничего не оставалось делать, как последовать за джинном. Когда они уселись в карету и поехали, удивлению джинна не было конца. Он не знал, что такое автомобиль и электричество, ведь все время, которое он провел на свободе, он потратил на поиски виновников своего заключения и на ненужные дары Горацию. Поэтому все, что он встретил на улице, было для него, жившего три тысячи лет назад, по меньшей мере необычным.
– Скажи мне, Гораций, как движутся эти колесницы? – поинтересовался он.
Гораций решил, что нельзя говорить джинну правду, дабы полностью не стать марионеткой в его руках.
– Наш лорд-мэр настолько силен и могуществен, что заточил в эти колесницы джиннов, которые трудятся день и ночь, развозя нас, смертных, по нашим нуждам, – врал без запинок Гораций.
– Так получается, что он могущественнейший из правителей и Сулейман ему и в подметки не годится, – забеспокоился джинн.
Но карета уже приехала к городской ратуше, и Гораций вышел из повозки. Перед ним расступилась толпа, и под барабанную дробь и хор фанфар Гораций поднялся по ступенькам в здание. Его встречали как героя.
На трибуне стоял лорд-мэр, он начал говорить о том, что сегодня им выпала великая честь номинировать на звание почетного гражданина господина Горация Вентимора. Когда лорд-мэр принялся перечислять заслуги Горация перед городом, то так некстати закашлялся, что все заслуги и прокашлял. Но толпа все равно благодарными аплодисментами приняла речь главы города. Потом слово было дано Горацию, и он решил воспользоваться моментом и раскрыть глаза всем. Он сказал:
– Уважаемые граждане города, скажите мне, за что вы меня хотите наградить столь почетным титулом, когда я не сделал для города ничего такого, чем бы мог заслужить столь высокое звание. Я простой архитектор, который даже не успел построить для Лондона ни одного дома, – толпа замерла в ожидании продолжения исповеди, – а все дело в том, что вас ввел в заблуждение и одурачил…
Тут из воздуха соткалась большая рука и, схватив Горация за воротник, потянула к высокому сводчатому потолку, который растворился перед ним, и Гораций оказался на крыше рядом с не на шутку рассерженным Факрашем.
– Ты зачем хотел меня осрамить перед величайшим из земных правителей? Ты предал меня! – взревел он.
– Но ты мне не оставил другого выбора, ведь именно из-за тебя моя жизнь полетела псу под хвост: девушка, которую я любил, на меня больше и не взглянет; стезя, на которой я планировал совершить головокружительную карьеру, теперь закрыта для меня, да что говорить, ты меня дома чуть не лишил, – в свою очередь вознегодовал Гораций.
– Вот и я считаю, что теперь тебе незачем жить, я собираюсь сбросить тебя с этой крыши, чтобы ты, испортивший мою судьбу, а теперь за сказанное тобой великий лорд-мэр пленит меня и заставит вечно толкать одну из колесниц (Факраш так и не понял, почему ездят автомобили), умер такой смертью, которую ты заслуживаешь.
– Но ведь я же освободил тебя, такая твоя благодарность, – решил хоть как-то отсрочить неминуемый конец Гораций.
– Да лучше бы ты меня не выпускал, там меня хотя бы никто не трогал, а теперь я буду вечность служить смертным, – негодовал Факраш, протягивая свои руки, чтобы столкнуть Горация с крыши.
– Постой, но ведь я могу тебя точно так же обратно вернуть в кувшин, если ты того захочешь, а потом сбросить ее в самое глубокое место в Темзе, где тебя никто больше не потревожит, – продолжал хвататься за соломинку надежды Гораций, который совершенно не планировал сегодня умирать.
– Да? Ты действительно можешь это сделать и не обманешь меня? – с надеждой в голосе спросил джинн.
– Ну конечно, но при одном условии.
– Каком еще условии? Ты опять пытаешься юлить, мерзкий червь! – вспыхнул джинн.
– О нет-нет, я прошу тебя лишь об одном маленьком одолжении: сотри в памяти всех людей моего времени воспоминания о тебе и преврати обратно профессора в человека, – попросил Гораций, уже понимая, что джинн испугался не на шутку и теперь из него можно хоть веревки вить.
– Ну, эту мелочь я готов исполнить, но больше ничего для тебя не сделаю, – ответил джинн.
На Лондон моментально спустилась большая туча тумана, и когда он рассеялся, джинн сказал:
– Все, больше никто из смертных не вспомнит о моем существовании, а теперь твоя очередь. – Факраш схватил Горация за плечо и одним рывком переместил в его комнату. – Закупорь сосуд и кинь на дно, – донеслось до Горация из медного кувшина.
Гораций поспешил вернуть на место печать и бегом бросился к реке. Лишь когда пузырьки перестали всплывать на поверхности черной воды, куда отправился медный кувшин, Гораций вздохнул с облегчением и устало поплелся домой.
«Надо выспаться и проведать семейство Фютвой», – подумал он про себя.
На поляне, которую Дан и Юна присмотрели для своей постановки, они ставили «Сон в летнюю ночь» Шекспира. Зрителями были три коровы. Дан играл роли Пэка в ушастом колпаке и Основы, надевая ослиную голову из бумаги, а также партии трех фей. Увенчанная полевыми цветами, с волшебной палочкой из стебля наперстянки, Юна была великолепной Титанией.
Актеры так вошли во вкус, что повторили пьесу три раза подряд, прежде чем опустились на траву, чтобы перекусить. Внезапно из зарослей ольхи раздался свист.
А потом из кустов показался крошечный загорелый коренастый и курносый человечек с острыми ушами и раскосыми смеющимися синими глазами. Ни с того ни с сего он выдал реплику Пэка.
У детей перехватило дух, а крошечное существо добавило:
– Сто лет не репетировал, но вряд ли кому моя роль удастся лучше.
Дети пристально смотрели на него: синяя шляпа в форме цветка, голые ступни, поросшие шерстью ноги…
– И нечего меня так рассматривать. Я ведь пришел на ваш зов.
– Мы никого не звали.
– Значит, кто-то другой ставил «Сон в летнюю ночь» прямо на моих склонах, к тому же в Иванов день? Да век-другой назад все Народы Холмов высыпали бы на эту поляну, заслышав такую игру.
– Мы ждали чего-то такого, – начала Юна, – но никак не…
– …думали, что повстречаем волшебника, – закончил Дан.
– Разве я произносил слово «волшебник»? – рассердился Пэк. – Я же не называю вас «людишками»?
– Мне бы это не понравилось, – разоткровенничался Дан. – Что-то подобное могло исходить от джиннов и эфритов из «Тысячи и одной ночи».
– Так и есть. Давным-давно эта земля полнилась бессмертными богами, привезенными финикийцами, галлами, ютами, фризами, англами и датчанами. Но Англия – не самое лучшее место для богов, кроме разве что здешних, меня например. Пришельцам же обязательно нужно было поклоняться, строить храмы, приносить жертвы.
– Человеческие жертвы? – содрогнулся Дан.
– Необязательно, – раскрыл карты Пэк. – Ты забываешь о скоте, о том же пиве. Но люди нехотя жертвовали лошадей. Они предали забвению древних богов, так что тем пришлось самим зарабатывать свой хлеб. Кто-то под покровом ночи не гнушался издавать жуткие стоны. Так можно было настращать убогого крестьянина вплоть до жертвы в виде курицы или кусочка масла. Знавал я одну богиню по имени Белисама: одна из сотен водных духов. Такие слыли богами, назывались Народами Холмов, а потом и вовсе исчезли, не прижившись в Англии. Но среди них был он. Спустившись с небес на землю, Виланд, отпрыск скандинавского бога Тора, не переставал ковать им копья и мечи. В голодные времена Виланд не опустился до воровства и нищебродства. Наша первая с ним встреча состоялась однажды в ноябре. В тот день ужасной грозы пираты жгли деревню. На носу их темной галеры расположился гигантский черный идол, деревянный, с шеей, усыпанной янтарем, – Виланд. Едва завидев меня, он тотчас запел на своем родном языке. Его песня была песней будущего владыки всей Англии. Но меня это ни капли не задело! Сколько таких «будущих владык всей Англии» оставались с носом. И я ответил: «Сегодня ты Кузнец Богов, но при следующей нашей встрече ты будешь тяжким трудом добывать себе пропитание». Так и случилось. Я видел, как строился его храм и какие жертвоприношения проводились там. Но через двести лет на месте храма Виланда уже стояла церковь, а о самом божестве ничего не было слышно. Однажды я шел по лесу и нашел под деревом старого толстяка фермера. Оказалось, что его лошадь потеряла подкову. Он положил на камень пенни, привязал свою клячу к дубу и закричал: «Эй, кузнец, у меня для тебя работенка!» С этими словами фермер опустился на землю и уснул. Каково же было мое удивление, когда из-за дерева показался древний кузнец в кожаном фартуке и занялся лошадью. Виланд! Ссутулившийся, с длинной седой бородой. Я подбежал к нему: «Что ты здесь делаешь, Виланд?»
– Бедняжка Виланд, – не удержалась Юна.
– Виланд узнал меня и произнес: «Тебе это известно. Разве не твое пророчество сбылось? Я сам зарабатываю на жизнь, подковывая лошадей. У меня другое имя – Вейланд-кузнец». Он поставил копыто лошади на свое колено и мечтательно улыбнулся: «Раньше я погнушался бы принять эту старую клячу даже себе в жертву, теперь же хватаюсь за возможность подковать ее, лишь бы заработать пенни». «А что мешает тебе вернуться в Вальгаллу, на небеса, в обитель погибших в бою воинов?» – поинтересовался я. «Вряд ли это возможно», – молвил Виланд, счищая грязь с копыта: он действительно любил лошадей. «Вспомни, во времена моего могущества обо мне говорили как о добром боге. Нынче же моя свобода в руках человека, который от всего сердца пожелает мне добра». – «А как же этот фермер? Разве не ты подковал его кобылу?» – «Я, – был его ответ, – но здешние фермеры на редкость недоброжелательные». Проснувшись и найдя свою клячу подкованной, фермер на самом деле уехал, не проронив и доброго слова в адрес кузнеца. Ох и рассердился же я на невежу, пришлось погнать его лошадь задом наперед – три мили я воспитывал в фермере чувство такта.
– Ты, наверное, был невидимым? – сорвалось у Юны.
Пэк нехотя подтвердил.
– А тогда на холме стоял маяк. Вокруг него-то я и водил бедного всадника от зари до зари. Фермер, убежденный, что он под действием чар (ну не без этого), стал истово молиться и кричать. Он не умолкал, пока из монастыря, возвышавшегося над холмом, не явился юный послушник по имени Хьюго и не спросил старого прохвоста, что у него произошло. Фермер тотчас пустился в россказни о ведьмах, волшебниках и домовых, но мне-то было доподлинно известно, что его «ведьмами» были кролики, а «волшебниками» – лоси. Народы Холмов напоминают выдр: являются людям лишь по собственному желанию. Послушник Хьюго был достаточно умен, чтобы как следует рассмотреть копыта лошади. Она была подкована так, как мог подковать только Виланд. «Гм, – пробормотал Хьюго. – Кто подковал твою кобылу?» Пришлось признаться, что не обошлось без Вейланда. «Пенни – это ничтожно мало, надеюсь, ты хоть поблагодарил кузнеца». – «Нет, – отрезал фермер. – Ведь Вейланд-кузнец – язычник». – «Язычник или Папа Римский, а он помог тебе и заслужил доброе слово». «Как? – возопил фермер. Он был в ярости, ведь благодаря мне его лошадь продолжала носиться кругами. – Я должен отвечать благодарностью самому дьяволу, коль скоро он помог мне?» – «Инцидент исчерпан, – строго сказал послушник. – Ступай и поблагодари кузнеца, в противном случае я лично тобой займусь». Фермер повернул назад. Я, невидимый, правил лошадью, а послушник Хьюго шел следом. Но, добравшись до места, фермер передумал выказывать благодарность. Он призывал весь мир в свидетели, что Хьюго принуждает его поклоняться языческим богам. Послушник тратить время на уговоры не стал, а, обхватив толстую ляжку фермера, стащил его с лошади и так встряхнул бедолагу, что фермеру оставалось только процедить: «Благодарю тебя, Вейланд-кузнец».
– А Виланд наблюдал за ними? – поинтересовался Дан.
– Еще бы, когда фермер оказался на земле, раздался старый боевой клич Виланда. Он ликовал. Потом Хьюго обратился к Виланду: «Послушай, Кузнец Богов, мне претит хамство этого грубияна, но я благодарю тебя от его имени и имени всех смертных, которым ты делал добро, и в свою очередь желаю добра тебе».
– А как отреагировал Виланд? – принялась расспрашивать Юна.
– Он издал радостный клич, ведь теперь он обрел свободу. Но он был бы не он, если б ушел, не отплатив добром за добро. «Я выкую послушнику подарок, – заговорил Виланд. – Подарок, который пригодится повсюду, даже в Старой Англии». И он выковал клинок из темного металла. Это был меч, достойный работы Кузнеца Богов. Виланд позволил лунному свету окутать лезвие и стал произносить над ним древние заклинания, а затем нанес на клинок руны. «Вот, – доложил он мне, – лучший меч, который мне приходилось делать. Его обладатель даже не представляет, как ему повезло. Атеперь – в монастырь». Найдя Хьюго, Виланд вложил ему в руку меч, и молодой послушник крепко сжал рукоять во сне. В церкви при монастыре Виланд побросал на пол все свои инструменты – в знак того, что он больше не кузнец. На шум сбежались проснувшиеся монахи и среди них – Хьюго с мечом в руках. Кузнечные принадлежности на пороге церкви вызвали всеобщее недоумение, и послушник тут же поведал, как он обошелся с фермером и что пожелал Вейланду-кузнецу. Упомянул и о дивном мече с рунами, обнаруженном у себя в постели.
Настоятель весело расхохотался: «Хьюго, сын мой, мне не нужны были послания от языческих богов, чтобы уразуметь, что монашеская стезя не для тебя. Возьми свой меч и не расставайся с ним, оставайся таким же доброжелательным и обрети наконец свою силу. А кузнечным приспособлениям Виланда я определю место перед алтарем, ибо, несмотря на прошлое Кузнеца Богов, он честно зарабатывал себе на жизнь, принося нам только пользу». Затем все вернулись досматривать сны, кроме Хьюго, который, сидя во дворе, вертел в руках меч. У выхода мы с Виландом попрощались, и он направился к тому самому месту, где некогда высадился, чтобы никогда больше не возвращаться.
Дети словно перестали дышать.
– А какова судьба послушника Хьюго? – после затянувшейся паузы спросила Юна.
– И меча? – не удержался Дан.
– Вы спрашиваете не из праздного любопытства? – спросил Пэк.
– Нет! – замотали головами дети. – Расскажите, ну пожалуйста.
– Так и быть, но позже, а пока я провожу вас домой, иначе родители хватятся.
С этими словами он дал каждому по три листа – Дуба, Ясеня и Терновника.
– Съешьте их, – сказал Пэк. – А то вы, чего доброго, расскажете о том, что видели и слышали, а взрослые наверняка вызовут врача.
Дети повиновались.
1. Центурион тридцатого
После уроков Дан остался учить латынь, а Юна пошла на опушку леса, где в расщелине древнего березового пня лежала огромная рогатка Дана и пульки.
Юна извлекла из тайника рогатку, вложила в нее пульку и выстрелила в направлении гудящего леса. Вдруг из-за зарослей кустарника раздался странный шум и оттуда показался юноша в медных, сияющих на солнце доспехах, вооруженный копьем и щитом. Юна никогда еще не видела такого большого медного шлема с развевающимся конским хвостом.
– Кто бы это мог стрелять? – спросил незнакомец у Юны.
– Я, – призналась Юна. – Прошу прощения.
– А разве Фавн не подготовил тебя к моему появлению? – удивился юноша.
– То есть Пэк? Он меня не предупредил. Кто ты такой?
Незнакомец осклабился, обнажив жемчужные зубы:
– Мое имя Парнезий, центурион Седьмой когорты Тридцатого легиона. Так это ты выстрелила пулькой?
– Да. Вот моя рогатка.
– Ну, на волка с ней не пойдешь.
– Волки покинули эти места, – проговорила Юна. – Мы выращиваем фазанов. Видел их?
– Еще бы, – не переставал улыбаться он. – Настоящие щеголи. Похожи на кое-кого из римлян.
– Как будто бы ты сам не римлянин!
– В некотором роде. Мои предки с острова Вектиса. В солнечный день он отсюда виден.
– Быть может, с острова Уайт? Перед дождем он как на ладони.
– Не исключено. Наша вилла занимала южный край острова. Ей более трехсот лет, не говоря уже о конюшне.
– А из какой ты семьи?
– Мама, как всегда, за вязанием, отец за счетами, я с сестрой и двоими братьями только и делали, что резвились.
– А как вы проводили лето? – не унималась Юна.
– Было время, когда мы были частыми гостями у друзей, но у отца разыгралась подагра (мне тогда было лет шестнадцать-семнадцать), и мы поехали на воды. Там скучать не приходилось. Сестра познакомилась с сыном магистрата с Запада и вышла за него замуж. Младший брат, большой любитель растений, повстречал Первого доктора легиона и избрал стезю военного врача. Старший же мой брат на водах сошелся с греческим философом, вместе с которым осел на нашей ферме. Я был рад за него и за себя, ведь сам я грезил армией и боялся, что он опередит меня.
Парнезий поднялся и напряг слух.
– Похоже, это Дан, мой брат, – заметила Юна.
– Вместе с Фавном.
На опушке показались Дан и Пэк. После приветственных рукопожатий Парнезий продолжил свой рассказ:
– Итак, мне посчастливилось попасть в армию. Когда учения остались позади, Максимус вручил мне жезл центуриона Седьмой когорты Тридцатого легиона.
– А кто он, этот Максимус? – спросила Юна.
– Генерал Максимус – легендарный полководец. Когда был отдан приказ с тридцатью солдатами следовать к нашей когорте, я не согласился бы поменяться местами даже с императором. Возглавляя свой отряд, я оставил позади Северные ворота лагеря. Мы салютовали провожавшим нас взглядом охранникам и алтарю богини Победы.
– Как салютовали? – в один голос спросили Дан с Юной.
Вместо ответа Парнезий последовательно воспроизвел все движения римского салюта, традиционно завершив его глухим ударом щита за плечами.
– Мы выступили во всеоружии, – вел дальше Парнезий. – Но, свернув в лес, солдаты вознамерились сложить щиты на лошадей. «Нет, – запротестовал я, – пока я ваш командир, сами несите свое оружие и доспехи». – «В такой зной, – воспротивился один солдат, – без врача мы рискуем схватить солнечный удар и лихорадку». – «Ваша гибель, – отрезал я, – незначительная потеря для Рима. Поднять копья! Подтянуть ремни!» «Хватит здесь разыгрывать императора Британии!» – воскликнул он и оказался на земле, сбитый с ног тупым концом моего копья. Я дал понять этим коренным римлянам, что за такие речи недолго сложить голову!
Тем временем на дорогу почти бесшумно выехал Максимус. В пурпурном плаще и бело-золотых поножах из оленьей кожи он выглядел императором Британии – не больше, не меньше. «Выйдите на свет, ребята», – произнес он, прищурившись. Солдаты стали в шеренгу вдоль дороги. «Как бы ты поступил, – обратился он ко мне, – не окажись здесь меня?» – «Прикончил бы того солдата». – «Так убей. Он и не станет сопротивляться». – «Нет, теперь ты главный над ними. Прикончить его теперь – все равно что сделаться палачом на службе у тебя». Максимус нахмурил брови. «И думать не смей, что станешь императором, – произнес он. – Даже о генеральстве оставь мечты. До конца дней своих готовься служить офицером легиона. Идем, разделишь со мной трапезу. Твои солдаты никуда не денутся. А год спустя ты сможешь похвастаться, что обедал с императором Рима. Ты еще пожалеешь, что твои представления о справедливости значили для тебя больше расположения к тебе императора Рима! Я сделаю все от меня зависящее, чтобы ты служил на Стене до недалекого конца твоих дней». – «Такова судьба, – был мой ответ, – я поведу отряд на Стену».
Солдаты ждали меня в тех же позах, в каких мы их оставили. Мы выступили и двигались без привалов до самого вечера. Чем севернее мы шли, тем безлюднее становились дороги. Вокруг – руины и дикие звери. Куда-то исчезли симпатичные девушки и неунывающие магистраты, славившиеся своим гостеприимством. Их сменили охотники и звероловы. Роскошные виллы остались далеко позади, а впереди – суровые крепости. Дороге, казалось, не будет конца, а ветер трепал перья на шлеме…
2. На Великой Стене
– Убежденный, что пришел на край света, ты только теперь замечаешь дома, храмы, лавки, театры, казармы, амбары по ближнюю сторону бесконечной линии башен. Это и есть Стена.
У детей перехватило дух.
– В городе ко мне приблизился всадник из офицеров и указал мне, где разместить солдат. На первых порах трудности неизбежны: в числе офицеров не было, за исключением меня, чистого перед законом человека. На Стену ссылали убийц, воров, богохульников. Солдаты не уступали офицерам. А еще здесь согнали народы и племена со всей империи. Что ни отряд – со своим языком и своими богами. Но мне повезло. Первый человек, с которым я повстречался на Стене, стал моим верным другом. Пертинакс возглавлял когорту Августа Победителя, и я еще не встречал такого честного человека.
– Что же он забыл на Стене? – поспешила задать вопрос Юна. – Ведь, по твоим словам, туда можно было попасть лишь за серьезную провинность.
– Случилось так, что после смерти отца Пертинакса родной дядя, богач из Галлии, попытался прибрать к рукам имущество вдовы. Пертинаксу стало это известно, и дядя обманом услал его на Стену, где тот до нашего с ним знакомства и прослужил два года. Пертинаксу я обязан своим искусством охотиться с вереском.
– С вереском? – не понял Дан.
– Это значит отправиться с одним из пиктов на охоту в их владения. Стоит повесить на видном месте веточку вереска, и ты на правах гостя можешь ничего не бояться. Одиночки обречены погибнуть: быть убитыми или утонувшими в болотах. Лишь пиктам известны проходы через темные необозримые болота. Мы завели дружбу со старым Алло. Этот седовласый и одноглазый пикт поставлял нам коней. С таким товарищем мы и вовсе пали в глазах римских офицеров, но мы не променяли бы охоту на все их развлечения, вместе взятые.
Стояла ранняя осень, когда мы втроем, не считая собак, пошли на волка. Получив десятидневный отпуск, мы углубились во владения пиктов до мест, где не ступала нога римлянина. Мы подстрелили волчицу и собирались позавтракать, когда ко мне обратился Алло: «Став Капитаном Стены, сынок, ты здесь больше не появишься!» Я расхохотался ему в лицо: «Я раньше умру, чем дослужусь до Капитана». – «Так нечего и время терять, – посоветовал Алло, – разъезжайтесь по домам оба. Я добра вам желаю». – «Не нам отсюда уезжать, – пустился в объяснения я. – Я в опале у своего императора, а Пертинаксу дома дядя не обрадуется». – «О дяде я не осведомлен, – согласился Алло, – а твоя беда, Парнезий, заключается как раз в благосклонности твоего императора». – «О Рим! – возопил Пертинакс. – Не читаешь ли ты мысли Максимуса, табунщик?»
Внезапно на горизонте появился громадный волк. Собаки кинулись за ним, и мы так увлеклись погоней, что опомнились лишь у моря, заметив на песке сорок семь кораблей. Они приплыли с Севера, куда не распространялась власть Рима. На палубе роились люди, и солнечные лучи отражались от их крылатых шлемов, нахлобученных на рыжие головы. До нас долетала молва о Крылатых Шлемах (так называли норманнов пикты), но увидеть своими глазами…
«Уходим! Немедля! – закричал Алло. – Мой вереск не остановит их! Мы все умрем!» Мы резко развернулись и проскакали без передышки до утренней зари, пока не достигли знакомых Алло мест. «Вчера мы наткнулись на лагерь купцов», – подытожил Алло. Пертинакс улыбнулся: «А вот еще один купеческий лагерь». Он смотрел в сторону вьющихся над холмом далеких облачков дыма – типичных сигналов пиктов. Одно облачко – перерыв, два – перерыв: влажную шкуру то натягивали над огнем, то откладывали в сторону. «Нет, – покачал головой Алло. – Это знак для нас. Ваша судьба предопределена. За мной».
Во владениях пиктов надо слепо следовать за своим проводником. Сигнальный дымок долетал с восточного берега. Туда причалила небольшая галера. У подножия холма я заметил пони, которого держал под уздцы охотник с хлыстом – сам Максимус, император Британии! Максимус смерил меня взглядом. «Мне пришлось, – начал Максимус, – сократить количество британских гарнизонов ради усиления войск в Галлии. Сейчас я пришел, чтобы забрать часть войск со Стены. Ходят слухи, Парнезий, что ты любимец пиктов». «Один из двух офицеров, понимающих нас». – И Алло разразился длинной тирадой о наших с Пертинаксом добродетелях. «Довольно, – прервал его Максимус. – Мне ясно, что Алло думает о вас. А что вы сами скажете о пиктах?» Мы с Пертинаксом поделились всем, что нам было известно: пикты не причинят вреда, если войти в их положение. Мы же сжигаем их вереск… Максимус спросил: «Как мне сохранить мир на Севере, пока я буду занят завоевыванием Галлии?» «Предоставить пиктов им самим, – сказал я. – А вместо выжигания вереска периодически выдавать им зерно». «И пусть пикты сами делят зерно, без участия наших проворовавшихся интендантов», – предложил Пертинакс. «Хорошо бы открыть для них двери больницы на случай травмы», – подбросил идею я. «Думаю, они предпочтут смерть визиту в нашу больницу», – возразил Максимус. «Это не так, стоит только привлечь к делу Парнезия, – пояснил Алло. «Алло, нам с офицерами нужно поговорить с глазу на глаз», – попытался отделаться от него Максимус. «Вот еще! – пробурчал Алло. – Мой народ оказался меж двух огней, и я обязан знать цели одного из них. Юноши открыли тебе глаза, но мне известно больше. Моя проблема – пришельцы с Севера». «И моя, – присоединился Максимус. – Я здесь из-за них».
«Давным-давно, – начал Алло, – Крылатые Шлемы искусили нас речами: «Рим у края бездны! Так столкните его!» Мы пошли на вас и потерпели поражение. Тогда мы бросили Крылатым Шлемам: «Лгуны! Воскресите воинов, убитых Римом, и верните доверие к себе». С поникшими головами они убрались восвояси, чтобы вернуться снова и повторить, что Рим у края бездны. К ним опять начинают прислушиваться». – «Обеспечь мне трехлетнее перемирие на Стене! – вскричал Максимус. – И я разберусь с этими воронами!» «Я не могу требовать от своего племени пропускать мимо ушей призывы Крылатых Шлемов голодной зимой. Молодежь только и говорит: «Рим не в силах ни сражаться, ни править.
Он уводит солдат из Британии. Крылатые Шлемы помогут прорвать Стену, если провести их секретными тропами через болота». Допустить такое! – Алло зашипел, как змея. – Я унесу тайны моего народа в могилу. Парнезий прав. Предоставьте нас, пиктов, нам самим. Если Парнезий и Пертинакс примут на себя командование Стеной, я сдержу своих ребят. Первый год – обещаю, второй – придется призвать все свое красноречие, третий – приложу максимум усилий. Но если по истечении этого срока ты, Максимус, не продемонстрируешь могущество Рима, Крылатые Шлемы уничтожат и вас, и нас». «По рукам! – сказал Максимус, но ему также пришлось пообещать разобраться с дядей Пертинакса. Потом мы направились к Стене принимать командование».
Парнезий умолк. Пэк намекнул детям, что их заждались дома.
3. Крылатые Шлемы
На следующий день Парнезий застал детей сидящими на поваленном дубе.
– Ты подкрался совсем бесшумно, – прошептала Юна. – А где Пэк?
– Мы с Фавном обсуждали, нужно ли вам слушать мою историю до конца или нет, – сказал Парнезий.
– По-моему, расскажи он все, многое укроется от вашего понимания, – эта реплика принадлежала Пэку, выскочившему из-за бревна.
– Я действительно далека от понимания, – призналась Юна, – но до чего здорово слушать про народ пиктов.
– А я одного в толк не возьму, – поделился Дан. – Откуда у Максимуса вообще сведения о пиктах, если он находился в Галлии?
– Назвался императором – знай все и про всех, – объяснил Парнезий. – Так сказал сам император, когда закончились игры.
– Какие игры? – поинтересовался Дан.
Парнезий выбросил вперед сжатую в кулак руку с большим пальцем, оттопыренным книзу.
– Гладиаторские! – выпалил он. – В честь императора два дня подряд шли гладиаторские бои. Максимус рисковал, будто бы сам выступал на арене. Когда его носилки продвигались в толпе, их сопровождал недоброжелательный гул: солдаты выкрикивали о повышении жалованья и переводе со Стены, иные отпускали шуточки.
– То есть его не любили? – уточнил Дан.
– Любили? Как звери своего укротителя. Стоило ему дать волю страху, и на Стене провозгласили бы нового императора, не так ли, Фавн?
– На этот риск идут все, кто жаждет власти, – подтвердил Пэк.
– Максимус выдержал это испытание, и вечером мы уже сидели над списками легионеров и припасов на Стене. У меня учащался пульс, когда Максимус отбирал для отправки в Галлию наши самые дисциплинированные отряды. «Каким количеством катапульт вы располагаете?» Максимус потянулся за новым листом, но Пертинакс накрыл его ладонью. «Не забывайся, Цезарь, – молвил он. – Ты берешь или людей, или машины. И то и другое мы не уступим». Так мы отстояли катапульты и лишились половины солдат. Когда он отложил списки, от наших легионов осталось одно название! «Аве, Цезарь! Идущие на смерть приветствуют тебя! – с кривой усмешкой произнес Пертинакс слова гладиаторов. – Обопрись враг о Стену сейчас, и она рухнет». «Мне нужно три года, – парировал Максимус, – и под ваше начало на Стене поступит двадцать тысяч солдат».
Солдаты приняли наше капитанство с присущим им хладнокровием. Хуже стало, когда Максимус увел половину легионов и нам некем было заполнять опустевшие башни, когда народ возроптал на упадок торговли. Если бы не Пертинакс, я не справился бы с нарастающим негодованием. Пиктов я не боялся, но Алло предупредил меня об угрозе со стороны Крылатых Шлемов. Они готовились атаковать Стену с моря, тем самым продемонстрировав пиктам нашу слабость. Я приказал переместить наши лучшие войска на концы Стены, а по береговой линии поставить катапульты как можно скорее. Крылатые Шлемы имели привычку нападать перед снежными бурями. Невыносимо было часами сражаться на песчаном берегу с леденящим снежным ветром.
В начале весны Крылатые Шлемы возобновили атаки с моря. Мы сутки напролет осыпали их камнями, прежде чем признать себя победителями. Тогда только я заметил плывущего к берегу человека. Когда волной его выбросило к моим ногам и враг поднялся, я, сам не коротышка, увидел, что он на голову выше меня. «Что меня ждет?» – поинтересовался он. «Свобода, – сжалился я. – Ты волен остаться или уйти». В море показался последний уцелевший корабль Крылатых Шлемов. Я отдал приказ не стрелять, и юноша поплыл к своим.
Через месяц Алло вручил мне массивное ожерелье из золота и кораллов – это был дар Амала, того самого, кого я пощадил на берегу. Кроме подарка он передал мне ценные сведения: выходило, что император снискал себе такую славу победами в Галлии, что Крылатые Шлемы ищут его дружбы. Точнее, дружбы его верных слуг. Крылатые Шлемы хотели, чтобы Пертинакс и я выступили на их стороне. «За неимением солдат придется вести переговоры, – подытожил Пертинакс. – Алло выступит посредником». Алло убедил Крылатых Шлемов, что мы не нападем на них, если они будут отвечать нам тем же.
Стену обороняло всего пару тысяч солдат, и я в письмах молил Максимуса вернуть мне хоть одну когорту из моих старых северобританских частей. Но император бросил все силы на достижение новых побед в Галлии. Потом выяснилось, что Максимус наголову разбил и казнил императора Галлии Грациана. Я опять взял перо и облек в письменную форму свой крик о помощи, посчитав, что Максимус одержал окончательную победу. В ответном письме я прочел: «Я наконец справился с этим щенком Грацианом и оставил все мечты. Если Феодосии, император Рима, не прикончит меня, я по-прежнему буду императором Галлии и Британии. Вы же, друзья мои, получите любое число воинов. Нынче не имею возможности послать ни одного…» Он не лгал. А потом он сообщил, что собирается выступить на Феодосия. Я читал: «Дайте мне еще год, и я разделаюсь с Феодосием. Ты, Парнезий, станешь императором Британии, а Пертинакс – Галлии. И умоляю: не верьте слухам о моем недуге. Триумф в Риме прибавит мне лет жизни. Передай Пертинаксу, что я виделся с его ныне покойным дядей и он получил по заслугам. Мать Пертинакса я перевез в Никею».
Из этого письма мы поняли, что Максимус – труп, как и мы, его верные слуги. Тот день стал точкой отсчета, мы ожидали лишь дурных вестей.
Как-то на рассвете на восточном берегу мы нашли умирающего от холода легионера, привязанного к выломанным корабельным доскам. Он приоткрыл глаза и слабеющим голосом повторял: «Его больше нет! Я вез послания. Крылатые Шлемы пустили корабль на дно». Алло скорбно приветствовал нас перед конюшнями: «Это случилось в шатре на морском берегу. Феодосии велел отрубить Максимусу голову. Максимус отправил вам предсмертную записку, но Крылатые Шлемы атаковали корабль… В том нет моей вины, но я не в силах дольше обуздывать своих людей!» «Вот бы и мы могли так сказать о своих, – рассмеялся Пертинакс. – Но, к счастью, у них выхода нет». – «Как вы поступите? – поинтересовался Алло. – У меня для вас предложение от Крылатых Шлемов: присоединяйтесь к ним, чтобы вместе направиться в Британию чинить разбои». – «К сожалению, – ответил Пертинакс, – но мы – последний оплот обратного». – «Вернись я с таким ответом, я погибну, – разоткровенничался Алло. – Я ведь клялся, что вы станете под знамена Крылатых Шлемов в случае поражения Максимуса». – «Увы, несчастный варвар, – подтрунивал Пертинакс. – Ты продал нам столько добрых скакунов, что едва ли мы уступим тебя твоим друзьям. Лучше мы тебя свяжем и не отпустим, будь ты тысячу раз посол». «Это разумно!» – Алло протянул нам поводья. Мы скрутили его, но, из уважения к почтенному возрасту, не крепко.
Мы привели в боевую готовность все легионы, поведали офицерам о гибели Максимуса и об угрозе со стороны Крылатых Шлемов. Мы вселили в них веру, что Феодосии во имя Британии пошлет нам помощь, а потому мы должны стоять до последней капли крови. Через три дня нас посетили семь вождей и старейшин Крылатых Шлемов. Амал, а он был в числе прочих, улыбнулся, заметив, что я ношу ожерелье. Мы достойно приняли посольство, вывели связанного Алло, которого Крылатые Шлемы списали со счетов и не слишком бы огорчились, найдя его мертвым. Послы утверждали, что Риму конец и мы должны пополнить их ряды. Мне сулили всю Южную Британию… «Не спешите, – остановил я. – Стену не сдам. Докажите, что моего главнокомандующего больше нет». – «Этого хватит?» – Амал протянул послание, скрепленное печатью Максимуса. Тогда Пертинакс прочел вслух письмо, с которым я с того дня не расстаюсь.
Парнезий извлек из-за пазухи покрытый пятнами древний пергамент и срывающимся голосом начал читать:
– «Парнезию и Пертинаксу, славным Капитанам Стены, шлет Максимус, бывший император Галлии и Британии, нынешний заключенный, ждущий исполнения приговора в лагере Феодосия, свое последнее здравствуй и прощай. Палач вот-вот обнажит свой меч, чтобы предать меня такой же смерти, какую я уготовал Грациану. Посему я, ваш Генерал и Император, освобождаю вас от обязанности служить мне! Вы подарили мне те три года, которые я от вас потребовал. И если я потратил их впустую, не обессудьте. Моему существованию подходит конец, но Рим недаром зовется вечным! Если бы все сложилось удачно, я послал бы вам три легиона. Помните меня, ибо мы боролись вместе. Прощайте!» Таково было предсмертное письмо моего императора.
Дан и Юна уловили хруст пергамента, который Парнезий бережно спрятал у себя на груди, прежде чем продолжить свой рассказ:
– «Максимус дал вам отставку, – молвил один из старейшин. – Вы можете стать одними из нас!» – «Покорнейше благодарим, – поклонился Пертинакс и махнул в сторону катапульты. «Не нужно быть пророком, – смекнул старейшина, – чтобы понять, что Стена нам достанется нелегко». – «Сожалею», – сказал Пертинакс и налил им лучшего из наших вин. Они выпили, замочив рыжие бороды, и встали, чтобы откланяться. Амал улыбнулся: «Любопытно, кто из нас пойдет на корм волкам и акулам до первых паводков?» «А тебе не любопытно, что может прислать Феодосии?» – обронил я напоследок. Старый Алло немного задержался. «Поглядите, – засуетился он, – для них я не ценнее собаки. Стоит мне открыть им наши секретные тропинки через болота, и они избавятся от меня, как от шелудивого пса». «Ты бы не торопился показывать им эти тропинки, – предостерег Пертинакс, – сначала убедись, что Риму не спасти Стену».
Так Стену настигла война. На первых порах Крылатые Шлемы атаковали традционно с моря, а мы традиционно отражали натиск с берега катапультами! Но однажды Крылатые Шлемы подошли с двух концов Стены. Я отправил гонцов на юг с целью разузнать о возможных новостях из Британии, но никто из них не вернулся.
К концу второго месяца война достигла своего пика. Два месяца и семнадцать дней мы не сдавали оборону, прижатые практически со всех сторон к центральной башне. Алло периодически тайно передавал нам, что грядет помощь. Наша вера угасла, но для наших солдат это было неплохим стимулом.
Развязка наступила быстро. Мы сражались словно во сне, как вдруг Крылатые Шлемы оставили нас в покое. Как-то утром проснувшись, я заметил, что башни наводнены незнакомыми солдатами. Мы с Пертинаксом потянулись за оружием. «Как? – воскликнул какой-то рыцарь в сияющих доспехах. – Вы поднимаете оружие на Феодосия? Оглянитесь!» Мы обратили взоры на север. Снег был алый от крови, но Крылатых Шлемов и след простыл. На юге снег был девственно чист, и мы увидели Орлов, стоящих там лагерем двух легионов. На востоке и западе кипел бой, но центральную башню окутывало спокойствие. «Вы выполнили свой долг, – сказал рыцарь. – Где я могу найти Капитанов Стены?» Мы признались, что он нас уже нашел. «Но Максимус твердил, что они почти дети! – запротестовал рыцарь. – Вы же белоголовые старцы». – «Детьми мы были три года назад, – уточнил Пертинакс. – Как сложится дальнейшая наша судьба, о юноша?» – «Называйте меня Амброзии, я секретарь императора, – представился тот. – Предъявите предсмертную записку Максимуса, чтобы у меня не было причин не доверять вам». Я вытащил пергамент из-за пазухи. Прочтя, Амброзии салютовал нам. «Вы сами решаете свою судьбу, – начал он. – Изъявите желание служить Феодосию – он даст вам легион. Захотите разъехаться по домам, он отпустит вас с почетом». «Я бы принял ванну, поел и выпил, не отказался бы от бритвы, мыла и благовоний», – улыбнулся Пертинакс. «Теперь я узнаю в тебе мальчишку, – молвил Амброзии. – А как на твой счет?» Он обращался ко мне. «Феодосии не сделал нам ничего плохого, – ответил я, – но на войне полностью проявить себя ты способен один лишь раз». – «Согласен, – кивнул Амброзии. – Максимус так и говорил Феодосию, что вы ни при каких обстоятельствах не останетесь на службе. Что ж, императору не повезло». «Рим послужит ему утешением, – изрек Пертинакс. – Отпусти нас по домам и избавь от необходимости терпеть этот запах – запах крови…» Но триумф нам все-таки устроили.
– По заслугам и почести, – закончил Пэк.
Дети в задумчивости молчали…
Прогуливаясь перед завтраком, Дан и Юна напрочь забыли, что сегодня Иванов день. Единственное, что их интересовало, – это выдра, обитавшая в их ручье. Пройдя шаг-другой по облитой росой полянке, Дан обернулся на свои следы.
– Надо бы поберечь наши сандалии от промокания, – рассудил мальчик.
Это было первое лето, когда брат и сестра не бегали босиком – сандалии им, мягко говоря, не нравились. Так что они их сбросили, закинули за спину и радостно захлюпали по мокрой траве, идя за выдрой след в след.
Тут только они вспомнили об Ивановом дне. Из зарослей папоротника незамедлительно показался Пэк и приветственно пожал детям руки.
– Что новенького у моих девочки и мальчика? – поинтересовался Пэк.
– Нас заставили обуть сандалии, – пожаловалась Юна.
– В обуви, конечно, приятного мало. – Пэк сорвал одуванчик, обхватив его пальцами коричневой, всей в шерсти ноги. – Если не считать Холодного Железа. Народы Холмов боятся даже гвоздей в подметках. Я не такой. А люди подчиняются Холодному Железу, ежедневно сталкиваясь с ним, способным как возвысить человека, так и уничтожить его. Впрочем, людишки мало знают о Холодном Железе: вешают при входе подкову, не переворачивая ее задом наперед, а потом удивляются, когда кто-то из нас проникает в дом. Народы Холмов ищут грудного младенца и…
– …подменяют его другим! – закончила Юна.
– Что за глупости? Людям свойственно перекладывать вину за плохое воспитание ребенка на наше племя. Фокусы с подкидышами – сущие выдумки. Мы тихонько переступаем через порог и едва слышно напеваем спящему малышу заклинания. Впоследствии этот человек будет отличаться от себе подобных. Хорошо ли это? Будь моя воля, я бы наложил запрет на контакты с новорожденными. Я не постеснялся сказать это сэру Хьюону.
– А кто это – сэр Хьюон? – пробормотал Дан.
– Речь идет о короле фей, которому я однажды предложил: «Вам, только и думающим, как бы вмешаться в дела людей, неплохо бы взять грудничка на воспитание и удерживать его среди нас вдали от Холодного Железа. Тогда вы вольны будете выбрать для ребенка судьбу, прежде чем отпустить обратно в мир людей».
Я знал, о чем говорил, ибо накануне дня великого бога Одина я очутился на рынке Льюиса, где торговали рабами, которые носили на шее кольцо.
– Что за кольцо? – спросил Дан.
– Кольцо Холодного Железа, в четыре пальца шириной и в один толщиной. Так вот, какой-то фермер купил на этом рынке рабыню с младенцем, который не был нужен ни ему, ни ей. Под покровом сумерек он пошел в церковь и опустил младенца прямо на холодный пол. Едва он ушел, я схватил ребенка и побежал к сэру Хьюону и поручил малыша заботам его супруги. Когда чета ушла, чтобы поиграть с младенцем, я вдруг уловил дробные удары молота, доносившиеся из кузницы. Напоминаю, что был день Тора, но каково же было мое удивление, когда я узрел его самого, выковавшего из железа некий предмет и бросившего его в долину. От сэра Хьюона и его жены я увиденное утаил, предоставив Народам Холмов забавляться с ребенком. Он рос на моих глазах. Вместе мы облазали все местные холмы. А когда на земле загорался день, малыш начинал барабанить руками и ногами с криком: «Открой!», пока кто-то, знающий заклинание, не выпускал его. Чем больше он сам осваивал колдовство, тем чаще стал обращать свой взор на людей. Мы с ним устраивали ночные вылазки, где он мог наблюдать за себе подобными, а я – за ним, чтобы он, случаем, не дотронулся до Холодного Железа. Во время одной из таких вылазок мы увидели человека, бившего свою жену палкой. Когда воспитанник Народа Холмов бросился на обидчика, на него кинулась… жертва. Вступившись за мужа, женщина расцарапала парню лицо, от его зеленого златотканого сюртучка остались одни лохмотья. Я сказал, что лучше бы ему было прибегнуть к колдовству, чем связываться с этим здоровяком и его старухой. «Я не подумал, – признался он. – Зато я волшебно надавал ему по шее». Народы Холмов нашли виноватого во мне, на что я не замедлил ответить: «Не вы ли воспитываете его так, чтобы в дальнейшем, оказавшись на свободе, он смог повлиять на людей? Вот он и работает над этим». Мне было сказано, что мальчика растили для великих дел и что я, дескать, плохо на него влияю. «Я шестнадцать лет как слежу, чтобы мальчик не коснулся Холодного Железа, ведь стоит этому произойти, и он раз и навсегда найдет свою судьбу, что бы ни готовили для него вы. Что ж, клянусь молотом Тора, я отойду в сторону», – сказал я и скрылся из виду.
Пэк признался, что клятва невмешательства никак не препятствовала ему присматривать за мальчиком, а он под влиянием Народов Холмов будто бы и думать забыл о людях и сделался очень печальным. Он взялся за науку, но Пэк часто ловил его взор, устремленный в долину, к людям. Он занялся пением, но даже пел он спиной к Холмам, а лицом – к людям.
– Вы бы видели, – возмущался Пэк, – как он обещал воспитавшей его королеве фей, что будет держаться от людей подальше, а сам целиком и полностью отдавался фантазиям о них.
– Фантазиям? – переспросила Юна.
– Своего рода мальчишеское колдовство. Оно довольно безобидно, если кто и пострадал от него, то пара пьянчужек, глухой ночью возвращавшихся домой. Но он был милым мальчиком! Король и королева фей не уставали повторять, что у него большое будущее, но были слишком малодушны, чтобы позволить ему испытать свою судьбу. Но чему быть, того не миновать. Как-то ночью я увидел мальчика скитающимся по холмам. Он был рассержен. Тучи то и дело разрывали зарницы, долину наполняли страшные тени, а рощу – охотничья свора, по туманным лесным тропкам скакали конные рыцари в полной амуниции. Естественно, это была всего лишь фантазия, вызванная мальчишеским колдовством. За рыцарями виднелись величественные замки, из окон которых их приветствовали дамы. Но порой все обволакивала тьма. Эти игры не давали повода к беспокойству, но я очень жалел парня, одиноко скитавшегося по придуманному им самим миру, и дивился масштабам его фантазий. Я заметил, как сэр Хьюон с супругой спускаются с моего Холма, где лишь мне было позволено колдовать, и любуются на успехи, которых он достиг в магии. Король и королева фей спорили о судьбе юноши: он видел в своем воспитаннике могущественного короля, она – добрейшего из мудрецов. Вдруг тучи поглотили зарницы его гнева, а лай гончих поутих. «Его магии противостоит чужая! – воскликнула королева фей. – Но чья?» Я не стал раскрывать ей замысел Тора.
– Значит, здесь замешан Тор?! – удивилась Юна.
– Королева фей стала звать своего воспитанника – тот шел на ее голос, но, как и любой человек, не видел в темноте. «Ах, что бы это могло быть?» – сказал он, споткнувшись. «Осторожно! Остерегайся Холодного Железа!» – закричал сэр Хьюон, и мы все трое кинулись к нашему мальчику, но… слишком поздно: он дотронулся до Холодного Железа. Оставалось лишь узнать, что за предмет предопределит судьбу воспитанника фей. Это был не королевский скипетр и не рыцарский меч, не лемех плуга и даже не нож – у людей вообще нет подобного инструмента. «Кузнец, выковавший этот предмет, слишком могуществен, мальчик был обречен найти его», – сказал я вполголоса и поведал сэру Хьюону об увиденном в кузнице в день Тора, когда ребенка впервые принесли на Холмы. «Слава Тору!» – воскликнул мальчик, демонстрируя нам массивное кольцо бога Тора с начертанными на железе рунами. Он надел кольцо на шею и поинтересовался, так ли его носят. Королева фей тихо проливала слезы. Интересно, что замок на кольце еще не был защелкнут. «Какую судьбу сулит это кольцо? – обратился ко мне сэр Хьюон. – Ты, кто не боится Холодного Железа, открой нам истину». Я поспешил ответить: «Кольцо Тора обязывает нашего мальчика жить среди людей, трудиться на их благо и приходить им на помощь. Никогда не будет он сам себе господин, но не будет и над ним другого господина. Он должен будет трудиться до последнего вздоха – в этом дело всей его жизни». «Как жесток Тор! – вскричала королева фей. – Но ведь замок еще не защелкнут, а значит, кольцо еще можно снять. Вернись к нам, мой мальчик!» Она осторожно приблизилась, не в силах, однако, дотронуться до Холодного Железа. Но мальчик твердым движением защелкнул замок навеки. «Мог ли я поступить по-другому?» – проговорил он и горячо попрощался с королем и королевой фей. На рассвете воспитанник фей подчинился Холодному Железу: он пошел жить и трудиться среди людей. Потом он встретил девушку, которая идеально ему подходила, пара поженилась, у них появились дети, много детей. Королю и королеве фей оставалось только утешать себя мыслью, что они научили своего воспитанника, как помогать людям и влиять на них. Человек с такой душой, как у их мальчика, – большая редкость.
На целый месяц Дана и Юну отправили к морю, и каково же было их удивление, когда однажды они услышали знакомый голос: Пэк разговаривал с каким-то полуодетым человеком. Незнакомец, казалось, был всецело поглощен своим занятием.
– Здорово сработано, – хвалил его Пэк. – Какая выверенная форма!
– Для кого здорово, а для Зверя не подойдет! – С этими словами человек бросил ярко-синий каменный наконечник для стрелы, как впоследствии оказалось, под ноги Дану и Юне.
Человек принялся за новый камень, но быстро опустил руки.
– Бессмысленно, – сказал он, качая лохматой головой, – изготавливать каменное оружие, понимая, что Зверя оно не возьмет.
– Зверя давно уж нет. Он покинул эти места.
– Едва появятся агнцы, он не заставит себя ждать. – Человек едва стукнул по камню, и он раскололся.
– Назад ему путь заказан. Детей можно оставлять на улице без присмотра, не опасаясь Зверя.
– Что же ты не назовешь Зверя его настоящим именем?
– Легко. – Пэк закричал: – Волк! Волк! Что скажешь? Где же Серый Пастух? Беглец Ночи дал деру. Все волки ушли.
– Вот это да! Не ты ли их прогнал?
– Заслуга принадлежит целым поколениям людей из разных стран. Ты ведь был среди них?
Человек молча скинул одежду, сшитую из овечьих шкур: его бок и руки от локтя до плеча были сплошь в рубцах.
– Очевидно, – начал Пэк, – это «подарок Зверя». А что было в твоем арсенале?
– Рука, топор и копье, как и у наших предков.
– В таком случае, – поинтересовался Пэк, – как у тебя оказался этот нож?
Он говорил о длинном ноже из темного железа, размером почти с короткий меч.
– Это работа Детей Ночи.
– Сталь выдает его кузнецов. Сколько же ты за него заплатил?
– Ровно столько! – Человек указал на пустую правую глазницу. – На что только не пойдешь ради овец. Они – вся наша жизнь. Я не мог иначе…
Пэк сочувственно вздохнул.
– Продолжай. Я слушаю.
Человек замахнулся и пригвоздил нож к земле.
– Я расскажу, как все было на самом деле. Нож и Белые Скалы, призываю вас в свидетели! Я из племени, не знакомого с железом. Моя мать – жрица, отвечающая за попутный ветер. Покупатель Ножа, Защитник Людей – это мои имена в стране Белых Скал.
– Твоя страна была могущественной державой, и ты носил великие имена.
– Что значат имена и славящие песни, если человек нуждается в своем очаге, островке безопасности для его жены и детей. Мне были рады у любого очага, но никто не разжег мой собственный, никто не приготовил мне пищу. Я отказался от этого ради Волшебного Ножа, который я приобрел во имя освобождения своего племени от Зверя.
– Начни сначала.
– Когда я возмужал настолько, что смог присоединиться к прочим пастухам, Зверь разорял страну. Он подстерегал сзади, когда отары шли на водопой. Когда мы стригли овец, он нападал на загоны и, игнорируя град летящих в него камней, хладнокровно выбирал себе жертву. Он был ночным гостем в наших домах и похищал младенцев у матерей, он со своей стаей набрасывался на пастухов при свете дня. Но периодически он давал о себе забыть. Пару лет о нем не было ни слуху, ни духу. Когда же наши отары начинали тучнеть, пастухи переставали бояться собственной тени, когда дети играли прямо на улице, а женщины ходили к колодцу поодиночке, он всегда возвращался. Он потешался над нашими хрупкими стрелами и тупыми копьями, легко отражал удар каменного топора… Я мечтал подчинить Зверя. Все наше племя, включая мою мать-жрицу, обуревал страх. Бояться Зверя – это превратилось в привычку. Когда он ушел на какое-то время, я даже обзавелся возлюбленной, такой же жрицей, как моя мать. Мы то и дело встречались у прудов. Затишье привело к тому, что отары мирно паслись на самых дальних пастбищах, даже моя. Следом за своей отарой я как-то зашел в северный лес, где среди деревьев подстерегали Дети Ночи. Они поклоняются нашим богам, но и сами почти равны им в могуществе. Они могут подменить твою душу. Как-то на моих глазах три Зверя гнались за человеком. Он бросился к деревьям, что выдало в нем обитателя лесов. Для нас, обитателей Белых Скал, деревья страшнее Зверя. Вместо топора тот человек сжимал в руке подобный нож. Один Зверь, пронзенный этим оружием, упал замертво. Еще двое обратились в бегство. С тех пор я думал лишь о том, как бы добыть подобный нож. Мать заметила перемену во мне и пригласила занять ее место у огня, где она зимой общается с духами. В какой-то момент я услышал два голоса у себя внутри. Один повторял: «Попроси волшебный нож у Детей Ночи. Человек не должен подчиняться Зверю». Другой голос противоречил первому: «Не ходи, Дети Ночи подменят твою душу». Я прислушался к первому и наутро заявил матери: «Я отправляюсь добыть для своего племени один предмет, и неизвестно, вернусь ли самим собой». Она кивнула: «Живого или мертвого, прежнего или иного я, как мать, приму тебя».
– Так и есть, – подтвердил Пэк. – Магия не властна над сердцем матери.
– Затем я имел разговор с Возлюбленной, которая клялась хранить мне верность. – Губы человека искривила усмешка. – Я вернулся на то место, где видел волшебника с ножом. Я дрожал при виде жутких перешептывающихся деревьев, обмирал от незримого присутствия духов в их ветвях, нерешительно ступал по мягкой почве, уходящей из-под ног. Но ничего не боялся я так, как перемены, которая со мной вот-вот произойдет. Мое дыхание участилось, а конечности не слушались, я расхохотался, и это был не мой смех. Я смотрел на себя словно со стороны. Дети Ночи – действительно могущественные волшебники!
– А это не могли быть Духи Туманов? – поинтересовался Пэк. – Они делают человека, уснувшего в туманах, другим. Ты спал в туманах?
– Да, но не уверен, что встретился именно с Духами Туманов. Прошло три дня, на моих глазах Дети Ночи выкапывали из ямы алые камни и швыряли в огонь. Камни таяли, подобно маслу, а люди молотками колотили по образовавшейся массе. Дети Ночи распевали надо мною свои страшные заклинания. Я забылся сном, а когда проснулся, все они собрались выслушать меня. У каждого мужчины и у каждой женщины был свой волшебный нож. Я заговорил о волшебных ножах для своего племени. Я сулил взамен мясо, молоко и шерсть. Предложение их явно заинтересовало. Их жрица, говорившая за всех, спросила: «Ради кого ты пришел?» – «Ради своего племени. Овцы и люди связаны. Убив овец, Зверь уничтожит нас. Я явился за волшебным ножом, поражающим Зверя». – «Мы не уверены, – усомнилась она, – что наш бог допустит торговлю с народом Голых Скал. Жди, мы будем спрашивать». Поговорив со своим и по совместительству нашим богом, жрица произнесла: «Он требует доказательства, что твои слова истинны». «Что за доказательство?» – «Бог изрек, что если ты пришел ради целого племени, ты отдашь ему правый глаз». – «Это единственный путь?» – «Ты можешь вернуться домой с двумя глазами в любой момент. Но тебе придется забыть о волшебных ножах для твоего племени». После минутного колебания я пожертвовал глазом. Я жил у Детей Ночи, пока моя рана не затянулась. Они признали во мне сына Тора, бога, положившего правую руку в пасть зверя. Они научили меня ковать волшебные ножи и открыли заклинания, которые следует читать во время их изготовления.
Он заливисто расхохотался.
– Я мечтал попасть домой и встретиться со Зверем. Он наверняка уже вернулся. Едва я ощутил под ногами родную землю, как уловил запах волков. Хищники не могли знать, что я прячу под одеждой волшебный нож, полученный от жрицы. Один из них напал на меня, предвкушая легкую добычу, и свалился замертво, пронзенный ножом. Другие полегли вслед за первым. Я шел с высоко поднятой головой, как человек, победивший Зверя! Мать была рада моему возвращению, но Возлюбленная почему-то избегала меня. Я побрел к пастухам, охраняющим овец, и обещал проводить их к Детям Ночи, чтобы каждый мужчина получил волшебный нож. Я был счастлив снова спать без крыши над головой, укутавшись шкурами, а пастухи о чем-то шептались до рассвета. Наутро я отвел их к северному лесу, прихватив с собой шерсть, творог и катык. Дети Ночи, как было между нами условлено, разложили ножи на траве в тени деревьев. Их жрица обратилась ко мне: «Ну что твое племя?» – «Их сердца закрылись для меня». – «Тому причиной твой единственный глаз. Приди ко мне, и я буду тебе вместо глаз». – «Нет, – отказал я. – Я обязан обучить свое племя искусству владения ножом, как ты в свое время обучила меня…» – «Ты совершил свой подвиг, – прервала она, – не ради своего племени, а ради женщины». «Зачем тогда бог принял мой правый глаз? И в чем причина твоего гнева?» – удивился я. – «Бога может обвести вокруг пальца любой человек, но с женщиной этот номер не пройдет. Мною движет не гнев, а жалость, и ты скоро узнаешь почему». – С этими словами она затерялась среди деревьев. Мы пошли назад, размахивая мечами. Зверь услышал свист металла, он был обречен на бегство… Мы ликовали. По пути мой дядя – Вождь Мужей – снял свое ожерелье Вождя и попытался надеть его на меня. «Нет, – запротестовал я, – я вполне счастлив без этого. Один глаз – не утрата, пока другим я вижу тучных овец и беспечно резвящихся детей». Тогда соплеменники затянули песню на нашем древнем языке – песню Тора. Я хотел петь вместе со всеми, но дядя остановил меня: «Эта песня славит тебя, о Покупатель Ножа! Мы сами исполним ее, Тор!» Потом я заметил, как все обходят мою тень. Теперь я был богом, подобным Тору, пожертвовавшему правой рукой ради победы над Великим Зверем.
– Так уж и богом? – не выдержал Пэк.
– Клянусь Ножом и Белыми Скалами, что богом. Меня обуял страх. Единственным моим утешением было то, что мои мать и Возлюбленная не станут звать меня Тором. Но вышло не совсем так: Возлюбленная смотрела на меня без тени улыбки, она обращалась ко мне знаками, как жрицы, общаясь с богами. Я хотел сказать ей… но мой дядя заговорил от моего имени, словно я был одним из богов, за которых жрецы говорят с племенем в канун Иванова дня.
– Ах, как же дорог мне этот праздник!
– Вне себя от ярости я шагал к дому матери. Она хотела преклонить передо мною колени. Я смеялся, глядя на нее, и это был грустный смех. Внезапно я услышал, как кто-то позвал меня: «Тор!» На пороге я увидел юношу, с которым мы вместе росли. Он молил меня разрешить ему жениться на жрице, моей Возлюбленной. Его била дрожь благоговейного страха, хотя меня-человека он ничуть не боялся. Вместо того чтобы убить его, я изрек: «Позови девушку». Она вошла и заговорила на древнем языке, на котором жрицы обращаются с молитвами к богам. Она просила позволения разжигать очаг в доме этого юноши и благословления для их будущих детей. Вместо того чтобы убить ее, я изрек: «Так тому и быть». Они вышли, держась за руки. В отчаянье я кинулся к матери: «Ответь мне, может ли бог умереть?» – и лишился чувств.
– Бедный мой бог, – пожалел его Пэк, – что же твоя мудрая мать?
– Пока я падал на пол, она все поняла. Очнувшись, я услышал ее шепот: «Живого или мертвого, прежнего или иного я, как мать, приму тебя». Мы были счастливы, что есть друг у друга, но один вопрос не давал мне покоя, и я задал его: «Что мне делать с теми, кто зовет меня Тором?» «Совершивший подвиг, посильный лишь богу, должен вести себя как бог, – ответила она. – Другого выхода просто нет. До конца твоих дней люди будут тебе покорны, будто овцы. Ты не смеешь их прогнать». «Это бремя не по мне», – признался я. «Время лечит. Пройдет время, и ты не променяешь свой дар ни на какую девушку. Увенчай свои достоинства мудростью, сын мой, ведь все, что у тебя есть, – слова песни и поклонение тебе, как богу».
– Мой бедный бог! Но это не так уж мало.
– Немало, но я пожертвовал бы всем ради пухлощекого малыша, который бы раздувал пепел в моем очаге. – Человек вынул нож из земли. – На что только не пойдешь ради овец. Они – вся наша жизнь. Я не мог иначе…
Давным-давно жил-был король Феникс, любивший свой народ.
Король был весьма рассудителен, в отличие от своей жены Причудницы. Та слыла гневливой и капризной, своевольной и упрямой, хотя от природы была добра. Шли годы, а небеса все не посылали этой паре детей.
Королева не отставала от врачей, хотя уже не сильно верила в их снадобья. Она истово молилась и не скупилась на пожертвования. Королева не расставалась с амулетами и почти все время носила монашеские одеяния.
Весь народ был уже на пороге отчаяния, когда она наконец понесла. Радости Причудницы не было предела, ибо нет большего счастья, чем иметь ребенка, которого можно наказать розгами в минуту душевной печали.
Врачи утверждали, что королева смогла забеременеть благодаря снадобьям, монахи – амулетам, народ – вознесенным молитвам. Король приписывал эту заслугу себе. В храмах служили молебны о благополучном пришествии в этот мир наследного принца – всем нужен был будущий король, а не какая-то девчонка. Всем, кроме королевы, мечтавшей о дочери. Оставив надежду переубедить упрямую супругу, Феникс попросил о помощи мудрую волшебницу, покровительствующую королевству. Та посоветовала… проявить смирение и броситься к ногам королевы. Надежным средством от чудачеств жены оказалось чудачество мужа. «Нужно потворствовать капризам, чтобы они рассеялись, уступать в мелочах и отстаивать свою точку зрения в главном…» – учила короля волшебница. Так Феникс и поступил.
Причудница в страхе, что на фоне смиренного Феникса выглядит сущей сумасбродкой, отвечала, что в его извинениях, дышащих сарказмом, она усматривает куда больше высокомерия, нежели в его былом диктаторстве, но она, недаром будь умнее, традиционно пойдет на уступки.
– Мой муж и владыка, – громогласно заявила она, – велит мне родить мальчика: я помню долг и не рискну ослушаться!
– К сожалению, – вздыхал король, выходя из зала, – супруг сумасбродки обречен остаться в дураках!
Мудрая волшебница развлекалась, как могла: намекнув королю, что звезды предвещают мальчика, она нашептала королеве, что родится девочка.
Одного ее слова хватило, чтобы сумасбродку Причудницу превратить в мудрейшую из женщин. Как никогда ласковая и обходительная, она методично пыталась вывести из себя короля и весь двор: заказала такие детские вещички (якобы для мальчика), какие казались нелепо роскошными и для девочки, потребовала немедля сыскать воспитателя и наставника для будущего принца.
Убежденная, что родится дочь, она беспрестанно толковала о сыне и в приготовлениях не упустила ни одной детали, уводя в сторону от главного. Она предложила ввести новый обычай: сановникам приветствовать новорожденного принца торжественной речью. Феникс заикнулся было о придворном этикете: нечего, мол, разливаться красноречием перед крохой, который не то чтобы ответить – просто ничего не поймет.
– Вот и хорошо! – оживилась королева. – Вашему сыну пойдет на пользу, если всю чепуху, какую ему так или иначе придется выслушать, он пропустит мимо ушей раньше, чем сможет ее понять!
Король пошел на попятный и подкрепил свое фиаско указом.
Наконец у королевы начались схватки, а родила она девочку… и мальчика, одинаково подобных небесным светилам и друг другу. С первого дня их одевали одинаково.
– Горожане, случилось чудо! У меня родился сын, у вас – отец, а у королевы – дочь! – крикнул счастливый король прямо с балкона.
Королева не сразу узнала, что разрешилась двойней, ведь мудрая волшебница сначала сказала ей о рождении дочери. Но, увидев ребенка, она сделалась печальной: любимый муж может расстроиться. Так волшебница подготовила выход маленького принца, точно зная, что королева будет ему несказанно рада. В результате королеве наследник стал милее принцессы, тогда как король Феникс из солидарности с женой уже приветствовал дочь как более желанного ребенка. С того дня королева все свое время посвящала сыну, а король – дочери.
Подходило время крестин. На заре мудрая волшебница уже была в королевских покоях:
– Прежде чем святая вода встанет между младенцами и белой магией, я наделю их качествами по вашему вкусу и именами более говорящими, чем святочные.
Между мужем и женой разгорелся спор: Феникс видел своих детей умными, а королева красивыми.
Волшебница подсказала разумный компромисс: король выберет качества, достойные мальчика, королева – девочки. Королю это решение понравилось, ведь таким образом наследник престола будет избавлен от нелепого каприза матери. Увидев няньку с детьми, король взял на руки принца и с сожалением посмотрел на принцессу. Причудница кинулась к принцессе.
– Вы сговорились против меня, – сделала выпад она, – но я буду не я, если не устрою, чтобы фокус короля, хочет он того или нет, пошел на пользу одному из его детей! Да будет принцесса полной противоположностью принцу, каким бы нравом его ни наградил король. Ну же, – бросила она Фениксу, – решайте судьбу обоих!
– Раз так! – разгневался король. – Дочь, которой вы пренебрегали со дня ее появления на свет, я сделаю совершенством в пику вам. Пусть мой мальчик вырастет вашим подобием!
– Так вам и надо, – сказала королева, – а же отомщена: ваша дочь вырастет точной вашей копией…
Принца назвали Капризом, а принцессу – Разумницей, вот только детей их венценосные родители благополучно перепутали.
Король, убежденный, что держит сына, качал на руках дочь, сбитая с толку королева приняла за дочь сына. Воспользовавшись этой суматохой, мудрая волшебница одарила детей тем, чем следовало. Так принцессу нарекли Капризницей, а ее брата Разумом. Несмотря на выходки королевы Причудницы, все сложилось наилучшим образом. Взойдя на трон после смерти короля Феникса, принц Разум правил мудро и справедливо, не вступал в распри с соседями, не притеснял подданных, был достойным продолжателем политики своего отца – народ так боготворил принца, что смена государя осталась почти незамеченной. Принцесса Капризница успела вскружить головы толпам галантных поклонников, прежде чем выйти замуж за соседнего короля: уж очень ей полюбились его длинные усы и талант прыгать на одной ножке.
Жил-был король, известный в народе как Добрый Король. И любовь подданных, и уважение соседей он заслужил своим благочестием и справедливостью.
Добрая слава о нем привела в королевство венценосного гостя: приезжий король попросил Доброго Короля выбрать ему невесту. Добрый Король посулил просителю руку самой красивой своей племянницы Изены.
Трубы трубили о скорой свадьбе – стольких гостей не собирало еще ни одно торжество. Принцы крови все прибывали и прибывали, но не было среди них равных повелителю Далеких островов, о котором поговаривали, что он могущественный маг.
Он полюбил Изену, едва ее увидев, и не таков он, чтобы смиренно уступить ее удачливому сопернику. Принц был уверен, что на его предложение, успей он посвататься первым, Добрый Король ни за что не ответил бы отказом.
Отзвенели свадебные колокола, но не обошлось без волшебства со стороны принца с Далеких островов: движимая колдовской силой, в первую брачную ночь молодая покинула спальню и проследовала в кабинет, где ее вскоре и нашел маг.
Преклонив колени, принц с Далеких островов признался ей в своих чувствах, и взаимность, с которой она ему ответила, едва ли была навеяна чарами.
Ничего не утаил счастливый влюбленный от своей дамы сердца: оказывается, вместо нее он подослал молодому служанку, и обманутый супруг не заметит подмены. Изена лишь посмеялась над законным мужем, а на рассвете пришла к нему, будто никуда и не отлучалась. Так продолжалось три ночи.
Король, уверенный, что заполучил Изену, думал о себе как о счастливейшем из смертных, а маг, светящийся счастьем неподдельным, выигрывал турнир за турниром, каждую победу втайне посвящая своей даме.
Свадебные пиршества наконец завершились, приглашенные поспешили по домам, и молодой король, простившись с тестем, увез молодую королеву в свой замок.
Королева ждала ребенка, который, едва появившись на свет, оказался несравненным красавцем. Малышу дали имя Карадос. Король, уверенный в своем отцовстве, любил сына не меньше, чем королева. А принц взрослел на удивление быстро. В двенадцать он производил впечатление восемнадцатилетнего. Он превзошел всех своих учителей. Танцы, пение, верховая езда, фехтование, история – за его талантами крылось нечто большее, чем голубые крови. Он был так наслышан о дворе Доброго Короля, что всей душой устремился к нему. Только родители не спешили благословить его в дорогу – так им не хотелось отпускать ненаглядного наследника, отчего принц тут же слег. Пришлось отпустить любимое дитя, которое так и чахло на глазах.
В королевстве деда Карадос был обласкан. Там принц продолжал совершенствоваться в науках и искусствах. А когда случилась война, он пошел воевать и совершил такие подвиги, что имя его было у всех на устах. Однажды, Карадосу минуло тогда восемнадцать лет, Добрый Король был именинник. Этот праздник традиционно отмечался с неслыханной роскошью, все просители покидали Доброго Короля удовлетворенными. В просторном зале стоял его трон, с высоты которого от неусыпного королевского ока не ускользал никто из визитеров. И среди шумной свиты Доброго Короля и его супруги не было придворного мужа или дамы, которые могли соперничать красотой с принцем Карадосом.
В разгар праздника появился всадник на дивном белом жеребце с золотой гривой. Он уверенно держался в седле, его бирюзовый камзол был перехвачен богатой перевязью, а в ножнах он хранил меч, усыпанный ослепительными каменьями. Незнакомец был ангельски прекрасен: льняные волосы струились по плечам, голову венчал венок из незабудок, лицо озарял дивный свет. Он напевал на скаку, и голос его был удивительной красоты.
Он в два счета спешился, и королевские конюхи увели жеребца. Незваный гость прошествовал в тронный зал, ловя на себе восхищенные взгляды. Раскланявшись со знатью, он преклонил колени перед Добрым Королем и опустил к его ногам меч.
– Сир, – начал он. – Просителем пришел я к вашему высочеству в надежде, что в день ваших именин мне не будет отказано в милости.
– Мы все обратились в слух, о чужеземец! Сегодня я удовлетворяю все просьбы. Исполню любое ваше желание – слово короля.
– Мое желание, – молвил незнакомец, – услуга за услугу.
– Как вас понимать? – удивился король. – Вы не просите, а загадками нас развлекаете!
С этими словами король посмотрел на свою свиту: не постиг ли кто смысл речей незнакомца. Убедившись в обратном, он попросил незнакомца выражаться яснее.
– Услуга за услугу, – был ему ответ, – это когда один из вас отрубит мне голову этим самым мечом.
Ропот недоумения прокатился по залу, король едва удержался на троне, глаза королевы округлились от страха, а дамы ее свиты чуть не плакали.
Добрый Король думал уже отозвать королевское слово, но не тут-то было: упрямый юноша стоял на своем. Отказаться значило бы обесчестить себя. Король взглядом искал среди придворных добровольного палача – все молчали, пока наконец вперед не выступил преданный его высочеству Карадос и не заявил о своей готовности защитить честь деда.
Незнакомец с обезоруживающей улыбкой ждал смерти от рук Карадоса. Но стоило Карадосу одним верным ударом рокового меча обезглавить его, как голова юноши трижды повернулась вокруг своей оси, возвратилась к чужестранцу на шею, и он встал как ни в чем не бывало.
Крик изумления сорвался с уст придворных, но уже через мгновение, как по волшебству, воцарилась тишина.
Добрый Король был крайне рад счастливому концу, а Карадос и того больше: казнь не состоялась. Воскресший из мертвых снова опустился на колени перед монархом.
– Сир, – молвил он, – самое время вам сдержать свое обещание.
– Как, я его не сдержал? – возмутился король.
– Нет, сир, если сдержали, то лишь наполовину. Услуга за услугу – помните? Карадос оказал ее мне. Теперь мой черед рубить ему голову.
В зале раздался ропот. Король поник, королева превратилась в тень себя самой, свита заволновалась: Карадоса любили все. А сам он ледяным тоном сказал королю, что готов ценой своей крови отстоять его честь.
– Сир, я уже достаточно причинил вам беспокойств сегодня. Я переношу выполнение данного мне слова на один год, и пусть все, кто сегодня здесь, снова соберутся в тронном зале, когда я вернусь получить свой долг. Увидим, так ли отважно Карадос примет свою смерть, как он готовился к моей, – сказав это, незнакомец неожиданно откланялся.
Придворные приступили было к угощению, но пир не удался: все были расстроены уготованной Карадосу участью.
За год принц Карадос не раз проявил героизм и в назначенный день прибыл в тронный зал. Те же лица, те же сердца, и в каждом из них теплилась надежда, что незнакомец не приедет.
Незнакомец приехал: тот самый конь, тот самый бирюзовый камзол, тот самый ослепительный меч на перевязи, а на голове – венок из роз. Напрасно король уговаривал его отказаться от своего намерения. И королева, видя тщетность усилий мужа, в один голос со своими фрейлинами принялась заклинать палача сохранить Карадосу жизнь. Она сулила ему в жены прекраснейшую из своих племянниц с приданым в полкоролевства, но он был непреклонен.
Карадос, само бесстрашие, выступил вперед и просил быстрее свершить неизбежное.
– Приступайте, и покончим с этим, – отрезал он. – Я могу принять одну смерть – не тысячу.
Его слова заставили незнакомца резко замахнуться и хладнокровно… вернуть свой меч в ножны.
– Поднимитесь, принц, – молвил он. – Тысячу раз вы доказали свое мужество и вновь проявили такую стойкость.
Добрый Король спустился с трона и заключил незнакомца в объятия. Королева, фрейлины и все придворные ликовали.
Такого шумного пира королевство еще не знало. А затем незнакомец уединился с Карадосом и открылся ему, признавшись, что перед ним владыка Далеких островов и его отец. От этой новости принц стал пунцовым. Он с трудом сдерживал гнев. Он дал понять волшебнику, что не позволит пятнать честь его матери Изены и ее мужа-короля.
– Неблагодарность – ваш порок, Карадос, – сказал маг. – Что не мешает вам быть моим сыном. Все, за что вас боготворят, вы унаследовали от меня. Как бы, Карадос, вам не пришлось пожалеть о проявленной ко мне черствости.
Они расстались, и Карадос, не желавший признавать, что он сын мага, захотел повидать короля, которого привык считать отцом. Попрощавшись с Добрым Королем и королевой, он поехал в королевство, коим правили Изена и ее муж.
Родители были рады возвращению Карадоса. Оставшись наедине с королем, принц открыл ему все, что услышал от мага.
Король любил Карадоса как сына и горячо заверил, что, если даже маг не лгал, это ничего не изменит.
Послали за Изеной, чтобы спросить у нее. Королева упала в обморок и тем самым выдала себя. Карадос предложил королю созвать каменщиков со всего мира, опустошить казну, но построить неприступную крепость – тюрьму для королевы – и выставить караул.
Заточив мать в крепость и предав забвению, Карадос возвращался ко двору Доброго Короля.
В двух днях пути от цели он заметил, что на дальнем лугу что-то сверкает. По мере приближения он разглядел шатры. Крышу самого большого из них венчал золотой шар, на котором сидел золотой ястреб – того и гляди расправит крылья и воспарит.
Никого не обнаружив у шатров, он сошел с коня и проник в самый большой из них. Там стояла роскошно убранная кровать, а за поднятым пологом спала она – не девушка, а ангел.
Не успел принц опомниться, как упал на одно колено и прикоснулся губами к нежной ручке. Глаза девушки распахнулись: в них читался страх, но она не смела поднять на юношу глаз. С прелестных уст сорвался крик, и показавшаяся из-за перегородки рабыня-гречанка бросилась на помощь госпоже.
Увидев Карадоса, рабыня так и ахнула:
– Взгляните только, кто нарушил ваш покой!
Девушка-ангел смерила было Карадоса взглядом, полным гнева, но тут же расплылась в улыбке:
– Так ведь это Карадос!..
– Да, я ношу это имя. Но разве мы знакомы?
– Стойте, никуда не уходите! – оживилась красавица и скрылась с рабыней в соседнем шатре, чтобы вскоре вернуться с пергаментом в руках.
– Узнаете? – защебетала она, разворачивая свиток. – Это ведь ваш портрет? Едва увидев вас, я потеряла покой и обрела мечту: провести с вами остаток своих дней. Я вытребовала у своего брата-короля Кандора обещание, что я стану вашей женой и ничьей другой. Нынче мы держим путь ко двору Доброго Короля: брат будет просить руки одной из его племянниц и говорить о нашем с вами браке. Ах да, меня зовут Аделиса…
В шатер вошел король Кандор, который мог соперничать красотою со своей сестрой. Аделиса познакомила его с Карадосом. Юноши побратались. Ко двору Доброго Короля ехали все вместе.
Красота и учтивость брата и сестры никого из королевской свиты не оставили равнодушными, и в жены королю Кандору досталась самая очаровательная племянница Доброго Короля.
После женитьбы короля Кандора планировали пировать на свадьбе Карадоса и Аделисы, как вдруг объявился гонец от короля, которого Карадос по-прежнему звал отцом. Король срочно требовал Карадоса к себе, и принц тут же выехал, оставив прекрасную Аделису ждать жениха.
Стоило Карадосу прибыть во дворец, как «отец» поведал ему о дивной музыке, что раздавалась по ночам из крепости, где томилась Изена, – уж не маг ли забавляет пленницу?
Владыка Далеких островов действительно не мог допустить, чтобы его возлюбленная несла наказание в одиночку, и послал в ее распоряжение двенадцать фрейлин и двенадцать кавалеров. Что ни вечер лучшие музыканты услаждали их слух, а непревзойденные танцовщики радовали взоры. Сам владыка Далеких островов разделял развлечения маленькой свиты Изены.
Карадос предложил «отцу» застигнуть влюбленного мага врасплох: под покровом тьмы Карадос проник в крепость, гудевшую очередной пирушкой, и, миновав охрану, пленил мага, тем самым связав и его волшебство.
Мага привели к королю, и тот сразу велел позвать палача. Однако Карадос придумал для него кару пострашнее смерти: мага заключили в темницу вместе со служанкой в обличье королевы. В тот самый миг, когда он говорил лже-Изене о своей любви, с ее лица сорвали маску, и владыка Далеких островов понял всю унизительность своего положения.
Уязвленный в самое сердце, маг был отпущен с тем условием, что расстанется с Изеной навсегда. Оказавшись на воле и почувствовав, что к нему возвращается волшебная сила, владыка Далеких островов перенесся в крепость и, силясь не заплакать, поведал Изене, как растоптали его любовь.
– И это был наш сын? – в голосе узницы кипел гнев. – Он должен умереть. Нет! – передумала она. – Он должен страдать, как страдали вы!..
Назавтра королева велела позвать Карадоса. Войдя, он застал мать простоволосой и растрепанной. Изена, смутившись, попросила подать ей гребень из слоновой кости, доставленный из Рима.
Но стоило Карадосу открыть комод, как гигантская змея вонзила зубы в его палец и тройным кольцом сдавила его тело. От боли Карадос со стоном сполз на пол. Подоспевшая стража забрала его во дворец. Были созваны самые известные врачи, но никто из них не смог вырвать принца из тисков гадины.
Весть о несчастье быстро облетела окрестные земли. Добрый Король надел траур. Прекрасная Аделиса вне себя от горя и в сопровождении брата поспешила к своему бедному жениху.
А тем временем Карадос был прикован к постели. Боль подтачивала его силы день за днем. Он уже был на пороге отчаяния, когда прибыл гонец от короля Кандора: брат и сестра завтра будут здесь. Едва гонец откланялся, Карадос приказал своему верному пажу себя одеть и приготовить все к побегу.
Знал ли обессиленный Карадос тогда, что путь его окажется таким длинным и что он приведет его к скиту отшельника, одиноко стоявшему на речном берегу?
Белоголовый старик вышел из часовни. Карадос открылся священнику и попросил пожизненного прибежища в его хижине.
Пажа тут же послали за белым монашеским одеянием, в котором Карадоса не признали даже посланники короля.
Прибыв во дворец, король Кандор и принцесса Аделиса нашли покои ее жениха пустыми. Аделиса так горько заплакала, что ее брат поклялся за два года перевернуть небо и землю, но найти Карадоса, и пустил своего жеребца во весь опор. Через два года тщетных поисков он вернулся ко двору «отца» Карадоса ни с чем, и лишь свидание с сестрой послужило утешением. Однажды, спасаясь от зноя на речном берегу, он услышал грустный голос. Так жалобно оплакивать свою долю мог только Карадос.
Король Кандор шел на голос, пока не столкнулся с мужчиной в белом одеянии. Его можно было бы принять за отшельника, но свисающая из рукава гадина, вцепившаяся в запястье, выдала Карадоса.
Король Кандор с криками радости бросился обнимать побратима и взял с него слово, что Карадос дождется его здесь и перестанет прятаться. Кандор в свою очередь пообещал, что вернется через шесть суток.
Попрощавшись с другом, Кандор поехал к королю, но ни слова ему не сказал, а испросил разрешения нанести визит Изене. Оказавшись в крепости, он поведал королеве, в каком состоянии нашел Карадоса. Он заклинал ее родной кровью и именем владыки Далеких островов простить сына и излечить его.
Изена больше не сердилась, но способ избавить сына от гадины знала только один: понадобится дева – сама красота и верность, готовая пожертовать собой ради Карадоса…
Ради Карадоса Аделиса была готова на все. В скит доставили все необходимое для избавления от проклятого змея – две огромные ванны: одна – с уксусом, другая – с молоком. Карадос опустился в ванну с уксусом, а Аделиса – с молоком. Замысел был прост: змея не терпела уксуса и должна была, ослабив хватку, метнуться в ванну с молоком.
Король Кандор обнажил меч, чтобы убить змею, едва она сделает бросок.
Верная Аделиса напевала, подзывая гадину.
Один бросок, взмах меча – и змея убита, а Аделиса… ранена. Спасибо старику отшельнику, который сумел ее выходить.
Король Кандор тут же распорядился вымыть Карадоса в ванне, как научила Изена. В результате принц стал краше прежнего и предстал перед Аделисой.
Сам Добрый Король поспешил отправиться в путь, чтобы быть на свадьбе Карадоса и Аделисы.
А тем временем Карадос испросил у «отца» позволения освободить мать, окрыленный его согласием ворвался в крепость и на коленях извинялся за все, что ей довелось пережить. Карадос увлек ее в покои короля, и тот был снова очарован Изеной. Он женился бы на ней снова, если бы не скончался скоропостижно.
Карадос стал королем и, дождавшись Доброго Короля с супругой, сочетался с Аделисой браком. Роскошные празднества, балы и турниры не утихали, а помолодевшая Изена едва не затмила красотой невесту.
Сражение за сражением фортуна благоволила неизвестному рыцарю, который оказался… владыкой Далеких островов. Настоящего отца Карадоса приняли с почетом. Маг попросил руки Изены, и влюбленных благословили на брак.
Обе пары жили долго и счастливо.
История Малика и принцессы Сирин
После смерти отца я, единственный наследник богатейшего в Сурате торговца, растранжирил почти все, что он мне завещал. Остаток средств ушел на дружеские пирушки. На одной из таких моим товарищем по трапезе оказался некий иностранец. Услышав, что лишь страх перед нападением разбойников и прочими опасностями, подстерегающими в дальних путешествиях на каждом шагу, удерживают меня в Сурате, незнакомец пообещал поделиться со мной средством, позволяющим оставлять позади страну за страной без малейшего риска. Им оказался сундук, для изготовления которого тотчас послали за столяром и лесом. Мастеру было приказано сколотить сундук размером шесть на четыре фута, а иностранец тем временем взялся за изготовление механизма, с которым провозился трое суток. Сверху на него бросили персидский ковер и вместе с ним покинули город. Я стал единственным свидетелем того, как сундук с иностранцем внутри поднялся на воздух и молниеносно скрылся за горизонтом, чтобы через некоторое время опуститься рядом со мной.
– Я дарю этот сундук вам. С ним дальние края станут ближе, – осчастливил меня иностранец и тут же научил управлять этим средством передвижения, получив в качестве благодарности кошелек с цехинами.
А так как денег у меня больше не было – одни долги, то при первом же удобном случае я прыгнул в свой сундук и полетел как можно дальше от своих ростовщиков.
Сундук соперничал с ветром в скорости, но лишь на утро следующего дня закончились лесные угодья и на горизонте показался город. Я остановился, чтобы как следует его разглядеть, и поразился великолепию его башен. «Вот бы узнать, где я», – подумал я и обратился с вопросом к обрабатывавшему поле пахарю, предварительно припрятав сундук в чаще леса.
– Вы, знать, прибыли издалека, – отвечал крестьянин, – этот город называется Газна, а правит им могущественный король Багаман.
– А кто обитает вон в тех величественных башнях?
– Король возвел их для своей дочери, принцессы Сирин. Ей напророчили быть обманутой мужчиной. Чтобы воспрепятствовать тому, Багаман построил мраморный дворец с неприступными башнями и рвами с водой по периметру. Единственные ключи от ворот хранятся у короля. Днем и ночью у них стоит караул, и ни одному человеку, кроме короля, не войти во дворец. Сам он посещает дочь раз в неделю.
С тех пор я потерял сон и думал лишь о прекрасной узнице. Мне ничего не стоило прилететь на крышу ее дворца и пробраться в ее спальню. Что, если в пророчестве говорится обо мне? Окрыленный этими мыслями, я взмыл в воздух и направил сундук ко дворцу. Под покровом ночи миновал я стражников и приземлился на крышу.
Покинув сундук, я через открытое окно проник в роскошно обставленную спальню, где на бархатном диванчике почивала принцесса Сирин. Она была еще красивее, чем я себе представлял. Не успел я опомниться, как уже на коленях целовал ее нежную руку. Пробудившись, девушка хотела поднять крик, и мне пришлось так объяснить свое присутствие:
– О свет очей моих, принцесса. Я совсем не из тех, кто обещает золотые горы, только бы погубить невинную деву. У меня такого и в мыслях не было, ведь я пророк Магомет. Мне больно наблюдать, как вы, такая юная, томитесь взаперти. И вот вам мое слово: я развею пророчество, послужившее причиной вашего заточения. Вам уготована блестящая будущность, ведь вы прослывете женой Пророка. Все сильные мира сего преклонят головы перед тестем великого Магомета, а их дочери умрут от зависти к вам.
К моему крайнему удивлению, принцесса поверила в мою легенду. Хорош Магомет, нечего сказать. Лишь на рассвете покинул я спальню Сирин, с тем чтобы вернуться на следующую ночь. Я запрыгнул в сундук и летел выше облаков, только бы не попасться на глаза караульным. Я спрятал сундук в лесу и пешком пошел в город запастись провизией и приобрести наряд, достойный Магомета, и истратил там все подчистую в полной уверенности, что никогда больше не буду испытывать нужды в средствах.
Когда с приходом темноты я вновь проник в спальню принцессы Сирин, она начала с вопроса, со вчера не дававшего ей покоя:
– О Пророк, как могло статься, что вы столь юны? Мне думалось, что Магомет мудрый старец.
– Это так, – отвечал я. – Но разве вам не приятнее лицезреть кого-то помоложе?
Я опять улетел из дворца ближе к утренней зорьке, дабы Пророк не был разоблачен, чтобы вернуться с наступлением темноты.
Через день-два король Багамана со свитой нанес визит дочери. Поднявшись в ее спальню, он заметил на ее лице румянец стыда, который выдал девушку. Она вынуждена была во всем признаться.
Изумлению Багамана не было предела.
– Что за чепуха! – вскричал он. – Нельзя быть такой доверчивой! Пророчество исполнилось, Сирин обманул коварный соблазнитель! – С этими словами он отдал приказ перевернуть вверх дном весь дворец, но так никого и не обнаружил. В отчаянии он созвал своих визирей и придворных, чтобы спросить их совета. Первым взял слово великий визирь: «Свадьба принцессы не обязательно вымысел». Большинство визирей с ним согласились, кроме одного, сказавшего:
– Стал бы Пророк искать себе жену среди земных женщин, если рай полон прелестниц гурий!
Багаман был доверчив и все же усомнился в россказнях о Пророке.
– Ступайте, – распорядился он, – сегодня я заночую во дворце у дочери, а вы возвращайтесь завтра.
Поджидая гостя, он опустился на диван и обнажил саблю…
Та ночь была светлой от огней. Ослепленный вспышкой молнии, король приблизился к окну. Ему подумалось, что это свидетельство приближения Магомета. Поэтому, стоило мне показаться в окне, как сабля выпала из его рук, а сам он распростерся перед Пророком, голося:
– О Пророк! Какие заслуги зачлись мне, коль я стал вашим тестем?
– Великий Багаман! – молвил я, помогая ему встать. – Вы лучший из правителей, а поэтому вы мне милее других. Книга Судеб гласит: «Дочь ваша будет обманута мужчиной». Но я лично просил Всевышнего избавить вас от несчастья, на что он согласился, если Сирин присоединится к числу моих жен. И все – за вашу доброту.
Король Багаман не помня себя от счастья поверил и оставил «супругов» наедине.
Когда наутро король рассказывал явившимся визирям и придворным о событиях прошлой ночи, один лишь вчерашний скептик дерзнул усомниться в искренности его слов. И в тот же день случилось нечто, укрепившее большинство в их иллюзии: лошадь этого Фомы неверующего среди мусульман испугалась грозы и сбросила седока – ну чем не кара свыше?
Пострадавшего забрали домой, а Багаман распорядился всем жителям города пировать и веселиться по случаю бракосочетания принцессы Сирин с Магометом, о чем мне стало известно, когда днем я посетил Газну, вовсю славившую тестя Пророка.
– Моя милая Сирин, – начал я вечером с порога, – сегодня один человек, не поверивший в наш с вами брак, был наказан за это. Я призвал грозу, его лошадь метнулась в сторону, и наездник сломал ногу при падении. Моя месть была чужда кровожадности. Но призываю свою усыпальницу в Медине во свидетели: следующего усомнившегося я предам смерти.
– Сирин, – обратился правитель к дочери в один голос с визирями, – вступись перед Пророком за человека, вызвавшего его гнев.
– Ведаю, о ком вы просите, – сказала Сирин. – Магомет от меня ничего не утаил.
Тут все визири бросились в ноги мстителю – его ждала полная достатка жизнь. Но не успели мы пожениться, как в Газну прибыл посланник от соседнего короля с целью искать руки Сирин для своего господина. Багаман, естественно, отказал:
– К сожалению, я не вправе обещать вашему правителю руку той, кто стала супругой пророка Магомета.
Гонец счел, что король Газны повредился рассудком. Соседний же правитель вообразил, что им пренебрегли, и двинулся на гордеца войной.
Этот король, а звали его Касем, был намного влиятельнее Багамана и подчистую разбил несколько полков, преградившим ему путь к столице.
– Не тестю Магомета беспокоиться из-за жалкого Касема. Почему бы вашему величеству не обратиться за помощью к зятю – уж кто-кто, а он наголову разобьет полчища врагов, – посмеялся над Багаманом кто-то из свиты.
Но именно так и собирался поступить мнимый Магомет. Издали наблюдая за позициями врага, он набивал камнями сундук, чтобы вернуться ровно в полночь. Королевский шатер узнать было немудрено: высокий, украшенный золотой нитью, куполоподобный; дюжина изразцовых деревянных столбов были вкопаны в землю. Над верхушками столбиков зияли два окна: одно было обращено на восток, другое на юг.
Солдаты спали около шатра, я смог спуститься незамеченным и через окно разглядел Касема. Прицелившись, я швырнул во врага большой булыжник. Снарядом Касему разбило голову. От его крика охрана повскакивала. Но покуда искали злодея, я уже взмыл ввысь и оттуда осыпал вражескую ставку градом камней. Кто-то произнес слова «каменный дождь»: в панике все решили, что Пророк прогневался на Касема, и пустились врассыпную, побросав все, что имели.
Багаману досталась богатая добыча. Ликующий прибыл он во дворец Сирин:
– Доченька, поблагодарите Пророка от моего имени.
Мне оставалось только заверить Багамана в своем заступничестве, а король в свою очередь приказал всем в городе готовиться к празднествам в честь победы и бракосочетания принцессы Сирин с Магометом. Логично было бы, чтобы день моего чествования запомнился настоящим чудом. Пришлось приобрести в Газне белой смолы, хлопковых семян и кресало для фейерверка. Вечером, когда народ повысыпал на улицы, я поднялся достаточно высоко, чтобы сундук был неразличим в огнях фейерверка. Оставалось добыть огонь и поджечь смолу. Хлопковые семена рассыпались и трещали, фейерверк вышел зрелищный, довольный я вернулся в лес. Ближе к рассвету мне вздумалось пойти в город, послушать о себе сплетни. Горожане не разочаровали меня. Только и речи было, что о моих фокусах.
Я как следует повеселился, пока мой дивный сундук, мой ларец с чудесами, сгорел в лесу. Должно быть, он воспламенился от едва тлевшего уголька и сгорел дотла. Обнаружив на его месте лишь горстку золы, я заголосил. Но ничего не попишешь. Пришлось отправиться в дальние края. Магомет, как ни плакали Багаман и Сирин, покинул Газну. Через пару дней я присоединился к каравану на Каир. Ради средств к существованию я освоил ремесло ткача. Я не ропщу на судьбу, но все время думаю о Сирин…
Жила-была королева. Из всех ее детей выжила лишь дочь. Девочка была чудо как хороша, а потому возгордилась: нет, мол, на свете жениха ей под стать. Принцессу привыкли видеть при дворе в образе Паллады или Дианы, а ее фрейлин – в нарядах нимф. Королева назвала дочь Белль, и придворные живописцы принялись за портреты принцессы, которые впоследствии разослали дружественным королям. Одного взгляда на портрет было достаточно, чтобы гордые правители совсем потеряли голову.
Двадцать принцев крови боролись за благосклонность принцессы, а поэты прославляли Белль в своих стихах.
Принцессе шел шестнадцатый год, но никто не осмеливался к ней посвататься: слишком холодный прием она оказывала претендентам на свою руку.
Упорствуя в своем нежелании выходить замуж, Белль вынудила королеву искать помощи Пустынной феи, которую охраняли свирепые львы. Но королеве было известно, что умаслить зверей можно лишь пирожным из просяной муки на сахаре и яйцах крокодилицы, поэтому она собственноручно испекла его, положила в свою дорожную корзинку и отправилась в путь. Шла она, шла, устала и решила отдохнуть под тенистым деревом. Села да и задремала. А когда проснулась, пирожного в корзинке уже не было. Вдруг до нее донесся нарастающий рык – это приближались львы.
Роняя слезы, она вся вжалась в дерево и тут услышала какие-то странные звуки. Осмотревшись, она остановила взгляд на ветке, где человечек ростом с локоток ел апельсины.
– Я вас знаю, ваше величество, – начал он, – и мне известно, как вы боитесь львов. Эти каннибалы погубили многих, а у вас больше нет пирожного.
– Я готова к смерти, – выпалила королева. – Жаль только, что я не успела выдать замуж дочь!
– Дочь? – переспросил Рыжий Карлик (а прозвали его так за цвет волос и за то, что он жил в апельсиновом дереве). – Очень кстати, я ведь уже с ног сбился в поисках невесты. За право обладать ее рукой я защищу вас от львов, тигров и медведей.
Несмотря на отталкивающий облик Рыжего Карлика, долго раздумывать ей не пришлось.
– Уважаемый Карлик, Белль ваша! – вскрикнула королева, завидев несущихся к ней львов.
Как по мановению волшебной палочки, ствол апельсинового дерева раздвинулся, принимая королеву внутрь, и опять сомкнулся. Львы остались с носом.
Только теперь королева заприметила в дереве дверь, открыв которую увидела соломенный шалашик; оттуда радостно выскочил Рыжий Карлик в деревянных башмаках и шерстяном жакете: с огромным носом и большими ушами, он походил на маленького разбойника.
– Добро пожаловать в мой дворец, в котором мы будем жить с вашей дочерью, – сказал он.
Представив свою дочь здесь рядом с жутким карликом, королева лишилась чувств. Очнувшись от обморока, она обнаружила себя на собственном ложе; ее голову венчал роскошный кружевной чепец – напоминание о том, что случившееся, в которое она так не хотела верить, не было сном. С этого дня она совсем потеряла покой.
Принцесса, искренне любившая мать, приставала к ней с расспросами, но правды так и не добилась. Белль так переживала, что надумала отправиться к Пустынной фее, чтобы узнать у мудрой отшельницы, что случилось с королевой, а заодно о своем замужестве.
Белль самолично испекла пирожное для подношения свирепым львам. Она притворилась, что идет спать, а сама, скрывшись под белым плащом, вышла через черный ход и в одиночку направилась к обители Пустынницы.
Шла она, шла, видит – стоит апельсиновое дерево, и столько на нем плодов, что, не удержавшись, принцесса принялась рвать апельсины. Но положить их было некуда: корзинка исчезла вместе с пирожным. Вдруг откуда ни возьмись появился маленький уродец.
– Что стряслось, красавица? – спросил Рыжий Карлик, а это был именно он.
– У меня пропала корзинка с пирожным, как же мне теперь пройти к Пустынной фее?
– А зачем вам Пустынница? – поинтересовался уродец. – Мы с ней состоим в родстве, да и мудрости мне не занимать…
– Моя маман, вдовствующая королева, – призналась принцесса, – ни с того ни с сего затосковала. Что, если в том моя вина? Очень уж не терпелось ей отправить меня под венец, но я пока не встретила ровни себе. Мне нужен совет Пустынницы.
– Полноте, принцесса, я и без Пустынницы открою вам, почему убивается ваша маман: она уже обещала вас жениху. И этот жених – я, – сказал Карлик, опускаясь перед ней на колени.
– Вы безумец! – Белль отшатнулась от него и… услышала приближение львов.
Мерзкий Карлик хохотал:
– Вы скоро умрете, зато умрете девицей, не запятнав себя браком с ничтожным карликом.
– Ах, пожалуйста, смените гнев на милость! – принцесса воздела к нему руки. – Я дам брачные клятвы всем карликам на свете, лишь бы избежать гибели.
С этими словами она потеряла сознание, а очнулась, уже будучи в своей постели. На Белль была тонкотканая сорочка, расшитая лентами, а на пальце – перстень из рыжего волоса – он не снимался. Вспомнив события прошлой ночи, Белль стала сама не своя. И сколько королева ни расспрашивала дочь, та и словом не обмолвилась о случившемся.
Тем временем королевские подданные нуждались в короле и после короткого совета потребовали от королевы выбрать супруга для дочери.
После встречи с Рыжим Карликом гордячка Белль поняла, что ей лучше стать женой славного Золотого Короля и тем самым избавиться от притязаний уродца. Золотой Король был силен, красив и безнадежно влюблен в нее.
Желая поближе узнать счастливого жениха, Белль присмотрелась к нему повнимательней и нашла Золотого Короля таким отважным и нежным, что влюбилась сама.
Наконец наступил долгожданный день – все было готово к свадьбе Белль. Музыканты и трубачи оповестили весь город о предстоящем празднестве, улицы были устланы коврами и разубраны цветами. Народ толпами стекался на большую площадь у дворца.
Королева с невестой уже готовились выйти из дворца под руку с королем, как вдруг дорогу им преградили два чудовищных индюка. За собой они волокли обшарпанную коробку, а замыкавшая процессию длинная уродливая старуха кричала, вращая клюкой:
– Королева и принцесса! Как вы посмели нарушить обет, данный моему милому Рыжему Карлику? Я – Пустынница, и, если бы не он, вас бы сожрали мои львы! Немедленно одумайтесь и готовьтесь к свадьбе с Рыжим Карликом!
Золотой Король уже направил на старуху шпагу, когда с коробки слетела крышка и перед ними предстал Рыжий Карлик, восседавший на огромном коте.
– Дерзкий мальчишка! – кричал он. – Ужо ль тебе оскорблять легендарную фею! Твой противник – я. Неверная невеста принадлежит мне: на ее пальце перстень из моего волоса – тебе его не снять.
– Ничтожный карлик, – вскричал король, – не тебе претендовать на руку Белль! Ты не достоин даже пасть от моей руки.
Рыжий Карлик не снес унижения. Пришпорив своего кота, он вынул из ножен длинный кухонный нож и…
Случилось солнечное затмение. Вспышка молнии осветила двух великанов-индюков, оказавшихся возле Карлика. Головами они касались гор, клювы их изрыгали пламя. Но не это заставило сердце молодого короля дрогнуть: Пустынница, оседлав грифона, поразила копьем его невесту. Белль подхватила рыдающая королева. Но Рыжий Карлик вырвал девушку из рук матери и скрылся на своем коте.
Золотой Король никогда еще не чувствовал себя таким беспомощным. Вдобавок ко всему его глаза словно заволокло пеленой, и, движимый неведомой силой, он взвился в воздух. Это злая Пустынница, с первого взгляда влюбившаяся в Золотого Короля, уносила свою добычу. В жутком подземелье она приковала его к скале. Вернув королю возможность видеть, она предстала перед ним в облике дивной нимфы и заговорила:
– О принц! Кто и зачем заточил вас здесь?
– Милая нимфа, – отвечал король, не узнавший фею, – я не понимаю, что нужно от меня Пустыннице?
– Ваше величество, – сказала псевдонимфа, – если вы во власти Пустынницы, единственный выход – на ней жениться.
Пока она говорила это, взгляд Золотого Короля остановился на ногах нимфы – а они были похожи на когтистые лапы грифона.
– Я бы вступил в союз с Пустынницей, – сказал он, обо всем догадавшись, – но она ведь на стороне моего врага Рыжего Карлика, а меня, словно вора, держит в кандалах. Я виновен лишь в том, что любил королевну Белль, но стоит фее освободить меня, и я отдам свое сердце ей.
Обманувшись сладкими речами, Пустынница освободила пленника, а затем запрягла в свою колесницу, обычно приводимую в движение летучими мышами, лебедей и, усадив туда Золотого Короля, поднялась в воздух.
А тем временем похищенная королевна тосковала в роще. Подняв полные слез глаза вверх для молитвы, она заметила своего возлюбленного, пролетавшего по небу с незнакомкой. Пустынница тоже увидела Белль и попыталась прочесть мысли Золотого Короля.
– Меня тревожит судьба бедняжки, которую я любил до вас, – начал он, – помогите ей, если я хоть сколько-нибудь дорог вам.
– Вы осмеливаетесь просить меня об этом? – разгневалась Пустынница. – Я должна предать своего друга ради освобождения гордячки и своей соперницы?
Король молча вздохнул, и они продолжили свой путь.
В великолепном замке, куда Пустынница перенесла Золотого Короля, ему приготовили самые роскошные покои в истории фей. А сам он был так мил со своей похитительницей, что вскоре получил разрешение свободно прогуливаться по морскому берегу.
Во время одной из таких прогулок король повстречал русалку, которая пообещала вызволить его из плена.
– Я отвезу вас в замок из стали, где томится ваша возлюбленная, – сказала русалка. – А на этом берегу поставим фигуру, точную вашу копию.
Срезав несколько тростинок и связав их, она трижды дунула на них со словами: «Лежите на песке, пока вас не заберет отсюда Пустынница». Связка тростинок покрылась кожей и стала точной копией Золотого Короля. Только этот мнимый король напоминал утопленника. Русалка же усадила настоящего короля на свой рыбий хвост и поплыла по направлению к замку, где томилась Белль.
– Я знаю, – сказала русалка королю, когда они приблизились к цели, – что Белль сейчас в той же роще, где вы видели ее на своем пути. Но впереди вас ждет множество врагов. Примите эту шпагу – с ней вы способны на любой подвиг, – только не выпускайте ее из рук. Я буду ждать под этой скалой.
Тем временем Пустынница хватилась возлюбленного. Завидев вязанку тростника, точную копию Золотого Короля, она стала оплакивать утопленника. Призвав на помощь одиннадцать других фей, своих сестер, она принялась строить ему гробницу.
А Золотой Король уже вовсю спешил в объятия Белль, но вместо этого ему пришлось схлестнуться с четырьмя жуткими сфинксами. Но тут его выручила шпага. Узрев ее, монстры без сил упали к ногам короля. А его уже ждали шесть драконов в чешуе тверже железа. Шпага вновь пришла ему на помощь.
В роще он увидел Белль, но, измученная ревностью, она не спешила броситься в его объятия. Тут он рассказал ей все: о том, как удалось перехитрить Пустынницу, о том, как русалка вызвалась помочь ему. Бросившись к ногам возлюбленной, он, к несчастью, уронил свою грозную шпагу, а Рыжий Карлик, скрывавшийся под листом салата, тотчас подхватил ее.
На глазах Белль злодей поразил Золотого Короля в самое сердце. Вне себя от горя принцесса рухнула на тело любимого, и души их соединились.
Злой Карлик предпочел, чтобы принцесса погибла, чем досталась другому, а Пустынница, узнав о случившемся, сровняла с землей усыпальницу, которую сама построила. А верная помощница влюбленных русалка, убитая горем, смогла оказать им лишь одну услугу: тела Белль и Золотого Короля превратились в стройные пальмы. Их переплетенные ветки стали доказательством их бессмертной любви.
Жил себе король, и было у него трое сыновей. Одному из них предстояло взойти на престол. Но как выбрать самого достойного?
Созвал король сыновей и говорит:
– Королем станет тот из вас, кто сыщет для меня верного друга. Я мечтаю о смышленом и задорном маленьком песике.
Каждому отец выдал кошелек с золотыми и установил им год сроку.
Принцы поклялись оставаться братьями, кто бы не победил, и на том пути их разошлись.
Двоим старшим было уготовано много приключений, но сейчас речь о младшем.
Не по годам мудр, хорош собой, он заслужил славу счастливчика. Что бы он ни делал, все выходило ладно, а его отваге позавидовал бы и царь зверей.
Однажды, пробираясь сквозь лесную чащу, принц был застигнут грозой и сбился с дороги. Издали заметив спасительный огонек, он вышел к волшебному замку. Двери и окна переливались драгоценными камнями, а стены были из хрусталя.
Не успел принц постучать, как дверь открылась. За ней он обнаружил подносы с угощениями, удерживаемые несколькими парами рук.
Хозяева этих рук, оставаясь невидимыми, подхватили принца и увлекли вглубь замка.
Коралловая дверь, шестьдесят комнат, свечи, оплывающие в канделябрах, – принцу чудилось, будто он попал в сказку. Когда его вывели в центр шестьдесят первой комнаты, там он нашел теплый камин и удобное кресло. Промокшую одежду путника унесли, облачив его в сухую, куда более роскошную, чем была на нем.
В следующей комнате стены были расписаны сказочными котами: Кот в сапогах, трое потерявших свои перчатки котят, кошка, отправившаяся в Лондон, чтобы предстать перед королевой.
Стол, накрытый посреди комнаты, был сервирован на двоих, золотая посуда была начищена до блеска. Вошла дивной красоты кошка (густая шерсть ее светилась снежной белизной), а с ней и ее кошачья свита, разодетая в пух и прах.
– Приветствую тебя, сын короля, – промурлыкала хозяйка. – Добро пожаловать в мой замок.
– Ваше Мурлычество! – Принц раскланялся. – Я ценю ваше гостеприимство, а сами вы редкой родословной кошка. Ваши слова, ваш вкус, вся обстановка этого дворца – все выдает в вас особу аристократическую.
– Юный принц, – был ее ответ. – Оставь лесть, мне по нраву простые речи и простой люд. Не составишь ли мне компанию за ужином?
Руки принялись накладывать в тарелки угощение: ломтик мышиной запеканки для кошки и кусочек ягодной – для принца.
От одного вида мышиной запеканки принц содрогнулся. Ему кусок в горло не лез. Его недоумение не укрылось от Белой Кошки, поспешившей успокоить гостя:
– Ну же, принц. Мой повар в равной мере чистоплотен и деликатен. Для него не секрет, что кошки, а не люди питаются мышами. Приятного аппетита!
Принц не заставил себя просить дважды. После трапезы они переместились в другую комнату, где кошки в бальных платьях исполняли для них испанские танцы. Спальню принцу отвели поистине необыкновенную. На стенах там висели картины из крыльев бабочек и птичьих перьев.
На заре принц проснулся от звука горна. Руки невидимых слуг облачили его в охотничий костюм. Он лихо сбежал по лестнице, а внизу его ждал деревянный конь, который мог дать фору настоящему. Белая Кошка предпочитала охотиться верхом на обезьяне. После охоты они подкрепились ликером забвения, и принц уже не помнил ни себя, ни цели своего путешествия. Дни напролет он проводил в обществе Белой Кошки.
Охота сменялась рыбалкой, чтением вслух и музицированием за фортепиано, кошачьи оперы – кошачьим балетом, пока однажды Белая Кошка не напомнила принцу:
– У тебя осталось всего три дня, чтобы вернуться к отцу с маленьким песиком.
– Ах! – словно очнулся принц. – Об этом я напрочь позабыл! Где мне успеть раздобыть собачку, быстрого коня и приехать домой?
Белая Кошка одарила его улыбкой:
– Принц, ты мой друг, и можешь рассчитывать на мою помощь. Деревянный конь мигом домчит тебя к королю, самое большее – за день.
– А что же с песиком? – поинтересовался принц.
– Держи, – Белая Кошка протянула ему желудь. – Приставь его к уху, – посоветовала она.
Стоило ему проделать это, как из желудя послышался лай.
– Не повреди желудь, пока не предстанешь перед королем, – предупредила Белая Кошка.
Младший принц даже несколько опередил братьев по пути домой.
– Вот твой компаньон, отец, – сказал он, подавая королю желудь.
Король аккуратно снял с желудя шляпку. Из оббитой парчой серединки выскочил миниатюрный песик и с поклонами принялся исполнять испанский танец. Естественно, собаки братьев не шли ни в какое сравнение с этой крохой, но король выдумал сыновьям новую задачу:
– Принесите-ка мне каждый по полотну столь тонкому, чтобы его можно было продеть в игольное ушко. На это у вас будет один год.
Старшие принцы пошли куда глаза глядят, а младший поспешил в кошачий дворец. Белая Кошка обрадовалась новой встрече и возможности помочь:
– Не тревожься, я обо всем позабочусь!
Минул год, прежде чем однажды на рассвете Белая Кошка не разбудила принца словами:
– Завтра тебе срок возвращаться к королю с полотном тонкой работы. Карета запряжена, доброго пути! А этот грецкий орех передай отцу. Внутри он найдет, что загадал.
– Милая моя Белая Кошка, – молвил принц. – Я так привык к тебе, что не вижу смысла возвращаться к отцу. Не престол мне нужен, а ты.
Белая Кошка только улыбнулась:
– Возвращайся. Исполни долг перед королем.
На этот раз принц застал братьев уже во дворце. Их полотна, бесспорно, были тонкой работы, но… в игольное ушко никак не проходили. Придворные расступились, пропуская вперед младшего принца: в руке он держал орех. Король извлек из него дивное полотно, на котором были представлены все цветы, звери, птицы и рыбы, сколько не есть их на свете. Оно с легкостью продевалось сквозь игольное ушко.
– А теперь, – не спешил уступать корону отец, – жду вас с самыми красивыми невестами на свете, ведь наследник престола должен женатым взойти на трон. У вас есть один год.
Принцы снова разделились, младший – поспешил в кошачий дворец.
– Мне все уже известно, – встретила его Белая Кошка, – положись на меня.
Третий год истек еще быстрее первых двух – за охотой, шахматами, волшебными сказками. Пора было принцу ехать к королю.
– Теперь ты сам кузнец своего счастья. На самом деле я заколдованная принцесса, и лишь тебе под силу освободить меня от чар, – открылась ему Белая Кошка.
– Что я должен делать? – вопрошал принц.
– Убить меня, – ответила Белая Кошка.
– Как ты можешь говорить такое? Зачем мне корона и трон без тебя? Я тебя и пальцем не трону!
– Убив, ты лишь освободишь меня! – не отставала Белая Кошка.
Дрожащей рукой он исполнил ее приказ, и – о чудо – Белая Кошка превратилась в такую красавицу, которой одного взгляда достаточно, чтобы вскружить голову и принцу и нищему. Слуги-кошки стали людьми. А принцесса поведала принцу свою грустную историю.
– Я не родилась кошкой. Мой папа правил шестью королевствами, а маман страсть как любила путешествия. Однажды ей рассказали легенду о диковинном фрукте из старинного покинутого замка, и она всем своим естеством устремилась туда. Но ворота замка были заперты изнутри, а высокие стены свидетельствовали о его неприступности. Осознав, что ей не полакомиться диковинным плодом, маман стала таять на глазах. Однажды больная королева обнаружила у своего одра старушку.
– Королева, – заговорила непрошеная гостья. – Ты так жаждешь диковинного плода, что вот-вот умрешь. Я принесу его, но взамен получу дочь, которую ты в скором времени произведешь на свет. От меня девочка получит благородное сердце, а от двух других фей, моих сестер, умненькую головку и ангельский лик, но ты не увидишь ее до тех пор, пока она не выйдет замуж.
– Я согласна, – помедлив, сказала маман.
Старушка одела ее и провела в сад, где гнулось под тяжестью плодов диковинное дерево. Маман полакомилась плодами, набрала целую корзину и унесла с собой. А потом родилась я. Маман пришла в ужас от своего обещания. Она не решалась открыться папа и окончательно загрустила. Но папа не отступал и наконец обо всем узнал. В ярости он приказал бросить маман в темницу, а ко мне приставил караул. За это феи прокляли короля и наслали на его земли мор. Дети, старики, женщины гибли сотнями. Король призвал было на помощь придворного мага.
– Не в моей власти что-то предпринять, – признался маг. – Слово надлежит держать.
Смирившись, папа велел освободить узницу. Маман преподнесла меня феям в золотой колыбели. Ликуя, они поместили меня в крепость, воздвигнутую, чтобы стать моим домом, моей золотой клеткой. Там было множество премиленьких комнат без единой двери, зато с высокими окнами. Целая свита из королевских слуг поступила в мое распоряжение.
Прошли годы, и феи озаботились вопросом моего замужества. Моим женихом должен был стать король Миггоне. Но накануне свадьбы у меня гостил говорящий попугай, который пожалел меня:
– Бедняжка-принцесса, плачь о своей судьбе!
– Почему? – не поняла я.
– Потому что твой будущий муж, король Миггоне, – тиран среди карликов. Мы с ним с одной ветки.
Его откровения прервала одна из фей:
– Нарядись как следует и поспеши вниз. Явился король Миггоне, ты должна произвести впечатление.
– Но я не желаю видеть его, не то чтобы сочетаться с карликом браком, – разрыдалась я.
– Глупышка, не тебе решать, за кого выходить замуж!
Глотая слезы, я спустилась вниз и встретилась с ним взглядом: ростом – попугаю по крыло, лапы – когтистые, как у орла, горб и уродливое лицо выдавали в нем злобного карлика. Его нос был настолько длинен, что на его крыльях гнездились птицы. Испугавшись, я кинулась в свою комнату. Жестокие феи наложили чары на меня и моих слуг, обратив нас в кошек. Эти чары должны были рассеяться, когда в моем дворце появится юный принц, который полюбит нас больше всего на свете.
– Я люблю тебя больше всего на свете! – воскликнул принц. – Будь моей женой!
Вместе поехали они к королю, но принцесса спряталась внутри рубинового яичка. Старшие братья принца были уже тут как тут, каждый – с красавицей невестой. Тут младший раскрыл рубиновое яичко, из которого выпорхнула принцесса – на фоне ее красоты меркли небесные светила. На ней было сказочное бело-розовое платье, а ее гордо поднятую голову венчали самые редкие цветы.
– Она! – воскликнул король. – Лишь она должна править моим королевством!
– Ваше Высочество, – сказала принцесса, – я польщена оказанным мне приемом, но зачем ваше королевство мне, у кого их целых шесть? Позвольте мне преподнести два из них вашим старшим сыновьям в обмен на право сочетаться браком с младшим.
В тот день три пары клялись быть вместе в горе и в радости.
Тысячелетий десять или двенадцать тому назад в Пафлагонии еще не было, по-видимому, закона о престолонаследии. Во всяком случае, когда скончался венценосный Сейвио и оставил брата опекуном своего осиротевшего сына Перекориля и регентом, сей вероломный родственник и не подумал исполнить волю покойного монарха. Он объявил себя королем Храбусом XXIV.
У Храбуса было одно-единственное дитя – принцесса Анжелика. Все говорили, что она превосходит всех знатных девиц Пафлагонии. Но красота ее, как утверждала молва, бледнела перед ее ученостью. Фрейлиной и наставницей при ней состояла строгая графиня Спускунет.
На границе Пафлагонии и Понтии обитала в те времена таинственная особа, которую жители обоих королевств звали Черной Палочкой, потому что она всегда носила с собой длинный жезл из черного дерева и творила с его помощью разные чудеса.
Когда она была молода, она колдовала без устали. Впрочем, через тысячелетия эдак два или три Черной Палочке, по-видимому, наскучили эти забавы.
– Оставлю-ка я лучше при себе свои заклинания, – сказала она себе. – Были у меня две крестницы – жена венценосного Сейвио и жена светлейшего Заграбастала. Одной я подарила волшебное кольцо, другой – чудесную розу. Но разве дары мои пошли им на пользу? Они стали капризными, злыми, ленивыми, тщеславными, хитрыми, жеманными.
И вот Черная Палочка отказалась от колдовства.
Когда же супруга герцога Заграбастала родила сынишку, Черная Палочка не пришла на крестины, хотя ее звали, а только послала поздравление и серебряную мисочку для малютки.
Тут же вскорости и королева Пафлагонии подарила его величеству Сейвио сына и наследника. Черная Палочка подошла к колыбели маленького Перекориля и сказала:
– Бедное дитя! Лучшим подарком тебе будет капелька невзгод.
Больше она не сказала ни слова, к возмущению родителей, каковые вскорости умерли, а трон захватил принцев дядя, Храбус.
И на крестинах Розальбы, единственной дочери понтийского короля Кавальфора, Черная Палочка повела себя ничуть не лучше. Она глянула с грустью на мать и дитя и промолвила:
– Знай, милая, эти люди, которые сейчас тебе повинуются, первыми тебя предадут, а что до принцессы, то и ей лучшим моим подарком будет капелька невзгод.
Она коснулась Розальбы своей черной палочкой и медленно выплыла в окошко.
Один из вассалов Кавальфора, упомянутый выше Заграбастал, взбунтовался против своего монарха, и тот отправился подавлять мятежника. Бедная королева заболела от страха и умерла, наказав своим фрейлинам заботиться о маленькой Розальбе. Те, конечно, пообещали. Но потом пришла весть, что король Кавальфор побежден и убит его величеством Заграбасталом I!. При сем известии одни придворные побежали свидетельствовать почтение победителю, другие – кинулись растаскивать казну, а потом разбежались кто куда, и бедная Розальба осталась одна-одинешенька…
Однажды, еще совсем крошкой, принцесса Анжелика гуляла в дворцовом саду со своей гувернанткой миссис Спускунет, у малютки была в руках сдобная булочка.
Не успели они дойти до пруда, как вдруг, глядь, навстречу им семенит маленькая девчушка-бродяжка. Ее круглое личико овивали пышные кудри, и по всему было видно, что ее давно уже не умывали и не причесывали. На плечах ее болтался обрывок плаща, и только одна ножка была обута в башмачок.
– Дай булку, – проговорила девочка. – Я голодная.
– Что значит «голодная»? – спросила принцесса, но отдала булку.
– Ну до чего вы добры и великодушны, принцесса! – воскликнула Спускунет.
Девочку, которую звали Бетсиндой, взяли во дворец. Миссис Спускунет подобрала ее изодранный плащик и башмачок и спрятала в стеклянный ларец.
Когда обе девочки подросли, Бетсинда часами наряжала Анжелику и причесывала, она подновляла ее платья и исполняла сотни других дел. Пока принцессу обучали наукам, Бетсинда обычно сидела тут же и узнавала много полезного.
А теперь обратимся к Перекорилю, племяннику нынешнего короля Пафлагонии. Наставник его не изнывал от трудов. Перекориль не учил математику и древние языки. Зато королевские егери и лесничие находили принца весьма способным учеником; танцмейстер расхваливал его за редкое усердие и изящество; учитель фехтования утверждал, что никогда еще не встречал он человека, столь искусно владеющего шпагой.
Королева всегда желала, чтобы Перекориль с Анжеликой поженились; того же хотел и Перекориль, да порой и сама Анжелика. Однажды, гуляя по саду, они даже обменялись кольцами.
Но вот прошло время, и Анжелика стала холодно поглядывать на кузена, потом принялась смеяться над ним, а потом так безжалостно третировать его на придворных балах, пиршествах и других праздниках, что бедняга Перекориль совсем захворал, слег в постель и послал за доктором.
Пока он лежал больной, прибыл знаменитый художник по имени Томазо Лоренцо. Он рисовал всех придворных, и все были довольны его портретами.
Однажды Лоренцо показал принцессе портрет белокурого юноши в доспехах.
– Это портрет нашего юного монарха, его высочества Обалду. Его ученость не уступает доблести. А августейшее сердце нашего молодого принца уже занято. Вами…
Между тем Перекориль по-прежнему лежал больной. Единственный, кто навещал принца, – это Бетсинда, которая прибирала его спальню и гостиную, приносила ему овсяную кашу и согревала грелкой постель. Обычно служанка приходила к нему утром и вечером и Перекориль непременно спрашивал:
– Бетсинда, Бетсинда, как поживает принцесса Анжелика?
И тогда Бетсинда отвечала:
– Спасибо, ваша милость, прекрасно.
Перекориль вздыхал и думал, что, если б болела Анжелика, он бы навряд ли чувствовал себя прекрасно. Потом Перекориль спрашивал:
– А скажи, Бетсинда, не справлялась ли нынче обо мне принцесса?
И Бетсинда ему отвечала:
– Сегодня нет, ваша милость. – Или: – Когда я ее видела, она была занята игрой на рояле. – Или: – Она писала приглашения на бал и со мной не разговаривала.
Или еще как-нибудь ее оправдывала, не слишком придерживаясь истины, ибо Бетсинда была существом добрым, всячески желала уберечь Перекориля от огорчения и даже принесла ему с кухни жареного цыпленка и желе и при этом сказала, что желе и хлебный соус собственноручно приготовила для кузена принцесса.
Услышав это, Перекориль воспрянул духом и мгновенно почувствовал прилив сил. А на другой день он почувствовал себя до того хорошо, что оделся и сошел вниз; и тут встретил Анжелику.
– Боже правый! – вскричала Анжелика. – Вы здесь и в таком платье! Что за вид!
– Да, я сошел вниз, Анжелика, и сегодня прекрасно себя чувствую.
– Какое мне дело?! – возмутилась Анжелика. – Я занята, принц Понтии спешит пожаловать с визитом ко двору моего батюшки.
– Принц Понтии?! – ужаснулся Перекориль. – Вы говорили со мной иначе, когда в саду дали мне это кольцо, а я дал вам свое…
– Прочь, дерзкий нахал! И вы еще смеете напоминать мне о своей наглости! – И она выбросила его кольцо в окошко.
– Вот так так! Неужели это вас я любил всю жизнь?! Ведь, ей-богу, вы… чуточку горбаты!
Принц Понтии появился с розой в руках. Принц был в дорожном платье, и волосы не прибраны.
– Я проделал с утра триста миль, – объявил он. – Я не хотел терять ни минуты и сразу явился пред ваши светлые очи.
– Вы милы нам в любом платье, ваше высочество, – отвечал монарх.
Тем временем для высокого гостя принесли кресло. Но едва Обалду сел в него, как опрокинулся вместе с ним и кубарем покатился по полу, оглашая зал бычьим ревом. В комнату, как все помнили, он вошел с розой в руке, а падая, обронил ее.
– Где моя роза?! Роза! – вопил Обалду.
Камергер кинулся поднимать цветок и подал его принцу. И вот все уселись и повели беседу.
Обед подали – пальчики оближешь! Принцесса весь обед без умолку болтала с понтийским принцем, а тот ел без меры и удержу. Тут-то Перекориль и начал шутить шутки над принцем Обалду: он потчевал его портвейном, хересом, мадерой, шампанским, марсалой, вишневкой и пивом, и все это Обалду пил стаканами.
Обалду опрокинул кофе, не к месту смеялся, говорил глупости и, наконец, уснул и оглушительно захрапел. Однако и теперь он по-прежнему казался Анжелике восхитительнейшим из смертных. Разумеется, это волшебная роза принца Обалду поразила Анжелику слепотой!
Едва Бетсинда покончила со своим делом, вошел Обалду и завопил:
– О! А! У! Ах, какая красо-о-у-тка! Будь моей подругой, повелительницей Понтии!
– Отойдите, ваше высочество! – попросила Бетсинда.
Но Обалду не унимался. Он поднял такой шум, что его услыхал Перекориль. Едва он увидел, что происходит, как в гневе кинулся на Обалду, а затем упал на колени перед служанкой и стал просить ее не отвергать его чувств и немедля выйти за него замуж.
– Что вы, принц, я всего лишь бедная служанка, – ответила девушка.
– Разве не ты ходила за мной, когда я был болен и лежал всеми покинутый? – продолжал Перекориль.
Бетсинда сочла за лучшее убежать из комнаты.
– О, прелестная служаночка, – встретил ее на лестнице король, – обрати взор свой на почтенного самодержца!
– Ах, сэр, что скажет ее величество! – воскликнула Бетсинда.
– Ее величество!.. – король разразился смехом. – Разве нет у меня веревок, топоров, палачей и плах?
Когда Перекориль услышал эти злодейские речи, он забыл о почтении к королю и приплюснул дядюшку к полу!
Очнувшись, король вскочил на ноги и завопил:
– Позвать ко мне капитана гвардии! Схватите принца! Спешите казнить злодея!
Капитан Атаккуй был в отчаянии: он очень любил Перекориля.
– Король велел вам повесить принца, – сказала ему Спускунет. – Ну и вешайте на здоровье! Он же не сказал, какого из двух.
– И точно, не сказал, – отозвался капитан. – Так хватайте Обалду и казните!
Когда настало утро, он первым делом пошел арестовывать принца.
– Я должен арестовать вас и передать… в руки палача.
– Ты что, рехнулся, приятель?! – только и успел выкрикнуть несчастный принц.
Спускунет нашла Перекориля в саду.
– Ну, милый Перекориль, – сказала она, – придется тебе бежать в чужие края.
– Никуда я не поеду без своей ненаглядной, ваше сиятельство, – возразил Перекориль.
– Она отправится с тобой, милый принц, – ласково сказала Спускунет. – Но сперва мы должны взять драгоценности наших августейших родителей и нынешних короля с королевой.
– Кто это «мы»? – удивился Перекориль.
– Ты и я! – сообщила графиня.
– Как, ты – моя невеста?! – изумился Перекориль. – Да ведь ты старая карга! Я люблю Бетсинду и никого больше!
Когда в покоях королевы дважды прозвонил колокольчик, Бетсинда явилась к ее величеству. Все три ее госпожи были уже здесь: королева, принцесса и графиня Спускунет.
– С глаз моих долой! – завопила королева.
– Убирайся прочь! – закричала принцесса.
– Вон отсюда! – заверещала Спускунет.
Ах, сколько бед обрушилось в то утро на голову Бетсинды! Король предложил ей руку и сердце, и, конечно, его супруга воспылала к ней ревностью; в нее влюбился Обалду, и, конечно, Анжелика пришла в ярость; ее полюбил Перекориль, и Спускунет готова была ее растерзать!
Графиня подошла к стеклянному ларцу, в котором все эти годы хранила ветхую накидку и башмачок Бетсинды, и сказала:
– Забирай свое тряпье и вон со двора!
Бетсинда набросила на плечи накидку, на которой еще виднелась полустертая вышивка ПРИН… РОЗАЛ… а дальше была огромная дыра.
И Спускунет погнала ее вон из комнаты, вытолкала за дверь на мороз.
Пробило девять, и семья собралась в столовой, только принц Обалду отсутствовал.
– А где же Обалду? – осведомился король.
– Ваше величество, – принялся объяснять первый министр Развороль, – боюсь, что… его… в половине десятого казнят.
– Сказано тебе: о делах после завтрака! – произнес Храбус.
– Но ведь нам тогда уж никак не избежать войны, ваше величество, – настаивал министр. – Его отец, венценосный Заграбастал…
– Какой еще Заграбастал?! – удивился король. – Когда это отцом Перекори ля был Заграбастал?
– Но ведь казнят принца Обалду, ваше величество.
– Вы велели казнить принца, я и взял этого… балду, – доложил Атаккуй.
Вместо ответа король запустил в голову Атаккуя тарелкой с сосисками.
– Весь вопрос в том, – сказал он, – спешат мои часы или отстают. Если отстают, мы можем продолжать завтракать. А если спешат, тогда есть еще надежда спасти принца Обалду. Вот ведь история!
– Вы осел, папенька! Пишите скорее приказ о помиловании, и я побегу с ним туда! – закричала принцесса.
– Очков нет! Что за оказия! – воскликнул монарх. – Поднимись ко мне в спальню, Анжелика, и поищи под подушкой…
Анжелики уже не было в комнате, она единым духом взлетела по лестнице, схватила ключи и вернулась назад.
– А теперь, – говорит ее родитель, – ступай-ка опять наверх и достань очки из моей конторки. Если бы ты меня дослушала…
Наконец король очинил перо, подписал приказ о помиловании, и Анжелика схватила его и метнулась к двери.
– Лучше бы ты осталась, детка. Что толку бежать? Все равно не поспеешь. Бьет половину. Так я и знал.
Обалду уже положил голову на плаху! Палач занес топор, но в этот миг появилась принцесса и возвестила о помиловании.
Дожидаясь смерти, Обалду не выпускал изо рта розы. Но когда он заговорил с Анжеликой, то забыл про цветок и, конечно, обронил его. Чувствительная принцесса мгновенно нагнулась и схватила его.
Теперь, как ни странно, Анжелика была совершенно равнодушна к нему. Он больше не казался ей красивым и умным…
А Бетсинда все шла и шла.
Ее догнала ехавшая с рынка пустая повозка; возница сказал, что живет на опушке леса, где старик его служит лесником, и что если ей в ту же сторону, он ее подвезет. Бетсинде было все равно, в какую сторону ехать, и она с благодарностью согласилась. Так они ехали и ехали и наконец подкатили к крыльцу и вошли. Лесник был стар, и у него была куча детей. Когда они увидели хорошенькую незнакомку, они усадили ее у очага и угостили молоком с хлебом.
– А накидка-то, поглядите, в точности как тот лоскут, что висит у нас в шкафу. Ой, глядите, а на шее у нее – синий бархатный башмачок, совсем такой, как вы подобрали в лесу.
– Что вы там болтаете про башмачки и накидку? – удивился старый лесник.
Тут Бетсинда рассказала, что ее малюткой бросили, в этой накидке и одном башмачке. Лесник прямо рот разинул от изумления. Он открыл шкаф и вынул башмачок и старый бархатный лоскут и сравнил их с вещами Бетсинды. Приложив куски друг к другу, можно было прочесть: «ПРИНЦЕССА РОЗАЛЬБА».
Добрый старик упал на колени и воскликнул:
– О принцесса! Законная владычица Понтии… Я бедный лорд Шпинат, который вот уже пятнадцать лет, как живу здесь простым лесником.
– Возвращаю вам ваши посты, лорд Шпинат! – И королева за неимением меча взмахнула оловянной ложкой над лысиной старого придворного.
Отныне королева Розальба тайно разъезжала по замкам своих приверженцев, и через год они были готовы двинуться на врага.
Армия Верных достигла земель одного могущественного феодала, Окаяна, который пока еще не примкнул к королеве.
Когда они подошли к воротам его парка, он послал сказать, что просит ее величество быть его гостьей.
Он преклонил колена перед королевой и сказал:
– Первый князь империи приветствует свою повелительницу. Я предлагаю вам руку и сердце!
– О сэр!.. – пролепетала Розальба. – Сердце мое уже отдано юноше по имени принц… Перекориль.
Тут князь впал в неописуемую ярость.
– Месть моя будет беспримерна! – злобно выкрикнул он.
Упавшие духом бунтари двинулись прочь от ворот парка, но спустя полчаса князь с кучкой своих приспешников настиг их и принялся крушить направо и налево, наконец саму королеву взяли в плен.
– Пригоните фургон, – приказал Окаян конюхам, – засадите в него эту чертовку и отвезите его величеству королю Заграбасталу.
Погода стояла холодная, и наш беглец, звавшийся теперь попросту мистер Кориль, был рад-радешенек, что покойно сидит в почтовой карете между кондуктором и еще одним пассажиром. На первой же станции к дилижансу подошла простолюдинка с кошелкой на руке и спросила, не найдется ли ей местечка.
– Я уступлю ей свое место, – сказал Перекориль.
Второй пассажир сошел на следующей остановке, и тогда Перекориль опять занял свое место внутри и вступил в разговор с соседкой. Она оказалась приятной и начитанной собеседницей. Бедный принц выказал при этом столько же невежества, сколько она – познаний.
– Милый мой Пере… – сказала она. – Добрейший мой мистер Кориль, вы еще молоды, у вас вся жизнь впереди. Вам только учиться да учиться! Если будет в чем нужда, – загляните в эту сумку – я дарю ее вам – и будьте благодарны… Черной Палочке, – сказала она и вылетела в окно.
Перекориль решил, что все это ему приснилось. Однако на коленях у него лежала кошелка – подарок Черной Палочки; и вот, когда они прибыли в город, он прихватил ее с собой и поселился в гостинице.
«Может, в сумке сыщется что-нибудь на завтрак», – подумал Перекориль. Он раскрыл кошелку, и знаете, что там было?
1. Скатерть и салфетка.
2. Сахарница, полная лучшего колотого сахара.
3. 4, 6, 8, 10. Две вилки, две чайные ложечки, два ножа, сахарные щипчики и ножик для масла.
11, 12, 13. Чайная чашка с блюдцем и полоскательница.
14. Кувшинчик сладких сливок.
15. Чайница с черным и зеленым чаем.
16. Большущий чайник, полный кипятка.
17. Кастрюлечка, а в ней три яйца.
18. Четверть фунта наилучшего масла.
19. Ржаной хлеб.
Покончив с едой, Перекориль отправился на поиски жилья. Он снял скромную квартиру напротив университета, сел за книги, трудился без устали целый год и скоро стал примером для всего студенчества.
Через день после экзаменов, когда он с двумя приятелями веселился в кофейне, он вдруг ненароком заглянул в газету и прочитал вот что:
«Небывалые события произошли в Понтии. Напомним, что когда его величество Заграбастал разбил в кровопролитной битве короля Кавальфора и воссел на престол, единственная дочь покойного монарха, принцесса Розальба, исчезла из дворца.
В прошлый вторник кучка джентльменов, верных прежнему дому, в том числе и барон Шпинат, вышла во всеоружии с криками: «Боже, храни Розальбу, первую понтийскую королеву!» – а в середине шла дама, как сообщают, необычайной красоты.
Особа, величающая себя Розальбой, утверждает, будто пятнадцать лет назад ее вывезла из лесу женщина в колеснице, запряженной драконами; она якобы оставила малютку в дворцовом саду, где ее нашла принцесса Анжелика, ныне супруга принца Обалду. Пришелица жила там в служанках под именем Бетсинды. По ее словам, она покинула столицу год назад и все это время жила у Шпинатов. В то же утро, когда она ушла из столицы, королевский племянник принц Перекориль тоже покинул город.
Нам стало известно, что отряд, предводительствуемый бароном Шпинатом, разбит, а самозваная принцесса взята в плен и отправлена в столицу».
– Друзья мои, – сказал принц, – к чему скрываться? Я и есть Перекориль Пафлагонский…
Друзья поспешили вместе с принцем в его жилище. На письменном столе лежала его заветная сумка. Принц раскрыл ее и обнаружил меч с золотой рукоятью.
Внезапно со звоном открылся его сундучок, и наружу выглянуло все рыцарское снаряжение.
Друзья наняли коней и не слезали с седла, пока не доскакали до города, что на самой границе с Понтией. Здесь они остановились и решили подкрепить свои силы в трактире. Не успели они покончить с едой, как послышались звуки барабанов и труб, и скоро всю рыночную площадь заполнили солдаты.
Войско сразу осадило трактир, и, когда солдаты столпились под балконом, принц узнал их командира и воскликнул:
– Кого я вижу?! Мой друг, отважный, верный Атаккуй!
– Мой господин, – произнес тот, – мы идем на подмогу нашему союзнику, Заграбасталу.
– Как, к этому вору, мой честный Атаккуй? – вскричал принц с нескрываемым презрением.
И достославный юноша произнес блистательную речь. В конце концов Атаккуй подбросил в воздух свой шлем и закричал:
– Да здравствует его величество Перекориль!
И тогда принц произнес:
– Врага мы здесь дождемся и разгромим вконец.
Король Заграбастал, сраженный красотой Розальбы, сделал ей предложение. Но та отклонила его искания. Тогда он велел ей готовиться к смерти.
Всю ночь напролет король держал совет, как лучше умертвить упрямую девчонку. Тут он вспомнил про двух свирепых львов, которых недавно получил в подарок, и решил: пусть эти хищники растерзают Розальбу.
Король восседал в королевской ложе, окруженный толпой телохранителей, а рядом сидел Окаян.
Но вот на арену вывели принцессу. Она стала в самом центре арены. Тут распахнулись ворота, и два огромных, тощих и голодных льва вырвались из клетки, где их три недели держали на хлебе и воде. По цирку прошел стон. Но странное дело! Львы добежали до Розальбы и стали к ней ластиться.
Король Заграбастал остолбенел.
– Фу, мерзость! – воскликнул Окаян. – Какой обман учинили! Львы-то ручные!
– Что?! – взревел король. – Схватить графа Окаяна и бросить на арену!
– Вы что же думаете, Окаян струсит? Я осилю обоих!
И он откинул решетку и легко спрыгнул вниз. В ту же секунду львы съели его.
Увидев это, король произнес:
– И поделом! А теперь, раз львы не едят девчонку… пусть гвардейцы спустятся на арену и изрубят ее на куски!
Воцарилась мертвая тишина, которую прервало внезапное «туру-ту-ту-ту!»; и на дальний конец арены въехал рыцарь с герольдом. Рыцарь был в боевом снаряжении, а на кончике копья он держал письмо.
– Какие вести из Пафлагонии, храбрый Атаккуй? – вскричал король.
– Всем! Всем! Всем! – прочел герольд. – Настоящим объявляем, что мы, Перекориль, вернули себе трон и корону отцов… А посему требуем, чтобы лжец и предатель Заграбастал отпустил из неволи Розальбу и вернул ей отцовский трон.
– Королевский дядя низложен, – внушительно произнес Атаккуй. – Он и его бывший первый министр в темнице. Принц Обалду хотел сбежать, но я его изловил. Если с головы принцессы Розальбы упадет хоть один волос, Обалду ждут страшные муки.
– Ах, вот как?! – вскричал Заграбастал. – Тем хуже для Обалду. Эй, палачи, ведите Розальбу!
Капитан Атаккуй вернулся к своим.
– Ах, мой добрый государь, я доставил Заграбасталу ваше послание и вам привез от него ответ. Он тут же кликнул заплечных дел мастеров.
– Позвать ко мне скорее Обалду! – вскричал король.
Привели Обалду; он был в цепях.
– Несчастный Обалду, – сказал Перекориль, – уж ты, наверно, слышал, что зверь, родитель твой, решил… казнить Розальбу!
– Что?! Погубить Бетсинду!.. – заплакал Обалду.
Ему объявили, что его казнят на следующее утро, и отвели обратно в темницу.
На следующее утро он отправился на казнь, но тут в город на львах въехала Розальба.
Дело в том, что когда капитан Атаккуй вступил в переговоры с королем Заграбасталом, львы выскочили в распахнутые ворота и умчали Розальбу, и так они скакали, пока не достигли города, где стояла лагерем армия Перекориля.
Едва Перекориль преклонил колена и протянул принцессе руку, как подбежал Обалду и осыпал поцелуями льва, на котором она ехала.
– О, это вы, бедный Обалду? – промолвила королева.
И протянула ему руку для поцелуя.
Когда король танцевал с Розальбой, он вдруг с удивлением заметил на ее пальце свое кольцо; и тут она рассказала ему, что получила его от Спускунет: наверно, фрейлина подобрала колечко, когда Анжелика вышвырнула его в окошко.
– Да, – промолвила тут Черная Палочка (она явилась взглянуть на эту пару), – я подарила это колечко матери Перекориля. Колечко волшебное: кто его носит, тот кажется всему свету на редкость красивым. А бедному принцу Обалду я подарила на крестинах чудесную розу: пока она при нем – он мил и пригож. Только он отдал ее Анжелике, и та опять мигом стала красавицей, а Обалду – чучелом, каким был от роду.
– Право, Розальбе нет в нем нужды, – сказал Перекориль. – Для меня она всегда красавица! – И сдернул кольцо с ее пальца.
Король уже решил было закинуть его куда-нибудь, но, заметив бедного Обалду, промолвил:
– Любезный кузен, примерьте это колечко.
Стоило Обалду надеть его, как он тут же всем показался пригожим молодым принцем.
А Черная Палочка сказала:
– Да благословит вас бог, дети мои! Вы нашли друг друга и счастливы. Теперь вам понятно, отчего я когда-то сказала, что обоим вам будет только полезно узнать, почем фунт лиха. Ты бы, Перекориль, если бы рос в холе, верно, и читал бы лишь по складам – все блажил бы да ленился и никогда бы не стал таким хорошим королем, каким будешь теперь. А тебе, Розальба, лесть вскружила бы голову, как Анжелике, которая возомнила, будто Перекориль ее недостоин.
Вдруг в залу вбежал гонец с криком:
– Государь, враги!
Принц поцеловал Розальбу и поспешил на поле брани.
Войска Заграбастала были разбиты. Что же касается короля, он сбросил с коня своего главнокомандующего и умчался на его лошади. Но кто-то несся еще быстрее; и этот кто-то был Перекориль.
Заграбастал обернулся и с размаху обрушил на голову противника свой боевой топор. Удар пришелся прямо по шлему его величества, но причинил ему не больше вреда, чем если бы его шлепнули кружком масла. Перекориль разразился презрительным смехом.
– Сдаешься? – спросил он.
А что еще оставалось незадачливому Заграбасталу?
Николай Георгиевич Гарин-Михайловский
Посвящается моей племяннице Ниночке
Была когда-то на свете (а может, и теперь есть) маленькая, потертая, грязная книжка. В этой книжке таилась волшебная сила. Кто брал ее в руки, тот делался добрым, веселым, хорошим, и главное – тот начинал любить всех и только и думал о том, как бы и всем было так же хорошо, как и ему. Купец не обманывал больше, богатый думал о бедных, большой барин больше не думал, что он не ошибается и что в его голове может поместиться весь мир. И все потому, что тот, кто держал книжку волшебную, любил в эту минуту других больше, чем себя. Но когда книжка случайно выпадала из рук того, кто держал ее, он опять начинал думать только о себе и ничего больше не хотел знать. И если книжка вторично попадалась на глаза, ее отбрасывали ногами, а то и с помощью щипцов бросали в огонь. Книжка как будто сгорала, все успокаивались, но так как книжка была волшебная, то она сгореть никогда не могла и опять попадалась кому-нибудь на глаза.
Как-то раз был веселый праздник. Все, кто мог, радовались. Но маленький больной мальчик не радовался. Его всегда мучили всякие болезни, и давно уж весь мир казался ему аптекой, а все незнакомые люди докторами, которые вдруг начнут насильно пичкать его разными горькими лекарствами.
Никто этого не любит, и вот почему мальчик, в то время как все дети веселились, шел, гуляя со своей няней, такой же грустный и скучный, как и всегда. У него была большая тяжелая голова, которая перетягивала его, и поэтому ему легче было смотреть вниз, и, может быть, вследствие этого он и увидел маленькую грязную книжку. И хотя няня и тянула его за руку вперед, он все-таки настоял на своем и поднял книжку.
Он держал ее, и чем крепче прижимал к себе, тем веселее становилось у него на душе. Когда он пришел домой и увидел мать, он закричал радостно: «Мама!» – и побежал к ней. И хотя по дороге выскочил папа, который читал в это время одну очень умную книгу о том, как надо обращаться с детьми, и крикнул сердито своему капризному сыну: «Не можешь разве не кричать?» – мальчик не обиделся и понял, что папа кричит оттого, что у него нет такой же книжки, какая была у него.
И тетя, увидав его веселого, не смогла удержать своего восторга, бросилась и начала его так больно целовать, что в другое время мальчик опять бы расплакался, но теперь он только сказал:
– Милая тетя, мне больно, пусти меня, пожалуйста.
И хотя тетя еще сильнее от этого стала его тормошить, он терпел, потому что понимал теперь, что тетя любит его и сама не понимает, что делает ему своей любовью больно. Когда наконец мальчик прибежал к матери, он показал ей свою книжку и сказал счастливый, приседая и заглядывая ей в глаза:
– Книжка…
Мать не знала, конечно, какая это книжка, но она видела, что сын ее счастлив, а чего ж больше матери надо? Она захотела только еще прибавить ему немного счастья и, погладив его по голове, ласково проговорила:
– Милый мой мальчик.
Да, мальчик был очень счастлив, и, когда няня, укладывая его спать, взяла было у него книжку, он так начал плакать, что няне пришлось возвратить ему книжку, и мальчик так и заснул с ней.
А ночью к нему прилетела волшебница фея и сказала:
– Я фея счастья. Многим я давала свою книжку, и все были счастливы, когда держали ее; но, когда я брала опять ее от них, они не хотели второй раз принимать эту книжку от меня. Ты, маленький мальчик, первый, который захотел взять ее обратно. И за это я тебе открою секрет, как сделать всех счастливыми. И хотя ты еще очень маленький мальчик, но ты поймешь, потому что у тебя доброе сердце.
И так как именно этого хотел мальчик, потому что такова уж была сила волшебной книжки, то он и сказал фее:
– Милая фея! Я очень хочу, чтоб все, все были так же счастливы, как я: и мама, и папа, и тот плотник, который сегодня приходил просить работы, и та старушка, которая, помнишь, шла и плакала оттого, что ей есть нечего, и тот мальчик, который просил у меня милостыни… все, все, добрая фея!
– А если б для того, чтобы все были счастливы, тебе пришлось бы умереть?.. Хочешь знать секрет?
– Хочу!
– Тогда идем!
И прекрасная фея протянула мальчику руку, и они пошли.
Они вышли на улицу и долго шли. Когда город остался позади, фея показала ему вверх, и хотя было темно, но там, на верху горы, высоковысоко, ярко горели окна волшебного замка.
Фея нагнулась к мальчику и сказала:
– Вот что надо сделать, чтобы все были счастливы. Там, в этом замке, спит заколдованная царевна. Чтобы все были счастливы, надо разбудить ее. Но это не так легко: сон царевны стережет злой волшебник. Ты видишь перед нами ту большую дорогу, освещенную огнями, что идет прямо в гору? Видишь, сколько идет по этой дороге детей? Многие из них идут туда, в замок, с тем, чтобы разбудить царевну, но никто не разбудит! Это волшебная дорога: по мере того как они подымаются в гору, их сердца каменеют, и, когда они приходят наверх со своими каменными сердцами, они забывают, зачем пришли, и злой волшебник громко смеется и бросает их в виде камней вон в ту темную сторону, откуда слышны эти крики, плач и стоны.
– Это кто кричит?
– Те, которые ходят во тьме и в грязи. Они кричат, потому что им страшно и скучно во тьме, кричат, потому что они в грязи, потому что хотят есть, кричат, потому что надеются, что проснется царевна и услышит их голодные крики. Злой волшебник смеется и бросает им вместо хлеба каменных людей, которые, падая, убивают их, а они, не видя в темноте ничего, думают, что это камни летят в них с неба или кто-нибудь из них же бросает их, и тогда они убивают друг друга.
– А зачем волшебник так делает?
– Он должен их мучить, потому что только этим темным местом и можно прийти к дороге, ведущей в замок, к дороге, над которой уже не властна сила волшебника. Но об этом никто не знает, и пока там и темно, и грязно, и страшно – все хотят попасть на ту освещенную, но заколдованную дорогу. Какой хочешь идти дорогой? Той ли, где темно и грязно и нет таких нарядных и веселых детей, какие идут по этой большой прямо в гору дороге?
– Этой, – мальчик показал в темную и грязную сторону.
– Ты не боишься? Там злые дети, они ходят в темноте взад и вперед и, не зная дороги, кричат и убивают друг друга; там может убить тебя камень волшебника. Пойдешь?
– Да.
– Идем.
Они пошли, и мальчик увидел вокруг себя страшные лица злых детей.
– Дети! Идите за мной! Я знаю дорогу!
– Где, где?
– Сюда, сюда, идите за мной!
– Но разве есть другая дорога, кроме той, по которой идут те счастливые дети?
– Ах, нет, той дорогой не идите. За мной идите!
– Но ты, как и мы, идешь без дороги?
– Нет, здесь есть дорога… Идите… со мной фея.
– А, глупый ты мальчик, мы устали, и мы есть хотим… Есть у тебя хлеб?
– У меня есть книжка счастья.
– О, да он совсем глупый… затопчем его в грязь с его глупой книжкой!
– Хочешь, улетим? – наклонилась к мальчику фея.
– Нет, не хочу… Они затопчут меня, но ведь книжка останется здесь… Это хорошо, милая фея, и ты того, кто подымет ее, поведешь дальше, не правда ли?
Мальчик не слышал ответа: злые дети уж бросились на него… Они думали, что затоптали и мальчика, и его книжку. Но книжку нашли другие и пошли дальше, а когда все ушли, фея вынула мальчика из грязи, обмыла его и отнесла в замок к царевне.
Он не умер, он спит там в замке рядом с царевной, и ему снятся хорошие сны. Добрая фея рассказывает их ему, когда прилетает с грязной и темной дороги, по которой хоть тихо, а все идут и несут книжку счастья в заколдованный замок.
И когда принесут наконец книжку – проснутся царевна и мальчик, погибнет злой волшебник, а с ним исчезнет и мрак, – и увидят тогда люди, что для всех есть счастье на земле.
Ему много дано!..
Он родился, рос в пышном замке, окруженном великолепными садами. Он княжеский сын, богат, молод, силен, красив. Кроме всех этих благ, он одарен необыкновенным талантом: он скрипач. Еще в ранней молодости, едва держа крошечной ручкой смычок, он исторгал из скрипки дивные звуки. Родители, души в нем не чая, окружили его чрезвычайной заботливостью. Он рос, как нежный цветок в теплице: ни бури, ни грозы, ни ненастья.
Наконец-то!
Он вырос. Он знаменит. Какое счастье! Он – гордость всего своего княжеского рода. Вельможи в восторге от его игры. Знатные дамы наперерыв стараются овладеть его вниманием. Тщетно: он горд, недоступен и беспечен. Но вот в душу его вкралась любовь. Как нежный напиток, она согревала, веселила и опьяняла. Долго молча любовался он красавицей. Наконец, не вытерпел. Признался и… был отвергнут. Кем отвергнут? Бедной девушкой, цветочницей, которая случайно заходила в замок.
Юноша на все ласки, на все уверенья, что безгранично любит ее, получал один и тот же ответ:
– Обманешь!
– Что это значит?!
– Ты не понимаешь, что значит обман?
– Нет!
Девушка недоверчиво качала головой. Он действительно не понимал. Рожденный в богатстве, он с пеленок ни в ком и ни в чем не нуждался.
Его никогда не стесняли, не запугивали. Ему не приходилось быть в таком состоянии, когда возможен обман. Ему было чуждо это чувство, было чуждо и название этого чувства.
Наконец, чтоб покорить сердце молодой красавицы, он схватил свою скрипку. Он заранее торжествовал победу: его игра не раз приводила в восторг избраннейшую публику. Он заиграл. Льются прелестные звуки! Мягкие, словно теплые воздушные волны, они нежат, голубят, умиротворяют. Он кончил играть. Девушка молчала. Он был поражен. Он ожидал восторга, радости. А тут… гробовое молчание. Он недоумевал.
– Что же, не нравится тебе?
– А тебе нравится?
– Ни перед кем еще не играл я с таким увлечением, как перед тобой, – с жаром произнес юноша.
– И слушатели всегда восхищались? – насмешливо спросила девушка.
– Да!
– А знаешь почему?
– Почему?
– Потому что ты и твои слушатели сытые, довольные.
– Какие же тебе звуки нужны?
– Какие?.. Слезы, стоны, презренье, ненависть, проклятье!
Он снова начал играть, стараясь все это выразить звуками.
Ничего не выходило: он не знавал ни слез, ни стона, ни презренья, ни проклятья.
Девушка меж тем убежала. Юноша испытывал нечто совсем ему незнакомое, чему и названья не знал. Это была тоска, безысходная, сосущая тоска. Ему разом опротивело все. Он вышел из замка и пошел бесцельно бродить. Долго молча он ходил. Грусть все более им овладевала. Из глубины души у него вырвался звук. Он инстинктивно понял, что его называют «стоном». Наступила ночь. Юноша все шел да шел и незаметно для себя очутился в городе. Он раньше часто бывал в городе, но ему показалось, что он впервые сюда попал. Мальчиком он ездил по нем кататься в сопровождении старших: отца, матери. Взрослым он являлся с особенной целью: изучать древности города. Он прекрасно знал развалины старого города, но совершенно не был знаком с теперешним. Масса движущихся людей, шум, гам, крики, все это поражало его своей новизной. Больше же всего его удивляли женщины. То и дело они приставали к нему, настойчиво зовя к себе. Наконец одна старая, некрасивая прямо взяла его под руку и увлекла за собой. Юноше захотелось узнать, чем это кончится, и он не сопротивлялся.
По дороге она успела рассказать, что у нее двое детей; кормиться нечем, – вот и приглашает к себе гостей… «Деньги нужны!» – сказала она таким тоном, что ему и страшно и гадко стало. Они вошли в грязную комнату одного большого дома. При их входе двое маленьких детей бросились под кровать.
– Они нам не помешают, – сказала женщина.
Он был ошеломлен. Стены замка долго не давали действительной жизни коснуться до него. Теперь же эта жизнь, словно бурный поток, ворвалась… Эти жалкие дети, эта женщина – все это вместе словно обухом по голове ударило его. Он в изнеможении опустился на единственный стул в комнате.
– И я была молода, – меж тем говорила женщина, – такой же красавчик, как ты, полюбил, обольстил… Вот дети… бросил.
Он вдруг почувствовал, что мог бы задушить собственными руками обольстителя. В нем что-то кипело, он понял, что это именно и есть презрение, ненависть, проклятье. Невольно вспомнилась ему красавица девушка. «Сколько, – думал юноша, – несчастная выстрадала, когда спокойные звуки ей противны!» В этот миг ему самому были чужды эти звуки.
В это время раздались голоса в соседней комнате. Две женщины спорили. Одна старческим голосом твердила: «Ты не права. Быть может, он любит, не обманет». – «Нет, – закричал кто-то в ответ, – всех ненавижу, презираю: надругаются, а потом бросят, будь они прокляты!»
– Чей это голос, чей? – вырвалось у юноши.
– Это дочь хозяйки, цветочница, она…
Он уже не слушал, сильным движением руки толкнул он дверь; она раскрылась. Посреди комнаты, с распущенными волосами, словно виденье, стояла любимая им девушка. Их взгляды встретились. Раздался нечеловеческий крик. Девушка, как подкошенная, пала замертво.
Юношей в первый раз в жизни овладело отчаяние, и он зарыдал.
* * *
Вот он, бледный, измученный…
Толпа говорлива, шумлива. Лишь только взовьется его смычок – смолкло все. Затаили дыханье. Льются новые звуки…
В них столько кротости, покорности, мольбы, сколько в восторженной молитве. Кажется, кто-то коленопреклоненный, забыв весь мир, призывает неземные силы услышать, помочь… А вот и слезы… Чудится, кто-то жалобно-жалобно плачет, словно стонет… умирает… Умер!.. Замер и аккорд.
Толпа очнулась. Крик, рукоплесканья… Ряд новых звуков заглушает и этот шум, и эти рукоплесканья. Это уже не мягкие, спокойные звуки, это скорее крик наболевшей души. В этом крике слышатся и презрение, и ненависть, и проклятье!
Эти звуки не усыпляют, а будят душу, на борьбу вызывают…
Ему дались эти новые звуки потому, что сам он много выстрадал, много перечувствовал.
О Зине, о еде, о корове и т. п.
Моя хозяйка Зина больше похожа на фокса, чем на девочку: визжит, прыгает, ловит руками мяч (ртом она не умеет) и грызет сахар, совсем как собачонка. Все думаю – нет ли у нее хвостика? Ходит она всегда в своих девочкиных попонках; а в ванную комнату меня не пускает – уж я бы подсмотрел.
Вчера она расхвасталась: видишь, Микки, сколько у меня тетрадок. Арифметика – диктовка – сочинения… А вот ты, цуцик несчастный, ни говорить, ни читать, ни писать не умеешь.
Гав! Я умею думать – и это самое главное. Что лучше: думающий фокс или говорящий попугай? Ага!
Читать я немножко умею – детские книжки с самыми крупными буквами.
Писать… Смейтесь, смейтесь (терпеть не могу, когда люди смеются)! – писать я тоже научился. Правда, пальцы на лапах у меня не загибаются, я ведь не человек и не обезьяна. Но я беру карандаш в рот, наступаю лапой на тетрадку, чтобы она не ерзала, – и пишу.
Сначала буквы были похожи на раздавленных дождевых червяков. Но фоксы гораздо прилежнее девочек. Теперь я пишу не хуже Зины. Вот только не умею точить карандашей. Когда мой иступится, я бегу тихонько в кабинет и тащу со стола отточенные людьми огрызочки.
Ставлю три звездочки. Я видал в детских книжках: когда человек делает прыжок к новой мысли, он ставит три звездочки…
Что важнее всего в жизни? Еда. Нечего притворяться! У нас полон дом людей. Они разговаривают, читают, плачут, смеются – а потом садятся есть. Едят утром, едят в полдень, едят вечером. А Зина ест даже ночью – прячет под подушку бисквиты и шоколадки и потихоньку чавкает.
Как много они едят! Как долго они едят! Как часто они едят. И говорят еще, что я обжора…
Сунут косточку от телячьей котлетки (котлетку сами съедят!), нальют полблюдца молока – и все.
Разве я пристаю, разве я прошу еще, как Зина и другие дети? Разве я ем сладкое: клейстер, который называется киселем, или жидкую гадость из чернослива и изюма, или холодный ужас, который они называют мороженым? Я деликатнее всех собак, потому что я породистый фокс. Погрызу косточку, съем, осторожно взяв из рук Зины, бисквит, и все.
Но они… Зачем эти супы? Разве не вкуснее чистая вода?
Зачем эти горошки, морковки, сельдерейки и прочие гадости, которыми они портят жаркое?
Зачем вообще варить и жарить?
Я недавно попробовал кусочек сырого мяса (упал на кухне на пол – я имел полное право его съесть!)… Уверяю вас, оно было гораздо вкусней всех этих шипящих на сковородке котлет…
И как было бы хорошо, если бы не варили и не жарили! Не было бы кухарок: они совсем не умеют обращаться с порядочными собаками. Ели бы все на полу, без посуды, – мне было бы веселей. А то всегда сидишь под столом, среди чужих ног. Толкаются, наступают на лапы. Подумаешь, как весело!..
Или еще лучше – ели бы на траве перед домом. Каждому по сырой котлетке. А после обеда все бы барахтались и визжали, как Зина со мной… Гав-гав!
Меня называют обжорой (выпил глоток молока из кошкиного блюдца, подумаешь)…
А сами… После супа, после жаркого, после компота, после сыра – они еще пьют разноцветные штуки: красную – вино, желтую – пиво, черную – кофе… Зачем? Я зеваю под столом до слез, привык около людей околачиваться, а они все сидят, сидят, сидят… Гав! И все говорят, говорят, говорят, точно у каждого граммофон в животе завели.
Три звездочки.
Новая мысль. Наша корова – дура. Почему она дает столько молока? У нее один сын – теленок, а она кормит весь дом. И чтоб давать столько молока, она весь день ест, ест свою траву, даже смотреть жалко. Я бы не выдержал. Почему лошадь не дает столько молока? Почему кошка кормит своих котят и больше ни о ком не заботится?
Разве говорящему попугаю придет в голову такая мысль?
И еще. Почему куры несут столько яиц? Это ужасно. Никогда они не веселятся, ходят, как сонные мухи, летать совсем разучились, не поют, как другие птицы… Это все из-за этих несчастных яиц.
Я яиц не терплю. Зина – тоже. Если бы я мог объясниться с курами, я бы им отсоветовал нести столько яиц.
Хорошо все-таки быть фоксом: не ем супа, не играю на этой проклятой музыке, по которой Зина бегает пальцами, не даю молока и «тому подобное», как говорит Зинин папа.
Трах! Карандаш надломился. Надо писать осторожнее – кабинет на замке, а там все карандаши.
В следующий раз сочиню собачьи стихи – очень это меня интересует.
Стихи, котята и блохи
Взрослые всегда читают про себя. Скучные люди – эти взрослые, вроде старых собак. А Зина – читает вслух, нараспев и все время вертится, хлопает себя по коленке и показывает мне язык. Конечно, так веселей. Я лежу на коврике, слушаю и ловлю блох. Очень это во время чтения приятно.
И вот я заметил, что есть такие штучки, которые Зина совсем по-особому читает – точно котлетки рубит. Сделает передышку, языком прищелкнет и опять затарахтит. А на конце каждой строчки – ухо у меня тонкое – похожие друг на друга кусочки звучат: «дети – отца, сети – мертвеца»… Вот это и есть стихи.
Вчера весь день пролежал под диваном, даже похудел. Все хотел одну такую штучку сочинить. Придумал – и ужасно горжусь.
По веранде ветер дикий
Гонит листья все быстрей.
Я веселый фоксик Микки,
Самый умный из зверей!
Замечательно! Сочинил и так волновался, что даже не мог обедать. Подумайте! Это первые в мире собачьи стихи, а ведь я не учился ни в гимназии, ни в «цехе поэтов»… Разве наша кухарка сочинит такие стихи? А ведь ей сорок три года, а мне только два. Гав! Эта кубышка Зина и не подозревает, кто у нее живет в доме… Запеленала меня в салфетку, уткнула в колени и делает мне замшевой притиралкой маникюр. Молчу и вздыхаю. Разве девочка что-нибудь путное придумает?
И вот, лежа пробовал прочесть про себя свои стихи наоборот. Тяв! Может быть, так еще звончей будет?..
Дикий ветер веранде по
Быстрей все листья гонит…
Микки фоксик веселый я,
Зверей из умный самый…
Ай-яй-яй! Что же это такое?
Котята! Скажите пожалуйста!.. Их мать, хитрая тварь, исчезает в парке на весь день: шмыг – и нету, как комар в елке. А я должен играть с ее детьми… Один лижет меня в нос. Я тоже его лизнул, хотя зубы у меня почему-то вдруг щелкнули… Другой сосет мое ухо. Мамка я ему, что ли? Третий лезет ко мне на спину и так царапается, словно меня теркой скребут. Р-р-р-р! Тише, Микки, тише… Зина хохочет и захлебывается: ты, говорит, их двоюродный папа.
Я не сержусь: надо же им кого-нибудь лизать, сосать и царапать… Но зачем же эта девчонка смеется?
Ах, как странно, как странно! Сегодня бессовестная кошка вернулась наконец к своим детям. И знаете, когда они бросили меня и полезли все под свою маму – я посмотрел из-под скатерти, задрожал всей шкурой от зависти и нервно всхлипнул. Непременно напишу об этом стишок.
Ушел в аллею. Не хочу больше играть с котятами! Они не оценили моего сердца. Не хочу больше играть с Зиной! Она вымазала мне нос губной помадой…
Сделаюсь диким фоксом, буду жить на каштане и ловить голубей. У-у-у!
* * *
Видел на граммофонной пластинке нацарапанную картинку: фокс сидит перед трубой, склонил голову набок, свесил ухо и слушает. Че-пу-ха! Ни один порядочный фокс не будет слушать эту хрипящую, сумасшедшую машину. Если бы я был Зинин папа, уж я бы лучше держал в гостиной корову. Она ведь тоже мычит и ревет, да и доить ее удобней дома, чем бегать к ней в сарай. Странные люди…
С Зиной помирился: она катала по паркету игрушечный кегельный шар, а я его со всех ног ловил. Ах, как я люблю все круглое, все, что катится, все, что можно ловить!..
Но девочка… всегда останется девочкой. Села на пол и зевает: «Как тебе, Микки, не надоест сто раз делать одно и то же?»
Да? У нее есть кукла, и книжки, и подруги, папа ее курит, играет в какие-то дурацкие карты и читает газеты, мама ее все время одевается и раздевается… А у меня только мой шар – и меня еще попрекают!
Ненавижу блох. Не-на-ви-жу. Могли бы, кажется, кусать кухарку (Зину мне жалко), так нет – целый день грызут меня, точно я сахарный… Даже с котят все на меня перескочили. Ладно! Пойду в переднюю, лягу на шершавый коврик спиной книзу и так их разотру, что они в обморок попадают. Гав-гав-гав!
Затопили камин. Смотрю на огонь. А что такое огонь – никому не известно.
Фокс Микки, Собака-поэт, Умнее которой в мире нет…
Разные вопросы, мой сон и мои собачьи мысли
Вопросом называется такая строчка, в конце которой стоит рыболовный крючок – вопросительный знак.
Меня мучают пять вопросов. Почему Зинин папа сказал, что у него «глаза на лоб полезли»? Никуда они не полезли, я сам видел. Зачем же он говорит глупости? Я прокрался к шкафу, сел перед зеркалом и изо всех сил закатил кверху глаза. Чушь! Лоб вверху и глаза на своем месте.
Живут ли на Луне фоксы, что они едят и воют ли на Землю, как я иногда на Луну? И куда они деваются, когда лунная тарелка вдруг исчезает на много дней неизвестно куда?.. Микки, Микки, ты когда-нибудь сойдешь с ума!
Зачем рыбы лезут в пустую сетку, которая называется вершей? Раз не умеешь жить над водой, так и сиди себе тихо в пруду. Очень мне их жалко! Утром плавали и пускали пузыри, а вечером перевариваются в темном и тесном человеческом желудке. Да еще гнусная кошка все кишочки по саду растаскала…
Почему Зинина бонна все была брюнеткой, а сегодня у нее волосы как соломенный сноп? Зина хихикнула, а я испугался и подумал: хорошо, Микки, что ты собака… Женили бы тебя на такой попугайке: во вторник она черная, в среду – оранжевая, а в четверг – голубая с зелеными полосками… Фу! Даже температура поднялась.
Почему, когда я себя веду дурно, на меня надевают намордник, а садовник два раза в неделю напивается, буянит, как бешеный бык, – и хоть бы что?! Зинин дядя говорит, что садовник был контужен и поэтому надо к нему относиться снисходительно. Непременно узнаю, чтотакое «контужен», и тоже контужусь. Пусть ко мне относятся снисходительно. Пойду догрызу косточку (я спрятал ее… где?., а вот не скажу!). Потом опять попишу.
Ах, что я видел во сне! Будто я директор собачьей гимназии. Собаки сидят по классам и учат «историю знаменитых собак», «правила хорошего собачьего поведения», «как надо есть мозговую кость» и прочие подходящие для них штуки.
Я вошел в младший класс и сказал: «Здравствуйте, цуцики!» – Тяв, тяв, тяв, господин директор! – «Довольны вы ими, мистер Мопс?» Мистер Мопс, учитель мелодекламации, сделал реверанс и буркнул: пожаловаться не могу. Стараются. «Ну, ладно. Приказываю моим именем распустить их на полчаса».
Боже мой, что тут поднялось! Малыши бросились на меня всей ватагой. Повалили на пол… Один вылил на меня чернильницу, другой уколол меня пером в кончик хвоста – ай! Третий стал тянуть мое ухо вбок, точно я резиновый… Я завизжал, как паровоз, – и проснулся. Луна. На полу сидит таракан и подъедает брошенный Зиной бисквит. За окном хлопает ставня. Уй-юй-юй!..
Зинина комната на запоре. Я прокрался в закоулок за кухней и свернулся на коврике у кухаркиной кровати. Конечно, я ее не люблю, конечно, она храпит так, что банки дребезжат на полке, конечно, она высунула из-под одеяла свою толстую ногу и шевелит во сне пальцами… Но что же делать?
Окно побелело, а я все лежал и думал: что означает мой сон? У кухарки есть затрепанная книга – «сонник». Она часто перелистывает ее пухлыми пальцами и все вычитывает по складам про какого-то жениха. Подумаешь, кто на такой сковородке женится?..
Но что мне «сонник»? Собачьих снов в нем все равно нету… А может быть, сон был мне в руку? То есть в лапу.
* * *
Мысли.
Вода замерзает зимой, а я каждое утро. Самое гнусное человеческое изобретение – ошейники, обтянутые собачьей кожей. Зачем наш сосед пашет землю и сеет хлеб, когда рядом с его усадьбой есть булочная? Когда щенок устроит совсем-совсем маленькую лужицу на полу – его тычут в нее носом; когда же то же самое сделает Зинин младший братишка, пеленку вешают на веревочку, а его целуют в пятку… Тыкать – так всех! Дрался с ежом, но он нечестный: спрятал голову и со всех сторон у него колючий зад. Р-р-р! Это что ж за драка?.. Ел колбасу и проглотил нечаянно колбасную веревочку. Неужели у меня будет аппендицит?!
Зина пахнет миндальным молоком, мама ее – теплой булкой, папа – старым портфелем, а кухарка… многоточие…
Больше мыслей нету. Взы! Почему никто не догадается дать мне кусочек сахару?
Осенний кавардак
Осень. Хлюпает дождик. Как ему не надоест целый день хлюпать? Желтые листья все падают, и скоро деревья будут совсем лысые. А потом пойдут туманы – большая собака заберется в будку и будет храпеть с утра до вечера. Я иногда хожу к ней в гости. Но она глупая и необразованная: когда я с ней играю и осторожно цапаю ее за хвост, она бьет меня лапой по голове и хватает зубами поперек живота. Деревенщина! Туманы – туманы – туманы. Грязь – грязь – грязь. И вдруг потянет теплом. Налетят со всех сторон сумасшедшие птицы. Небо станет, как вымытая Зинина голубая юбка, и на черных палках покажутся зеленые комочки. Потом они лопнут, развернутся, зацветут… Ох, хорошо! Это называется – весна.
Деревья, вот даже старые, молодеют каждую весну. А люди и взрослые собаки – никогда. Отчего? Вот Зинин дядя совсем лысый, вся шерсть с головы облезла, точь-в-точь – бильярдный шар. А вдруг бы у него весной на черепе зеленая травка выросла? И цветочки?
Или чтоб у каждой собаки в апреле на кончике хвоста бутон распускался?..
Все бы я на свете переделал. Но что же может маленький фокс?
А в доме – кавардак. Снимают ковры, пересыпают каким-то на-фта-ли-ном. Ух, как от него чихаешь! Я уж в комнаты и не хожу. Лежу на веранде и лапой тру нос. Ведь я же всегда хожу босиком, к лапам и пристает. Прямо несчастье!
* * *
Зина собирает свои книжки и мяучит. Братец ее лежит в своей колясочке перед клумбой и визжит, как щенок. И только я, фокс Микки, кашляю, как человек, скромно и вежливо: у меня бронхит. Пусть, пусть собирается. Ни за что я в Париж не поеду. Спрячусь у коровы в соломе – не разыщут. Ну что там в Париже, подумайте? Был один раз, возили к собачьему доктору. Улиц – миллион, а миллион – это больше, чем десять. Куда ни посмотришь – ноги, ноги и ноги. Автомобили, как пьяные носороги, летят, хрипят – и все на меня!.. Я уж Зининой юбки из зубов не выпускал. Цепочка тянет, намордник жмет. Как они могут жить в таком карусельном городе!..
Ни за что! Чтоб я сидел у окна и смотрел на вывеску с дамской ногой? Чтоб меня консьержка называла «поросеночком»? Чтоб меня гоняли с кресел и с дивана?! Чтоб меня попрекали, что я развожу в доме блох?! Я ж их не фабрикую – они сами разводятся…
О, какие там гнусные собаки! Бульдоги с растопыренными лапами, вывороченной мордой и закушенными языками; полосатые доги, похожие на мясников; мопсы вроде жаб, зашитых в собачью шкуру; болоночки – волосатые насекомые с висячими ушами и мокрыми глазами… Фу! Гав-гав! Фу! Отчего это собаки такие разные, а кошки все на один фасон? И знаете – это, впрочем, Зина сказала, – они все похожи друг на друга: хозяева на своих собак и собаки на своих хозяев. А Микки и Зина? Что ж, и мы похожи, только бантики у нас разные: у нее зеленый, а у меня желтый.
Ах, как из дверей дует! Пальто на диване, а укрыться не умею. Нет, что ни говори – руки иногда вещь полезная.
Грузовик забрал вещи. В столовой – бумаги и сор. Зачем это люди переезжают с места на место? Дела, уроки, квартира… «Собачья жизнь!» – говорит Зинин папа. Нет уж, собачья лучше, это позвольте мне знать.
Меня оставляют. Подружусь с дворовой собакой, ничего не поделаешь. Зина говорит, чтоб я не плакал, обещает раз в неделю приезжать, если я буду себя хорошо вести. Буду! Очень я ее люблю: я ее сегодня лизнул в глаз, а она меня в нос. Чудесная девочка!
Садовнику приказали меня кормить. Пусть попробует не кормить – я у него все бутылки перебью! Да и мясник меня любит: каждый раз, когда приезжает, что-нибудь даст. Котята выросли, быстро это у них делается… Совсем меня забыли и носятся по парку как оглашенные (что это такое «оглашенные»?). Придется и с ними подружиться…
Но самое обидное – кончается мой последний карандашный огрызок. А с письменного стола все убрали. Ах, зачем я не догадался взять про запас! Прощай, мой дневник… Я уж Зину так умолял, так умолял – за платье дергал, перед письменным столом служил, но она не понимает и все мне шоколадки в рот сует. Вот горе! Без рук тяжело, а без языка – из лап вон плохо!..
Моя золотая-серебряная-бриллиантовая тетрадка. Суну тебя под шкаф, лежи там до будущей весны… Ай-яй! Гав! Зина заметила, что я пишу… Идет ко мне! Отнима…
Я один
В доме никого нет. Во все щели дует собачий ветер (почему собачий?). Вообще, ветер дурак: дует в голом парке, а там и сорвать нечего. На дворе еще кое-как с ним справляюсь: стану спиной к ветру, голову вниз, ноги расставлю – и «наплевать», как говорит садовник. А в комнате никуда от этого бандита не спрячешься. Врывается из-под двери, сквозь оконные щелочки, сквозь каминную дыру, и так пищит, и так скулит, и так подвывает, точно его мама была собакой. Ни морды, ни глотки, ни живота, ни зада у него нет. Чем он дует – понять не могу…
Забираюсь под диванную подушку, закрываю глаза и стараюсь не слушать.
Отдал бы полную чашку с овсянкой (ужасная гадость!), если бы мне кто-нибудь объяснил, зачем осень, зачем зима? В аллее такая непроходимая грязь, какую я видал только под носорогом в зоологическом саду. Мокро. Голые ветки хлопают друг о друга и чихают. Ворона, облезшее чучело, дразнится: кра! – почему тебя не взяли в город?
Потому что сам не захотел! А теперь жалко, но держусь молодцом. Вчера только поплакал у камина, очень уж гадко в темноте и сырости. Свечку нашел, а зажечь не умею. У-у-у!
Скребутся мыши. Хотя фоксам это не полагается, но я очень люблю мышей. Чем они виноваты, что они такие маленькие и всегда хотят есть?
Вчера один мышонок вылез и стал катать по полу прошлогодний орех. Я ведь тоже люблю катать все круглое. Очень хотел поиграть с ним, но удержался: лежи, дурак, смирно! Ты ведь большой, как слон, – напугаешь малыша, и он больше не придет. Разве я не умница?
Сегодня другой до того осмелел, что взобрался на диван и понюхал мою лапу. Я прикусил язык и вздрогнул. Тяф! Как я его люблю!
Вот только как их отличать одного от другого?..
Если кошка посмеет их тронуть, я ее загоню на самую высокую елку и целый день сторожить буду… Гав! Дрянь! Ненавижу!..
Почему елки всю зиму зеленые? Думаю, потому, что у них иголочки. Ветру листья оборвать не шутка, а иголочки – попробуй! Они тоненькие – ветер сквозь них и проходит, как сквозь решето…
* * *
К садовнику не хожу. Он сердится: почему у меня лапы всегда в грязи? В сабо мне ходить, что ли?
Ах, ах… Одна только радость – разыскал в шкафу позабытую сигарную коробку с карандашами, стянул в буфетной приходо-расходную книжку и вот опять веду свой дневник.
Если бы я был человеком, непременно издавал бы журнал для собак!
До чего я исхудал, если бы вы знали. Зинина тетя была бы очень довольна, если бы была теперь похожа на меня. Она ведь все похудеть хочет. А сама целый день все лопает и затягивается.
Проклятый садовник и консьерж сговорились – съедают всю провизию сами, а мне готовят только эту ужасную овсянку. Дворовому псу дают большие кости и суп с черствым хлебом. Он со мной делится, но где ж мне разгрызть такую кость, когда она тверже утюга? А суп… Таким супом в бистро тарелки моют!
Даже молока жалеют, жадины! Молоко ведь дает корова, а не они. Уж я бы ее сам подоил: мы с ней дружны, и она мне всегда в глаза дышит, когда я прибегаю в сарай. Но как я ее буду доить моими несчастными лапами?..
Придумал штуку. Стыдно очень, но что ж делать – есть надо. Когда дождь утихнет, бегаю иногда в соседнее местечко к знакомому бистровщику. У него по вечерам под граммофон танцы. Пляшут фокстрот. Должно быть, собачий танец.
Я на задние лапки встану, живот подтяну, верчусь и головой киваю.
Все пары и танцевать бросят… В кружок соберутся и хохочут так, что граммофона не слышно.
И уж такую порцию мяса мне закажут, что я еле домой добираюсь. Да еще телячью косточку в зубах принесу на завтрак…
Вот до чего ради голода унижаться приходится!
Жаль только, что нет другой маленькой собачки. Мы бы с ней танцевали вдвоем и всегда были сыты.
* * *
Надо записать все свои огорчения, а то потом забуду.
Петух ни с того ни с сего клюнул меня в нос. Я только подошел поздороваться… Зачем же драться, нахал горластый?! Плакал, плакал, сунул нос в корытце с дождевой водой и до вечера не мог успокоиться…
Зина меня забыла!
В мою чашку с овсянкой забрался черный таракан, задохся и утонул. Какая мерзость! Птицы, кроме петухов, туда-сюда; кошки – гадость, но все-таки звери. Но кому нужны черные тараканы?!
На шоссе чуть не попал под автомобиль. Почему он не гудел на повороте?! Почему обрызгал меня грязью?! Кто меня отмоет? Ненавижу автомобили! И не по-ни-ма-ю…
Зина меня забыла!
Спугнул в огороде дикого кролика и налетел на колючую проволоку. Уй-ю-юй, как больно! Зина говорила, что, если порежешься ржавым железом, надо сейчас же смазаться йодом. Где я возьму йод? И йод ведь щиплет – я знаю…
Мыши проели в моем дневнике дырку. Никогда больше не буду любить мышей!
Зина меня забыла…
Сегодня нашел в бильярдной кусочек старого шоколада и съел. Это, правда, не огорчение, а радость. Но радостей так мало, что не могу же я для них отдельную страницу отводить.
Переезд в Париж
Вы любите чердаки? Я – очень. Люди складывают на чердаках самые интересные вещи, а по комнатам расставляют скучные столы и дурацкие комоды.
«Когда сердце мое разрывается от тоски», как говорит Зинина тетя, я прибегаю из голого парка, вытираю о диван лапы и бегу на чердак.
Над стеклом в потолке пролетают воробьи – они вроде мышей, только с крылышками. «Чик-чивик!» – «Доброе утро, силь ву пле!»
Потом здороваюсь со старой Зининой куклой. У нее чахотка, и она лежит в пыльной дырявой ванне, задрав кверху пятки. Я ее перевернул, чтобы все было прилично… Поговорил с ней о Зине. Да, конечно, сердце девочки – одуванчик. Забыла куклу, забыла Микки. А потом у нее появится дочка, и все начнется сначала… новая дочка, новая кукла, новая собачка. Апчхи! Как здесь пыльно!
Обнюхал разбитую люстру, лизнул резиновую собачку – у нее, бедной, в животе дыра… разорвал в клочки собачью плетку…
«И скучно, и грустно, и некому лапу пожать!»…
Если бы я был сильнее, я бы отодвинул старую ванну и устроил себе на чердаке комнату. Под раненый диван подставил бы попугайскую клетку – это моя спальня. На китайском бильярде устроил бы себе письменный стол. Он покатый – очень удобно писать!
Уборную устрою на крыше. Это и «гигиенично» и приятно. Буду лазить, как матрос, по лестничке в слуховое окошко.
А намордник свой заброшу в дымовую трубу!! Апчхи!.. Чихнул – значит, так и будет.
Ай! На шоссе экипаж… Чей? Чей? Чей? И-и-и! Зина приеха…
* * *
Третью неделю живу в Париже, – рю д'Ассомпсион (Успенская улица), дом 16. Третий этаж направо.
Вы бы меня и не узнали: лежу у камина на подушечке, как фарфоровая кошка. Пахнет от меня сиреневым мылом, сбоку зеленый галстук. На ошейнике – серебряная визитная карточка с адресом… Если бы я умел говорить, украл бы франк и купил себе манжетки.
Зина в школе… На соседнем балконе сидит преотвратительная собачонка. В ушах пакля, в глазах пакля, на губах пакля. Вообще, какая-то слезливая муфта, мусорная тряпка, собачья слепая кишка, пискливая дрянь! И знаете, как ее зовут? Джио-ко-нда… Морда ты, морда тухлая!
Когда никого нет на балконе, я ее дразню. Ух, как приятно! Становлюсь к ней задом и начинаю дергать задней ногой; пять минут дергаю.
Ах, какую она истерику закатывает! Как кот под автомобилем…
– Яй-яй-яй-и! Уй-уй-у-й-о! Ай-ай-ай-э!..
Катышком прибегает ее хозяйка, такая же коротенькая, лохматенькая, пузатенькая, живот на ходу застегивает, и, Боже мой, чего она не наговорит:
– Деточка моя, пупупусичка! Кто тебя оби-би-би-дел? Бедные мои глазочки! Чудные мои лапочки! Золотой, дорогой хвостичек!..
А я в комнату со своего балкона спрячусь, точно меня и на свете нет, по ковру катаюсь и лапами себя по носу бью. Это я так смеюсь.
Внизу, вверху, справа и слева играют на пианино. Я бы им всем на лапы намордники надел! Зина в школе. И зачем девочке так много учиться? Все равно вырастет, острижет волосы и будет на кушетке по целым дням валяться. Уж я эту породу знаю.
Вчера из усадьбы приезжал садовник. Привез яблоки и яйца. Лучшие отобрал для кухарки (знаем, знаем!), а худшие – для Зининых родителей. Поймите людей: носят очки, носят пенсне, а ничего у себя под носом не видят…
Прокрался в переднюю, встал на стул и положил ему в карман пальто рыбьих кишок… Пусть знает!
Был с Зиной в синема. Очень взволнован. Как это, как это может быть, чтобы люди, автомобили, дети и полицейские бегали по полотну?! И почему все серые, черные и белые? Куда же девались краски? И почему все шевелят губами, а слов не слышно?.. Я видел на чердаке в коробочке засушенных бабочек, но, во-первых, они не двигались, а во-вторых, они были разноцветные…
Вот, Микки, ты и дурак, а еще думал, что ты все понимаешь!
Представление было очень глупое: он влюбился в нее и поехал на автомобиле в банк. Она тоже влюбилась в него, но вышла замуж за его друга. И поехала на автомобиле к морю с третьим. Потом был пожар и землетрясение в ванной комнате. И качка на пароходе. И негр пробрался к ним в каюту. А потом все помирились…
Нет, собачья любовь умнее и выше!
Непременно надо изобрести синема для собак. Это же бессовестно – все для людей: и газеты, и скачки, и карты. И ничего для собак.
Пусть водят нас хоть раз в неделю, а мы, сложив лапки, будем культурно наслаждаться.
«Чужая кость»… «Похороны одинокого мопса»… «Пудель Боб надул мясника» (для щенков обоего пола)… «Сны старого дога»… «Сенбернар спасает замерзшую девочку» (для пожилых болонок)… «Полицейская собака Фукс посрамляет Пинкертона» (для детей и для собак).
Ах, сколько тем, Микки!.. Ты бы писал собачьи сценарии и ни в ком не нуждался…
Новый стишок:
На каштанах надулись почки, –
Значит, скоро весна.
У Зининой мамы болят почки,
Поэтому она грустна…
На пляже
Ах, как переменилась моя жизнь! Зина влетела в комнату, хлоп и – сделала колесом реверанс, ручки – птичками, глазки – вниз, и ляпнула:
– Микки! Мой обожаемый принц… мы едем к морю.
Я сейчас же полетел вниз, к консьержкиной болонке. Она родилась у моря и очень симпатично ко мне относится.
– Кики, муфточка… меня везут к морю. Что это такое?
– О! Это много-много воды. В десять раз больше, чем в люксембургском фонтане. И везде сквозняк. Моей хозяйке было хорошо, она могла затыкать уши ватой… Море то рычит, то шипит, то молчит. Никакого порядка! За столом очень много рыбы. Дети копаются в песке и наступают собакам на лапы. Но ты фокс: тебе будут бросать в воду палки, и ты их будешь вытаскивать…
– Чудесно!
– А когда ты устанешь, всегда возле моря на горке есть лес. Будешь разрывать кротовые норки и кататься по вереску.
– Это что за штука?
– Травка такая курчавенькая. Вроде бороды. Лиловенькие цветочки, и пахнет скипидарчиком.
– Ну, спасибо! Дай лапку. Что тебе привезти с моря?
– Утащи у какой-нибудь девчонки тепленький шарфик. Мой уже износился.
– Кики, я честный! Я не могу. Но сегодня у нас гости, я стащу для тебя шоколадного зайца.
– Мерси. Прощай, Миккочка…
Она ушла в угол и вытерла глаза о портьеру. Кажется, она в меня влюблена.
* * *
«В десять раз больше люксембургского фонтана…» У этих болонок нет никакого глазомера. В двадцать раз больше! До самого неба вода и больше ничего. И соленая, как селедка… Почему соленая? Дождик ведь пресный и ручеек в лесу, который все время подливает в море воду, тоже пресный. А?
Люди ходят голые, в полосатых и черных попонках. В дырки снизу вставляют ноги. Пуговицы на плече. Вообще – глупо. Я, слава Богу, купаюсь без костюма. Ах, что мы с Зиной выделываем в воде! Я лаю на прибой, а она бросает в меня мячик… Но он большой и скользкий, а рот у меня маленький. И никак его, черта, не прокусишь! Гав!
Подружился со всеми детьми. Есть такие маленькие, что даже не могут сказать «Микки» и зовут меня: «Ми»! Сидят голенькие на песке и пускают пузыри. А один все старается себе ногу в рот засунуть. Зачем?..
Я бегаю, вытаскиваю из воды детские кораблики, прыгаю через их песочные постройки, гоняюсь вперегонки с пуделем Джеком, и весь берег меня знает. Какой чудный фокс! Чей это фокс? Зинин? Замечательный фокс!..
Вчера подсмотрел. У детей никаких хвостиков нет. Напрасно я сомневался…
* * *
Теперь про взрослых. Мужчины ходят в белых костюмчиках. Полдня курят. Полдня читают газеты. Полдня купаются. Полдня снимаются. Плавают хорошо, но очень далеко заплывают. Я слежу с купальной лестницы и все волнуюсь: а вдруг утонет… Что я тогда должен делать?
Очень хорошо прыгают в воду с мостика. Руки по швам, голову вперед – и бум! Перевернется в воздухе рыбкой, руки вниз – и прямо в воду… Пена… Никого нет… И выплывет совсем в другом месте.
Я тоже взобрался на мостик и страшно-страшно хотел прыгнуть. Но так высоко! И так глубоко! Задрожал и тихонько спустился вниз. Вот тебе и Микки…
Дамы все переодеваются и переодеваются. Потом раздеваются, потом опять переодеваются. Купаться не очень любят. Попробует большим пальцем правой ноги воду, присядет, побрызгает на себя водой и лежит на берегу, как индюшка в гастрономической витрине.
Конечно, есть и такие, которые плавают. Но они больше похожи на мальчиков. Вообще, я ничего не понимаю.
Сниматься они тоже любят. Я сам видал. Одни лежали на песке. Над ними стояли на коленках другие. А еще над ними третьи стояли в лодке. Называется: группа… Внизу фотограф воткнул в песок табличку с названием нашего курорта. И вот нижняя дама, которую табличка немножко заслонила, передвинула ее тихонько к другой даме, чтобы ее заслонить, а себя открыть… А та передвинула назад. А первая – опять к ней. Ух, какие у них были злющие глаза!
Стишок:
Когда дамы снимаются
И заслоняются,
Они готовы одна другой
Дать в глаз ногой!..
Да! Что я узнал!.. Море иногда сходит с ума и уходит. Курорт ему надоедает или что, я не знаю. И на песке всякие ракушки и креветки и слизняки… Зина говорит, что это все морские глисты. А потом море соскучится и приходит назад. Называется «прилив – отлив».
Здешнее море люди почему-то называют океаном.
Я было как-то погнался за морем, когда оно уходило, но Зина привязала меня чулком к скамейке. Нелюбознательная девочка!
Вчера познакомился в соседнем русском пансионе с кухаркой Дарьей Галактионовной. Руки у нее толстые, как итальянская колбаса, но, в общем, она миленькая. Называет меня Микитой и все ворчит, что я с пляжа в кухню ей песок на лапах таскаю.
Песок вымести можно! Экая важность…
* * *
Еда так себе. Хотя я не интересуюсь: дети меня кормят шоколадом, котлетками и чем только хотите. Зина все просит, чтобы я так много не ел, а то у меня сделается ожирение сердца и меня придется везти в Мариенбад. А что, если бы был курорт для фоксов? Фоксенбад! Вот бы там открыть собачий кинематограф… Собачьи скачки, собачью рулетку, собачью санаторию для подагрических бульдогов… Умираю от злости! Почему, почему, почему для нас ничего не делают?
Кошек здесь нет. Ни одной кошки. Ни полкошки. Ни четвертькошки… Неужели они все пошли на котлетки? Брр! Нет, нет, я бегал на кухню, смотрел: куры, телячье мясо, баранина… А то бы я из курорта куда глаза глядят убежал!
Зина вчера мне устроила лунное затмение. Луна была такая круглая, огромная, бледная… Совсем как живот у нашего хозяина пансиона. Я задумался, загрустил и чуть-чуть-чуть подвыл. Только две-три нотки… А Зина взяла и надела мне на голову купальные штаны.
– Ты, – говорит, – не имеешь права после десяти часов выть!..
Но, во-первых, у меня нет часов, и даже кармана для них нет… А во-вторых… настроение от часов не зависит.
Хотел послать Кики открытку с приветом… Но консьержка ревнивая – не передаст.
В зоологическом саду
У Зининого папы всегда «дела». У людей так уж заведено – за все нужно платить. За виллу, за зонтик, за мясо, за булки, за ошейник… и даже, говорят, скоро на фоксов двойной налог будет.
А чтоб платить – нужны деньги. Деньги бывают круглые, металлические, с дырочками – это «су». Круглые без дырочек – это франки. И потом разные бумажные. Бумажные почему-то дороже и начинаются с пяти франков. Деньги эти как-то «падают», «поднимаются» – совершенно глупая история, но я не человек, и меня это не касается.
Так вот, чтоб иметь деньги, надо делать «дела». Поняли? И Зинин папа поехал на неделю в Париж, взял с собою Зину, а Зина – меня.
И пока ее папа «бегал» по делам (он почему-то по делам всегда бегает, никогда не ходит), Зина взяла меня на цепочку, села в такси (почему оно так скверно пахнет?) и поехала в Зоологический сад.
Сад! Совсем не сад, а просто тюрьма для несчастных животных. Подождите минуточку: у меня на спине сидит блоха… поймаю и расскажу все по порядку.
* * *
Когда я был совсем куцым щенком, Зина мне про этот сад рассказывала: «Какой там носорог! И какая под ним грязь! А ты, Микки, не хочешь, умываться… Стыдно!» И все неправда.
Носорога нет. Или подох со скуки, или убежал в город и скрывается в метро, пока его не раздавят…
Но зато видел верблюда. Он похож на нашу консьержку, только губа больше и со всех сторон шерсть. Мало ему горба на спине, так у него даже колени горбатые! Питается колючками и, кажется, уксусом. Я бы ему граммофонных иголок дал! Он, негодяй, когда Зина дала ему булочку, фыркнул, булку слопал и плюнул ей на бант! Был бы ты на свободе, я бы тебе показал…
Белая медведица очень миленькая. Сидит в ре-де-шоссе в каменной ванне и вздыхает. Свиньи какие! Хотя бы ее на лед посадили или на мороженое, ведь ей жарко!
Маленький мальчик бросил ей бисквит. Она вылезла, отряхнулась, вежливо приложила лапку ко лбу и съела. Будет она сыта, как же! И мальчик второй бисквит ей на мелкие кусочки накрошил: боялся, видно, чтобы она не подавилась. Воробьи все и склевали. Ну за что – за что ее держат в тюрьме? У Зины есть старый плюшевый Мишка. Непременно завтра притащу и брошу медведице: пусть будет ей вместо сына…
Обезьян совсем, совсем не жалко! Они страшные морды, и я их вовсе не трогал. Подошел и только немножко отвернулся вбок: ужасно скверно они пахнут… Кислой резинкой, тухлой килькой и еще каким-то маринованным поросячьим навозом.
Одна посмотрела на меня и говорит другой: «Смотри, какой собачий урод…»
Я? Гав, идиотка! Я… урод?! А ты-то что же?..
Побегу в Зинин шкафчик, понюхаю валерьяновую пробку. Как у меня колотится сердце!..
Тигр – противный. Большая кошка и больше ничего. Воображаю, если его пустить в молочную. Целую ванну сливок выпьет, не меньше. А потом съест молочницу и пойдет в Булонский лес отдыхать.
Лев – славненький… Один совсем старичок. Под кожей складки, лысый и даже хвостом не дрыгает. Зина читала как-то, что лев очень любит, если к нему в клетку посадить собачку. Пять разорвет, а с шестой подружится. Я думаю, что лучше быть… седьмой – и гулять на свободе.
Есть еще какие-то зубры. Мохнатый, рогатый, голова копной. Зачем такие водятся? Ни играть с ним, ни носить его на руках нельзя… Вообще на свете много лишнего.
Дикобраз, например. Ну куда он годится? Камин им чистить, что ли? Или кенгуру… На животе у нее портмоне, а в портмоне кенгуренок. А шкура у нее, кажется, застегивается на спине, как Зинин лифчик. Ерунда!
Слава Богу, что я фокс! Собак в клетки не сажают. Хотя некоторых следовало бы: бульдогов и разных других догов. Очень несимпатичные собаки! И почти дикие. У нас напротив живет бульдог Цезарь, так он непременно норовит перед нашей дверью сделать пакость. Надо будет ему отомстить. Как?.. Очень просто. У них ведь тоже есть дверь…
Людей в клетках не видал. А уж нашего садовника не мешало бы посадить! С кухаркой – вместе. Написать: «Собачьи враги». И давать им в день по кочану капусты и по две морковки – больше ни-ни. Почему они меня не кормили? Почему сами крали и яйца, и сливки, и коньяк, а меня за каждую несчастную косточку ногой шпыняли?
Видел змей. Одна, большая и длинная, как пожарная кишка, посмотрела на меня и прошипела: «Этого, пожалуй, не проглотишь!» Скотина… Так тебе и позволили живых фоксов глотать!
У слона два хвоста – спереди и сзади, и рога во рту… И пусть меня сто раз уверяют, что это «хобот» и «клыки», я говорю: хвост и рога. Зина решила, что если посмотреть на мышь в телескоп, то получится слон. А что такое телескоп, пес его знает!
Да… Птицы, оказывается, бывают ростом с буфет. Страусы!.. И на хвосте у них такие же перья, как в альбоме у Зининой бабушки на шляпе. Перьев этих теперь больше не носят, молока страусы не дают, значит, надо их просто зажарить, начинить каштанами и съесть! Ты бы, Микки, хотел страусовую лапку погрызть? Что ж, я любопытный…
Поздно. Надо идти спать. А в голове карусель: обезьяньи зады, верблюжьи горбы, слоновые перья и страусовые хоботы…
Пойду еще понюхаю валерьяновую пробочку. Сердце так и стучит… Как мотоциклет…
Тошнит! Ик… Где кухаркина умывательная чашка?!
Как я заблудился
Карандаш дрожит в моих зубах… Ах, что случилось! В кинематографе это называется «трагедия», а по-моему, еще хуже. Мы вернулись из Парижа на пляж, и я немножко одурел. Носился мимо всех кабинок, прыгал через отдыхающих дам, обнюхивал знакомых детей – душечки! – и радостно лаял. К черту Зоологический сад, да здравствует собачья свобода!
И вот… допрыгался. Повернул к парку, нырнул в какой-то зеленый переулок, попал в чужой огород – растерзал старую туфлю, – оттуда в поле, оттуда на шоссе – и все погибло! Я заблудился… Сел на камень, задрожал и потерял «присутствие духа». До сих пор я не знал, что такое это «присутствие»…
Обнюхал шоссе: чужие подметки, пыль, резина и автомобильное масло… где моя вилла? Домики вдруг стали все одинаковые, дети у калиток, словно мыши, сделались похожи друг на друга. Вылетел к морю – другое море! И небо не то, и берег пустой и шершавый… Старички и дети обдирали со скалы устриц, никто на меня и не взглянул. Ну конечно, идиотские устрицы интереснее бездомного фокса! Песок летит в глаза. Тростник лопочет какой-то вздор. Ему, дураку, хорошо – прирос к месту, не заблудится… Слезы горохом покатились по морде. И ужаснее всего: я голый! Ошейник остался дома, а на ошейнике мой адрес. Любая девчонка (уж я бы устроил!) прочла бы его и отвела меня домой. Ух! Если бы не отлив, я бы, пожалуй, утопился… Примечание: и был бы большой дурак, потому что я все-таки отыскался.
* * *
Перед желтым забором у палисадничка прислонился к телеграфному столбу и опустил голову. Я видел на картинке в такой позе заблудившуюся собачку, и поза эта мне очень понравилась.
Что ошибся. В калитке показалось розовое пятно. Вышла девочка (они всегда добрее мальчиков) и присела передо мной на дорожке.
– Что с тобой, собачка?
Я всхлипнул и поднял правую лапку. Понятно и без слов.
– Заблудилась? Хочешь ко мне? Может быть, тебя еще и найдут… Мама у меня добрая, а с папой справимся.
Что делать? Ночевать в лесу… Разве я дикий верблюд? В животе пусто. Я пошел за девочкой и благодарно лизнул ее в коленку. Если она когда-нибудь заблудится, непременно отведу ее домой…
– Мама! – запищала она. – Мамочка! Я привела Фифи, она заблудилась. Можно ее пока оставить у нас?
О! Почему «Фифи»?! Я Микки, Микки! Но я, у которого такие прекрасные мысли, не могу ведь и полслова сказать на их человеческом языке… Пусть. Кто сам себе яму копает, тот в нее и попадает…
Мама надела пенсне (будто и без пенсне не видно, что я заблудился!) и улыбнулась:
– Какая хорошенькая! Дай ей, дружок, молока с булкой. У нее очень порядочный вид… А там посмотрим.
«У нее»… У него, а не у нее! Я же ведь мальчик. Но ужасно хотелось есть, надо было покориться.
Ел я не торопясь, будто одолжение им делал. Вы угощаете? Спасибо, я съем. Но, пожалуйста, не подумайте, что я какой-нибудь голодный бродячий пес.
Потом пришел папа. Почему эти папы всюду суют свой нос, не знаю…
– Что это за собака? Что у тебя, Лили, за манера тащить всех зверей к нам на виллу? Может быть, она чахоточная… Пойди, пойди прочь отсюда! Ну!
Я? Чахоточная?
Девочка расхныкалась. Я с достоинством сделал шаг к калитке. Но мама строго посмотрела на папу. Он был дрессированный: фукнул, пожал плечами и пошел на веранду читать свою газету. Съел?
А я встал перед мамой на задние лапки, сделал три па и перепрыгнул через скамеечку. Гоп! Вперед, тур вокруг комнаты и назад…
– Мамочка, какой он умница!
Еще бы. Если бы я был человеком, давно бы уже профессором был.
* * *
Новый папа делает вид, что меня не замечает. Я его – тоже… Во сне видел Зину и залаял от радости: она кормила меня с ложечки гоголь-моголем и говорила: «Ты мое сокровище… если ты еще раз заблудишься, я никогда не выйду замуж».
Лили проснулась – в окне белел рассвет – и свесила голову с кроватки:
– Фифи! Ты чего?
Ничего. Страдаю. Кошке все равно: сегодня Зина, завтра Лили. А я честная, привязчивая собака…
Второй день без Зины. К новой девочке пришел в гости толстый мальчик-кузен. У собак, слава Богу, кузенов нет… Садился на меня верхом, чуть не раздавил. Потом запряг меня в автомобиль – а я уперся! Собаку?
В автомобиль?! Тыкал моими лапами в пианино. Я все снес и из вежливости даже не укусил его…
Лилина мама меня оценила, и когда девочка опрокинула тарелку с супом, показала на меня:
– Бери пример с Фифи! Видишь, как она осторожно ест…
Опять Фифи! Когда что-нибудь не нравится, говорят: «фи!» Фи-фи, значит, когда совсем не нравится? Придумают же такое цыплячье имя… Я нашел под шкапом кубики с буквами и сложил: «Микки». Потянул девочку за юбку: читай! Кажется, ясно. А она ничего не поняла и кричит:
– Мама! Фифи умеет показывать фокусы!
– Хорошо. Дай ей шоколаду.
Ах, когда же, когда же меня найдут? Побежал даже в мэрию. Быть может, Зина заявила туда, что я потерялся. Ничего подобного. На пороге лежала лохматая дворняжка и зарычала:
– Р-рав! Ты куда, бродяга, суешься?
Я?! Бродяга?! Мужик ты несчастный!..
Счастье твое, что я так воспитан, что с дворнягами в драку не лезу…
* * *
«Гора с плеч свалилась»… Куда она свалилась, не знаю, но, словом… я нашелся!
Лили вышла со мной на пляж. И вдруг вдали – лиловое с белым платьице, полосатый мяч и светлые кудряшки. Зина!!
Как мы целовались, как мы визжали, как мы плакали!
Лили тихонько подошла и спросила:
– Это ваша Фифи?
– Да! Только это не Фифи, а Микки…
– Ах, Микки! Извините, я не знала. Позвольте вам ее передать. Она заблудилась, и я ее приютила.
А у самой в глазах «трагедия».
Но Зина ее утешила. Поблагодарила «очень-очень-очень» и обещала приходить со мной в гости. Они подружатся, уж я это по глазам заметил.
Я, разумеется, послужил перед Лили и передние лапки накрест сложил: Мерси! Очень-очень-очень…
И пошел, сконфуженный, за Зиной, ни на шаг не отходя от ее милых смуглых ножек.
В цирке
У нашего вокзала появились длинные дома на колесах. Не то фургоны, не то вагоны. Красные, с зелеными ставенками, над крышей труба, из трубы дым. На откидной ступеньке одного дома сидел карлик с огромной головой и красными глазами и мрачно курил трубку. А в глубине двора тоже вагоны-дома, но с решетками, и пахло от них густо-прегусто зоологическим садом.
На афишах чудеса… Три льва прыгают через укротительницу, а потом играют с ней в жмурки. Морж жонглирует горящей лампой и бильярдными шарами. Морж – такой неповоротливый дурак… кто бы подумал! Знаменитый пудель Флакс решает задачи на сложение и вычитание… Важность какая… Я и делить и умножать умею… Однако в знаменитости не лезу. Мисс Каравелла исполнит на неоседланном жеребце джигу – матросский танец. Негр Буль-Пуль… Стоп! Не надо забегать вперед, Микки, а то совсем спутаешься – что это за собачья привычка такая!
* * *
Зинин папа взял нам ложу: мне и Зине. Ложа – это такая будка, вроде собачьей, но без крыши. Обита красным вонючим коленкором. Стулья складные и жесткие, потому что цирк походный.
Оркестр ужасный! Я вообще музыки не выношу, особенно граммофона. Но когда один скелет плюет в флейту, а другой, толстяк, стоймя поставил огромную скрипку и ерзает по ней какой-то линейкой, а третий лупит палками по барабану, локтями о медные линейки и ногами в большой пузатый бубен, а четвертая, лиловая курица, разъезжает взад и вперед по пианино и подпрыгивает… О! «Слуга покорный» – как говорит Зинин холостяк дядя, когда ему предлагают жениться.
Клоуны – просто раскрашенные идиоты. Я думаю, что они напрасно притворяются, будто они нарочно идиоты, наверно, такие и есть. Разве станет умный человек подставлять морду под пощечину, кататься по грязным опилкам и мешать служителям убирать ковер? Совсем не смешно. Одно мне понравилось: у того клоуна, у которого сзади было нарисовано на широких штанах солнце, чуб на голове вставал и опускался… Еще ухо, я понимаю, но чуб! Очень интересный номер!
Жеребец-толстяк, а что он не оседлан, совсем не важно. У него такая широкая спина, даже с выемкой, что пляши на ней, как на хозяйской постели, сколько хочешь. Прыгал он лениво. Словно вальсирующая корова… А мисс Каравелла все косилась трусливо на барьер и делала вид, что она первая наездница в мире. Костюм славненький – вверху ничего, а посредине зеленый и желтый бисер. И зачем она так долго ездила? Жеребец под конец так вспотел, что я расчихался. Неинтересно.
Потом поставили круглую решетку, подкатили к дверям клетку, и вышли львы. Вышли… и зевают. Хорошие дикие звери! Зина немножко испугалась (девчонка!), но ведь я сидел рядом. Чего же бояться? Львы долго не хотели через укротительницу прыгать: уж она их упрашивала, и под шейкой щекотала, и на ухо что-то шептала, и бичом под брюхо толкала. Согласились – и перепрыгнули. А потом завязала им глаза белыми лентами, взяла в руки колокольчик и стала играть с ними в жмурки. Один лев сделал три шага и лег. Другой понюхал и пошел за ней… Обман! Я сам видел: у нее в руке был маленький кусочек мяса… Неинтересно!
Выходило еще голландское семейство эквилибристов. Папа катался на переднем колесе велосипеда (отдельно!), мама на другом колесе (тоже отдельно!), сын скакал верхом на большом мяче, а дочка каталась на широком обруче задом наперед… Вот это здорово!
Потом летали тарелки, ножи, лампы, зонтики, мальчики и девочки. Ух! Я даже залаял от радости. А под конец все семейство устроило пирамиду. Внизу папа и мама, на плечах две дочки, у них на плечах мальчик, у него на плечах собачка, у собачки на плечах… котенок, а у котенка на плечах… воробей! Трах – и все рассыпалось, закувыркалось по ковру и убежало за занавеску… Браво! Бис! Гав-гав-гав!
* * *
В антракте было еще веселей. Антракт – это когда одно кончилось, а другое еще не началось. И вот взрослые с детьми постарше пошли за занавеску смотреть лошадей и прочих млекопитающих, а самые крошечные дети вылезли из всех лож и углов на арену и устроили свой собственный цирк.
Девочка с зеленым бантом изображала дрессированную лошадь и на четвереньках гарцевала по барьеру: голова набок, а сама все правой ножкой брыкала. Мальчишки, конечно, были львами и, пожалуй, свирепее настоящих – рычали, плевались, кусались и бросали друг в дружку опилками. Двое даже подрались: один другого шлепнул – шлепают же клоунов, – а тот ему сдачи… И оба заревели, совсем уж не по-клоунски… А я носился по всей арене и хватал их всех (шутя, конечно!) за коленки.
Вышел карлик в сиреневом сюртучке с медными пуговицами и зазвонил в колокольчик. Дзинь-дзинь! Долой с арены – представление продолжается! Один из «львов», совсем еще маленький мальчик, ни за что не хотел уходить. И пришла его мама из ложи, взяла льва на руки, шлепнула и унесла на место. Вот тебе и лев!
* * *
Морж – молодец. Вернусь на нашу виллу и непременно попробую жонглировать горящей лампой. У меня, правда, не такой широкий нос… Ну что ж, возьму маленькую лампочку…
Я побежал за занавеску: оказывается, у моржа в загородке есть цинковая ванна, а после представления ему дают живую рыбу, бутерброд с рыбьим жиром и рюмку водки. Здорово!
Да, что я еще заметил! Под края циркового шатра подлезают бесплатные мальчишки и смотрят на представление… А карлик бегает кругом и хлопает их прутом по пяткам.
Негр Буль-Пуль вроде сумасшедшего. Играл на метле «марш пьяных крокодилов», аккомпанировал себе на собственном животе, а ногами выделывал такие штуки, точно у него было четыре пары лап… И пахло от него корицей и жженой пробкой. Фи!
Потом вышел «факир». Факир – это человек, который сам себя режет, а ему даже приятно, и кровь не идет. Он себя, должно быть, замораживает перед представлением. Проткнул себе губы вязальной спицей, под мышку вбил гвоздь… Я даже отвернулся. Нервы не выдержали… А самое ужасное: он взял у толстого солдата из публики никелевые часы, проглотил их, только кончик цепочки изо рта болтался, – и попросил публику послушать, как у него в груди часы тикают. Ужас! Кожа по морозу подирается!
Кажется, все. На закуску вылетела на арену крохотная мохнатая лошадка с красной метелкой над головой и с колокольчиками. Я и не знал, что есть такая порода лошадиных болонок! Она так чудесно прыгала сквозь обруч, становилась на задние лапки и брыкалась, что Зина пришла в восторг. Я тоже.
Удивляюсь, почему Зинин папа не купит ей такую лошадку… Запрягли б мы ее в шарабанчик и катались по пляжу. Это тебе не на осле черепашьим шагом топтаться!.. И все бы очень удивлялись, и я бы получал много сахару…
«Кто едет?» – «Микки с Зиной!»
«Чья лошадка?» – «Миккинас Зиной!» Чудесно!
Устал. Больше не могу… Вот сейчас только подпишусь и побегу на пляж играть в цирк. Бум-бум!
Проклятый пароход
У курортной пристани качался белый дом-пароход. Труба, балкончик для капитана, внизу – круглые окошечки, чтобы рыбы могли заглядывать в каюты. Спереди нос острый, сзади – тупой… Вода подшлепывает снизу, веревка скрипит, из пароходной печки – дым.
«Гу-гу!» Фу, как труба противно лает. Все затыкают уши, а я не могу… Зина берет меня на ручки – я дрожу, доски под нами тоже дрожат – и несет меня на эту противную штуку. Сзади – папа.
Прогулка! Мало им места на земле… Я хоть плавать умею, а они что будут делать в своих ботинках и чулках, если дом перевернется?
Люди шли-шли-шли. Чистые костюмчики, из карманов – платочки (зубных щеток в петличках, слава Богу, еще не носят!), и все толкаются, и все извиняются. Пардон! А ты не толкайся, и пардона твоего не нужно, а то все лапы отдавили…
Сели на скамейки по бокам, и вверху, и внизу, как воробьи на телеграфных проволоках… Небо качается, улица качается, и наш пол качается. И я совсем потерял центр тяжести, присел на пол и распластался, как лягушка на льду.
Так мучить сухопутного фокса! За что?!
«Гу-гу-гу!» – поехали. Все машут лапами, посылают безвоздушные поцелуи. Подумаешь… На три часа уезжаем, и такое лицемерие. Подкрался к загородке посреди парохода и посмотрел вниз: железные лапы ходят, чмокают и переворачиваются, а главная нога, вся в масле, вокруг себя пляшет… Машина. «Чики-фуки, фуки-чики, пики-Микки, Микки-пики…» Да остановись ты хоть на минутку!!
* * *
Пока шли проливчиком – ничего. А потом заливчик, а потом… ух! Там море, тут море, небо с водой кругом сошлось, горизонты какие-то со всех сторон появились… Разве так можно? А земля где? За пароходом – белый кипяток, чайки вперегонку за нами летят и кричат, как голодные котята… Столько рыбы в море, целый день обедать можно, чего им еще надо?
Ну что ж, раз прогулка, нечего под скамейкой пресмыкаться. Пошел по ногам, ноги вежливо раздвигаются. Пардон, силь ву пле. (Извините, пожалуйста!) У матросов деревянные башмаки – корабликами, у пассажиров обыкновенные, белые и желтые туфли. Практично и симпатично. А у дам что ни ноги, то другой фасон: с бантиками, с пряжечками, с красной решеткой, с зелеными каблучками… Кто им эти фасоны выдумывает?..
Был у капитана на балкончике. Старенький, толстенький, борода, как у рождественского деда, глазки голубенькие. Расставил ноги и забавляется: повернет колесо с палками в одну сторону, потом в другую, потом в третью, а сам в трубку рычит: «Доброе утро! – полдоброго утра! четверть доброго утра!» – а может быть, я и напутал.
Нашел кухню. Пол себе качайся, а она свое дело делает. Варит. Повар сунул мне в нос омара… но я на него так посмотрел, что ему стыдно стало, и он высморкался (повар).
А пол все подымается, волны, как бульдоги, со всех сторон морды в пене, и все на меня кивают. Ай! Подымается, опускается. Смейся! Посади-ка краба на сушу, небось ему тоже будет несладко. Ветер свистит и выворачивает уши наизнанку. Ай!..
У нашего соседа слетела в воду шляпа. «Свежеет!» – успокоил его Зинин папа. Дуреет, а не свежеет… Ба-бах! Ба-ба-бах!
Я прижался к ногам незнакомой старухи, закрыл глаза и тихонько-тихонько визжал: море! Золотое мое море… Ну, перестань, ну, успокойся! Я никогда больше не поеду. Я маленький фокс, ничтожная собачка, за что ты на меня сердишься? Я никогда тебя не трогал, никогда на тебя не лаял (ух, как я врал!)…
Да, так оно тебе и перестанет. И вот я вышел из себя. Вспрыгнул на скамейку, повернулся к морю спиной и наступил лапой на спасательный круг. На всякий случай, если бы пришлось спасать Зину, ее папу и капитана. Повар пусть тонет… Злой фокс. Зачем я пишу такие гадости? Спас бы и повара, пес с ним…
* * *
Все? Нет, не все! Жадные сухопутные люди не знают уже, что и придумать. Мало им берега, леса, поля, шоссе. Летать им надо! Сели на бензинную этажерку… и полетели. Даже смотреть страшно. Но ведь летают отдельные сумасшедшие, у них, верно, нет родителей, и некому их остановить. А по морю катаются все: дети, мамы, папы, дедушки и даже грудные младенцы. Вот судьба («судьба» – это вроде большой, злой летучей мыши) их и наказывает…
Качались – и докачались. Собаки, говорят, себя нехорошо ведут. Ага! Собаки… Посмотрели бы вы, как ведут себя на пароходе люди в новых костюмчиках, с новыми платочками в карманах, когда начинается качка!
Я закрывал глаза, старался не дышать, нюхал лимонную корочку… Бррр!
Но Зина – молодец. И ее папа – молодец. И капитан – молодец… А я… лучше не спрашивайте.
* * *
Когда показалась земля, миленькая зеленая земля, твердая земля с домиками, собачками, мясными лавками и купальными будками, я завизжал так пронзительно, что перекричал даже пароходный гудок.
Клянусь и даю честное собачье слово, что лапа моя никогда на пароходе больше не будет! Почему меня всюду за собой таскают?.. Завтра Зинин папа затеет прогулку на облаках, так я с ними летать должен?! Пардон! Силь ву пле!
Ага! Так и знал. Этот невозможный папа подцепил рыбака и заказывает ему на завтрашнюю ночь барку с луной и рыбной ловлей…
На луну я и с берега посмотрю, а рыбу – кушайте сами…
Море сегодня, правда, тихое, – знаем мы эту тишину. Но в комнате еще тише. Пол не качается, потолок не опрокидывается, пена не лезет в окошко, и люди вокруг не зеленеют и не желтеют. Брр!..
Возвращаюсь в Париж и ставлю большую точку
На веранде стояли чемоданы: свиной кожи, крокодиловой кожи и один маленький… брр!.. кажется, собачьей. В палисаднике желтые листья плясали фокс-трот.
Я побежал к океану: прощай!.. «Буме!» Фи, какой невежливый. С ним прощаются, а он водой в морду…
От полотняных купальных будок одни ребра остались. Небо – цвета грязной собаки. Астры висят головами вниз: скучают. Прощайте, до свидания! Хоть вы и без запаха, но я вас никогда, никогда не забуду…
Простился с лесом. Он, верно, ничего не понял: зашумел, залопотал… Что ему маленький, живой Микки?
Простился с лавочницей. Она тоже скучная. Сезон кончился, а тухлые кильки так и не распроданы.
Чемоданы всю дорогу толкались и мешали мне думать. Зина серьезная, как наказанный попугай. Выросла, загорела. В голове уроки, подруги и переводные картинки – на меня ни разу не взглянула…
И не надо! Что это за любовь такая по сезонам? Подружусь вот в Париже с каким-нибудь порядочным фоксом – и «никаких испанцев» (очень я люблю глупые человеческие слова повторять!)…
* * *
Приехали. Риехали. Пехали. Ехали. Хал и. Али. Ли. И… Это я так нарочно пишу, а то лапа совсем затекла.
Консьержкина собачонка посмотрела на меня с порога и отвернулась. Герцогиня какая! Ладно… Я тоже умею важничать. Вот повезут меня на собачью выставку, получу первую золотую медаль, а ты лопайся от зависти в консьержкиной берлоге.
Совсем отвык от мебели. Тут буфет, там полубуфет, кровати – шире парохода, хоть бы лестнички к ним приставили… Гадость какая! А они еще хотят внизу у мебельщика старую шифоньерку купить! Красного дерева. Пусть хоть лилового – грош ей цена.
Ах, как тесно в квартире! Горизонт перед носом, лес в трех вазонах, перескочить можно. И попрыгать не с кем. Зина в школе, тропики какие-то изучает. Кухарка сердитая и все губы мажет. Вот возьму и съем твою помаду, будешь с белыми губами ходить!
На балконе коричневые листики корчатся и шуршат. Воробей один к нам повадился прилетать. Я ему булочку накрошил, а он вокруг моего носа прыгает и клюет. Вчера от скуки мы с ним поболтали.
– Ты где живешь, птичка?
– А везде.
– Ну, как везде?.. Мама и папа у тебя есть?
– Мама в другом районе, а папа в Сен-Клу улетел…
– Что же ты одна делаешь?
– Прыгаю. Над сквериком полетаю, на веточке посижу. Вот ты у меня завелся, крошками кормишь. Хорошо!
– Не холодно тебе? Ведь осень…
– Чудак, да я ж вся на пуху. Чивик! Воробьи на углу дерутся… Эй-эй, подождите! Я тоже подраться хочу…
Фурх – и улетел. Боже мой, Боже мой, почему у меня нет крыльев?..
* * *
Дрожу, дрожу, а толку мало. Центральное отопление вчера зашипело, я только спинку погрел, а оно остановилось. Проба была. Через две недели только его заведут на всю зиму. А я что ж, две недели дрожать должен?!
Спать хочется ужасно. Днем сплю, вечером сплю, ночью… тоже сплю.
Зина говорит, что у меня сонная болезнь. Мама говорит, что у меня собачья старость. Музыкальная учительница говорит, что у меня чума… Гав! На одну собаку столько болезней?!
А у меня просто тоска. Очень мне нужна ваша осень и зима в квартире с шифоньерками!
И тетрадка моя кончается. И писать больше не о чем… У-у! Был бы я медведь, пошел бы в лес, лег в берлогу, вымазал лапу медом и сосал бы ее до самой весны…
Сегодня на балкон попал кусочек солнца: я на него улегся, а оно из-под меня ушло… Ах, Боже мой!
Пока не забыл, надо записать вчерашний сон: будто все мы, я и остальное семейство, едем на юг, в Канн. Бог с ним, с зимним Парижем! И будто Зина с мамой ушли в закусочный вагон завтракать… Папа заснул (он всегда в поезде спит), и так горько мне стало!.. Почему меня не взяли с собой? А из саквояжа будто кто-то противным кошачьим голосом мяукнул:
«Потому что собак в вагон-ресторан не пускают. Кошек всюду пускают, а собак, ах, оставьте!»
И я рассвирепел, в саквояж зубами вцепился и… проснулся.
* * *
Перелистывал свои странички. А вдруг бы их кто-нибудь напечатал?! С моим портретом и ав-то-гра-фом?!.
Попала бы моя книжка в лапки какой-нибудь девочке в зеленом платьице… Села бы она у камина с моим сочинением, читала бы, перелистывала бы и улыбалась. И в каждом доме, где только есть маленькие ножки с бантиками и без бантиков, знали бы мое имя: Микки!
Зина спит, часы тикают. Консьержка храпит – о! – я и через пол слышу…
До свидания, тетрадка, до свидания, лето, до свидания, дети – мальчики и девочки, папы и мамы, дедушки и бабушки… Хотел заплакать, а вместо того чихнул.
Ставлю большую, большую точку. Гав! Опять меня блоха укусила!.. В такую трогательную минуту…
Кровопийца собачья!..
Послал фельдфебель солдата в летнюю лунную ночь раков за лагерем в речке половить. Засветил солдат лучину, искры так и сигают, – тухлое мясцо на калке-кривуле в воду спустил, ждет-пождет добычи. Закопошились раки, из нор полезли, округ палки цапаются, мясцом духовитым не кажную ночь полакомишься…
Только было солдат приноровился черных квартирантов сачком поддать, на вольный воздух выдрать, – шасть! кто-то его из воды за сапог уцепил. Тащит из всей мочи, прямо напрочь ногу с корнем рвет. Уперся солдат растопыркой, иву-матушку за волосья ухапил, – нога-то самому надобна… Мясо живое кое-как из сапога выпростал, а сапог в воду рыбкой ушел…
Вскочил он полуобутый, глянул вниз. Видит, русалка из воды выплеснулась, сапогом его дразнит, хохочет:
– Счастье твое, кавалер, что нога у тебя склизкая! А то б не ушел… Уж в воде я б с тобой в кошки-мышки наигралась.
– Да зачем я тебе сдался? Играй с окунем, а я человек казенный.
– Пондравился ты мне очень! Морда у тебя в веснушках, глаза синие. Любовь бы с тобой под водой крутила…
Рассердился солдат, босой ногой топнул:
– Отдай сапог, рыбья кровь!.. Да и какая с тобой, слизь речная, любовь? На хвост-то свой погляди.
Тут ее, милые вы мои, заело. Насчет хвоста-то… Отплыла напрочь, посередь речки на камень присела, сапогом себя, будто веером, от волнения обмахивает.
Солдат чуть не в плач:
– Отдай сапог, мымра! Зачем он тебе, один-то? А мне, полуразутому, хочь и на глаза взводному не показывайся… Съест без соли.
Зареготала она, сапог на хвост вздела, – и одного ей достаточно, – да еще и помахивает. Тоже и у них, братцы, не без кокетства…
Что тут сделаешь? В воду прыгнешь, – залоскочет, просить не упросишь, – какое уж у нее, у русалки, сердце…
А она, с камешка повернувшись, кое-что и надумала:
– Давай, солдатик, наперегонки гнаться! Я вплавь по воде, а ты по берегу – вон до той ракиты. Кто первый достигнет, того и сапог. Идет?
Усмехнулся про себя солдат: вот фефела-то!.. Ужель по сухопутью легкие солдатские ножки нехристь пловучую не одолеют?
– Идет! – говорит.
Подплыла она поближе, равнение по солдату сделала, а он второй сапог с ноги долой, да под куст и шваркнул. Чтобы бежать способнее было…
Свистнула русалка. Как припустит солдат, – трава под ним надвое, в ушах ветер попискивает, сердце – колотушкой, медяки в кармане позвякивают… Уж и ракита недалече, – только впереди на воде, видит он, вода штопором забурлила, и будто рыбья чешуя цыганским монистом на лунной дорожке блестит… Добежал, штык ей в спину! – плещется русалка супротив ракиты, серебряным голоском измывается:
– Что ж вы, солдатик, запыхавшись? Серьгу бы из уха вынули, бежать бы легче было… Ну что ж, давай повернем! Солдатское счастье, поди, с изнанки себя обнаруживает…
Повернулся солдат, и отдышаться не успел, да как вдругорядь дернет: прямо из кожи рвется, локтем поддает, головой лозу буравит… Врешь, язви твою душу, – в первый раз недолет, во второй перелет, – разницей подавишься!
Достиг до первоначального места, глянул в воду, так фуражку о земь и шмякнул. Распростерлась рыбья девка под кручей, хвост в кольцо свивает, солдату зеленым зрачком подмигивает:
– С легким паром! Что ж ты серьгу так и не снял? Экой ты, изумруд мой, непонятливый.
Сидит солдат над кручею, грудь во все мехи дышит. Стало быть, казенному сапогу так и пропадать? Покажет ему теперь фельдфебель, где русалки зимуют. Натянул он второй сапог, что для легкости разгона снял, – слышит, под портянкой хрустит чтой-то. Сунул он руку, – ах, бес! Да это ж губная гармония, – за голенищем она у солдата завсегда болталась… У конопатого венгерца, что мышеловки в разнос торгует, в городе купил.
Приложился с горя солдат к звонким скважинам, дохнул, слева-направо губами прошелся, – русалка так и встрепенулась.
– Ах, солдатик! Что за штука такая?
– Не штука, а музыка… Русскую песню играю.
– Дай мне. Ну-ка, дай!.. Я в камышах по ночам вашего брата приманивать буду…
«Ишь, студень холодный, чего выдумала! Чтоб землякам на погибель солдат ей и способ предоставил же!..» Однако без хитрости и козы не выдоишь. Играет он, на тихие голоски песню выводит, а сам все обдумывает: как бы ее, скользкую бабу, вокруг пальца обвести.
– Сапог вернешь, тогда, может, и отдам…
Засмеялась русалка, аж по спине у него холодок ужом прополз.
– Сойди-ка, сахарный, поближе. Дай гармонь в руках подержать, авось обменяю.
Так он тебе и сошел… Добыл солдат из кармана леску, – не без запасу ходил, – скрозь гармонь продел, издали русалке бросил.
– На, поиграй… Я тебе – даром, что чертовка, – полное доверие оказываю.
Выхватила она из воды игрушку, в лунной ручке зажала, да к губам, – глаза так светками и загорелись. Ан, вместо песни пузыри с хрипом вдоль гармони бегут. Само собой: инструмент намокши, да и она, шкура, понятия настоящего не имела… Зря в одно место дует, – то в себя, то из себя слюнку тянет.
– В чем, солдат, дело? Почему у тебя ладно, стежок в стежок, а у меня будто жаба на луну квохчет?
– А потому, что башка у тебя дырява… Соображения у тебя нет! Гармонь в воде набрякла, а я ее завсегда для сухости в голенище ношу. Сунь-ка ее в свой сапог, да поглубже заткни, – да на лунный камень поставь. Она и отойдет, соловьем на губах зальется. А играть я тебя в два счета обучу, как инструмент-от подсохнет.
Подплыла она к камешку, гармонь в сапог, в самый носок честно забила – к бережку вернулась, хвостом, будто пес, умиленно виляет:
– Так обучишь, солдатик?
– Обучу, рыбка! Козел у нас полковой, дюже к музыке неспособный, а такую красавицу как не обучить… Только что мне за выучку будет?
– Хочешь, земчугу горстку я тебе со дна добуду?
– Что ж, в солдатском хозяйстве и земчуг пригодится.
Нырнула она под кувшинки, круги так и пошли.
А солдат не дурак – леску-то неприметную в руках дернул. Стал он подтягивать – гармонь поперек в сапоге стала… Плюхнулся сапог в воду, да к солдату по леске тихим манером и подвалился.
Вылил солдат воду, гармонь выудил, в сапог ногу вбил, каблуком прихлопнул… Эх ты, выдра тебя загрызи!.. Ваша сестра хитра, а солдат еще подковыристее…
Обобрал заодно сачком раков, что вокруг мяса на палке кишмя-кишели, да скорее в лозу, чтобы ножки обутые скрыть.
Вынырнула русалка, в ручку сплюнула – полон рот тины, в другой горсти земчуг белеет. Бросил он ей фуражку, не самому ж подходить:
– Сыпь, милая… Да дуй полным ходом к камешку, гармонь в сапоге-то, чай, на лунном свете давно высохла.
Поплыла она наперерез, а солдат скорее за фуражку, земчуг в кисет всыпал, – вот он и с прибылью…
Доплыла она, на камешек тюленем взлезла, да как завоет – будто чайка подбитая:
– Ох, ох! А сапог-то мой где? Водяник тебя задави-и!..
А солдат ей с пригорка фуражечкой машет:
– Сапог на мне, гармонь при мне, а за земчуг покорнейше благодарю! Танюша у нас сухопутная в городе имеется, как раз ей на ожерелко хватит… Счастливо оставаться, барышня! Раков, ваших подданных, тоже прихватил, – фельдфебель за ваше здоровье попускает…
Сплеснула русалка лунными руками, хотела пронзительное слово загнуть, – да какая уж у нее супротив солдата словесность.
Когда одна девочка была больна, Бог велел ангелу идти и плясать перед нею, чтобы забавить ее. Ангел подумал, что неприлично ангелу плясать перед людьми. И в ту же минуту Бог узнал, что он думает, и наказал ангела, – и ангел стал маленькой девочкой, только что родившейся царевной, и забыл про небо, и про все, что было, и забыл даже свое имя. А имя у ангела было благоуханное и чистое, – у людей не бывает таких имен. И положили на бедного ангела тяжелое человеческое имя, – и стали звать царевну Маргаритой.
Царевна выросла. Но она часто задумывалась, – ей хотелось вспомнить что-то, и она не знала что, и ей было тоскливо и скучно.
И однажды она спросила у своего отца:
– Отчего солнце светит молча?
Отец засмеялся и ничего не ответил ей.
И опечалилась царевна. Другой раз она сказала матери:
– Сладко пахнут розы, отчего же запаха не видно?
И засмеялась мать, и опечалилась царевна.
И спросила она у своей няньки:
– Отчего не пахнут ничем имена?
И засмеялась старая, и опечалилась царевна.
Стали говорить в той стране, что у царя дочь растет глупая.
И было много заботы царю сделать так, чтобы царевна была, как все.
Но она все задумывалась и спрашивала о ненужном и странном. И бледнела и чахла царевна, и стали говорить, что некрасива она. Приезжали молодые принцы, но поговорят с ней и не хотят брать ее в жены.
Приехал принц Максимилиан. Сказала ему царевна:
– У людей все отдельно: слова только звучат, и цветы только пахнут, – и все так. Скучно мне.
– Чего же ты хочешь? – спросил Максимилиан.
Задумалась царевна, и долго думала, и сказала:
– Я хочу, чтобы у меня было благоуханное имя.
И Максимилиан сказал ей:
– Ты стоишь того, чтобы носить благоуханное имя, и нехорошо, что ты Маргарита, – но у людей нет для тебя имени.
И заплакала царевна. И пожалел ее Максимилиан, и полюбил ее больше всего на свете. И он сказал ей:
– Не плачь, я найду то, чего ты хочешь.
Улыбнулась царевна и сказала ему:
– Если ты найдешь мне благоуханное имя, то я буду целовать твое стремя.
И покраснела, потому что она была гордая. И сказал Максимилиан:
– Ты будешь тогда моей женой?
– Да, если ты захочешь, – ответила ему царевна.
Поехал Максимилиан искать благоуханное имя. Объездил всю землю, спрашивал ученых людей и простых, – и все смеялись над ним.
И когда был он опять недалеко от города, где жила его царевна, увидел он бедную избу и белого старика на пороге. И подумал Максимилиан: «Старик знает».
Рассказал принц белому старику, чего он ищет. И обрадовался старик, засмеялся и сказал:
– Есть, есть такое имя, духовитое имя, – сам-то я не знаю, а внучка слышала.
Вошел Максимилиан в избу и увидел больную девочку.
И сказал ей старик:
– Донюшка, вот барину надо знать духовитое имя, вспомни, милая.
Обрадовалась девочка, засмеялась, но благоуханного имени вспомнить не могла.
И сказала она, что во сне видела ангела, который плясал перед нею и был весь разноцветный.
И ангел сказал ей, что днем скоро придет к ней в избу другой ангел и будет плясать и светить разными огнями еще лучше, и назвал имя того ангела, и от того имени пролился аромат, стало радостно.
Сказала девочка:
– Весело мне думать об этом, а вспомнить имени не могу. А если бы вспомнила и сказала, то выздоровела бы сейчас. Но он придет скоро.
Максимилиан поехал к своей царевне и привез ее в избу.
И когда царевна увидела бедную избу и больную девочку, то ей стало очень жалко, – и стала она ласкать девочку и забавлять ее.
Потом отошла на середину избы и стала кружиться и плясать, ударяя в ладоши и напевая.
И увидела девочка много света, и услышала много звуков, и обрадовалась, и засмеялась, и вспомнила имя ангела, и громко сказала его.
И вся изба наполнилась благоуханием. И тогда вспомнила царевна свое имя, и зачем ее посылали на землю, и радостно вернулась домой.
И девочка выздоровела, и царевна вышла за Максимилиана замуж, и в свое время, пожив на земле, довольно, вернулась на свою родину, к вечному Богу.
(Масленичная сказка)
Жил-был блин – рассыпчатый, крупитчатый, поджаренный, подпеченный.
Родился он на сковороде, на самом пылу.
Масло на сковороде кипело, шипело, прыгало, брызгало во все стороны.
– То-то раздолье!.. А ты что – глупая сковорода?! Сковворрррода!.. Ее жарят, а она лежит себе, не шелохнется… Чумичка, чернавка противная!
– Ну! – сказала сковорода. – Коли не было бы меня, чумички, так тебе не на чем бы было прыгать. Но погоди! Погоди!.. Вот на тебя тесто положат.
– Не смеют!..
Но оно только успело выговорить: «Не сме…», как вдруг: шлеп! И на него вывалили целую большую ложку кислого-прекислого теста…
Батюшки! Как оно обозлилось! Закричало, заворчало, забрызгало.
– Куда лезешь, кислятина!!!
Но кислятина преспокойно расползлась по всей сковороде, как будто ни в чем не бывало.
– Вот видишь! – сказала сковорода. – Я на огне, ты на мне, а тесто на тебе!
Но масло ее не слушало. Оно кричало, ворчало.
– Прочь, прочь, глупый блин… Сейчас тебя снимут, снимут! Прочь, прочь, прочь!
– Как бы не сняли, – сказала сковорода, – видишь, какое скорое, да не спорое.
Но действительно, подошли, подсунули ножик под блин и подняли его.
– Что, что, что, что?! – закричало, обрадовавшись, масло. Но не успело оно хорошенько расчтокаться, как вдруг – шлеп!.. Тот же блин, да другой беленькой сторонкой, так-таки прямехонько на самую серединку…
Ну, тут уж масло совсем обозлилось, просто вышло из себя и все в блин ушло. Уж оно там кипятилось, ярилось, возилось, инда весь блин горой вздуло, и стал весь блин комом.
– Ну, – сказала кухарка Матрешка, – первый блин всегда комом.
Взяла она его, раба Божьего, со сковороды, без всякой церемонии, просто руками – и прямо в рот… Туда ему и дорога! Не долго жил, мало нагрешил.
Испекла Матрешка другой блин, да на таракана наступила.
– Наше место свято! Пожалуй, подавятся господа, будет мне беда!
Скорехонько со сковороды стащила – и прямо в рот… Туда ему и дорога!
Испекла третий блин, да кошка Машка, блудница-канашка, за снетками на стол вскочила.
– Брысь, подлая!
Стала ее выгонять, хлестать… глядь! А блин совсем сгорел, черней угля стал… Скорехонько со сковороды стащила – и прямо в рот… Туда ему и дорога!
Испекла четвертый блин, да кум Матвей пришел. Юлил, лебезил, всяки мины подводил. Болтал, болтал, лясы да балясы распускал. Ушел… глядь! А на сковородке один уголь пригорел.
– Ах, чтобы ему прямо со сковородки да поперек глотки!.. Чистила, чистила, насилу уголь отодрала.
Пятый блин стала печь – оказалась в масленке течь… Туда, сюда.
– Батюшки! Матушки! Все масло на плиту убежит… Давно, поди, надо масленку переменить, да на огонь-то не ставить. Вишь треснула, поганая!..
Перелила наконец маслице в кастрюлечку. Все ладнехонько обрядила, только пятый блин спалила.
– Ах ты!.. Непутный! Чтоб тебя огнем спалило.
Однако все-таки остатки в рот упрятала… Туда им и дорога.
Шестой блин испекла, наконец, как быть должно!.. Больно уж хорош вышел! Пухлый, румяный, крупитчатый, рассыпчатый, что твой кум Матвей… Не утерпела, пятый горький блин им заела. Туда ему и дорога!
Седьмой блин вышел еще лучше.
– Эх, что, мол, эта и за кухарка Матрешка. Молодец баба блины печь!
И в награждение без хлопот прямо его в рот. Туда ему и дорога!..
Пекла, пекла, пекла – индо живот вспучило. Глядь, поглядь! Хвать, похвать! А в чашке-то уж дно видно.
– Ах ты, пакость!.. Гля-кось: все тесто спалила!.. Оказия!.. Нешто побежать к соседям – тестица попросить.
Платочком накрылась, чашечку захватила. Побегла. Просила, просила… нигде не дают.
– Ах вы непутящие! А пуще всего Стешка… У! черт баба!..
Сцепились, бранились, ругались, расплевались, разошлись. Как быть должно!
Пришла назад. Тошнехонько! Платочка с головы не сняла – в кабак побегла. Две косушки пропустила, от сердца отлегло. Развеселая такая домой пришла, песню петь зачала.
Сидит, поет и ухом не ведет. Море по колено. Приходят господа.
– Что, Матрешка, где блины?
Стали Матрешку бранить, ругать, пьяницей называть.
– Да нешто, – говорит, – сегодня не маслена?.. И в маслену-то отдыха нет… Господи! Жисть-то горемычная!.. – и разревелась.
Разумеется, обозлились, затопали, закричали и вон Матрешку прогнали. Туда ей и дорога!..
Это присказка, не сказка, погоди – сказка будет впереди.
Жил-был Царь-Блин с Царицей-Масленицей. Царь был жирный, Царица – масленая. И ели они целый день и целый год и каждый год блины. Вместо чаю утром блины, завтракали блинами, обедали блинами, ужинали блинами, спали на блинах и покрывались блинами.
Как только встанут, умоются, Богу помолятся – так несут, тащат им слуги верные блинов, блинов, блинов – красных, белых, пшеничных, гречневых, кислых, пресных, сдобных, молочных, татарских, бухарских, монгольских.
Сидят друг против дружки Царь с Царицей и все едят, едят, едят – едят и улыбаются, друг на дружку любуются. А масло так и течет у них по губам.
– Ах, – говорит Царь-Блин, – если б ты, Царица-Красавица, стала бы вдруг блином?
– Ну, так что ж? – спрашивает Царица.
– А так бы взял бы тебя да и съел.
Царица улыбнулась, и у нее на глазах масло выступило.
– Ну, а потом что?
– Потом ничего! Нашел бы другую царицу и тоже бы съел.
Царица оттолкнула от себя блин и поморщилась.
– Какой он горький да пресный, – сказала она.
– А это оттого, – сказал Царь, – что кухарка Марфушка не умеет печь блины. Надо другую кухарку искать. Позвать, – говорит, – сюда кухарку Марфушку.
И только успел сказать, – побежали, покатили, понеслись слуги, спешники, приспешники, скороходы, скоролеты, к ногам крылышки для скорости привязаны, – катят, летят сломя голову.
Прикатили, прилетели, схватили кухарку Марфушку – и как была замасленная, засаленная – сейчас, сию минуточку фьють!.. Представили перед жирные очи Царя-Блина.
– Какой ты нам блин подала, такая, сякая, эдакая! – допрашивает строго-настрого Царь-Блин Марфушку. – У матушки Царицы во рту горько стало…
Кухарка Марфушка бух Царю в ноги.
– Взмилуйся, Царь-Осударь! Не прикажи голову рубить. Вели правду говорить.
– Говори! – повелел Царь-Блин.
– Масла нет!.. Вот что, – говорит Марфушка. – Известно дело. Коли ежели без масла, то тут всякий блин пригорит, загорчится… Опять и масло не так чтобы… Горьковато маленько.
Разгневался Царь не на шутку.
– Позвать, – кричит, – сырника-масляника!..
И как только сказал, сейчас побежали, полетели, понеслись спешники, вершники, скороходы, скоролеты, к ножкам для скорости крылышки привязаны. Летят, спешат, схватили сырника-масляника, представили перед очи Царя-Блина.
Упал сырник-масляник на коленки.
– Как ты смеешь, такой-разэтакой, к нашему Царскому столу прогорклое масло отпускать?..
– Не виновен, Царь-Осударь. Для твоего Царского Величества угождал, масло сберегал… В прежни времена, надо так сказать, везли молоко без счету – и все царским молочком питались… Делали из него все, делали и сыры, и масло, и даже дома строили, и все как сыр в масле катались… А ноне не то… Не то время пришло. Ноне везде разоренье, плохи времена пришли. Не отпущает коровник молока, да и на поди!..
– Как!.. Как!.. Как он смеет! – разгневался Царь-Блин. – Позвать мне его сейчас сюда!..
И не успел сказать, как сейчас же побежали, полетели, понеслись вершники, приспешники, скороходы, скоролеты, для скорости к ножкам крылышки привязаны, схватили, спалили… тащат, ведут коровника Мартына Лысого… Представили…
Бух Мартын Лысый прямо Царю в ноги…
– Батюшка, Царь-Осударь. Прикажи слово молвить… Не те ноне времена!.. Вот что!.. Прежде гоняй коровушек куда хошь… Ты их и в Дунькин клин, и на Степанов луг, и в Харламовы межи, и в Матренину плешку… А ноне нет… Ни! ни! никуда не пущают… Всюду сейчас к мировому – и штраф, потому что ноне Закон!.. И опять совсем нет ноне лугов. Вот что!.. Никаких нет лугов…
– Как нет лугов!.. Что ж смотрит сам земляник-коренник. Позвать, – говорит, – ко мне самого земляника-коренника!
И сейчас опять бегут, летят вершники, приспешники, скороходы, скоролеты, ищут везде земляника-коренника. Ищут по долам, по лугам, по закутам; спешат, ищут по полям, по лесам, по овинам, гумнам. В силу, в силу нашли… На печи лежит, тряпицу сосет… Схватили, притащили.
Бух Царю в ноги.
– Говори, такой-разэтакой, отчего нет лугов?
– Лугов-те!.. Да, нетути!..
– Как нету!.. Коли нет, так ты насей травы, и будут луга… А то ты только на печи лежишь и тряпку сосешь…
– Ладно, – говорит земляник. – Че не засеять, засеять можно!..
– То-то можно! А то ты до сих пор, болван, не догадался.
– Н-нет, – говорит земляник и теребит изо всех сил у себя в затылке. – Я домекал… Во как домекал!.. Да землицы-то нетути! Вот оно што!.. Землица-то вся по пустырям пошла… Ишь ты клином сошлась… Землица-то!.. Право слово, Осударь!
– Как землицы нет! – вскричал Царь-Блин и в ужасе вскочил со своего трона, который весь был из самых отборных сахарных блинчиков.
– Как землицы нет! – обратился он к своим князьям, боярам и думным дьякам.
На колени пали князья, бояре и думные дьяки, поклонились до земли.
– Нет, – говорят, – землицы. Нет ее, матушки! Царь-Осударь, ваше блинное величество.
– Как же вы от меня до сих пор скрывали это?
– Да нешто они скажут! – говорит укоризненно земляник-коренник. – Они все скроют…
– Врешь ты! Врешь, сиволапо земляно чучело! – закричал на него Лысый Мартын. – Я прямо батюшке Царю доложил, что лугов, мол, мало, что лугов совсем нет…
– Эка, доложил! – перебивает его сырник-масляник. – Доложите вы! Маслицем помажете, сметанны крысы! Я батюшке Осударю так-таки прямо представил: нет, мол, молочка, батюшка Осударь, молочко подобралось все.
Но тут кухарка Марфушка впуталась, вступилась.
– Ах вы, брехуны, толоконники! – накинулась она на сырника и коровника. – Да нешто не на меня батюшка Царь осерчал, разве не мне, горемычной, довелось батюшке Царю горьчавый блинок поднести… Ах, чтоб вам на масленой всем бы подавиться первым блином!.. Черти!..
– Да чего ж ты раньше молчала! – накинулся на нее коровник.
– Ты, сметанник, что молчал?! У тебя где язык-то бесстыжий был?! Разве это мое, кухарское, дело батюшку Царя беспокоить: об масле ему докладывать!..
– А ты нешто масла не жрешь?! Тебе отпустят пуд, а ты его на Сенной продашь… Вы, небось, с молочником и молоко, и масло все травите… В вас точно в озеро… Вали! вали!..
Но тут уж коровник и кухарка накинулись на него оба. Одна визжит, другой гудит. Ругались, ругались, расплевались.
А бояре и думные дьяки было их разнимать принялись, да сами разодрались. Начали друг дружку корить, попрекать, слово за слово, шире да дальше, да как припустят.
– Стой! Смирно! – крикнул Царь-Блин, и все в ту же минуту наземь повалились, Царю в ножки поклонились. – Сказывайте вы все, такие-разэтакие, куда наша земля девалась?!
Все на коленях стоят, пришипились, молчат.
– Эй ты, земляник-коренник! Говори: куда наша земля девалась?
А земляник-коренник в уголочке стоял, чтобы, значит, боярам драться не мешать.
Подошел он к Царю, для порядку спину почесал, поклонился низехонько.
– Башкирам, – говорит, – батюшка Царь, всю землю роздали! Вот что!
– Как башкирам, каким башкирам!..
Но тут князь Шугай живо подскочил, Царю в ножки ударился.
– Врет он! Врет беспутный! Не верь ему, батюшка Царь. Никто твоей земли не раздавал… Сама она вся раздалась. Горой ее вспучило, болотами размучило – и вся расползлась… Прямо к башкирам. А башкиры народ жаднущий. Все сожрет, слопает, и всего ему мало!
– Ишь ты, ловкий какой! – говорит земляник. – Каки-таки чудеса расписывать? А-яй!.. Лов-ко-й.
Помолчал, подумал Царь-Блин.
– Ладно! – говорит. – Мы поглядим, куда наша земля девалась. К каким таким башкирам пошла?.. Эй! Позвать сюда нашего первого банщика-истопника.
И только успел вымолвить, как сейчас скороходы, скоролеты, для скорости к ножкам крылышки подвязаны… Бегут, летят – тащат банщика-истопника.
Весь красный-раскрасный явился банщик-истопник, бух Царю в ноги.
– Вот, – говорит Царь, – земли у нас нет и масла нет, а без масла нельзя жить… Погляди-ко кругом: из кого масло топить?!
Поглядел кругом истопник, а очи у него, как у ястреба, так и сверкают.
А бояре ни живы ни мертвы стоят, трясутся – как смерть бледны, и у всех от страха масло выступило. У того весь кафтан замаслился; у другого из-за пазухи течет.
– Да из всех можно! – говорит истопник. – Потопить, так и потечет.
– Ну, так возьми ты их всех и топи на здоровье!.. Эй! Стражники-охранники, – кричит, – бери всех масляников, тащи к истопнику. На масло топить, башкирские земли вытапливать!..
Батюшки-светы! Какой гвалт поднялся. Все на коленках ползают, кричат, вопят, убиваются.
– Царь-Осударь, – говорят, – батюшка грозный, не прикажи топить! Сейчас тебе всю землю отдадим.
И принялись все бояре распоясываться, раскошеливаться. Руки со страху трясутся. Расстегнулись, распахнулись: у кого из пазухи клин выпал, у другого поле, у третьего усадьба, у четвертого полоса, у пятого лугов пятьсот десятин, у шестого лесу гибель… Вот так башкиры!.. Насыпали земли – страсть!
– Ай да батюшка, Царь-Осударь! – говорит земляник. – Исполать тебе! Дошлый ты! Дай Бог те добра-здоровья.
И начал всю землю подбирать, в луга обращать.
– Ай да батюшка Осударь! – кричит Лысый Мартын. – Теперь есть где коровушек пущать. Есть где им пастись, гулять.
Масляник тоже что-то хотел сказать, но не успел. Кухарка Марфушка выскочила вперед, давай плясать и припевать:
Ах! Масляна, Масляна!
Вышло все напраслина.
Вся земля теперь нашлась,
Маслом, медом полилась.
Ай блины, блины, блины!
Нам на радость вы даны!
Слава батюшке Царю!
Ему свет и привет,
Чтобы жить ему сто лет!
И все князья, бояре затянули Царю-Блину славу, и такой шум подняли, что даже матушка Царица проснулась.
– Гли-кось! – говорит. – Как задремала, инда вся в блины ушла! И вся как есть в масле. На-кось! Хоть выжми!..
А у батюшки Царя от радости все лицо маслом покрылось.
– Эй вы, – кричит, – слуги мои верные! Вот вам царский сказ-наказ. Катите, тащите сюда бочки меду крепкого, пива мартовского, батюшку ерофеюшку горького и матушку сивушку развеселую.
И только что успел сказать – прибежали кравчие, виночерпии, катят-тащат бочки, красоули.
Принялись слуги верные пить. Пили, пили, пили. Все перепились. Попьют, попьют – спать завалятся. Поспят, поспят – пить начнут. И сами уж не могут разобрать, на что и куда валятся? где небо, где земля?
И все переплелись, перепутались. Князь Шугай, обнявшись, с башкиром спят. Масляник с Лысым Мартыном. Сам Царь-Блин обхватил земляника, а Царица-Масленица у кухарки Марфушки головой на коленях лежит.
И такой это храп, и соп, и стон во всех палатах стоит, что даже царские чертоги от храпа трясутся: батюшки, кричат, сокрушимся!
И не только в царских чертогах, но по всей земле храп и свист идут; так что вся земля стоном стонет.
И вдруг «Бум!» по всей земле разнеслось.
Все бояре, князья, стольники, воеводы, у которых уши не совсем мохом заросли, вскочили, глядят друг на дружку.
– Батюшки! Что такое, али головы полопались? Никак пушка выпалила.
Попять: бум!..
Инда батюшка Царь-Блин с земляником проснулись, глядят, протирают глаза, таращат на всех.
– Бум! Бум! Бум!..
И Царица-Масленица с Марфушкой проснулись, загалдели, заговорили все.
– Что за чудо такое? Пушки у нас давно не чищены стоят, все, чай, насквозь совсем проржавели. А пушкари, чай, давно на валу пьяны лежат!.. А тут!.. На-кось! Палят!..
– С крепости ребята палят, – говорит масляник. – Айдате побежим в крепость?
Вскочили, побегли. Ноги на бегу заплетаются, из угла в угол словно волной сшибает. Не успели на царское крыльцо выскочить, зазвучала, загремела труба по всему царству. И выезжают на широкий царский двор витязи и воины, бравые, удалые. А промеж их царский глашатай, весь в белом, в серебре, словно месяц блестит. Белы знамена над ним веют-развеваются. На одном знамени золотом вышито стоит: «Труд», а на другом стоит: «Правда».
Проиграли, прогремели трубы кованы. Развернул глашатай длинную-предлинную грамоту вестовую. Читает:
«Мы, Царь-Труд и Царица-Правда, соседи Царя-Блина и Царицы-Масленицы, много терпим от такого соседства. Подданные наши близко жить не могут: такой чад и смрад из блинного царства тянет, что всем глаза повыело. Прогорклое масло, как река, течет и всю нашу землю попортило. А от сивушного чаду у нашего батюшки Царя каждый день голова словно с угару болит. В силу чего мы признали за благо: объявить Царю-Блину, чтобы он отъезжал подальше от наших краев, в тартарары, в земли пустопорожние: туда, где спят, храпят, жрут, едят, с боку на бок переваливаются, со стороны на сторону перекатываются. А сроку ему, Царю-Блину, даем мы для сего ровно три дня и три ночи. А после сего на него войной пойдем и все его чадное, пьяное царство в свою казну возьмем!»
И кончил глашатай: снял со своей руки рукавицу железную. А в это время сам Царь-Блин впопыхах на крыльцо выскочил. И швырнул глашатай рукавицу железную. Прямо в пузо Царю-Блину угодила она. Ударила и сшибла Царя-Блина с развеселых ног.
Уехал глашатай. Шум, гвалт великий по всей земле поднялся.
– Батюшки! Сватьюшки! – кричат. – Родители! Кормильцы-заступники! Защитники!.. Вот так страсть!!.
И с этой самой страсти, с перепугу со всеми трясовица приключилась. Бьет, трясет, зуб на зуб не попадает…
– Блинков бы. Блинков!.. – кричат.
– Сивушки бы!
– Огурец бы… Огурчик! Соленый!..
– Смирно! – кричит Царь-Блин. – Стройсь! Сомкнись!.. Пойдем дружно! Не посрамим блины родимые!.. Грудью встанем!..
– Животом! Батюшка Царь-Осударь!.. Жи…во…во…ммм!
– Позвать сюда всех вождей-ироев моих! – приказывает Царь-Блин.
И только успел вымолвить Царь-Государь, как все вершники, приспешники, скороходы, скоролеты хотят бежать, лететь… да силушки нет. Толкутся, толкутся на одном месте, трясутся, дрожат, а с места сняться не могут.
– Бей в билы!.. Братцы!.. – кричат.
А никто ни с места. У всех поджилки трясутся.
Не струсил один земляник-коренник, пошел с перевалкой, в затылке чешет, спину дерет… Пришел, ударил в билы, созвал ироев-воевод.
Пришли, приползли с разных мест ирои-воеводы. У кого щеку разнесло, кого салом расперло, кого просто раздуло.
– Эй вы! Герои, воины храбрые! – говорит Царь-Блин. – Защищайте, отечество спасайте, Царь-Труд на нас войной идет; со света Божьего гонит…
Но не успел еще кончить свою речь Царь-Блин, как ирои-воеводы повалились и захрапели.
– Что за чудо такое?! – думает Царь-Блин. – Не успел рта разинуть, а они уж спят! На поди!..
– А это их с блинов, батюшка Царь-Осударь, – говорит земляник. – С блинов-то они, знаешь ты, сморились, вишь они, ирои, раздуло их горою… Так долго им стоять-то и неповадно… Валятся, как чурки!
– Что же мы будем делать?! – возопил Царь-Блин и схватил себя за голову.
– Как-никак, – говорит земляник, – надо поискать пойти – войско устроить, муницию припасти… Все обрядить, обладить…
Махнул рукой Царь-Блин: иди, мол, спасай отечество.
Пошел земляник по всему царству; ходил, ходил, все войско собирал. Нет как нет. Один пушкарь на валу спит подле пушки, из которой недавно палил.
Растолкал его земляник.
– Где, – говорит, – брат-земляк, войско наше?
– Войско!.. Како войско?.. – Чесал, чесал брат-земляк шею и спину. – Нет, – говорит, – тебе никакого войска… все вышло…
– Как вышло?
– А так же! Все на блины извели. Один я остался, у пушки сижу.
Поглядел, поглядел на него земляник, в затылке почесал.
– Врет, чай, поди, собачий сын! – думает.
И пошел он опять искать войско по всему царству. Искал, искал и день, и два, и три. Куда ни придет, все только одни блины лежат. Зашел в инфантерию – блины. Зашел в кавалерию – блины. Зашел в артиллерию – блины! В царско войско зашел… везде одни блины лежат.
– Тьфу! Инда тошно стало!.. Эх! Чтоб вас… Пойти нешто, батюшке Царю доложить.
Но не успел он до царских палат дойти, как поднялся шум и гвалт, визг и стон, дым и чад пошел коромыслом со всего блинного царства и словно страшная труба грянула.
Глянул земляник вдаль и видит: грядет-идет сила несметная. Идут стройно рядами, идут, поют, трубят, в трубы кованы играют:
Царь Труд идет,
Царь Труд идет,
Всем мир несет,
Свободу и правду святу!..
* * *
И так хороша была песня, что земляник стоял, стоял, все слушал и совсем заслушался.
И не заметил он, как исчезли и чад и дым, исчезли блины и все блинное царство словно сквозь землю провалилось, а царство Труда водворилось кругом.
Очнулся, оглянулся: глядь, поглядь!.. Перед ним стоит лошадка, ржет – сытая, резвая, веселая.
Впряжена лошадка в крепкий новенький плуг.
Перекрестился земляник, к плужку кинулся, за поручни ухватился, пошел пахать-орать, инда земля под плугом взыграла от радости:
– Слава тебе, Господи!..
(Восточное предание)
I
В древних землях, на границе Азии и Европы, в одном городке, жил-был в оно время мудрец Люций Комоло. Он был не очень стар годами, но очень мудр, и народ считал его магом.
И действительно, Люций узнал многое таинственное и наконец дошел до таких странных понятий, что дух, существующий в каждом человеке, сильнее во сто крат его хрупкого, бренного тела.
Дойдя до этого знания, он старался применять его к разным случаям жизни и прежде всего пользовался им как средством излечения.
– Дух наш, – говорил он, – сам должен лечить наше тело. Мы только должны стараться дать ему больше простора и освободить его, насколько возможно, от влияния нашего тела.
И он лечил хромоногих, слепых, сухоруких и всяких больных и недужных. С раннего утра вокруг его дома собирались целые толпы народа. Люций Комоло прикладывал к больным руки, и больные исцелялись. Исцелялись преимущественно те, которые верили в возможность исцеления.
Были и такие, которые верили в эту силу, но говорили, что эта сила бесовская и что в ней нет святости.
Другие говорили: что вам за дело – свята она или нет? Только бы помогала и лечила.
Но все эти другие сильно боялись бесов и уходили дальше от лечения Люция Комоло.
Слава о лечении Люция шла по всему свету, и с дальних сторон приходили странники или приезжали богачи на лошадях, осликах и верблюдах, даже на буйволах и зебрах, так как Люций Комоло жил как раз в том месте, где Азия связывается с Европой и Африкой. Это был общий узел, соединявший три больших материка.
Но Люций Комоло не остановился на лечении – он хотел доставить людям всякие удобства и наслаждения.
– Если дух излечивает тело, – говорил он, – то он должен и поднимать его. Если тело сильней духа, то оно должно держать его постоянно привязанным к земле, а если дух сильнее тела, то он должен отрывать его от земли, поднимать и носить по воздуху.
Дойдя до этой мысли, он стал испытывать силу своего духа, и для того, чтобы этой силе было больше простора, чтобы она не была связана телом, он стал истощать, обессиливать это тело. Он спал очень мало и съедал в день только несколько зерен риса, запивая их чистой водой. По целым дням и ночам он стоял на большом камне, взобравшись на его вершину.
Проходили недели и месяцы. Тело его таяло, как тает зажженная свеча чистого, ярого воска. Он думал, что наконец поднимется в воздух и сольется с ним всецело и нераздельно. Он не знал, поднимется ли он на воздух или нет, но он верил, крепко верил, что он полетит по воздуху, как летают птицы.
II
Слух об излечениях, которые производил Люций, дошел наконец до ассурского монарха Арамиза.
У этого могущественного и богатого царя была дочь Гамата – девушка пятнадцати лет, болевшая чуть не с самого ее рождения болезнью, которую не могли вылечить никакие доктора, маги и чародеи.
И царь послал к Люцию целый караван под начальством своего любимого полководца Анизана.
– Мертвого или живого, – наказал он Анизану, – но ты должен привести ко мне этого мудрого мага.
И Анизан отправился.
Посланные нашли Люция в глухом лесу стоящим неподвижно, как статуя, на камне и простиравшим руки и глаза к небу. Стали звать его, но он не слыхал зову. Он весь был погружен в созерцание неба и был как бы мертв.
Тогда начальник каравана сказал бывшим с ним:
– Влезьте на камень и спустите мудреца на землю.
Они влезли на камень, сняли с него Люция, бережно снесли его и положили на землю; а начальник каравана громко и величественно сказал ему:
– Меня прислал за тобой ассурский царь – Арамиз, и ты должен сейчас же отправиться вместе с нами, ибо дочь его – царевна Гамата – опасно больна.
Но Люций ничего не мог ответить ему. Он лежал, как мертвый, и глаза его были закрыты.
– А! – сказал Анизан. – Ты не слушаешься своего повелителя. Вылейте же на него целый ушат воды из холодного ключа.
Тотчас же стражники принялись исполнять приказание начальника. Они принесли воды из горного, холодного как лед ключа и вылили эту воду на Люция. Но на него не попала ни одна капля, а вся вода разбрызгалась во все стороны и измочила тех, которые выливали ее на Люция; а он продолжал лежать, как мертвый, с закрытыми глазами.
Тогда один, уже седой стражник их каравана сказал:
– О могучий повелитель, посидим в молчании некоторое время, и он, наверное, очнется; будем все желать, чтобы он проснулся.
Анизан и все бывшие с ним послушались этого совета; уселись в кружок около Люция и стали молча ожидать пробуждения.
Прошло полчаса, и Люций действительно проснулся, приподнялся, открыл глаза и, сидя, изумленно смотрел на всех присутствующих…
III
Когда ему объяснили, зачем послан к нему караван, то он, нимало не колеблясь, молча собрался и отправился с караваном к царю ассурскому Арамизу.
Царь тотчас же велел привести к нему Люция и сказал:
– Вот у меня дочь больна. Она с малолетства испорчена. Вылечи ее, и я дам тебе то, чего ты хочешь.
– О государь, – сказал Люций, – я ничего не хочу иметь, а чего я хотел бы иметь, ты не можешь мне дать.
Арамиз изумился:
– У меня много золота и драгоценных камней. Хочешь ли, я тебе отдам одну из богатейших моих провинций…
– А можешь ли ты мне дать простор и свободу? – спросил Люций.
Арамиз изумился еще сильнее:
– Какой же тебе нужен простор?
– Простор пространства и всего существующего.
Но Арамиз все еще не понимал, чего хочет мудрец, и смотрел на него с недоумением.
– О великий монарх! – сказал Люций. – Твои посланные нашли меня стоящим на камне, за великим подвигом. Я понял, что дух, обитающий в человеке, стеснен и связан его земным телом. Мы все прикованы к земле и к земным утехам. Чем меньше в нас будет желать и действовать тело, тем сильнее и свободнее будет наш дух. Я истощал, обессиливая тело, но до сих пор еще не дошел до того состояния, когда дух мой поднимет мое тело и будет носить его по воздуху. Я мечтал и о том, чтобы передать то, что я узнал, всем людям, моим братьям. Я мечтал, что можно будет наконец слиться со всем окружающим, с воздухом и светом… И вот на этой трудной задаче застали меня твои посланники… Когда я буду подниматься на воздух, то передо мной будут уменьшаться все поля, леса и горы – все представится мне мелким и ничтожным, и наконец сама земля представится мне в виде громадного шара, висящего в воздухе. Мой дух вознесет меня выше всего самого высокого на земле. Вот почему все земное мне представляется мелким, ничтожным, суетным и бренным.
– Ты ошибаешься, – сказал резко царь Арамиз. – Есть вещи на земле, которые драгоценны для сердца человеческого, и я теперь жажду, чтобы ты скорее возвратил драгоценное здоровье моей прекрасной дочери, царевне Гамате, которую я так люблю… Иди к ней. – И он указал ему на дверь.
И все придворные повели его к царевне Гамате.
IV
Она лежала на мягких, пушистых шкурах юл-барсов и лисиц. В ее комнате с низкими сводами было сильно накурено разными благовонными куреньями и было нестерпимо душно.
Бледная, исхудалая царевна мучилась злым недугом, который истощал ее силы.
Маленькая комната была полна ее прислужницами.
Люций велел всем оставить комнату, а двум стражам стоять у дверей и никого не впускать. Потом он подошел к ложу, на котором лежала царевна, и спросил ее:
– Веришь ли ты, царевна, в силу духа духов и в силу собственного духа? Если ты веришь, то мне будет нетрудно исцелить тебя. Если же не веришь, то мой собственный дух прежде всего должен побороть твое неверие.
– Я верю! – сказала Гамата.
Тогда Люций опустился на колени у ее ложа на шкуру нубийского льва и громким голосом, воздев руки кверху, начал читать такую молитву:
– О дух великий! Дух высший и вечный. Дух всех миров. Дух неба и земли! Дух, обитающий в небесных пространствах и в недрах земных. Дух, живущий в недосягаемых глубинах вселенной и в сердцах всех людей; дух, владеющий делами, волей и всеми помышлениями людей. К тебе прибегает всякая плоть, созданная тобою; к тебе обращаются мудрые и простые. К тебе стремится всякое дыхание, ибо в тебе начало и конец жизни, всего существующего и сущего в пределах земных и небесных. В тебе источник всякой жизни и блага. Оком милостивым, благим и премудрым взгляни на создание твое и исправь всю правду твою, ибо все, исшедшее из тебя, справедливо и верно. Темная сила и неразумие наше темнит свет твоей справедливости и покрывает пороками, бедами, несчастиями бессильную жизнь человека. Да привлечет милость твою вид страдающей юницы. Дух всех духов! Сострадающий к страждущему, да умилосердится глубина твоя и исправит поврежденное… И в то время, когда Люций воссылал к Духу духов это моление, неизведанная и непостижимая сила веры творила ее дело. Гамата приподнялась на своем ложе. Что-то сильное и крепкое проникло и разлилось по всему ее телу. Жар обхватил ее сердце, и крепость утвердила все ее члены. Сама не своя, как бы во сне, она встала с ложа, поднялась, шатаясь, сделала несколько шагов и пала на колени подле Люция.
– О! Дух духов! – говорила она, вместе с Люцием подняв дрожащие руки и стремясь и душой и сердцем к Тому, кого призывала… И слезы неудержимо лились из ее глаз.
Люций быстро поднялся с колен и, обернувшись к Гамате, все еще стоявшей на коленах, положил обе руки на ее голову.
– Да хранит тебя, – сказал он, – благодетель всего живущего, всего доброго и любящего. Да отринет Он от тебя всякое зло и беды, всякое горе и несчастие.
Гамата со слезами на глазах слушала это благословение. Ее сердце трепетало и наполнялось чувством, которое тянуло ее неодолимо куда-то вдаль, ввысь – к небу и звездам…
V
По дворцу Ассура быстро разнеслась весть, что царевна Гамата выздоровела. Все дивились ее быстрому выздоровлению. Все спешили поздравить ее – и все обратились с просьбой к Люцию, чтобы он вылечил их больных. Но Люций сказал, что излечивающая больных сила не в его власти, чем все просившие опечалились, а многие даже разгневались.
– Вот! – говорили они. – Дочь царя так он мог вылечить, а наших больных не хочет.
А царь Арамиз снова обратился к нему с предложением награды за излечение его дочери.
– Проси, – говорил он, – чего хочешь, ибо я все могу дать тебе.
И снова Люций сказал ему:
– Дай мне простора и свободу. В твоем дворце я связан. Мне нет нигде покоя. Одни кланяются и лебезят передо мной, другие смотрят на меня с завистью и готовы растерзать меня. Пусти меня в мою пустыню, а быть во дворце я не могу.
– Хочешь, я дам тебе богатую землю на правом берегу Ходжасана. Там ты построишь себе хороший дом-дворец и будешь жить в покое и довольстве. Тебе будут служить множество слуг. Я подарю тебе десять красивых невольниц и три больших золотых блюда.
– О государь! – сказал Люций. – Все земные богатства и утехи для меня ничтожны. Я бегу от людей, бегу от мира. У меня одна надежда впереди – унестись из этого мира на невидимых крыльях моего духа.
Сурово посмотрел на него Арамиз и подумал: «Это просто безумный».
И ему было крайне неприятно, что этот убогий мудрец отверг его богатое предложение.
Между тем тучи собирались над головой Люция.
Придворные врачи нападали на лечение Люция. Они все единогласно заявили Арамизу, что болезнь Гаматы неизлечима, а теперь какой-то чужеземец вдруг вылечил ее неизвестными им приемами, и они все кричали о нем как об ужасном шарлатане. К ним присоединились жрецы. Они почуяли гибель в учении, которое проповедовал Люций.
– Как! – говорили они. – Мы молимся нашим богам, а он проповедует какую-то ересь и молится какому-то Духу духов.
И они нашептывали Арамизу, что такое непочтение к богам может навлечь гнев их на все царство.
– И соберутся все окружающие его соседи, – говорили они, – и пойдут все войной на нас, и все жители царства должны будут погибнуть.
Арамиз испугался. Он посадил Люция в высокую башню и приставил крепкий караул к той комнате темницы, в которой он жил.
А в народе шли волнения, поддерживаемые жрецами.
Одни говорили: сила Люция нисходит с неба, потому что он излечивает больных, слепых и хромых.
А другие говорили: нет, он излечивает силой бесовской.
И составился большой заговор, чтобы его убить. Заговор шел от придворных и поддерживался жрецами.
Одни говорили, что Люций может летать по воздуху, а такая сила дается только с неба.
Другие говорили, что его носят невидимые бесы и что он летает с помощью бесовской силы. Но никто не видал, как он летает.
Около той башни, в которой он был заключен, постоянно толпился народ. Одни смотрели на маленькое окно его темницы, как на окно, из которого исходит святая, врачующая сила. Другие громко кричали, что его надо убить, казнить, уничтожить.
VI
Так прошло более месяца. Местами вспыхивали частые волнения. Одни говорили, что он, Люций, святой, другие ругали его имя.
Много раз ему в пищу или питье тайно вливали яд, но он ничего не пил и не ел, и по целым дням и ночам, когда умолкали крики вокруг его башни и наступала ночная тишина, он молился не переставая Духу духов.
Пошел другой месяц. К Люцию привыкли – и ждали.
И всего больше волновалась, любя его, царевна Гамата.
Раз в глухую, темную ночь она, накрывшись фатой, отправилась в башню, где содержался Люций, в сопровождении одной из прислужниц. Оба стража были усыплены сонным зельем. Прислужница несла ключи от темницы Люция. Она отперла тяжелые двери, а Гамата вошла в крохотную комнату, в которой томился и молился Люций.
Когда Гамата вошла, Люций поднялся с колен и низко поклонился ей, а Гамата упала на колена и поклонилась ему до земли.
– Святой мой и сильный силою духовною!.. – сказала она. – Научи, как мне спасти тебя. Стража твоя спит… Двери твоей темницы отворены… Иди на свободу… За оградой ждут тебя добрые кони и верный проводник… До света вы будете уже за гранью царства Ассура…
Но Люций покачал головой.
– Нет, царевна, – сказал он. – Это будет злое дело… Я спасусь, а погибнут те, которым повелено сторожить меня… Мы судим по нашим мелким, ограниченным понятиям о воле великого духа, и судим неверно и несправедливо. Если премудрый дух судил мне погибнуть, то я должен погибнуть…
Но Гамата, увлекая его за собой, так как она была гораздо сильнее его, вскричала:
– Идем! Идем! Человек только тогда рассуждает правильно, когда ничто его не стесняет… Когда он рассуждает на свободе, а не в темнице.
Они шли медленно, осторожно. Она увлекла его из душной каморки башни и начала спускаться по высоким и изломанным каменным ступеням.
И чем ниже спускались они, тем яснее и яснее разливался свет утра, так как солнце уже восходило и заря обхватила восток. А снизу доносились до них грозные крики. Народ уже толпился вокруг башни.
– А! Вот он! – ревела толпа. – Вот он!.. Чего же еще надо?! Улики налицо… Он хотел бежать… Он хотел увезти царскую дочь Гамату…
И толпа окружила и схватила их.
– Ты видишь… – прошептал Люций, – какова воля великого духа!
А толпа волновалась… сверкали мечи и кинжалы. Подстрекали жрецы и все злые люди…
Они схватили Люция и Гамату и повлекли снова наверх, на самый верх башни, а в той башне было без малого 300 локтей вышины.
– Мы сбросим их с башни, – кричала толпа. – Он умеет, говорят, летать по воздуху. Пусть полетит с изменницей Гаматой, обманувшей своего отца. Пусть оба летят.
И они с криком и гамом влекли их выше и выше… Но в этой суматохе никто не заметил, как вдруг исчезла Гамата…
«Люди, – думал Люций, когда толпа влекла его на казнь. – Я любил вас… я желал вам добра… больше… О! Гораздо больше, чем самому себе… Но да свершится воля великого Духа духов…»
Его привели на верхнюю платформу башни. Сильный ветер ревел и рвал со всех одежды.
– Бросай его!.. – кричала толпа. – Бросай, мы увидим, как он полетит.
Все бросились к парапету, толкая и тесня друг друга.
– Ну! – кричали одни. – Полетай теперь… Бесы тебе помогут. – И они раскачали его и бросили за парапет.
Но сила духа поддержала его тело и подняла его. Несколько секунд он оставался, вися неподвижно в воздухе. Затем медленно безостановочно начал подниматься с протянутыми кверху руками…
Взошло солнце и осветило эту сцену.
Все бывшие на башне как бы окаменели. Одни упали на колени, другие простирали к небу руки и били себя в грудь. Третьи обратились к жрецам, которые стояли тут же в белых одеждах. Они схватили их и с диким хохотом сбросили с башни.
А Люций тихо, медленно, торжественно поднимался, – солнце освещало его фигуру, которая казалась в темно-синем небе маленькой светлой звездочкой. Она как бы таяла, таяла в небе и наконец совсем исчезла из глаз…
Жил-был маленький мальчик, принц Гайдар, сын великого царя Аргелана, и этот маленький принц непременно хотел быть большим.
Он жил в большом дворце, в высоких комнатах, но ему казались они низкими. «Почему, – думал он, – комнаты строят только до потолка? Их нужно было бы строить выше потолка. Прямо до неба».
Когда за обедом или ужином подавали большую рыбу, то он думал: «Почему же она большая?! Если бы она не уместилась в эту залу, то она действительно была бы большая… Вот кит! Его скорей можно назвать большой рыбой, хотя кит вовсе не рыба… Он плавает в большом море-океане!»
Когда его возили по морю и говорили ему: «Видишь, какое оно большое, его берегов не видно», – то он думал: «Да. Оно кажется вам большим потому, что его берегов не видно. А если бы они были видны, то и море было бы для вас небольшое».
Когда он бывал на высоких горах, то смотрел на небо и все думал: «Ах! Можно было бы их сделать еще выше… выше… выше – до самого неба».
Наконец, хотя и не скоро, его желание исполнилось: он сделался большим; он вырос выше всех людей, которых он знал, но и этого ему было мало.
– Что же, – говорили ему, – ты хочешь быть великаном и показывать себя за деньги?
– Да, – говорил он, – я хотел бы быть великаном, но не таким, как вы думаете. Я вижу звезды, и мне хочется дорасти до них, чтобы они были перед моими глазами… и не только эти звезды, но и все другие солнца, чтобы они светили мне в глаза и от этого света я сделался бы таким большим, что меня нельзя было бы смерить никакой мерой. Понимаете ли вы? Я боюсь всяких мер, весов и стадий, и вот почему я желал бы вырасти настолько, чтобы они не могли меня нигде достать и… смерить.
Когда достиг он совершеннолетия, отец его, царь Аргелан, сказал ему:
– Ну, Гайдар, теперь ты большой, и надо тебе выбрать невесту. Возьми свиту и ступай в царство Коромандельское, к царю Баджрахану. У него дочь, царевна Гудана, – красавица.
И пошел Гайдар со свитой в царство Коромандельское.
Увидал Гайдар Гудану и изумился. Такой красавицы он еще никогда не видывал.
И стал Гайдар разбирать и судить: где и в чем у Гуданы красота сидит? Думал, думал, ничего не решил. Пришел он к Гудане, встал перед ней на колени и говорит ей:
– Царевна прекрасная!.. Я без ума от твоего дивного образа, и думаю я: чем этот образ мне нравится? Глаза твои небольшие, но если бы они были больше, если бы они были громадные, то они были бы уродливы и безобразны. И лоб, и нос, и рот твой – все небольшое, но все мне нравится; и больше всего мне нравится взгляд твой открытый, глубокий и ласковый. Царевна Гудана! Красавица из всех красавиц! Если бы ты согласилась выйти за меня замуж, то я был бы без меры счастлив.
– Царевич Гайдар! – отвечает ему Гудана. – Без меры может быть только великое. И тебе лишь кажется, что ты можешь быть счастлив без меры. Если же ты действительно хочешь быть счастливым, то узнай, что такое есть «великое», и тогда приходи ко мне и будешь женихом моим. Иди, ходи по свету белому! Ищи великого, ибо к нему постоянно стремилось и стремится сердце твое.
И пошел царевич Гайдар, пошел один, без свиты своей, пошел искать по всему свету «великого».
«Великое, – думал он, – скрыто в истине. Кто познал ее, тот познал великое, и сердце его не мучится, не трепещет, не боится ничего, а радуется».
И пошел он к мудрецам земным. Их же много по белу свету рассеяно, и все они ищут истину. Исходил он много всяких мер земных, исходил много всяких земель. И видел, и говорил со всякими мудрецами, но не могли мудрецы указать ему великое. Говорили они о мириадах миров небесных, о беспредельности всего мироздания, всей вселенной, но в этой беспредельности он видел только предел земной мудрости и не нашел он в ней «великого»…
Один раз идет он по дороге, которая ведет в небольшую деревушку, и видит: стоит на этой дороге седой дервиш, старый-престарый; и смотрит он на толпу детей, которые весело играют на лужайке. Подошел Гайдар к дервишу и стал смотреть на ту же толпу и при этом подумал: «На что же он смотрит? На малых ребят?!» И спросил Гайдар дервиша: на что он смотрит так пристально?
– На великое, – отвечал дервиш. – Великое скрыто в малом. В малом лежит великое сердце, которое может любить и любовью все победить.
Усмехнулся Гайдар и отошел от дервиша.
«Это сумасшедший, – подумал он. – Я слышал от земных мудрецов, что дети любят только себя самих, а как они любят, это нельзя смерить никакой меркой».
И пошел он дальше, в ту самую деревушку, куда вела дорога.
В деревушке, на краю ее, была небольшая хижинка, и около этой хижинки сидела женщина, а около нее была целая дюжина ребят. Старшей девочке было лет двенадцать-тринадцать. Младшего, годовалого младенца, женщина держала на руках.
Мальчик был болен, умирал и, бледный, задыхающийся, лежал на ее руках. Женщина тихо плакала…
Гайдар подошел к ней и спросил:
– Что, он болен?
– Болен, – сказала женщина, – умирает. – И она вытерла глаза своим платком, которым была обвязана голова ее.
– Это сын твой? – спросил Гайдар.
– Сын.
– А это, кругом тебя, твои дети?
– Мои.
И все дети молча, серьезно, потупившись, толпились около нее.
– Чего же ты плачешь? – спросил Гайдар. – Смотри, сколько у тебя детей… И тебе жаль одного…
– Если бы их и было не столько, а в десять раз столько, – сказала строго женщина, – если бы их было так много, как песку морского… все равно мне было бы жаль потерять хоть одного из них, ибо я любила бы всех их.
И при этих словах дети прижались к матери, а она еще сильнее заплакала.
И отошел от нее Гайдар, а отходя подумал: «Нельзя смерить эту любовь никакими мерами. Не в ней ли лежит «великое»?»
И задумался Гайдар и не заметил, как подошел к большой высокой горе, а у подошвы ее росли большие деревья, и под одним деревом лежал человек, а другой сидел, наклонясь над ним.
Гайдар устал и невольно, не замечая, опустился на землю и сел подле человека.
– Что, он болен? – спросил Гайдар человека.
Но человек ничего не ответил ему. Он растирал грудь у того человека, который лежал и тихо, жалобно стонал.
– Это брат твой? – снова спросил Гайдар.
Человек обернулся к нему. Строго, пристально посмотрел на него и тихо вразумительно проговорил:
– Все мы братья… У всех у нас один отец… – И он снова начал растирать грудь больному человеку.
Больной стонал тише и тише. Он засыпал. Растиравший тихо отнял руку от его груди, медленно повернулся к Гайдару и, приставив палец к губам, тихо, чуть слышно прошептал:
– Он уснул! И да будет мир над тобой, брат мой!
Он сидел несколько минут молча, опустив голову. Гайдар смотрел на его худое, потемневшее лицо, с большими задумчивыми глазами, на его изношенную, изорванную одежду, на его бедную, заплатанную чалму и думал: «Он, наверное, беден и несчастен». И он тихо вынул из пояса кошелек и так же тихо положил его на руки своего собеседника. Но он отстранил его руку и сказал:
– Я не нуждаюсь!.. Отдай твое золото тому, кто не вкусил от даров нищеты и бедности… и кто думает купить на него продажные земные блага…
– Ты, верно, из одной деревни с этим больным? – спросил Гайдар.
– Нет, он из Иудеи, а я – самарянин. Меня зовут Рабель бен-Ад, а его – Самуилом из Хазрана.
Потом, помолчав немного, он пристально посмотрел на Гайдара своими черными глубокими глазами, и Гайдару показалось, что в этих глазах блестит тот же огонь, который он видел в глазах детей, игравших на лугу. И тот же самый блеск он видел в глазах женщины-матери, державшей на руках умирающего ребенка – ее сына. Рабель нагнулся к Гайдару и начал говорить ему тихо, поминутно оглядываясь на спящего Самуила.
– Лет пятнадцать тому назад, когда была, как и теперь, вражда между самарянами и иудеями, он пришел как вождь, с целым легионом наемных людей; он сжег нашу деревню, а отца и мать мою увел в плен.
– Что же ты ему сделал за это?! – вскричал в ужасе и негодовании Гайдар.
– Постой, – сказал тихо Рабель, – выслушай и потом суди, если имеешь право судить. Мне тогда было семнадцать лет… Я был молод. Кровь кипела во мне… Мне хотелось отмстить… Но у меня была сестра Агария, которую я любил больше отца и матери и больше всего на свете. Она была добра и красива. Ей было двенадцать лет. Когда Самуил напал на нашу деревню, я убежал с ней в горы Гаразимские и там скрывался в пещерах. Когда же через три дня я вернулся в нашу деревню, то не нашел ее. От нее остались одни развалины. Все было разорено и сожжено иудеями. Я взял сестру и снова увел ее в горы. Мы были прежде богаты, и у нас ничего не осталось. Мы питались подаянием от добрых людей. Ходили из селения в селение и собирали милостыню. Отца и мать мою увели и продали моавитам, и они умерли в плену. Так прошло года два или три. Один раз ночью на пещеру, в которой мы скрывались вместе с двумя другими семьями самарян, напали разбойники. Они вырезали почти всех, за исключением меня и Агарии, которую увели в плен и продали, как я потом узнал, Самуилу в невольницы. Тогда я дал клятву Богу всемогущему отмстить, отмстить за отца и за мать, за бедную сестру мою. Я стал издали скрытно следить за Самуилом. Много раз я видел, как он выходил из своего дома, но он выходил всегда окруженный свитой и своими друзьями, приятелями, и мысль, что мне могут помешать, что меня схватят и казнят, эта мысль останавливала меня.
Прошло немного времени. Один раз ночью, когда вся кровь волновалась во мне жаждой мщения и я не знал, где найти место вражде моей, я вышел за город. Ночь была душная, но ясная. Полная луна ярко освещала все предметы. Я, не помня и не замечая как, спустился в один из оврагов. На дне его лежала мертвая женщина, и при свете луны я узнал, что это была моя дорогая сестра, моя Агария. Большая рана была в груди ее, прямо против сердца. Рана смертельная… Я лишился чувств и когда пришел в себя, то снова повторил страшную клятву об отмщении врагу моему. Рабель замолчал и на одну минуту закрыл лицо руками, как бы подавленный невыносимо жестокими воспоминаниями. Потом резко отнял руки и снова быстро заговорил:
– Ее убил Самуил. Это была последняя капля горечи, влитая в мою истерзанную душу. Я тогда жил одной мыслью отмстить… Мне казалось, что убить его будет мало, мало за все выстраданное моим бедным сердцем. С восходом солнца я просыпался с этой мыслью, она не расставалась со мной целый день. Я придумывал тысячи планов, как бы отплатить ему самым жестоким образом. У него не было ни отца, ни матери. Он был круглый сирота. Он был страшно богат и не любил никого… Я тогда не знал, что истинное сокровище скрыто в любви и что, не имея ее, он был беднее всякого нищего и беднее, о! гораздо беднее меня… Так прошло еще несколько лет. Один раз я потерял его из виду. Он уехал, но куда, я не знал, и тогда… (при этом Рабель схватил руку Гайдара и крепко сжал ее) и тогда я узнал такие мучения, каких я не испытал во всю мою жизнь. Я желал смерти, я искал смерти. Несколько раз я порывался убить себя… Но меня останавливала страшная, данная мною клятва. Я думал, что для клятвопреступников нет прощения… Что же, думал я, ожидает меня за гробом? Гнев Господа и новые, более сильные мучения. А между тем мне постоянно мерещились тени отца моего, и матери моей, и моей милой и дорогой Агарии. Я видел их бледными, грустными и кивающими мне головами. Я видел их страшные кровавые раны, видел и днем и ночью, и мучился, и страдал невыносимо…
Тут голос его снова прервался… Он говорил с трудом, задыхался и, наконец, совсем остановился, помолчал несколько минут и затем снова начал тихим шепотом:
– Нет тяжелее страдания для человека, как стремиться отомстить и изнывать в бессилии… – Он помолчал и снова продолжал рассказ: – Все это прошло, давно прошло… все забылось… и за это я буду вечно благодарить Бога, если Он даст мне жизнь вечную. И еще больше, еще сильнее буду благодарить Его за то, что Он всю мою злобу, всю жажду мщения истребил и превратил в доброе великое чувство.
Прошло много лет. И он, Самуил, снова возвратился… Я купил хороший нож. Я сам отточил его и не расставался с ним ни днем, ни ночью. Я почти не спал, и есть мне не хотелось. Днем и ночью я бродил около его дома. Но он был заперт, и Самуил никуда не выходил. На четвертый или на пятый день, не помню, я вышел на улицу поздно вечером, смотрю, впереди меня идет он. Я сразу узнал его по его широкому плащу, его абу – белому с красными полосами. Такие плащи продаются только в Дамаске. Он тихо шел и хромал, опираясь на высокий посох. Я ускорил шаг и опередил его. Луна светила прямо на его лицо, и я узнал его. Кровь бросилась мне в голову. Еще одно мгновенье, и я кинулся бы на него, но я переждал это мгновенье. Одно соображение быстро мелькнуло в моей голове. Он идет за город, в пустынное место. Он будет, может быть, около того оврага, в который он уложил тело моей бедной Агарии. Я пропустил его и тихо пошел за ним. Кровь моя клокотала. Адская злоба и радость кипели в моем сердце.
Он шел тихо, почти поминутно останавливаясь и издавая тихие, жалобные стоны. Он, очевидно, был болен, страдал. Наконец мы вышли за город. Он прямо подошел к тому оврагу, в котором я нашел мертвую Агарию. Он опустился на краю его и со стоном припал лицом к земле. Он был теперь в моей власти. Я вынул мой нож. Я мог убить его безнаказанно и столкнуть в овраг. Где-то в глубине моей души раздалось: ты убьешь беззащитного. Но разве отец, мать моя и моя бедная, дорогая Агария не были также беззащитными? Я, как безумец, в ярости взмахнул ножом над его спиной… Но в то же самое мгновенье кто-то остановил мою руку. Я обернулся. Позади меня никого не было, а в ушах моих громко и ясно раздались слова: «Мне отмщение и Аз воздам».
В глазах у меня потемнело. Точно какой-то белый туман заволок их. И когда этот туман рассеялся, то я увидел, что стою далеко от оврага и весь дрожу. И вдруг я вижу, что Самуил, тихо стеная, поднялся и, шатаясь, подошел или скорее подбежал ко мне. Он раскрыл передо мной грудь свою, и на этой груди была громадная кровавая язва.
– Кто бы ты ни был, – вскричал он, – сжалься надо мной – убей меня! – И он повалился мне в ноги. – Убей меня, потому что жизнь моя – одно непрестанное мученье. Я сам бы убил себя, но мне страшны мученья за гробом, вечные мученья самоубийцы. Я совершил ужасный грех. Я сжег и разорил целое селение самаритян, я продал в плен отца и мать одного из них по имени Рабель бен-Ад; я увел у него его сестру Агарию, обесчестил ее. Я совершил много злодеяний. Если бы я знал, где живет Рабель, я пришел бы к нему и он, наверно, убил бы меня.
В эту минуту мне ужасно хотелось сказать ему: Рабель перед тобою, но я удержался. «Нет! – сказал я сам себе. – Я откроюсь ему тогда, когда жизнь ему будет дорога, а не будет мучением». И с этой минуты мы стали неразлучны.
Теперь прошло уже три года. Три года я, Рабель, постоянный свидетель невыносимых страданий, соединенных с ужасными мучениями совести. Один раз Самуил не спал целых три ночи сряду. Постоянная мучительная боль во всех костях не давала ему покоя ни минуты, и я тогда подумал: «Можно ли страдать еще больше и недостаточно ли я отмщен? Отец, мать и сестра моя перестали страдать, а он, этот несчастный злодей, мучится и днем и ночью, мучится не переставая». И вспомнил я, что сказал Тот, кто остановил мою отмщающую руку: «Мне отмщение и Аз воздам».
И понял я, что никакие нож, и меч, и огонь не накажут и не отмстят так, как отмстил за меня Тот, кто управляет звездами и движет морями. В эти три года ненависть моя мало-помалу исчезла. Сначала, когда я слушал стоны Самуила, каждый стон и каждое его слово волновали мое сердце, и оно просило его крови. Но когда он лежал беспомощно на моей груди, измученный и разбитый болью, когда он засыпал на этой груди, обессиленный страданьем, то чувство ненависти во мне смягчалось, стихало – и я чувствовал только одно сострадание. Я жаждал так же, как и он, прекращения этих страданий…
Но иногда мне приходила в голову злобная мысль: открыться ему, сказать ему: «Я Рабель бен-Ад; я тот, у которого ты убил отца, мать и сестру. Ты уничтожил мой дом, разорил его, ты лишил меня всего – всего, что дорого человеку, и вот видишь, я ухаживаю за тобой, как за моим добрым другом. Я отмстил. Я заплатил тебе добром за зло…» Но такое признание могло увеличить его страдания, к мучениям совести прибавилось бы еще одно ужаснейшее мученье, а между тем и тех, от которых он страдал, было довольно, слишком довольно. Зачем же я буду еще его мучить?..
Вот уже более двух лет он не может жить без меня. Ему становится легче, когда я кладу руку на грудь его и растираю ее. Я давно уж бросил в реку тот нож, которым хотел убить его. Я давно уже не могу покинуть его… и… мне страшно и стыдно признаться даже самому себе… – И он закрыл лицо руками и прошептал тихо, так тихо, что Гайдар едва расслышал его слова: – Я… я… люблю его…
И из-под пальцев, прижатых к глазам, покатились слезы.
Гайдар смотрел на его тяжело подымавшуюся грудь, и ему ясно казалось, что в этой груди бьется «великое», человечное сердце.
Он тихо, задумчиво встал с земли и пошел прямо, прямо к той высокой горе, которая поднималась перед ним. Подъем был крутой, но ему казалось, что там, на этой высокой горе, он найдет «великое».
«Люди, – думал он, – всходили на эту гору, чтобы молиться, и, может быть, в этой молитве они находили великое!»
И он шел, поднимался, не замечая усталости. Его сердце как будто само поднималось, и ему становилось легко, свободно.
Он вспомнил Гудану, но это воспоминание как-то промелькнуло бесследно в его сердце, как далекая зарница среди жаркого лета. Он вспомнил детей, которых видел там, на лугу, и это воспоминание осветило его, и сердце его забилось и как бы расширилось. Он вспомнил о матери, плачущей над ребенком, и его сердце наполнилось состраданием ко всем ее детям, и ко всем детям земли, и ко всем земным страданиям. Наконец, он вспомнил о Рабеле и Самуиле, и его сердце затрепетало свободно и радостно. Оно расширилось. Оно захватило все земное, все сотворенное «Великим» и Его – «Великого».
Но сердце человека не может обхватить и заключить в себе этого «Великого». Сердце Гайдара разорвалось.
Он упал.
Он был на вершине горы. Горный воздух был кругом него. Был простор, была свобода, и ясное, заходящее солнце освещало своими прощальными лучами лицо его, на котором была тихая, бесстрастная улыбка.
Говорят, что люди прежде не смеялись оттого, что на земле тогда ничего смешного не было. Другие говорят, что сами люди были прежде умнее и понимали, что ни над чем не надо смеяться, потому что сама природа никогда ни над чем не смеется и все в ней, точно так же, как и в человеке, который не больше, как только частица природы, полно глубокого и великого смысла. А кто смеется над чем бы то ни было, тот, значит, не понимает этого смысла и видит только то, что лежит сверху у него перед глазами.
Но вот раз, в одном большом городе, случилась очень странная вещь. В ясный день вдруг, неизвестно откуда, посреди самой большой площади и даже не прямо на ней, а над ней, просто на воздухе, появился хорошенький мальчик, и как только увидали его люди, так все разом, как будто сговорились, захохотали; и нельзя было не захохотать, потому что у мальчика было такое лицо, на которое нельзя было смотреть без смеху, а между тем это лицо было очень хорошенькое. У мальчика были отличные черные глазки, но такие лукавые, так они плутовски бегали из стороны в сторону, что каждого так и подмывало выкинуть какую-нибудь веселую штучку. Рот мальчика улыбался самым предательским образом, на щеках выступали веселые ямки, а маленький носик при этом так нахально подпрыгивал кверху, что решительно все помирали со смеху, и старый, и малый.
Но ведь и смеху приходит точно так же конец, как и горю. Нахохотавшись вдоволь, до слез и до колотья в боках, люди уже было принялись хладнокровно рассматривать чудного мальчика. Но тут он снял с головы шапочку в виде горшочка, и вдруг прямо из головы у него брызнул фонтан самых блестящих искр. Эти искры полетели вверх, направо, налево, во все стороны. Они падали на деревья, на камни, на ослов, лошадей, коров, свиней, людей – везде. И куда бы ни упала искорка, люди начинали хохотать неистово. Падала искра на гнилой забор – люди смеялись, падала на кривое дерево – смеялись, падала на покачнувшуюся избушку – смеялись, падала на горбатого старичка – смеялись, на хромую старушку – смеялись, на гнилую воду – смеялись, на грязную дорогу – смеялись, летели искры в небо – и над небом люди смеялись. Так что, наконец, ничего не осталось на земле и на небе, над чем бы люди не посмеялись. Все было осмеяно. Но Чудному мальчику этого было мало. Он не только сам бросал во все искры, но научил и людей делать то же. И вот с тех пор люди и ходят и смотрят: не блестит ли где искорка или нельзя ли в кого-нибудь пустить искру. Ведь это так весело!
И вот в том самом большом городе, где явился Чудный мальчик, у царя была дочь-красавица и такая добрая, что весь народ любил ее и не мог на нее надивиться. Все звали ее: наша добрая, прекрасная царевна Меллина. Пробовал и в нее бросать свои искры Чудный мальчик, но искры не долетали до нее или падали у ее ног и гасли. А все-таки Меллина боялась, и сильно боялась, этих злых искр. Прежде она, бывало, оденется как ни попало, что под руку попадет или что подадут ей. Все, думает, будет хорошо, потому что сама хороша. А тут вдруг начала оглядываться и осматриваться, так что зеркало ее, которое до тех пор стояло одинокое, в пыли, теперь все просияло от радости. Все, что ни надевала она, все оглядывала, не разорвано ли где, нет ли пятнышка, да не будет ли сидеть на ней коробом. Была у царевны Меллины старая толстая кормилица Марфа, которая ее вскормила и вынянчила, и жила эта кормилица далеко от дворца, в самом грязном дрянном квартале, который звали Свиные Закутки. Когда она совсем вынянчила царевну, то царь позвал ее к себе и сказал:
– Ты теперь будешь жить всю остальную свою жизнь и со всеми своими детьми во дворце на покое. Я жалую тебе с моего царского стола и плеча. Дарю тебе лисью шубу, багрянцем крытую, две нитки зерна бурмицкого и три золотые гривны. Живи себе с миром.
Но толстая Марфа поклонилась царю в ноги и говорит:
– Спасибо тебе, царь-государь, за слово ласковое, за жалованье царское; охотой пошла я в твои палаты твою царскую дочь кормить и пестовать, охотой жила я тут восемь лет, охотой пойду я теперь на волю в мою убогую хижину. Можешь ты меня, царь-государь, казнить и миловать, на то есть твоя царская власть и воля. Но коли по моему глупому желанию ты поступить изволишь, то пусти ты меня в мой домишко. В нем умер мой старый батюшка, в нем скончалась моя родная матушка, в нем мы жили любовно и простились навек с моим мужем, что ушел на войну в твое царское войско и убит на сраженьи. И еще прошу у тебя милости, – и снова поклонилась старая Марфа царю земным поклоном. – Не жалуй ты меня твоей царской казной, не дари ты мне шубу, багрянцем крытую, не дари ты меня бурмицким зерном. Жила я в палатах твоих, служила тебе верную службу, не корыствовалась, вскормила, вспоила я, вынянчила ненаглядную мою звездочку, царевну мою прекрасную, кормила, растила я ее и все думала: созревай, наливайся, мое зернышко, ласточка моя сизокрылая; вырастешь ты, зацветешь алым цветиком; тогда полюбуюсь я на тебя, моя царевна прекрасная, и скажу тебе слово правдивое: живи, царская дочь, любовно и праведно, пусть твое сердце будет полным-полно любовью да кротостью, печалью да жалостью ко всякому горю людскому, горю народному, горю великому. И если то желание мое совершится да сбудется, то не будет для меня выше и краше той великой радости.
Посмотрел царь на мамку-кормилицу, посмотрел из-под седых бровей взглядом милостивым, ласковым и сказал ей:
– Спасибо тебе, слуга верная, усердная, что умела служить от сердца чистого, по правде, по совести. Будь все по твоему желанию, не жалую я тебе подарка царского, а дарю я тебя подарком по сердцу: не царь тебе дарит его, а отец дарит, за свою дочь единородную, на память по нем добрую.
И встал старый царь, снял со своей груди ладанку, в которой был зашит великий секрет – запрет от ночного погрому и разорения, от лютой смерти безвременной, от лихого злодея-ворога.
– Завещал мне эту ладанку мой родитель, покойный царь. Передаю ее тебе, моя верная слуга, носи ее, меня поминаючи, да спасет она тебя от всякой лихой беды!
Упала на колени старая мамка-кормилица, упала и заплакала. Вся душа ее от великого счастья перевернулася. Все сердце ее взыграло, запрыгало, и ничего от радости не могла она вымолвить.
Крепко любила царевна мамку свою и рассталась с нею не без горьких слез. Она часто видалась с ней, и чем больше росла, тем крепче становилась эта любовь; потому что царевна сердцем понимала, что за добрая, чистая душа была у простой ее мамки.
И вдруг эта добрая, любимая и любящая мамка сильно захворала и только просит и молит, как бы повидать ей перед концом ее царевну родимую: «Взгляну я, – говорит, – хоть одним глазком, на мою ненаглядную, взгляну в последний раз и умру, ее благословляючи!»
Встрепенулась царевна. Одеваться скорей да бежать к моей родимой старой мамке! Но только что взялась за дверную ручку, как вдруг вспомнила, что теперь уже все стало не то. Что нельзя теперь ей идти, как прежде было, попросту, что осмеют ее теперь, ошикают двадцать раз, прежде чем дойдет она до Свиных Закуток. Бросилась царевна наряжаться, но и тут беда: что ни наденет, все не так: то ей кажется слишком парадно, и все скажут: «Вон, смотрите, как вырядилась царевна, это она идет к своей умирающей мамке!» То ей кажется, что все на ней и бедно, и гадко, так что все на нее уставятся, как только она выглянет на улицу. Все она у себя перерыла, все перебросала, то наденет, то опять сбросит, вся измучилась, а часы летят себе, не дожидаются, и уже вечер на дворе, темный осенний вечер, и снег с дождем в окна колотит.
– Ах! Я несчастная! – плачет царевна. – Неужели я не увижу уж тебя, моя добрая, дорогая мама. Нет, нет, я должна тебя видеть и помочь тебе! Все вздор! Будь что будет – пойду в чем есть.
И, накинув шубейку, бросилась она к двери. Но прямо против нее на той стороне улицы мальчишки прыгали по лужам, и как только отворила она дверь, так все они разом завизжали и захохотали, точно увидели самого Чудного мальчика.
Зажала царевна уши, бросилась как угорелая назад в свой терем.
– Что делать, ах, что делать! – схватилась она обеими руками за головку. А на дворе уже ночь темная, и вьюга так и злится. – Мама, дорогая моя, – стонет царевна, – умрешь ты, не видав своей дочки! Что же я буду делать, несчастная! – И ломая руки, упала она на перину пуховую, уткнулась головой в подушки и горько, горько зарыдала.
И вдруг слышит она, что кто-то дотронулся до ее плеча. Обернулась царевна и при свете лампадки видит – стоит перед ней маленькая старушка. Прыгают у нее глазки, как свечи, косматая голова трясется, а беззубый рот и жует, и шамкает, и улыбается.
– Кто ты? – спрашивает в испуге царевна.
А старушка хихикает.
– Ты колдунья? – спрашивает царевна и в ужасе жмется к стене, прячется в подушки, и хочется ей кликнуть своих сенных девушек.
– Может быть, колдунья, может быть, вещунья, почем знать, а пришла я, – шамкает старуха, – помочь твоему горю, из злой беды выручить.
И царевна встрепенулась, даже страх прошел.
– Ты перенесешь меня, – говорит она, – к моей старой мамке, перенесешь сейчас же на крыльях ветра, на ковре-самолете? Ведь это ты можешь сделать? Да?
– Хи-хи-хи! Моя красавица, все я могу, только поспешишь – людей насмешишь, видишь ты какая прыткая. Зачем нам по ночи летать, когда можно днем и пешком дойти. Поживет твоя мамка и до утра, не умрет, до самых полден. А ты лучше скажи, моя ясочка, чем это ты собралась твою мамку от злой болести вылечить, от смерти лютой освободить, али так просто своими ясными глазыньками?
Схватила себя царевна за голову, вся покраснела. Тут только вспомнила она, что вместо того, чтобы подумать, чем своей мамке помочь, она только и заботилась о том, как бы не посмеялись над ней. Вскочила она, давай собираться к лекарю, какому-нибудь знахарю. А старушонка все хихикает и головой трясет.
– Не надо, моя радость, не надо, моя красавица, чего суетишься, все у меня есть, все, что надо тебе; а к знахарю не ходи, никакой знахарь не поможет. – И старуха вытащила из-за пазухи скляночку. – Вот для твоей мамки зелье лекарственное, снадобье целительное, выпьет она его, вся болесть ее пройдет.
– Дай, дай! – говорит царевна и протягивает руки, а старуха хихикает и не дает склянки.
– Погоди, красавица, царевна прекрасная, не все вдруг.
– Дай, – просит царевна, – я тебе все отдам, все, чего хочешь.
– Ничего мне не надо, все у меня есть. На тебе скляницу, – сказала старуха и отдала царевне лекарство. – Только вот что, моя радость, душа ты моя прекрасная, лекарство это не простое, а волшебное, волшебное заговоренное, надо его давать умеючи, относить с почетом да с оглядкою. Пойди ты с ним завтра утром, как только на башне сторожевой пробьет царский колокол, пойдешь, на восток поклонишься, и неси ты его бережно, к сердечку своему прижимаючи. Слышишь ли, моя красавица?
– Слышу, – говорит царевна.
– Ну, и пойдешь ты, приоденешься, не в простое платье, а в заморское, – а я тебе и платьице принесла. И без этого платьица лучше и не ходи. Никакое лекарство не поможет.
И старуха вынула из-под мышки узелок, развязала его.
– Вот тебе, моя красавица, перво-наперво шапочка; шапочка парадная, нарядная. – И старуха вытащила большой красный колпак, весь он был испачканный, весь обшит бубенчиками, а на самой макушке был пришит целый пук кудели нечесаной.
Всплеснула ручками царевна и побледнела, говорит:
– Как, я должна идти в этом колпаке?!
– Должна, моя радость, должна, свет мой писаный, так уж по обычаю следует. А вот тебе к нему и душегреечка.
И старуха опять вытащила из узла коротенький, нагольный полушубочек, издерганный, засаленный, вывороченный шерстью кверху, и весь полушубочек был обшит волчьими хвостами.
– Вот тебе, мое сокровище; надень, прирядись, моя радостная, будешь красавица писаная, рисованная; наденешь, пойдешь, все люди будут дивиться на тебя да ахать.
Покраснела царевна, ножкой топнула.
– Как, – говорит, – ты смеешь мне, царской дочери, такой наряд шутовской предлагать!
– У! Моя красавица! Не сердись, моя родная. Хочешь – надевай, хочешь – нет, твоя воля: наденешь – мамку свою спасешь, не наденешь – свою царскую спесь спасешь; что дороже тебе, то и выбирай; а я тебе ничего не предлагаю, я говорю тебе, что надо сделать.
Стоит царевна, закусив губку, то ее в жар, то в озноб бросает. И стыдно ей, и гадко, и жалко мамки любимой, и себя жалко, и если б могла она убить старуху, непременно убила бы ее; а старуха все хихикает.
– Не забудь только, моя красавица, – и старуха нагнулась ей к уху, – завтра утром будет великий смотр: соберутся тебя смотреть, сватать женихи со всех земель, из заморских стран. Приедет также и твой возлюбленный царевич Алексей. Вот тебе и все, моя радость белая! А теперь прощай, меня не забывай и лихом не поминай! – И старуха вдруг исчезла, пропала, как будто и вовсе ее не бывало.
Стоит царевна ни жива, ни мертва, белые ручки ломает, из глаз слезы катятся, ротик открыт, зубы стиснуты. И чувствует она чутким сердцем, что ей надо идти. Нельзя ей бросить свою мамку, нельзя ее добрую, честную, отдать смерти неминучей. Нельзя! И вспоминает она, как всегда была эта мамка до нее добра да ласкова, как не спала она с ней по целым ночам. Как один раз ходила она в метель и вьюгу за двадцать верст, только затем, что царевне захотелось посмотреть, каким цветом волчье лыко цветет. «Пойду я к тебе, моя добрая мамка, пойду я в шутовском наряде». Но как подошла она к этому наряду, как посмотрела на него да вспомнила, что путь ей до Свиных Закуток лежит, задрожало ее сердце, замерло, все туманом в глазах у нее подернуло, белее полотна белого, словно мертвая, она как сноп на постелю повалилася. Долго лежала она, себя не помня и ничего не чувствуя, и наконец очнулася, кругом осмотрелась. «Где я, что со мной?» – думает.
На столе перед ней склянка стоит, на скамье перед ней дурацкий наряд разостлан лежит, а в окно чуть-чуть светит, белый день занимается. Встала царевна, словно охмелела от хмельного вина, подошла она шатаючись к окну, села у него, на сердце у нее словно тяжелый камень лежит, в голове у нее словно холодный свинец налит. А над окном уже проснулась, нос очищает любимая птица царевны – на шестке сидит ловчий Сокол, серебряными путцами прикованный, сидит, на все гордо озирается. Проходит целый час. Смотрит царевна в окно и не видит ничего, и ничего не думает. Чувствует только, как сдавило ей всю ее грудь белую, в голове, словно колесо, вертится и прыгает. Прошел еще час, показалось солнце красное, а царевна все сидит, как во сне каком. Заскрипела дверь, вошла в терем небольшая собака, старая-престарая, Вовком звали эту собаку простую, дворовую, и царевна каждый день кормила, поила ее. Не мог уж он, Вовок, лаять от старости, а только хрипел и тявкал. И это тявканье понимала царевна Меллина: в нем она слова человечьи слышала.
Вошел Вовок, визжит, к царевне ласкается.
– Что, – говорит, – царевна, ты рано поднялась, о чем задумалась, задумавшись, пригорюнилась?
– Как не горевать мне, Вовок, когда горе мне большое приключилося. – И рассказывает царевна Вовку свою беду тяжелую.
– Что ж, – говорит Вовок, – ты поди! Это ничего, что над тобой будут смеяться. Теперь над всеми смеются, а когда все над всеми смеются, тогда никому ни завидно, ни обидно. Я тебе про себя расскажу. Я стар, сед и кудлат. Шерсть на мне торчит вихрами, хвост и уши мои давно обрублены. Все надо мной смеются, кроме тебя, моя царевна добрая. Но никого я не виню, ни на кого не жалуюсь. Чем же виноваты люди, что я такой смешной уродился? Пусть смеются! Веселый смех лучше горького горя. Они смеются, а мне весело, значит, я недаром на свете живу.
Слушает царевна, слушает, думает, и как будто ей легче становится от простых слов доброго Вовка.
– Слушай, царевна, – сказал вдруг ловчий Сокол, – был я вольной птицей, летал по поднебесью, плавал я, купался в чистом воздухе, носился гордо, стрелой летал над лугами зелеными, над лесами высокими. Изловили меня злые люди; изловили, связали, насмеялись над вольной птицей. Надели они на меня шутовский наряд, шапку с перьями, приковали меня крепко-накрепко цепью серебряной. Что мне за дело, что эта цепь серебряная! Неволи не выкупишь ни золотом, ни серебром. Пусть надо мной, вольной птицей, издеваются, потешаются, я знаю, что я лучше их, не унизят они во мне честь соколиную, честь благородную, и в злой неволе все я буду птица вольная, честная, – и злая издевка не запятнает моего сердца чистого, сердца гордого, соколиного…
Обернулась царевна к Соколу, слушает его, не верит ушам. Вся она встрепенулася, вскочила, подошла к Соколу, отомкнула его путы серебряные, взяла его на белу руку. Крепко за белую ручку острыми когтями ухватился Сокол. Распахнула царевна окно косящато[1].
– Лети, мой Сокол, лети, мой хороший, на все четыре стороны, и спасибо тебе, что на прощанье ты меня уму-разуму выучил!
Вспорхнул Сокол, полетел с громким криком на все четыре стороны, себя от радости не помнючи. А царевна вся словно переродилася. Свалился у ней камень с белой груди. Все для ней светло и радостно.
– Я иду к тебе, – думает, – мамка моя добрая, пусть надо мной смеются, издеваются. Я теперь птица вольная, есть во мне сердце чистое, чистое, свободное, соколиное. Никто его не вынет, никто не коснется его. Выше оно всех насмешек, издевок людских.
И царевна подошла к шутовскому наряду, подошла, усмехнулася и, сбросив с себя царское платье, стала тот наряд примерять, на себя надевать.
Нарядилась царевна, посмотрела в зеркало, все на себе обдернула, оправила. В сердце у ней яркий день горит, от радостного чувства грудь колышется, на глазах светлые слезки блестят, словно ясные звездочки. Взяла она скляницу в руки, взяла, к сердцу своему прижала ее. Потом легкой, твердой поступью пошла она из своей светлицы-терема. И как только взялася она за ручку дверную, пробил-прогудел с башни колокол, созывая на работу весь рабочий народ.
Вышла царевна на улицу. Кто только шел по улице, – увидав ее, останавливался: что за шутиха такая идет? Все на нее уставились. Мальчишки, как только ее завидели, так все от радости даже перевернулися. Ведь известно, что мальчишек пряниками не корми, дай только посмотреть какую-нибудь диковинку. И вот все они побежали за царевной, бегут толпой-гурьбой, впереди, позади, визжат, укают, а кто посмелей, тот и комком грязи в нее запустит или камешком: ведь и это очень весело. А царевна идет, усмехается; все светло в ней и радостно. Не слышит она ни гаму, ни хохоту, не видит она ни мальчишек, ни народу, что идет за ней, не слышит она земли под собой. Несет она к своей дорогой мамке с лекарством скляницу, крепко к сердцу ее прижимаючи.
Надивился, нахохотался над царевной народ, мало-помалу каждый оставил ее, а она идет, все идет своим путем-дорогою, дошла до Свиных Закуток и чуть не бегом к избушке своей бедной мамки бросилась. Вбежала она в избушку, видит, лежит ее мамка без памяти. В три ручья у царевны слезы брызнули. Бросилась она к постели, приставила к губам мамки скляницу, и выпила мамка все зелье целебное, выпила, вздохнула глубоко, вздохнувши, опомнилась. Встала с постели, оглядела царевну, признала ее, к ней кинулась. Целует она ее, целует руки ее, глядит на нее, не насмотрится, только слезы застилают ее глаза старые, мешают смотреть.
– Дорогая моя, – говорит, – родная, ненаглядная, не чаяла, не гадала больше я видеть тебя, все мое сердце встосковалося по тебе, моя звездочка радостная.
И теперь только мамка разглядела-увидела, во что царевна наряжена. Всплеснула она руками, удивилася. Стала царевна ей все рассказывать, рассказала царевна, а мамка пригорюнилась.
– Вскормила-вспоила я тебя, – говорит она, – дитя мое милое, забыла я тебе одно указать: не бойся ты, не страшись ни хулы, ни людского говору, не бойся насмешки – издевки злой, а бойся ты своей совести, своего судьи сердечного, неподкупного!
А царевна свою милую мамку и слушает, и не слушает, всеунейвсердце от радости прыгает; словно на волнах великого счастья всю качает ее, убаюкивает, словно десять лет с белых плеч у нее свалилося, и стала она ребенком маленьким, так ей смеяться, играть и прыгать хочется. Посидела она у мамки, с нею простилася, за ворота ее мамка вывела. А у ворот толпой стоит народ, втихомолку гудит-шушукает. Как только царевна из ворот показалася, все сняли шапки, упали ниц, до земли поклонилися. Узнал народ, зачем пришла царевна к мамке своей больной, немощной, узнал, зачем она в шутовской наряд нарядилася: ведь от народа ничего не скроется; вспомнил народ все добро, что царевна ему делала, и ему жаль и досадно стало на себя.
А царевна пошла назад своим путем-дорогою, и вся толпа за ней без шапок молча идет. Не успела царевна и полдороги пройти, как летят, скачут вершники-приспешники, в золотые трубы трубят. Едет сам царь в колымаге с царицею. Поравнялись они с царевной, колымага остановилася. Вышел из нее царь, навстречу царевне идет, к ней дрожащие руки протягивает.
– Спасибо тебе, – говорит, – моя родная дочь, что ты не забыла долгу-совести, что ты свою старую, добрую мамку в смертной беде не оставила. А вот тебе, дорогая моя, и жених, коли тебе он люб и по сердцу: просит он руки твоей, тебя сватает. Коли любишь, скажи, а не любишь, откажи ему.
Оглянулася царевна и теперь только заметила, что стоит в стороне королевич Алексей, стоит, глаза в землю опустил и ждет ответа, словно вести о жизни и смерти своей. Вспыхнула царевна, вся зарделася, ничего не сказала она, только протянула ручку свою к Алексею королевичу.
Схватил эту ручку Алексей, крепко поцеловал ее, себя от радости не помнючи, потом взглянул на царевну, и глаза их встретились, и показалось царевне, что в этих глазах тихим светом светится все, что есть на свете дорогого и радостного.
А царь их за руки берет, к колымаге ведет; садятся они в колымагу и едут в обратный путь. А народ гудит-ревет.
– Да здравствует, – кричит он, – наша добрая царевна на многие лета, да здравствует ее суженый, королевич Алексей!
Это было давно, но может случиться и сегодня и завтра – одним словом, когда придется.
У Папы-пряника был большой торжественный праздник, а ты, верно, не знаешь, что Папа-пряник над всеми сластями король и всем пряникам пряник.
И вот, раз сидел он на своем троне, в короне из чистого сусального золота, в глазированной мантии с миндальными хвостиками и в маленьких новомодных шоколадных сапожках. Трон его был большой, высокий пряник, обсыпанный самым чистым блестящим сахаром-леденцом, да так густо, что снаружи никак нельзя было видеть, что было внутри, но от этого он казался еще вкуснее и слаще, чем был на самом деле.
Вокруг трона стояла почетная стража, в золотых мундирах, с фольговыми саблями и шоколадными палками в руках. Все это были что ни на есть самые лучшие пряничные солдаты, с сахарными цукатами.
А дальше полукругом сидели всякие сановники, разумеется, не настоящие, а сахарные.
Позади них было множество прекрасных кавалеров и дам. Все кавалеры смотрели в одну сторону: в ту самую, в которую были повернуты.
А дамы были просто прелесть. Они были из белого безе со сливками, легкие, полувоздушные, пустые внутри. Каждая из них думала, что слаще ее нет ничего на свете, и, смотря на каждого кавалера, думала: «Вот он!» А кавалеры так и таяли, потому что все были из чистого леденца.
Повсюду, для порядка, были расставлены кондитеры в белых колпаках, фартуках и с медными кастрюлями. Они стояли с чрезвычайно серьезными минами, потому что честно относились к искусству и считали себя призванными смягчать горечь этой жизни своими произведениями.
Наконец, тут же в зале стояло множество детей, больших и малых, глупых и умных, добрых и злых. Они смотрели на Папу-пряника и его стражу, на его сановников, на кавалеров и дам, на варенья и конфеты. Одни думали: «Ах, если бы нам дали вот эти бонбоньерки!», а другие: «Ах, если бы попробовать нам хоть один пряник!» – и все облизывались, что было совсем некстати, потому что они еще ничего не отведали.
– Ну, – сказал Папа-пряник, – принесите теперь награды. Сегодня мы награждаем всех умных и прилежных детей. Это следует по закону. Потому что поощрение везде необходимо.
Принесли на огромном серебряном подносе огромный пряник. Ах, что это был за пряник! Такого, наверно, никогда не было и никто во сне не едал. Пухлый, рыхлый, поджаренный, подпеченный, с вареньем, изюмом, коринкой, миндалем, мускатом, цукатом – ну, словом, со всем, что в нем было, на всякий вкус, даже такой, какого вовсе и не было. А когда стали резать этот пряник, то из него просто так-таки и потекло самое вкусное варенье, а у всех детей потекли слюнки… Ах! Нет, лучше и не рассказывать!..
Папа-пряник подзывал к себе каждого умного прилежного мальчика и давал ему по большому куску вкусного пряника.
Когда все прилежные ученики были награждены, а глупые лентяи проглотили все свои собственные слезы вместо пряника, Папа-пряник снова встал со своего трона и сказал:
– Теперь надо назначить к будущему празднику премию за добрые дела, потому что и в добрых делах должна быть конкуренция. Я предлагаю самый большой вкусный пряник тому, кто сделает настоящее доброе дело. Идите и радуйтесь!
Когда все дети разошлись по домам, то начали играть в мяч, кегли и даже бирюльки, так что все пряники были забыты, а добрые дела подавно. Только трое мальчиков на другой день вспомнили, что было вчера, и это было хорошо, потому что мог бы и никто не вспомнить.
Одного мальчика звали маленьким Луппом. Когда он хорошо вел себя, отец давал ему два серебряных пятачка, а так как он каждый день хорошо себя вел, то в неделю у него накоплялось столько пятачков, что, пожалуй, и не сочтешь, и, во всяком случае, на эти пятачки в воскресенье можно было купить отличных пряников. Но маленький Лупп умел считать и даже рассчитывать. Он отправился прямо в кондитерскую лавку и спросил:
– Сколько стоит самый большой пряник?
Оказалось, что он дороже всех пятачков, которые можно скопить в целый месяц. Одним словом, страшно дорог.
– Ну, – сказал Лупп, – я буду непременно в выгоде. – И через три дня он с шестью пятачками в кармане пошел в один большой дом.
Там, внизу, в подвале, почти совсем под землей, в темной каморке жил бедный башмачник с женой и шестью маленькими детьми.
Маленький Лупп отдал им шесть пятачков.
– Ну, – подумал он, – пусть наслаждаются! Я сделал настоящее доброе дело, потому что оно с расчетом, а это самое главное.
Но вот в том-то и штука, сделал ли он настоящее доброе дело? А это узнать не так легко, ну да и не очень трудно. Ведь у каждого человека, маленького и большого, в сердце сидит хорошенькая крошечная девочка в белом платьице. Но только это платьице не всегда бывает чисто. Если кто-нибудь сделает доброе, хорошее дело, маленькая девочка начинает прыгать от радости и тихо поет веселые песенки.
Но если человек сделает что-нибудь дурное, то маленькая девочка горько заплачет. Да и как же ей не плакать, когда от каждого дурного дела у ней на беленьком платье выходит черное пятнышко, как будто на него брызнули грязью? Кому же приятно ходить в платье с пятнами?
Говорят, что маленькую девочку зовут совестью. И вот только что Лупп успел сделать доброе дело, как маленькая девочка в его сердце принялась громко хныкать, хныкать и приговаривать: «С выгодой, с расчетом! Этак всякий сделает». Но Лупп назвал маленькую девочку безрасчетной дурой, которая еще глупа и ничего не понимает. Что ж? Быть может, он был и прав.
Другого мальчика, который захотел сделать настоящее доброе дело, звали маленьким Кином. Он был очень беден и ходил в оборванных лохмотьях. Самым лучшим наслаждением для него было сидеть на тротуарном столбике с куском грязи в руке и ждать: как только мимо него проезжала какая-нибудь маленькая красивая коляска, в которой сидели нарядный кавалер со своей дамой, он тотчас же бросал кусок грязи в коляску, да так ловко, что забрызгивал и кавалера и даму. Правда, иногда за это на него бросался полицейский солдат, но Кин так бойко бегал, что даже на собаках его нельзя было догнать. Это он называл охотой за красными перепелками. Когда он видел, что извозчик бил свою измученную лошадку, он говорил: «Валяй ее с треском, авось она почувствует любовь к тебе и погладит тебя копытом по морде. То-то вышло бы красиво!» Когда при нем повар резал курицу и бедная билась, обливаясь кровью, он смотрел и думал: «Так бы им всем, да и тебе тоже, потому что на свете все гадко и скверно!» Он связывал котят хвостами вместе и вешал их, как пучок редисок, на забор. Бедные котята прыгали, пищали и мяукали, а Кин хохотал и говорил: «Вот так концерт и притом даром! Отличный концерт!» Всем и каждому Кин старался досадить как можно лучше. За это его били как можно сильнее, но ведь от этого он становился еще злее, он скрипел зубами и кусался, как собака. Одним словом, это был настоящий злой мальчик, желтый, худой, с серыми злыми глазами, с общипанными волосами, которые торчали во все стороны, как щетина на старой щетке.
И вот этот-то самый мальчик задумал сделать настоящее доброе дело. Он думал: «Возьму я да украду у лавочника Трифона все деньги, что у него в конторке заперты. Говорят, что у него денег непочатый угол лежит взаперти, впотьмах. Все их выпущу я на божий свет и раздам эти деньги бедному дедушке Власу, башмачнику Кирюшке и слепой старухе Нениле. Да нет, они, пожалуй, все их пропьют и пойдут деньги к целовальнику. Лучше я возьму да утащу у повара Ивана его большой острый ножик, которым он режет кур, подкрадусь и зарежу эту маленькую злую барыню, что живет там в большом доме. Ну а если меня за это повесят и все эти гадкие люди соберутся и будут смотреть, как меня будут вешать? У! Поганые вороны!»
И Кин думал обо всем этом, а сам шел по улице. Холодный ветер дул и бил его по лицу дождем, который падал на землю и тут же, без церемонии, замерзал. На тротуарах был лед, люди ходили и падали, потому что было скользко, а Кин смеялся над ними. Он шел босиком, его ноги примерзали к земле, он прыгал, злился и хохотал.
Вот из-за угла вышел дедушка Влас с ведром воды. Это был очень старый дедушка. Весь седой, беззубый, глухой и сгорбленный. Ему давно пора было лечь куда-нибудь на лежанку, в теплый угол. Но ведь еще не припасено теплых углов для всех бедных дедушек.
Шел он тихо и осторожно, как бы не пролить воды, шел-шел, да вдруг поскользнулся и упал. Если молодые да сильные лошади и люди падали, как маленькие ребятки, так отчего ж было не упасть и старому дедушке Власу? И он упал, да так ловко, что совсем растянулся на земле, ушиб и спину, и затылок, шапка полетела в сторону, ведро в другую, и вся вода из него пролилась, как будто ее и не бывало.
Увидел Кин, как упал дедушка, да так и залился хохотом.
– Что, дедушка Влас, – кричит он – никак ты не подкован? Ведь это, брат, нехорошо, что ты на тротуаре вздумал на собственных салазках кататься. На это есть ледяные горы. Ха, ха, ха!
А дедушка Влас пробовал встать и не мог. Несколько раз уж совсем он приподымался, да вдруг ноги скользили и он опять падал; а Кин еще сильнее хохотал.
– Эй, дедушка, – кричал, наклонившись над ним, Кин, – ведь ты не на лежанку лег, дедушка Влас, замерзнешь ты тут, старый глухарь.
– Подними его! – шепнуло сердце Кину.
– Не подниму, – сказал он, стиснув зубы. И вдруг вспомнил, как один раз за ним гнались два сильных лакея с ремнем, чтоб отколотить его за то, что он разбил камнем большую вазу. Это было зимою, в холодный дождливый день. Тогда он бросился во двор, где жил дедушка Влас, и спрятался в его конуре. Прибежали лакеи, но дедушка уверил их, что на дворе нет Кина, и спрятал его у себя и кормил целых два дня. На третий день ушел от него Кин и, уходя, взял и разбил старый горшок, который был единственный у дедушки. Разбил так себе, на память о том, что гостил у дедушки. Все это вспомнил теперь Кин, наклонившись над ослабевшим дедушкой Власом.
Дедушка лежал и тяжело дышал, а люди все шли мимо да мимо и сторонились, обходя старого дедушку.
– Видишь, собаки, – сказал Кин, – у них руки отнимутся поднять старика. Поганые вороны! – И он наклонился и из всех детских сил своих маленьких, но сильных ручонок приподнял старого дедушку.
– Обопрись на меня крепче, старый хрыч, – говорил он, сам скользя и падая, и поставил наконец дедушку на ноги, потом надел на него шапку, захватил ведро и, поддерживая, повел дедушку Власа домой. Там он уложил его на старой постельке.
– Спасибо тебе, касатик, спасибо, родной, – бормотал дедушка. – Спасибо за доброе дело.
Но, не слушая его, Кин вышел на двор. Голова у него горела, за горло точно схватил кто-то сильной рукой и крепко сжал. Он тяжело дышал, шел шатаясь и не знал, что с ним делается. И вдруг он ясно почувствовал, как в сердце у него встрепенулась маленькая девочка, встрепенулась, как птичка после долгого сна, встрепенулась и заплакала и вместе с тем сквозь горькие слезы улыбнулась, да так приветно и радостно, что Кин сделался сам не свой.
Он облокотился о фонарный столб, стиснул голову обеими руками и вдруг громко зарыдал на всю улицу. Долго рыдал он. Ведь это были почти первые слезы в его жизни, потому что он плакал тогда только, когда был еще очень, очень маленьким Кином.
А маленькая девочка все прыгала в этом сердце и пела сквозь слезы тихую песенку.
– Не прыгай! – говорил Кин, прижимая сердце рукой. – Я не хочу гордиться моим добрым делом, я не хочу знать, слышишь ты, я не хочу знать, что я сделал доброе дело!
Но девочка все-таки прыгала и пела песенку.
– Слушай, ты, – сказал Кин, подняв голову и стиснув свой маленький, но крепкий кулак. – Слушай, Папа-пряник, я не для тебя сделал доброе дело, не за твой гадкий пряник, не нужен мне он: я помог старому дедушке Власу потому, что ему нужно было помочь, потому что мне, собственно мне, захотелось этого крепко-крепко. – И он опустил свою голову и тихо пошел домой.
Но он шел уже совсем другим Кином, а не тем, каким он был до тех пор. На него солнце светило так радостно, перед ним так весело блестели мокрые тротуары, и люди шли и смотрели на него приветливо, как будто говорили: вот, смотрите, идет добрый, маленький Кин, хороший мальчик.
Что ж, быть может, он и в самом деле сделал настоящее доброе дело. А вот мы это увидим. Не надо только никогда торопиться. Ведь мы еще не знаем, что сделал третий маленький мальчик.
Его звали веселым Толем. Все волосы у него вились в мелкие кудри, а щеки были полные и румяные. Его голубовато-серые глаза всем так ласково улыбались, что все говорили: «Ах, какой славный мальчик!» Да, Толь был действительно славный мальчик.
Он жил высоко наверху в маленькой комнатке, вместе со своей старой бабушкой, и тут же наверху, под самой крышею, жило много голубей. Они все знали Толя, потому что Толь кормил их крошками. Когда Толь шел по двору, голуби слетались к нему, кружились вокруг него, садились к нему на плечи и целовали его.
Когда Толь был на празднике у Папы-пряника, то и ему был дан кусок пряника, потому что он прилежно ходил в школу и хорошо учился. Толь принес пряник своей бабушке.
– Ах ты, мой милый соколик, – сказала она, – кушай его на здоровье, радость моя.
– Нет, бабушка, ты только маленький кусочек съешь, отведай.
Бабушка съела маленький кусочек и сказала, что пряник очень хорош. А Толь пошел к своим маленьким друзьям, которых у него было много. У одного лодочника Жана было целых четверо, мал мала меньше, и все они крепко любили Толя.
– Ну, цыплятки, – сказал он, входя на чердак к Жану, – хоть вы и не были на празднике у Папы-пряника, а все-таки вам будет сегодня праздник. – И он развернул бумагу и показал им пряник с блестящей золотой надписью.
Толь взял ножик, разрезал пряник пополам и одну половину разделил по кусочку всем четверым.
Дети быстро съели свои кусочки, облизались и теребят Толя со всех сторон.
– Дай еще хоть немножко, чуточку!
– Дай им еще, – говорит Жан, который сидел нахмуренный в углу, подперев голову одной рукой, – дай им еще, ведь они третий день ничего не ели!
– Как! – вскричал Толь. – И ты мне ничего не сказал! Это очень нехорошо!
– Да как же, вот я пойду сейчас отыскивать тебя, чтобы ты принес им кусок хлеба!
Но Толь уже не слушал его. Он бежал с лестницы, бежал бегом, сел на перила и мигом скатился, слетел по ним вниз. Он прибежал, запыхавшись, к толстому булочнику Беккеру.
– Господин Беккер, – сказал он, – вот вам кусок пряника, пожалуйста, дайте мне за него простой черный хлеб, он мне очень нужен.
– На тебе самый хороший хлеб, – сказал Беккер, – а пряника твоего мне все-таки не надо – съешь его сам.
– Благодарю вас, господин Беккер, очень вас благодарю. – И он побежал к лодочнику Жану.
– Постой, – сказал Жан, когда Толь принес хлеб, – им нельзя давать помногу, они с голоду не перенесут этого и умрут. – И он отрезал по маленькому кусочку и раздал своим цыпляткам, потом отрезал и себе кусок, потому что и он уж давно ничего не ел.
Цыплятки съели хлеб даже после пряника, потому что были голодны, а голод не тетка. Потом Толь пошел с другой половиною пряника и раздал его другим детям. Они все целовали его и говорили:
– Ах, какой вкусный пряник! Спасибо тебе, дорогой, добрый, кудрявый Толь! – И когда раздал Толь весь пряник, то вспомнил, что он еще не отведал его сам, но у него уже не осталось ни крошки.
– Ну! – сказал Толь, облизывая пальцы, которые были в варенье, – ведь варенье самая вкусная вещь в прянике, а его-то вкус я теперь знаю.
Между тем бедный лодочник Жан сидел все на одном месте, в темном углу, и с ним вместе сидела его тяжелая, черная дума. Она сидела у него на плече и шептала ему на ухо: «Вот ты теперь остался без работы и без места, потому что у тебя рука заболела, и рассорился ты со своим хозяином, который заставлял тебя работать даже с больной рукой. Куда ж ты теперь пойдешь? Твои дети умрут с голода. На свете все черно, везде темно и гадко. Возьми и убей своих цыплят, если ты желаешь добра им, убей и себя, потому что у мертвых нет ни стыда, ни забот, ни горя. Они сладко спят в покойных могилках».
И чем дольше сидел Жан, тем громче говорила ему черная дума все одно и то же. И не мог отогнать он ее, эту неотвязную черную думу, потому что она крепко сидела на плече у него.
Наконец встал Жан и пошел к соседу. Он выпросил у него жаровню с горячими угольями, принес к себе и поставил посреди комнаты.
– Вот вам, – сказал он, – цыплятки, последнее угощение от вашего бедного отца: засыпайте спокойно и крепко, чтобы не проснуться, когда вас понесут в холодные могилки.
– Ты нам хочешь супу сварить? – спросил его Поль.
– Да, супу, хорошего супу, какого вы никогда еще не едали и никогда больше не будете есть. Только ложитесь теперь спать, потому что он еще не скоро сварится.
И он всех их уложил, расцеловал, закутал чем мог, заткнул все дыры в разбитом окне, ушел и запер дверь на задвижку. Ах, черная дума нашептывала ему страшное дело! От горячих углей подымался синий удушливый дым, и он шел, наполнял комнату, ему некуда было выйти, он тихо обхватывал детей, и в нем должны были задохнуться, умереть все маленькие дети Жана.
А сам он, угрюмый, бледный, тихо вышел на улицу, и вместе с ним пошла черная дума.
И ведет его черная дума сквозь ночную мглу, и сечет холодный дождик его открытую голову, бьет по лицу, а ветер треплет его мокрые волосы.
И он торопится сквозь дождь и мглу, а черная дума шепчет ему с каждым шагом: скорее, скорее! Он идет глухими переулками, идет к широкой реке, а река бежит глубоко во тьме и смотрит на него холодными глазами.
И сходит Жан вниз по скользким, мокрым ступеням.
– Жан! Жан! – кричит позади него громче и громче детский голос. – Жан!.. – И обернулся Жан посмотреть, кто вспомнил его и зовет, когда он уже сходит в могилу. – Жан! – кричит, задыхаясь и погасая, голос из мрака, и весь мокрый, усталый, в слезах падает Толь к ногам его и крепко обнимает его ноги.
– Жан, – говорит он, едва дыша, – я давно бегу за тобой.
– Зачем ты здесь? – бормочет Жан. – Что тебе нужно? Пусти меня и ступай домой.
– Мне нужно тебя, милый Жан, не отталкивай меня, не торопись в воду: они еще придут, светлые дни, и снова проглянет солнышко, и ты будешь опять бодр и весел. Я буду помогать тебе, как другу, как брату.
– Пусти, – шепчет Жан, стараясь отцепить ручонки Толя, – пусти, я не хочу чужого хлеба, мне нет тут места.
– Добрый Жан, это будет мой хлеб, твоего друга, ты мне отдашь его, когда я буду голоден, и мы все должны помогать друг другу.
– Пусти, пусти, – шепчет Жан, задыхаясь и оттаскивая из всех сил закостеневшие вокруг его ноги руки Толя, но больная рука его не слушалась. – Пусти, – шепчет он, – они к нам не придут, они все крепко уснули…
– Они живы, Жан, они не спят: я ведь выбросил от них гадкую жаровню, я впустил к ним чистого воздуха, они все живы, веселы, сыты, они ждут тебя, своего милого папу – они – сизые… гули!..
И Толь выпустил наконец ногу Жана: у него не стало больше силы. И, бормоча несвязные слова, он упал на мокрые, скользкие ступени, упал как мертвый, без чувств, без сознания, бледный, с закрытыми глазами и покатился в воду. Жан быстро нагнулся и подхватил его. Он сел на мокрые ступени, он весь дрожал, черная дума отлетела от него. Он взял на руки бледного Толя, посмотрел на него, крепко поцеловал и прижал к сердцу.
– Голубь мой, белый, добрый голубь, – сказал он, – ты спас их, спас и меня также!
Он встал и, шатаясь, понес Толя на руках к себе домой…
Ну, наконец, мы наверно узнаем, кто из трех сделал настоящее доброе дело, потому что наступил праздник и все дети собрались идти к Папе-прянику. Все, маленькие и большие, умные и глупые, добрые и злые, всем хотелось видеть, кому дадут самый большой пряник. Ведь это действительно любопытно.
Не пошел только один Кин, да ведь он и не желал ни получать пряника, ни видеть, как его получают, потому что считал и пряник-то гадким.
Все дети шли весело и охотно, а путь был немалый. Ведь Папа-пряник живет неблизко-недалеко, как раз за тридевятью землями, в том тридесятом царстве, про которое в сказках говорится.
И вот наконец они все пришли куда следует, как и надо было ожидать, и притом к самому началу, а это-то и называется аккуратностью.
Папа-пряник по-прежнему сидел на своем троне, в короне из чистого сусального золота, по-прежнему сидели сановники, одним словом, все было по-прежнему, как было уж давно, потому что к этому все привыкли, а Папа-пряник больше всех. Он хорошо все знал: знал, что сделали все дети, и маленький Лупп, и злой Кин, и веселый Толь.
– Ну, – сказал Папа-пряник, который был очень весел, потому что награждать всегда приятно, а тем более за настоящее доброе дело. – Принесите теперь самый большой пряник. Пусть все видят, какая это хорошая награда, ибо мы не намерены этого скрывать.
Тогда обе половины дверей растворились настежь и показалась процессия. Впереди шел обер-церемониймейстер со всеми церемониями, какие только были у него, за ним шел унтер-церемониймейстер, без всяких церемоний, просто в халате, за ним обер-гофшенк с серебряной вилкой, потом шли все сильные люди, и они-то все несли самый большой пряник, потому что он был очень тяжел.
Когда пряник поставили куда следует, чтобы он всем был виден, и сняли с него покрышку из красного бархата с золотыми кистями, то все увидали, что это был настоящий пряник, который действительно мог получить только тот, кто сделал настоящее доброе дело.
– Маленький Лупп, – сказал Папа-пряник, – подойди сюда!
– Ну вот видите, – сказал Лупп, – что значит делать доброе дело с расчетом, всегда будешь в выгоде, – и подошел к Папе-прянику.
– Ты, – сказал король, – сделал дурную аферу, потому что истратил шесть пятачков, и ничего от нас не получишь. Ступай себе туда, откуда пришел.
И Лупп повернулся и пошел, бормоча под нос, что Папа-пряник – ловкий аферист, с которым не стоит иметь никаких дел: как раз надует. И при этом он откусил ноготь на мизинце, да так ловко, что больше нечего было и кусать.
– Маленький Кин, – сказал Папа-пряник, – это злой мальчик. Немного стоило ему труда поднять доброго старого дедушку Власа и довести его домой, но и на это немногое он не скоро решился. Да притом ведь его нет здесь, и он сам не захотел получить самый большой пряник. Веселый Толь, поди сюда! Этот пряник твой, он твой, потому что у тебя настоящее доброе сердце, которое само, легко и свободно, не зная и не ведая, творит каждое доброе дело; он твой, потому что ты сделал настоящее доброе дело: ты спас не только Жана и его детей от страшной смерти, но ты спас в нем лучшее, что есть в человеке, – ты спас в нем самого человека! И только он сказал все это, как все встали со своих мест и громко закричали:
– Да здравствует справедливость и наш добрый король Папа-пряник сорт первый!
Дамы замахали платками, и на глазах их от сладости умиления выступила сахарная вода, а все кондитеры застучали в медные кастрюли, что составило самую отличную музыку, и под эту музыку Толь выступил из толпы и подошел к трону короля.
– Стойте вы все! – закричал он, подняв кверху руку, и все замолчали. – Теперь слушай ты, Папа-пряник. Прежде чем награждать, растолкуй мне, чего я понять не могу, и тогда я возьму твой пряник, потому что я ничего не хочу делать, не понимая, как обезьяна. Если легко было сделать настоящее доброе дело, если я сделал его, не зная, не ведая, то за что же ты меня будешь награждать? За настоящее доброе сердце? Но ведь я с ним родился, и за это ты мог бы наградить только мою добрую маму, если бы она не умерла. Папа-пряник, рассуди: ведь я люблю Жана; как же мне было не броситься к нему и не уговорить, чтоб он не топился. Ах! Если б он утонул, меня не утешил бы самый большой твой пряник. За что же ты меня хочешь наградить – растолкуй мне это, Папа-пряник.
Но Папа-пряник молчал: он только развел руками.
– Ты представь себе, – продолжал Толь, – если бы доброго Жана не одолела черная дума и он бы не захотел топиться, то я не спас бы его и награждать тебе было бы меня не за что. Неужели же нужно будет наградить черную думу за то, что она дала мне случай сделать настоящее доброе дело? Ах, растолкуй мне это, Папа-пряник.
Но Папа-пряник ничего не растолковал. Он только сказал:
– Мы! – улыбнулся и снял корону.
– По-моему, – продолжал неугомонный Толь, – лучше бы отдать пряник Кину, потому что он был злой и пересилил себя, и сделал доброе дело, да так сделал, что всю жизнь его не забудет.
Наконец Толь замолк. А Папа-пряник тоже помолчал, подмигнул левым глазом и проговорил громко и внятно, во всеуслышание:
– Ты очень добрый и умный мальчик, но не рассудил об одном, не рассудил, что, объявляя награду, я вызываю доброе дело и его сделает даже тот, кто без награды никогда бы его не сделал.
Но веселый Толь перебил его.
– О! Я рассуждал и об этом, я думал об этом, но скажи мне, добрый Папа-пряник: давая награду одному, не возбуждаешь ли ты зависть во многих других? И сколько эти другие должны иметь доброты, чтобы все они не завидовали одному?
– Ах, какой ты славный, умный мальчик! – вскричал Папа-пряник. – Возьми же ты все-таки пряник и делай с ним, что хочешь!..
И Папа-пряник вскочил со своего трона. Он быстро подошел к Толю и поцеловал его, да так громко, что всем стало весело.
И все сановники, кавалеры и дамы тотчас же при этом увидали, что у Толя настоящее доброе сердце. И все потянулись целовать его, но он отошел прочь, поклонился королю, поклонился обер-гофшенку и унтер-гофшенку, взял золотой нож у обер-гофшенка и серебряную вилку у унтер-гофшенка и начал резать пряник. Все дети обступили его. Он их расставил рядами, каждому давал по куску и всем разделил пряник поровну, так что никому не было ни завидно, ни обидно, а в том-то вся и сила.
И вот все это действительно случилось, хотя и очень давно, но может опять случиться и сегодня, и завтра, одним словом, когда придется, потому что срок для всего этого еще не положен.
С юга ветерок – ласковый дружок; с севера снежок – строгий старичок. Так-то, мой паренек… Шагай, шагай, не заглядывайся!..
И бабушка сама шагала по талому снежку и по крепкому сизому черепу. Где наст обледенился, застеклянился, а где грязный снежок, как зола, насыпан. Почернел, сердечный, туго ему пришлось, скоро в землю провалится. А лужи, лужи! Везде, по дороге, по полю… С деревьев слезы капают… И грачи, мокры-мокрешеньки, всюду каркают. Весна! Весна пришла!..
– Бабушка, – спрашивает внучек, – а ты мне скажи, родненькая, отчего маслена раз в году бывает, и весна отчего раз в году приходит?..
– Шагай, шагай, дружок… Видишь, как все замокрились… Зимой и на юге злое горе пирует. Ветры студеные, вихри снежные, стужа злобная… Натерпятся, намаются, наплачутся Божьи люди… И все их слезы несет весной к нам… Заплачут небеса, заплачет земля, и от этих теплых слез и снежок весь побежит, распустится и в землю уйдет… Все наши грехи в землю уйдут… Затем, что снежку уже не место, прошла его пора. Отлютовала зима. Шабаш ей! Идет весна-красна, теплая… Ворочается с юга солнце горячее, к нам накатывает, с каждым днем ближе и ближе подходит, выше и выше по небу ползет… Так-то, мой милый паренек!.. Шагай, шагай, не задумывайся!
– Бабушка! Да ты мне скажи, почему не весь круглый год маслена… Мы кажинный бы день ходили к куме Алене, и каждый день она бы нас блинами с маслом и сметаной поштовала, угощала…
– Сегодня блины, завтра блины, послезавтра блины. Катайся как сыр в масле, круглый Божий год, без передышки!.. Ах ты, радостная кроха моя!.. Все Божье дело! Везде передышка нужна… А то без толку и в масле потонешь, и сметаной захлебнешься!.. И порядок тоже нужен. Без порядка никак нельзя быть, никак невозможно… Коли бы без порядку, так все бы перемешалось в одну кучу… И весна, и зима, и лето, и осень, все бы вместе свалялось, и не разберешь, где одно, где другое…
– А разве, бабушка, не бывает зима среди лета?
– Ни, ни! Никол и не бывает.
– А как же в запрошлом-то году у нас в Духов день снежок выпал? Помнишь?
– Да это так себе, какой ни на есть шальной выискался, да и пошел… И тут же себе капут приключил… Все его съело солнышко теплое… А ты шагай, шагай, торопись, дай мне рученьку!
– Нет, бабушка… Я сам…
– Да ты сам ножками-то действуй, а мне дай рученьку хорошую. Она ведь ничего не делает… на счастье… Ну! Не упрямься, дай!.. Видишь, ты не разбираешь, где сухо, где мокро, все по лужам шагаешь. Гляди-ка, как сапожки-то… мокры-мокрешеньки. Дай! дай, хороший, рученьку, а то я и сказку не буду говорить.
И внучек сейчас же протянул рученьку, как только услыхал эту угрозу.
– Видишь, весь носик обмерз, покраснел, и глазки ясные покраснели.
И бабушка вытерла платочком и носик, и глазки. А внучек смотрел на бабушку этими ясными, голубыми глазами и ждал, скоро ли баба милая сказку начнет.
А кругом теплый ветерок подувает, словно со сна, и бороздит, рябит воду в лужах. И голые рощи стоят, краснеют, точно чего-то ждут не дождутся… И тучка мокрых воробьев вдруг налетела с гамом, чириканьем, посела на снежок, на дорожку, и опять вспорхнули все и улетели… А в небе высоко-высоко черные кряквы летят, кричат, крыльями хлопают…
– Ну, что же, бабушка? Сказку…
И бабушка, не выпуская из своей костлявой, шероховатой руки маленькую ручонку внука, начала свою сказку…
По низовьям-низам хмары стелются, ползут, тащатся тучки Божий, кому горе, кому радость, кому хворь и болезнь, кому клад и богачество, все и всем несут и дарят тучки Божий. По низовьям-низам студены туманы клубятся, кому красу, кому бедноту, кому уродство несут. Всякому люду от Бога доля дана. Кому каждый день масленица, кому целый век великий пост.
За дальними морями, сизыми туманами, в славном царстве могучего царя Бендерея было дело великий грех… Одна была дочка у царя, чудо-юдо, краса невиданная и неслыханная, и неписаная, нерисованная, и звали ее царевна Милена-душа, светлый Божий день… Чего-чего не было у царевны прекрасной… И дворцы-терема с переходцами, и сады-садики с цветиками махровыми, и деревца изумрудные с золотыми яблочками, и птички хохлатые, хвостатые, сладкогласные. Целый день по кустикам порхают, по садочкам летают, поют песни звонкие. Милену-душу тешат, потешают. Бегут ручьи студеные, серебряные, с высоких гор катятся. Играет музыка невидимая, все красу прекрасной царевны славят, а царевна-душа, Милена-краса, ходит хмурая да невеселая…
И не знает царь-батюшка, чем свою доченьку развеселить, чего недостает ей. Велит он своим скоморохам-шутам царевну потешать. Пляшут, кувыркаются перед ней шуты потешные, кричат голосами звериными, кто петухом, кто по-песьи лает, кто журавлем курлычет, представляют притчи и комедии. Не могут развеселить, утешить царевны Милены… Зовет-кличет царь Бендерей мудрецов с дальних и ближних стран, заставляет их думать думу глубокую, чем развлечь, распотешить его дочурочку прекрасную. Одна у него она, как перст единая, утеха и радость в жизни сей скоротечной. И засели думать мудрецы вещие думу могучую. Думали, думали, ни много ни мало целых тридцать три дня без трех часов. Один мудрец говорит, надо царевну в заморские царства везти, злую тоску по морям, по горам размыкать-стряхнуть, другой говорит, надо царевну три дня на заре утром в студеной воде купать, и всю хмару-тоску смоет Божья вода. Третий мудрец ничего не сказал. Он слушал из саду песню птицы Кохлыги. Маленькая птичка, а голос куда звонче, лучше соловья. В окошечко косящато солнышко светит, улыбается, зелена роща глядит, и поет так сладко Кохлыга птичка Божия. И вот говорит третий мудрец, а звали его Сапфиром Мирикиевичем Мудрым. Был он моложе всех, и била ключом в нем кровь горячая.
– Слушайте, – говорит, – братья мудрые. Знаю я, чего не хватает царевне молодой, мне это птица Кохлыга поведала. Много кругом ее всяких утех, много золота, серебра, камней самоцветных, много уборов нарядных парчовых, дорогих, кружев серебряных, много теремов-дворцов с переходцами, зелены сады кругом с цветочками махровыми, птички Божий порхают, славят царевны красу. А ей все нудно да скучно кажется, холодно на сердце. Выросло сердце царевны-души, просит оно ласки ответной от друга милого, просит оно горячей любви.
И только что сказал, произнес молодой мудрец, прекрасный Сапфир Мирикиевич, свой совет мудрый высказал, как все мудрецы на него накинулись, руками замахали, загигикали.
– Что ты, дурень беспутный, придумал-выдумал, – кричат, – за этакий совет всех нас царь-государь велит казнить смертью лютою.
А царь-государь тут как тут. Все время он стоял позади дверей, все слушал, что великие мудрецы думают, советуют об его дорогой доченьке… Распахнулись двери створчаты, появился царь, появилась с ним стража грозная.
– Спасибо, – говорит царь, – тебе, молодой мудрец Сапфир Мирикиевич, спасибо, что всех старых надоумил ты. Давно уж я сам домекал, чего, чего недостает моей доченьке. Ты уразумел твоей мудрой прозорливостью…
И тотчас же велел царь-государь по всей земле клич великий кликати, сзывать-созывать всех принцев, королевичей, всех витязей, князей и царевичей. И вот едут гости званые со всех четырех концов, с севера, с полдня, с восхода и запада, собираются на широкий царский двор. Уставили слуги двор столами длинными, устлали их скатертями самобраными.
В те поры как раз была масленица. Посели гости по чинам, по рядам. Выходит царь Бендерей, выводит за ручку Милену-красу.
– Вот тебе, доченька, – говорит, – гости честные, гости званые, королевичи, принцы, царевичи, князья, витязи, рыцари удалые. Кого осчастливишь выбором, который тебе поглянется, того я моим сыном назову, а твоим суженым.
Все поклонились ей низко-низехонько. Посмотрела Милена на всех, глазами окинула. Помотала она головой.
– Тот мне мил, – говорит, – кто может за один присест сотню блинов съесть со сметаною.
Удивились гости, ахнули. А царь Бендерей:
– Что ж, доченька, – говорит, – муж-то у тебя будет обжора, росомаха ненасытная.
Но твердо стоит Милена на желании своем. А слуги стоят с блинами и ждут, кому велят подавать. Встали многие гости, разгневались, пошли, не простясь, с пира царского.
– Что же, – говорят, – нам здесь делать нечего: пусть царь Бендерей зовет, клич кличет, со всего царства объедал, обжирал собирает в женихи к своей дочке насмешнице-издевнице, а мы к ней в издевку идти не хотим.
И пошли гости со двора царского. Слуги им дорожку смазали маслицем.
Другие поглядели на царевну Милену. Смерть она мила показалась им. «Ну, была не была, – думают, – съем не съем сотенку блинов!.. Авось одолею, попробую». А слуги сейчас же и подают им блинов. Съели гости первый десяток, не подавились… Глядят, подумывают. Налили им слуги меду крепкого, а царевна Милена потчует, угощает:
– Покушайте, гости дорогие, покушайте блинков масленых.
– Ради тебя, – кричат, – царевна прекрасная! – И подали им слуги другой десяток, но на этом десятке честные гости споткнулись, молча вышли из-за стола и пошли втихомолочку. А слуги, вершники, приспешники, им дорожку маслицем смазали и след их сметанкой замели, затерли, загладили.
– С Богом, мол. Проваливайте!
Один за одним уходили честные вон с пира царского… Редели ряды, опустел царский двор. Остался один королевич Меркитей Мерепонтович. Наградил его Бог и ростом, и дородством. Девяносто восемь блинов приел, на девяносто девятом споткнулся. Сидит, глаза выпучил и дохнуть не может. Так его слуги верные бережненько приняли и в дальний терем вежливенько отправили.
– Ну, вот, – говорит царь Бендерей, – полюбуйся, доченька милая! Все женихи твои разошлись, разбежалися. Никто не хочет быть объедалом, обжорою.
– Объедал и обжор, – говорит царевна, – мне не надобно. Найдем мы, может быть, себе жениха по сердцу. Погляди-кось, милый батюшка, кто это там у ворот стоит, возле столба высокого.
Поглядел Бендерей и говорит:
– Это тот, кто указал, велел мне клич кликати и женихов ко двору сзывать. Это молодой мудрец Сапфир Мирикиевич.
А молодой мудрец стоит, глядит очами черными. Черные кудри по плечам вьются. Глядит он прямо на прекрасную Милену, дочь Бендерея-царя.
– Позови его ко мне, царь-батюшка, – говорит, – мне надо два слова перемолвить с ним.
И велел царь слугам кликнуть мудреца Сапфира Мирикиевича, кликнуть-позвать к царевне Милене-душе. Пошла Милена в горницу высокую. Привели к ней Сапфира Мирикиевича.
– Гой! Вы, – говорит царевна Милена-душа, – уйдите все вы, слуги верные, оставьте нас вдвоем и стойте у дверей, никого не пускайте к нам. Мне надо молвить Сапфиру-мудрецу слово великое.
И поклонились, ушли слуги верные, одну царевну с Сапфиром-мудрецом оставили.
Как возговорит царевна Сапфиру-мудрецу:
– Ты скажи мне, скажи, мудрый мудрец, отчего не светит всегда солнце ясное, отчего не всегда на сердце весело, отчего сладкая пища приедается, отчего звонкая песня припевается и нарядное платье глазам опостылеет. Скажи мне, мудрец, отчего тоска-скука гложет сердце человеческое?
Призадумался мудрец, думал, гадал, как ответ Милене держать.
– Оттого, – говорит, – перво-наперво, что плоть человеческая – бренная – персть земли…
– А что это такое, бабушка, – допросил внучек, – бренная персть земли?
– А это плоть, тело наше… Из земли взято и в землю обратится. А ты слушай дальше хорошохонько…
– Оттого, – говорит мудрый мудрец Сапфир Мирикиевич, – что коли бы солнце постоянно светило, то все бы мы от его света почернели, как арапы черные. Оттого, что плоть человеческая не может стерпеть вечной радости. Оттого, что сердце наше к земле влечет: ко всему смертному, преходящему тянется, а все преходящее, смертное нас вводит в ложь и обман. Отрекись, говорит, царевна прекрасная, от ложных утех… На бренной земле все здесь прах и ничтожество, все, как смачный блин: ешь его – вкусно, а съешь – тяжело и горько. Всякая радость сама по себе отраву несет. Звонкая песня припевается, сладкий мед приливается, и вертится здесь бедный человек, как в дурманном сне, хватается за утехи земные, чтобы ему было не скучно и не тоскливо жить…
Задумалась прекрасная Милена, глядит на мудрого мудреца Сапфира. А мудрый мудрец стоит перед ней, очи в землю опустил, а перстами смиренно перебирает лестовку.
– Сапфир Мирикиевич, – говорит царевна Милена-душа, – есть одна радость земная, и она никогда не прискучит нам, ибо радость эта вечная, с земли на небо мостом тянется. Это любовь человеческая. Бог создал человека и всякого зверя парою. Бог благословил союз человеческий… Сапфир Мирикиевич, Сапфир мудрый!.. В сердце людском вечным светом горит свет небесный, и все перед ним прах, смерть и ничтожество, а свет любви нескончаемый.
Задумался мудрец, а сама Милена глазки прекрасные в землю потупила, и белая грудь ее тяжко воздымается… На глазках слезинки блестят, на щечках румянец горит, и вся она, ровно горлинка сизая, ровно яблочко румяное.
– Сапфир Мирикиевич, – говорит она шепотом тихим да ласковым. – Сапфир Мирикиевич, мудрец прекрасный. Если бы царевна, дочь царская, перед тобою бы сердце открыла и посулила бы тебе жизнь радостную и любовь на земле и в небесах вечную. Отвернулся ли бы ты от нее, презрел бы ты ее ради покоя вечного?
Вздрогнул весь Сапфир Мирикиевич, руки и ноги задрожали, взглянул он на царевну Милену, долго пристально посмотрел своими очами черными и весь побледнел белее плату белого.
– Не искушай меня, – говорит, – царевна прекрасная, знаю и верю я, что любовь твоя сладка и радостна. Но всякая любовь есть страсть и нега, сердца трепет, а я ищу и жажду покоя вечного, холодного и бесстрастного. Любовь земная проходит, как сельный цвет, сгорает, как свеча воску ярого, блеснет звездочкой, потешным огнем и погаснет, исчезнет; один лишь пепел холодный останется.
– Сапфир Мирикиевич, – говорит царевна прекрасная, – не погаснет любовь истинная. До гробовой доски горит она, ровным светом теплится; а за гробом она тихой небесной радостью горит, славе Божьей радуется.
Покачал головой Сапфир Мирикиевич, покачал и стоит перед царевной, опустив голову, кожаную лестовку перебираючи. Вздохнул тяжко молодой мудрец, вздохнувши, промолвил так:
– Все это сказка пустая, царевна прекрасная. Далека она от правды святой, от истины.
– Нет, – вскричала царевна прекрасная, – веришь ли ты в Бога Создателя, веришь ли ты в любовь Его, в Сына Божия, веришь ли в Духа Его святого, великого… А я верю в жизнь вечную, в жизнь загробную. Есть на небесах и трепет и радости. Нет там покоя смерти холодного, нет там смерти, ибо Бог там. Бог живых, а не мертвых.
И говорит тут Сапфир Мирикиевич:
– О! Пусть же вера в твоем сердце горит, царевна Милена прекрасная, пусть согревает она молодое сердце, ласковое. В каждой поре есть свои утехи и радости… А я отживу здесь свой срок, отстрадаю и вкушу покой сладостный.
Удивилась царевна Милена прекрасная, ужаснулась она и горем тяжким взгоревала, заплакала.
– Ох ты гой еси, – говорит она, – Сапфир Мирикиевич. Нету в сердце твоем правды, истины. Ты не любишь жизни, Богом дарованной. Ты не веришь в жизнь вечную. Поди, спроси бел-горюч камень Алатырь, хочет ли он жить жизнью вечною.
И поклонился Сапфир Мирикиевич царевне Милене, нашел он бел-горюч камень Алатырь и говорит ему:
– Камень ты, камень Алатырь, лежишь ты здесь 330 лет, лежишь ты безмятежно, бестрепетно. Сладок ли твой покой, и не хочешь ли ты дышать и двигаться, не хочешь ли ты жить жизнью человеческой?
Говорит камень Алатырь, отвечает Сапфиру человеческим голосом:
– Ох ты неразумный мудрец, Сапфир Мирикиевич. Ты спроси воду быструю в ручье или в светлой реченьке, что бежит по чистым камешкам, хорошо ли ей зимой подо льдом лежать. Не играет ветерок ее струйками, не блестит в них солнце и месяц серебром и золотом. Ты поди, мудрец, к дубу заморскому, что стоит на круче горы крутой 330 лет, без пяти день с половиною. Ты спроси его, хорошо ли ему жить на горе крутой.
И пошел мудрец Сапфир Мирикиевич. Пошел он к дубу зеленому, что большим шатром раскинулся, разошелся ветвями во все стороны. Допросил его Сапфир Мирикиевич.
– Ты скажи, скажи, дуб могучий, мне, не довольно ль ты пожил на своем веку, посохли уж твои корни старые, покривились твои сучья корявые, понагнулись до земли сырой. Видно, хотят они в земле нашей матушке вкусить покой сладостный.
Восшумел дуб ветвями могучими, возговорил дуб человеческим голосом:
– Ох ты неразумный мудрец, Сапфир Мирикиевич. Кому жизнь не мила, кому смерть не страшна. Не моя воля привязала меня к круче крутой корнями крепкими; коли б воля была моя, не стоял бы я здесь, о судьбе своей жалеючи, ожидая каждый миг смерти лютыя; коли б моя была воля, вспорхнул бы я легкой пташечкой, полетел бы я и воспел, прославил Творца моего, в воздушных теплых струях купаючись. Ты поди, неразумный мудрец, спроси птицу Кохлыгу голосистую, мила ли ей жизнь многоценная!
И послушал дуба, пошел Сапфир Мирикиевич, допросил он птицу Кохлыгу хохлатую, птицу заморскую:
– Ты скажи мне, скажи, птица сладкогласная, мила ли тебе жизнь на свете сем, и не желаешь ли ты покоя безмятежного, покоя вечного.
Как возговорит ему птица Кохлыга человеческим голосом:
– Гой ты, неразумный мудрец, Сапфир Мирикиевич! Ты вынь, изми из меня сердце горячее. Ты вложи, мудрец, в грудь мою золотистую кусочек льда студеного и тогда меня спрашивай. А до тех пор, пока во мне сердце трепещется, хочу я вечного трепета. Взлечу я на кручь крутой горы, сяду я на древо высокое, поднимусь я на крыльях быстрых на высь страшенную, далеко, далеко мир Божий подо мной расстилается. Надо мною горит солнце яркое… опрокинуто небо синее, и мнится, что там, в этом небе сапфирном, иная жизнь, иной трепет, иные желания. Сердце рвется туда, но нет у него крыльев ангельских, полететь к источнику жизни и света и вечного трепета.
И вспорхнула птица Кохлыга, затрепетала крыльями белыми, и вспомнилась Сапфиру Мирикиевичу царевна Милена прекрасная. В груди его сердце встрепенулося, потянуло его к царевне Милене красавице, потянуло его к любви, жизни и трепету.
Идет он светел и радостен, все жилки его трепещут, дрожат. Воздух к нему ласково ластится, солнышко греет приветливо, трава-мурава зеленеет нарядным ковром, цветы махровы, лазоревы цветут, благоухают жизнерадостно. И птицы небесные поют, заливаются, славословят жизнь и Творца ее. Остановился мудрец, заслушался. В груди у него сердце растет, поднимается, вся душа его радостью, блаженством переполняется. И слышит он, как трава растет, слышит он, как жемчуги в море далеком перекатываются, как цветы цветут, и вся мать сыра земля, и солнце, и луна, и звезды светлые славят Бога Творца. Заслушался Сапфир Мирикиевич…
А дни идут, идут, ползут, все мимо да мимо его проходят. Проходят года, проходят и тысячи лет… Все стоит, слушает мудрый мудрец… И вдруг проснулся Сапфир Мирикиевич. Подул с юга теплый ветерок, ласковый дружок, и очнулся, узрел и услыхал Сапфир Мирикиевич; оглянулся кругом и видит: стоит он серед пустыни пустой. Кругом него песок и камни нагромождены, навалены. Идет он, шатается, бредет, спотыкается. Дошел до маленькой лужицы, испить захотел. Нагнулся он к лужице, смотрит, глядит, кто там, в чистой воде какой-то старец седой глядит на него… Очнулся, оглянулся Сапфир Мирикиевич. Отшатнулся он от воды-зеркала. Встал, дрожит, идет, шатается. «Куда я зашел, куда я попал?» – думу думает. И встретился ему на дороге пастух, такой же древний, как и он.
– Поведай ты мне, добрый человек, – говорит ему Сапфир Мирикиевич, – что здесь за страна и где, далеко ли престольный град царя Бендерея?
Глядит на него старец-пастух.
– Нет, – говорит, – у нас никакого царя Бендерея, а от старых древних старцев слыхал, что был такой давным-давно, и вот теперь видны развалины там, где град его престольный стоял.
Оглянулся Сапфир Мирикиевич и точно, увидал одни развалины. И жалостью все сердце его наполнилось, и вспомнил он так живо и ярко дворцы, терема с переходцами. Вспомнил он и царевну Милену-душу. И сердце в нем тоскою горькою всплакалось, ноженьки его подкосилися, опустился он на землю сыру, и чует он, что смерть подходит к нему!
Солнце садится низехонько. Темная ночь за ним по пятам идет; взглянул он на тихий закат, туда, где солнце ярко горит, и взмолился; заплакала его душенька.
– Господи! – говорит. – Не дай мне смерти вкусить. Я жить хочу. Дай мне жизни, вечного трепета в вечных селениях твоих, там, где не заходит солнце славы твоей…
– Бабушка! Бабушка! – вскричал внучек. – Смотри-ка, солнышко!
И действительно, бледное, точно больное, солнце глянуло сквозь тучи, и все заблестело, обрадовалось свету Божьему; засверкали лужицы, забелели снега, и тихо-тихо с юга тянутся, летят журавли, звонкую песню курлыкают. Идет-грядет весна жизнерадостная!
Не далеко и не близко, как раз в самой середине, и притом в самой дрянной деревушке, жил-был Дядя Пуд.
Когда он был еще очень маленький, то только и умел, что разевать рот, а когда он его, бывало, разинет да примется кричать, то даже все соседи затыкали уши и бежали в поле, а мать скорее совала ему ложку в рот и горшок каши в руки. Тогда Дядя Пуд ел кашу и молчал до тех пор, пока в горшке не оставалось ни крошки. Потом он принимался пыхтеть, кряхтеть, а затем снова разевал рот и начинал так кричать, что даже у всех окон в ушах звенело.
Когда он немного подрос, то все кричал, как кошка:
– Мало, м-а-ало!
И сколько бы ни давали ему есть, все ему было мало.
Когда же он вырос совсем, то все соседи решили, что это был настоящий Дядя Пуд во сто пуд. Толстый, как бочка, голова, как арбуз, лицо красное, как свекла, а волосы рыжие. Одним словом, он был прекрасивый господин.
Беда только в том, что ему есть было нечего. Мать свою с отцом он давно схоронил, потому что они совсем измучились, кормивши его, и наконец умерли. А сам он ничего не умел делать.
Когда он пахал, то постоянно засыпал над сохой, а как, бывало, навалится на нее, так соха и уйдет в землю по самые ручки. Принимался он и косить, да вместо того, чтобы по траве, все больше косил себя по ногам. Принимался и молотить, да только вместо хлеба колотил себя цепом по лбу.
– Эх, – говорили мужики, – коли б ты ел руками, а молотил бы зубами, был бы ты богатеющий человек.
Давали ему соседи хлеба взаймы, давали, давали, да, наконец, и перестали. Раз пошел он вместе со всей деревней к соседям на помочь.
– Ну, – говорят мужики, – Дядя Пуд идет помогать: смотрите, братцы, как сядете за пироги, не плошайте, а то Дядя Пуд как раз поможет!
Ну, и действительно помог. Отправились мужики работать, а он отправился туда, где съестным пахло, да почти все, что было припасено на угощение, прибрал дочиста. Все так и ахнули: ни щей, ни пирогов, ни каши, ни потрохов, одни корки да крошки лежат.
– Ладно! – сказали мужики. – Нет тебе больше пощады, объел ты весь мир, ступай-ка теперь за это по миру, проедайся чем Бог пошлет. – И выгнали его вон из деревни в три метлы.
Пошел Дядя Пуд побираться. Куда ни придет, никто ему ничего не дает.
– Видно, – говорят, – ты, дядюшка, с голоду распух, с холоду покраснел, проходи дальше, покудова цел!
Взвыл Дядя Пуд:
– Зачем, дескать, я на свет божий родился?!
Идет он, идет, еле ноги передвигает, идет лесом, идет полем и дошел наконец до моря.
– Некуда мне деться, – сказал Дядя Пуд. – Пойду в море утоплюсь, все милей, чем с голоду помирать.
А на море стоит корабль, и все матросики-мореходы ахают да дивуются…
– Что это, братцы, к морю какая гора двигается!
А сам их набольший, мореход-капитан, кричит Дяде Пуду:
– Эй, дядюшка, не хочешь ли ты балластом у нас быть? Камня нам неоткуда добыть, а нагрузиться надо, так ты вместо груза будешь в трюме лежать.
– Хорошо, – говорит Дядя Пуд, – это я могу, только дайте поесть, а лежать – ничего, умеем.
И вот привезли Дядю Пуда на корабль. Положили в трюм, на самый низ. Ничего, нагрузили корабль как быть должно. Только вот чего не догадались, как Дядю Пуда кормить. Дали ему есть, и проглотил он свою порцию одним глотком, говорит:
– Мало!
Дали ему еще, и еще принесли, и еще порцию, и ту проглотил, и так десять порций проглотил, и чуть не целого быка упрятал, а все ему мало.
Ахают все да дивуются: где это у Дяди Пуда дно лежит?! А может быть, уж он так и устроен, что дна у него нет.
– Постойте, – говорит мореход-капитан, – может быть, он и нас не объест, а разом нам две службы сослужит. Пусть он лежит себе грузом, а если случится несчастье, буря станет от берега отбивать нас, то будет он нам заместо мертвого якоря.
А мертвым якорем зовут такой тяжелый якорь, который выбрасывают в бурю в море, чтоб на месте удержаться. И как уж раз его бросят, так вытащить его снова нет никаких сил, – так его и оставляют Морскому Дедушке на поминки! Согласился Дядя Пуд и мертвым якорем служить.
Вот поплыли моряки. Только уж, видно, Дядя Пуд был и взаправду счастливый. Не успели они порядком от берега отойти, как налетела такая буря, что все паруса и снасти, как мочалки, порвало. Пришлось бросить мертвый якорь.
– Ну, – говорят, – Дядя Пуд, служи свою службу, ступай к Морскому Дедушке в гости.
И вот привязали Дядю Пуда к самому большому якорю, а к якорю привязали самый толстый канат. Трудились, трудились все изо всех сил, и насилу-то удалось им сбросить Дядю Пуда с корабля в море. Шлепнулся Дядя Пуд, так что даже море ахнуло и все расплескалось. Окунулся Дядя Пуд, как будто настоящий мертвый якорь, да вдруг взял да и всплыл, точно пробка.
– Ступай на дно, – кричат ему моряки, – тони, мошенник ты этакой, ведь ты всех нас утопишь, акула ненасытная.
И Дядя Пуд изо всех сил старается, чтобы себя утопить, других спасти, барахтается он и так и сяк и ногами и руками, а все прибыли нет. Плавает он по морю, носится по волнам, точно бочка с салом, и якорь тут же с ним.
– Ах ты, участь неминучая, – плачет он, – ив мертвые якоря-то я не гожусь. На какую только потребу я на свет божий произошел!
А буря между тем разбила корабль в мелкие щепочки, все матросики потонули, и капитан вместе с ними, и даже канат, которым был привязан Дядя Пуд, лопнул.
И вот он плывет по морю день и два, плывет и целую неделю. На восьмой день показался вдали берег, а на берегу большой город, и несет Дядю Пуда море прямо к этому городу.
А городские люди давно уже на берегу стоят, в море глядят и никак не могут разглядеть, что за чудо морское плывет к ним. Кто говорит бочка, кто кит, а кто сам черт, дедушка водяной. Наконец, стукнулся Дядя Пуд якорем в набережную, так что даже брызги полетели. Причалил, значит, выгружайте.
Подивились люди, поахали, стали Дядю Пуда разгружать, от якоря отвязывать. И стал Дядя Пуд рассказывать им про свою горькую судьбину, бесталанное житье.
– Сжальтесь, братцы, над христианской душой! – и поклонился Дядя Пуд до земли. – Накормите немощного, убогого, спасения своего ради!
– Ну, нет, брат, – сказал один бойкий детина, – коли тебя кормить затем только, чтобы ты жил, так уж будет очень нескладно. Я лучше свинью стану кормить: сколько она у меня ни съест, все по крайности пойдет мне же на пользу. А я вот что тебе скажу: ступай-ка ты лучше на бойню да продай себя на сало. Коли тебе дадут по копейке за пуд, так смекни, сколько рублей выйдет.
Задумался Дядя Пуд и пошел на бойню.
– Авось, – думает, – там можно будет чем-нибудь поживиться!
Но не успел он и полдороги пройти, как съестным духом потянуло. Идет-скрипит длинный обоз, всякой свежиной нагружен. Везет он много добра и прямо к самому королю. А Дяде Пуду – что до этого за дело? Увидал он, что одна свиная тушка плохо лежит, сейчас же цап ее за ногу, да за спину. Но не успел он ее хорошенько спрятать, как его самого сейчас же сцапали.
Схватили, скрутили, привели Дядю Пуда к судье.
– Дядюшка милостивый, – молит его Дядя Пуд, – ведь сколько дней я не емши!.. Никуда-то я не гожусь. Чем же я виноват?
– Этого я ничего не знаю, – говорит судья, – а сужу по закону. Ты украл свиную тушу, а в законе сказано: «Если кто-либо украдет у кого-либо что-либо, что дороже веревки, на которой его можно повесить, то его следует повесить высоко и коротко». Эй! Палач!
А палач тут как тут. Словно из земли вырос. И повели Дядю Пуда вешать. Мальчишки бегут, народ бежит, солдаты в барабаны бьют. Ведут, тащат Дядю Пуда. Словно земляная глыба он катит, и весь народ на него дивуется.
«Господи! – думает Дядя Пуд. – Настал наконец мне, грешному, конец, успокоюсь я в земле сырой, моей кормилице».
Долго вешали Дядю Пуда. Ухали, ахали, три тысячи человек тянуло Дядю Пуда наверх, три тысячи подмогало им, наконец подняли. Но только что подняли, оборвался Дядя Пуд. Да и какая веревка могла бы удержать его, Дядю Пуда?! Оборвался он, полетел. Бросился народ от страха во все стороны, точно его вихрем разметало. Грохнулся Дядя Пуд о землю. Охнула земля, расступилась.
– Матушка! – вскричал Дядя Пуд. – Прими ты меня!
Но не приняла его земля, отбросила. Высоко взлетел Дядя Пуд. Далеко летел и очутился наконец в чистом широком поле, где со всех четырех сторон света сходятся дороги вместе.
Сидит там на перекрестке, на трех столбах, старушка-бабушка слепая, всем на картах ворожит, на бобах разводит. Подошел к ней Дядя Пуд, низко поклонился.
– Поворожи, – говорит, – мне, бабушка, поворожи, милая, поворожи мне горемычному, где моя добрая доля лежит!
– Давно бы, милый человек, ко мне пришел, – сказала слепая бабушка, и поворожила Дяде Пуду, и вышел Дяде Пуду червонный туз, и лежало в этом тузе сердце Дяди Пуда.
И только что выпал Дяде Пуду этот туз, как все переменилось.
Пыль поднялась по дороге. Скачут, летят вершники-приспешники, едет золотая колымага самого короля. Остановилась колымага, растворились дверцы. Все кланяются Дяде Пуду и садят его в колымагу, везут во дворец, к самому королю.
Там разодели Дядю Пуда в золото и бархат, посадили в передний угол, потчуют его всяким печеньем, вареньем, кулебяками, пирогами, брагой и медом, пивом и заморским вином.
Ест, ест Дядя Пуд, ест не час, не два, не день, не три, и все ему мало. Тащат-везут во дворец всякого съестного добра со всего королевства, и все Дяде Пуду мало. Заохал народ во всем королевстве. Пришел наконец и сам король смотреть на Дядю Пуда: дивуется, а за ним и все придворные тоже дивуются. Созвал король мудрецов со всего королевства.
– Что это за чудо-юдо такое? – спросил король у мудрецов.
– Просто голодный дурак! – сказали мудрецы. – Его же и море не поглощает, и земля не принимает.
– Да ведь он тяжел! – вскричал король.
– Тяжел! – повторили за ним все придворные.
– Тяжел! – простонал народ.
– Тяжел! – прозвенело эхо по всей земле.
– Но ведь он добр, и ему слепая бабушка ворожит! – вскричал король.
И тут все придворные тотчас увидели, что у Дяди Пуда настоящее червонное сердце; а что ему слепая бабушка ворожит, об этом они все давно догадались.
– Ну и решите, что с ним делать? – приказал король мудрецам.
Ну и сидят они, думают думу крепкую, думу тяжкую и до сих пор не могут решить и придумать, что сделать с Дядей Пудом.
(Восточная сказка)
Калиф сидел однажды, как сидят калифы, на парче или бархате, поджав ноги, развалившись в подушках, с янтарем в зубах; длинный чубук, как боровок, проведенный от дымовья печки до устья в трубу, лежал, кинутый небрежно поперек парчи, атласу и бархату, вплоть до золотого подноса на вальяжных ножках, с бирюзой и яхонтами, на котором покоилась красная глиняная трубка, с золотыми по краям стрелками, с курчавыми цветочками и ободочками. Пол белого мрамора; небольшой серебристый водомет посредине; усыпительный однообразный говор бьющей и падающей струи, казалось, заботливо услуживал калифу, напевая ему: покойной ночи.
Но калифу не спалось: озабоченный общим благом, спокойствием и счастием народа, он пускал клубы дыма то в усы, то в бороду и хмурил брови. Ночь наступила. Калиф тихо произнес: «Мелек!» – и раболепный Мелек стоял перед ним, наклонив голову, положив правую руку свою на грудь.
Калиф, молча и не покидая трубки, подал пальцем едва заметный знак, и Мелек стоял уже перед повелителем своим с огромным плащом простой бурой ткани и с белой чалмой, без всяких украшений, в руках. Калиф встал, надел белую простую чалму, накинул бурый плащ, в котором ходит один только простой народ, и вышел. Верный Мелек, зная обязанность свою, пошел украдкой за ним следом, ступая как кошка и не спуская повелителя своего с глаз.
Дома в столице калифа были такой легкой постройки, что жильцы обыкновенно разговаривали с прохожими по улице, возвысив несколько голос. Прислонившись ухом к простенку, можно было слышать все, что в доме говорится и делается. Вот зачем пошел калиф.
– Судья, казы, неумолим, – жаловался плачевный голос в какой-то мазанке, похожей с виду на дождевик, выросший за одну ночь. – Казы жесток: бирюзу и оправу с седла моего я отдал ему, последний остаток отцовского богатства, и только этим мог искупить жизнь свою и свободу.
О, великий калиф, если бы ты знал свинцовую руку и железные когти своего казы, то бы заплакал вместе со мною!
Калиф задумчиво побрел домой: на этот раз он слышал довольно. «Казы сидит один на судилище своем, – размышлял калиф, – он делает, что хочет, он самовластен, может действовать самоуправно и произвольно: от этого все зло. Надобно его ограничить; надобно придать ему помощников, которые свяжут произвол его; надобно поставить и сбоку, рядом с ним, наблюдателя, который поверял бы все дела казы на весах правосудия и доносил бы мне каждодневно, что казы судит правдиво и беспристрастно».
Сказано – сделано; калиф посадил еще двух судей, по правую и по левую руку казы, повелел называться этому суду судилищем трех правдивых мужей; поставил знаменитого умму, с золотым жезлом, назвав его калифским приставом правды. И судилище трех правдивых сидело и называлось по воле и фирману[2] калифскому; и свидетель калифский, пристав правды, стоял и доносил каждодневно: все благополучно.
– Каково же идут теперь дела наши? – спросил калиф однажды у пристава своего. – Творится ли суд, и правда, и милость, благоденствует ли народ?
– Благоденствует, великий государь, – отвечал тот, – и суд, и правда, и милость творится, нет бога кроме Аллаха и Мохаммед его посол. Ты излил благодать величия, правды и милости твоей, сквозь сито премудрости, на удрученные палящим зноем, обнаженные главы народа твоего; живительные капли росы этой оплодотворили сердца и уста подданных твоих на произрастание древа, коего цвет есть благодарность, признательность народа, а плод – благоденствие его, устроенное на незыблемых основаниях на почве правды и милости.
Калиф был доволен, покоясь опять на том же пушистом бархате, перед тем же усыпляющим водометом, с тем же неизменным янтарным другом в устах, но речь пристава показалась ему что-то кудреватою; а калиф, хоть и привык уже давно к восточной яркости красок, запутанности узоров и пышной роскоши выражений, успел, однако же, научиться не доверять напыщенному слову приближенных своих.
– Мелек! – произнес калиф, и Мелек стоял перед ним, в том же раболепном положении. Калиф подал ему известный знак.
– Удостой подлую речь раба твоего, – сказал Мелек, – удостой, о великий калиф, не края священного уха твоего, а только праха, попираемого благословенными стопами твоими, и ты не пойдешь сегодня подслушивать, а будешь сидеть здесь, в покое.
– Говори, – отвечал калиф.
– О великий государь, голос один: народ, верный народ твой вопиет под беззащитным гнетом. Когда был казы один, тогда была у него и одна только, собственная своя голова на плечах; она одна отвечала, и он ее берег. Ныне у него три головы, да четвертая у твоего пристава; они разделили страх на четыре части и на каждого пришлось по четвертой доле. Мало было целого, теперь еще стало меньше. Одного волка, великий государь, кой-как насытить можно, если иногда и хватит за живое, – стаи собак не насытишь, не станет мяса на костях.
Калиф призадумался, смолчал, насупил брови, и чело его сокрылось в непроницаемом облаке дыма. Потом янтарь упал на колени. Калиф долго в задумчивости перебирал пахучие четки свои, кивая медленно головою.
«Меня называют самовластным, – подумал он, – но ни власти, ни воли у меня нет. Голова каждого из негодяев этих, конечно, в моих руках; но, отрубивши человеку голову, сократишь его, а нравственные качества его не изменишь. Основать добро и благо, упрочить счастие и спокойствие каждого не в устах раболепных блюдолизов моих, а на самом деле – это труднее, чем пустить в свет человека без головы. Перевешать подданных моих гораздо легче, чем сделать их честными людьми; попытаюсь, однако же; надобно ограничить еще более самоуправство, затруднить подкуп раздроблением дел, по предметам, по роду их и другим отношениям, на большее число лиц, мест и степеней; одно лицо действует самопроизвольно, а где нужно согласие многих, там правда найдет более защиты.
И сделалось все по воле калифа: где сидел прежде и судил и рядил один, там сидят семеро, важно разглаживают мудрые бороды свои, замысловатые усы, тянут кальян и судят и рядят дружно. Все благополучно.
Великий калиф с душевным удовольствием созерцал в светлом уме своем вновь устроенное государство; считал по пальцам, считал по четкам огромное множество новых слуг своих, слуг правды – и радовался, умильно улыбаясь, что правосудие нашло в калифате его такую могучую опору, такой многочисленный оплот против зла и неправды.
– Еще ли не будут счастливы верные рабы мои, – сказал он, – ужели они не благоденствуют теперь, когда я оградил и собственность и личность каждого фаудтами, то есть целыми батальонами недремлющей стражи, оберегающей заботливо священное зерцало правосудия от туску и ржавчины? Тлетворное дыхание нечистых не смеет коснуться его; я вижу: зерцало отражает лучи солнечные в той же чистоте, как восприяло их».
Опять позвал калиф Мелека, опять сокрылся от очей народа в простую чалму и смурый охобень, опять пошел под стенками тесных, извилистых улиц; часто и прилежно калиф прикладывал чуткое ухо свое к утлым жилищам верноподданных – и слышал одни только стенания, одни жалобы на ненасытную корысть нового сонма недремлющих стражей правосудия.
– Растолкуй мне, Мелек, – сказал калиф в недоумении и гневном негодовании, – растолкуй мне, что это значит? Я не верю ушам своим; быть не может!
– Государь, – отвечал Мелек, – я человек темный, слышу глазами, вижу руками: только то и знаю, что ощупаю. Позволь мне привести к тебе старого Хуршита – он жил много, видал много; слово неправды никогда не оскверняло чистых уст его, он скажет тебе все.
– Позови.
Хуршит вошел. Хуршит из черни, из толпы, добывающий себе насущное пропитание кровным потом.
– Хуршит, что скажешь?
– Что спросишь, повелитель; не подай голосу, и отголосок в горах молчит, не смеет откликнуться.
– Скажи мне прямо, смело, – но говори правду – когда было лучше: теперь или прежде?
– Государь, – сказал Хуршит после глубокого вздоха, – при отце твоем было тяжело. Я был тогда овчарником, как и теперь, держал и своих овец. Что, бывало, проглянет молодая луна на небе, то и тащишь на плечах к казыю своему барана: тяжело было.
– А потом? – спросил калиф.
– А потом, сударь, стало еще тяжелее: прибавилось начальства над нами, прибавилось и тяги, стали мы таскать на плечах своих по два барана.
– Ну, а теперь говори!
– А теперь, государь, – сказал Хуршит, весело улыбаясь, – слава богу, совсем легко!
– Как так? – вскричал обрадованный калиф.
Хуршит поднял веселые карие глаза свои на калифа и отвечал спокойно:
– Гуртом гоняем.
Сказка о Иване Молодом Сержанте Удалой Голове, без роду, без племени, спроста без прозвища
Милым сестрам моим Павле и Александре
В некотором самодержавном царстве, что за тридевять земель, за тридесятым государством, жил-был царь Дадон Золотой Кошель. У этого царя было великое множество подвластных князей: князь Панкратий, князь Клим, князь Кондратий, князь Трофим, князь Игнатий, князь Евдоким, много других таких же и, сверх того, правдолюбивые, сердобольные министры, фельдмаршал Кашин, генерал Дюжин, губернатор граф Чихирь Пяташная Голова да строевого боевого войска Иван Молодой Сержант, Удалая Голова, без роду, без племени, спроста без прозвища. Его-то царь Дадон любил за верную службу, его и жаловал неоднократно большими чинами, деньгами, лентами первоклассными, златочеканными кавалериями, крестами, медалями и орденами. Таковая милость царская подвела его под зависть вельмож и бояр придворных, и пришли они в полном облачении своем к царю и, приняв слово, стали такую речь говорить:
– За что, государь, изволишь жаловать Ивана Молодого Сержанта милостями-почестями своими царскими, осыпать благоволениями многократными наравне с твоими полководцами? Мы, не в похвальбу сказано, не в урок помянуто, мы, кажется, для тебя большего стоим; собираем с крестьян подати-оброки хорошие, живем не по-холопьи, хлебом-солью, пивом-медом угощаем и чествуем всякого, носим на себе чины и звания генеральские, которые на свете ценятся выше чина капральского.
Царь этот царствовал, как медведь в лесу дуги гнет: гнет – не парит, переломит – не тужит! Он, послушав правдолюбивых и сердобольных советников своих, приказал немедленно отобрать от Ивана Молодого Сержанта, Удалой Головы, без роду, без племени, спроста без прозвища, все документы царские, чины, ордена, златочеканные медали, и пошло ему опять жалованье солдатское, простое, житье плохое, и стали со дня на день налегать на него более вельможи, бояре царские, стали клеветать, обносить, оговаривать. Задумал он бежать из службы царской, выждал ночь потемнее, собрался и пошел куда глаза глядят, куда стопы понесут молодецкие!
Не успел выйти Иван наш на первый перекресток, встречает, глазам своим молодецким не доверяет, видит прекрасную девицу, стоит девица Катерина, что твоя красная малина! Разодетая, разубранная, как ряженая суженая! Она поклонилась обязательно, приветствовала милостиво и спросила с ласкою: кто он таков, куда и зачем идет или послан, по своему ли желанью или по чьему приказанью?
– Не торопись к худу, Иван Молодой Сержант, Удалая ты Голова, без роду, без племени, спроста без прозвища, – продолжала она, – а держись блага – послушай ты моего девичьего разума глупого, будешь умнее умного; задумал ты худое дело делать: бежать из службы царской, не схоронишь ты концов в воду, выйдет через год со днем наружу грех твой, пропадет за побег вся служба твоя; подумай-ка ты лучше думу да воротись… Мало славы служить из одной корысти; нет, Иван, послужи-ка ты своему царю заморскому, под оговором, под клеветою, верою и правдою, как служат на Руси, из одной ревности да из чести! Воротись, Иван Молодой Сержант, да женись ты на мне, так мы бы с тобою и стали жить да поживать; любишь – так скажи, а не любишь – откажи! Запрос в карман не лезет.
Капрал наш солдат, человек сговорчивый, подал руку ей, она ему надела на перст колечко обручальное даровое-заветное, дарующее силу и крепость и нессякающее терпение, вымолвила пригодное слово, и чета наша идет – не идет, летит – не летит, а до заутрени очутились они в первопрестольном граде своем, снарядились и обвенчались, а с рассветом встали молодыми супругами.
И вдруг, отколе что взялось, пошла Ивану опять прежняя милость царская, чины, и деньги, и лестные награды, и зажил он припеваючи домовитым хозяином, как ярославский мужик. И снова стал лукавый мучить завистью правдолюбивых, сердобольных министров царских, фельдмаршала Кашина, генерала Дюжина, губернатора графа Чихиря Пяташную Голову, и предложили они единодушно царю, чтобы Иван Молодой Сержант по крайней мере заслужил службою милость царскую. Вследствие сего Иван Молодой Сержант наутро явился ко двору. Царь Дадон, трепнув его по плечу, вызывал службу служить:
– Чтобы ты мне за один день, за одну ночь, и всего за одни сутки, сосчитал, сколько сот, тысяч или миллионов зерен пшеницы в трех больших амбарах моих, и с рассветом доложил мне об этом. Если сочтешь верно, пойдет снова милость царская пуще прежнего; а нет, так казнить, повинную голову рубить!
Взяла кручинушка Ивана Молодого Сержанта, Удалую Голову, без рода, без племени, спроста без прозвища, повесил он головушку на правую сторонушку, пришел, горемычный, домой.
– О чем тужишь-горюешь, очи солдатские потупляешь или горе старое мыкаешь-понимаешь? – так спросила его благоверная супруга девица Катерина.
– Как мне не тужить, не горевать, когда царь Дадон, слушая царедворцев своих, велит мне службу служить непомерную, велит мне за один день, за одну ночь, и всего-то русским счетом за одни сутки, счесть, сколько в трех больших амбарах его царских сот, тысяч или миллионов зерен пшеницы; сочту, так пойдет милость царская, а нет, так казнить, повинную голову рубить!
– Эх, Иван Молодой Сержант, Удалая ты Голова! Это не служба, а службишка, а служба будет впереди! Ложись-ка ты спать, утро вечера мудренее, – так рекла прекрасная Катерина; напоила, накормила его и спать положила.
Иван лег, зевнул, заснул – а Катерина вышла за вороты тесовые на крылечко белокаменное, махнула платочком итальянским и молвила:
– Ах вы, любезные мои повытчики[3], батюшкины посольщики[4], нашему делу помощники, пожалуйте сюда!
И тотчас, отколе ни возьмись, старик идет, клюкой подпирается, на нем шапка мотается, головой кивает, бородой след заметает; стал и послушно от повелительницы приказания ожидает.
– Сослужи-ка ты мне, вещун-чародей, службу, сосчитай до утра: сколько в трех больших амбарах государевых счетом зерен?
– Ах, любезная наша повелительница, дочь родная-кровная нашего отца-командира, это не служба, а службишка, а служба будет впереди.
Сам как свистнет да гаркнет на своих на приказчиков, так со всех сторон налетели, тьма-тьмущая! Как принялись за работу, за расчет, не довольно по горсти – по зерну на каждого не досталось!
Еще черти на кулачки не бились, наш Иван просыпается, глаза протирает, сон тяжкий отряхает, беду неминучую, смерть верную ожидает. Вдруг подходит к нему супруга его благоверная, расчет верный зернам пшеничным подносит. А века тогда были темные, грамоте скорописной мало кто знал, печатной и в заводе не было, – церковными буквами под титлами и ключами числа несметные нагорожены: азы прописные – красные, узорчатые, строчные – черные, буднишние, – кто им даст толку? Да и не поверять же стать! Ни свет ни заря явился капрал наш на войсковой двор и подал грамоту по начальству. А придворные правдолюбивые фельдмаршал Кашин, генерал Дюжин, губернатор граф Чихирь Пяташная Голова мысленно капрала давно уже казнили. Царь передал грамоту и дело Ивана на суд царедворцам своим. Они повелели именем Дадона собрать всех счетчиков, арифметчиков со всего царства, составить заседание и поверить огромные итоги. Арифметчики бились, перебрали жалованья, каждый тысяч по нескольку, получили по чину сенаторскому, по две ленты на крест, по плюмажу на шляпу и решили наконец единогласно и единодушно, чтобы грамоту нерукотворную отдать на сохранение в приличное книгохранилище и передавать из рода в род позднейшему потомству яко достопамятность просвещенного века великоименитого, великодаровитого, великодержавного и великомудрого царя Дадона Золотого Кошеля; что же именно касается выкладки счета сего, то оно действительно может быть так, а может быть и не так; а потому не благоугодно ли будет вышепоименованному Ивану Молодому Сержанту повелеть, яко остающемуся и пребывающему под сомнением, повелеть службу служить ему иную и исполнить оную с большим тщанием и рачением? Царь Дадон пожаловал им теперь по кресту на петлицу, по звезде на пуговицу, по банту за спину.
А службу опять загадали Ивану безделицу: в один день, в одну ночь, всего-то русским счетом в одни сутки, выкопать вокруг города-столицы канаву, сто сажен глубины, сто сажен ширины, воды напустить, чтобы корабли ходили, рыба гуляла, пушки по берегам на валу стояли и до рассвету производилась бы пальба, ибо царь Дадон Золотой Кошель намеревался потешаться и праздновать именины свои. Если сослужит Иван службу эту – любить и золотом дарить; если нет – так казнить, голову рубить!
Вот когда нашему Ивану пришлось хоть волком взвыть! Подгорюнился, пришел домой, судьбу свою проклинает, смерть верную ожидает. Но прекрасная Катерина, спросив и узнав кручину супруга, снова намекнула ему: это не служба, а службишка, а служба будет впереди; положила спать, вышла и накликала вещуна-чародея. Идет, головой кивает, бородой след заметает; как свистнет да топнет на своих на приказчиков – ночи тьму затмили; а за работу принялись, так не только по горсти земли – по зерну, по одной песчинке на брата не досталось!
С рассветом царь, министры его, вельможи, царедворцы, думные и конюшие и вся столица просыпаются от гула пушек, и губернатор граф Чихирь Пяташная Голова, в легком ночном уборе, в валентиновом халате, с парламентером на шее, походя с ног на горного шотландца, выскочил из терема своего в три авантажа на балахон и старался усмотреть в подозрительную трубу подступающего неприятеля. Когда же дело все обнаружилось, то Иван за страх, причиненный царю Дадону, царедворцам его и всем честным согражданам, был схвачен и посажен до времени под стражу; губернатора графа Чихиря сделали комендантом новой крепости; фельдмаршалу Кашину за деятельные меры для отражения мнимого неприятеля сшили в знак отличия кафтан из одних разноцветных выпушек; у прежнего же высокого совета арифметчиков отобраны все знаки отличия, ордена, ленты и звезды; за нехитро придуманную, площадную, Иваном нашим легко исполненную службу признаны все учреждения и постановления их, да и сами они, несостоятельными, и сосланы они на теплые воды полечиться. А когда при вечернем осмотре царь Дадон Золотой Кошель нашел все новые укрепления со всеми угодьями в отличной исправности, то и отдал коменданту Чихирю все знаки отличий, коими пользовался, блажныя памяти, верховный совет его. Между тем у новых советников царских мало-помалу умишко поразгулялся, и они придумали-пригадали:
– Ох ты гой еси, добрый молодец, Иван Молодой Сержант, без роду, без племени, спроста без прозвища, витязь безродный и бесконный! Собирайся служить ты службу тяжкую; иди ты туда, неведомо куда, ищи того, неведомо чего; разойдись один по семи перекресткам, с семи перекрестков по семи дорогам столбовым; за горою лес, а за лесом гора, а за тою горою лес, а за тем лесом опять гора. Придешь ты в тридесятое государство, что за тридевять земель, в заповедную рощу; в роще заповедной стоит терем золоченый, в тереме золоченом живет Котыш Нахал, невидимка искони века; у него-то есть гусли-самогуды, сами заводятся, сами играют, сами пляшут, сами песни поют; гусли эти принеси царю, царевичам, и царедворцам, и наперсникам их играть, потешаться, музыкою заморскою забавляться; и чтобы все это было сделано в одни сутки!
Уповая на благоверную свою и на помощь вещуна-чародея, Иван наш не унывал; но когда пересказал загаданную службу, тогда получил в ответ:
– Вселюбезнейший и дражайший супруг мой Иван Молодой Сержант, без роду, без племени, спроста без прозвища, Удалая ты Голова! Ныне пришла пора, пришла и служба твоя, и должно тебе служить ее самому; не в моих силах высвободить тебя, ниже подать тебе, бедствующему, руку помощи.
А засим она его снарядила и в поход отпустила, как с судьбою, с случаями путем-дорогою ведаться научила, платочком итальянским своим подарила и примолвила:
– Паси денежку про черный день; платком этим не иначе как в самой сущей крайности и в самом бедственном положении можешь ты утереть с лица своего молодецкую слезу горести и скорби!
Сели, подали хлеб-соль на прощанье, помолились богу – и пошел наш Иван, куда кривая не вынесет!
Потерял он счет дням и ночам. «Светишь, да не греешь, – подумал он, поглядев на казацкое солнышко, на луну, – только напрасно у Бога хлеб ешь». И видит он вдруг, что зашел в бор дремучий и непроходимый. Подкосились колени его молодецкие, сапоги в сугробах снежных глубоких вязнут. Вынул платочек даровой заветной супруги – вдруг его как на ходули подняло! На нем сапоги-самоходы, да и такие они скороходы, что и на одном месте стоят, так конному не нагнать; не успел шагнуть, зашел он из белой матушки зимы в цветущую благоуханную весну; и полетел наш Иван, оглянуться не успел, выходит из лесу соснового дремучего на лужайку вечнозеленую, травка-муравка вечно свежа-зелена, как бархатец опушкой шелковой ложится, ковром узорчатым под ноги расстилается. И стоит на лужайке той здание чудное, вызолоченное от земли до кровли, от угла до угла; столпы беломраморные кровлю черепичную-серебряную подпирают, на ней маковки горят золотые, узоры прихотливые, живописные и лепные под карнизами резными разгуливают, окны цветные хрустальные, как щиты огненные, злато отливают – ни ворот, ни дверей, ни кола, ни двора! Обошел капрал наш здание это раз-другой кругом, оглядел со всех сторон – всюду то же, и входа нет! Смелость города берет: стук, бряк в окно хрустальное, зазвенело-полетело, только осколки брызнули! Забрался наш Иван безродный, удалой, в терем золоченый, да и ахнул: здание внутри блистало такою красотой, что ни придумать, ни сгадать, ни же в сказке сказать! А палаты огромные пусты. Ходил, ходил Иван наш, выходил по всем покоям и видит, вдруг встречает, глазам молодецким не доверяет, стоит в углу чан дубовый, висит через край ковшик луженый. Выпил он на усталость крючок, за здравие благоверной своей, другой, за упокой клеветников и доносчиков своих, третий – разобрало его, зашумело в голове, ходит по покоям золоченым один как перст, похаживает, завалил руку левую за ухо на самый затылок и песенку русскую: «Растоскуйся ты, моя голубушка, моя дорогая» – во весь дух покрикивает. Вдруг незримая рука его останавливает, голос безвестный вопрошает:
– Ох ты гой еси, добрый молодец, мало доблести, много дерзости! Зачем и откуда пожаловал, по своему ли желанью или по чьему приказанью?
– Я Иван Молодой Сержант, спроста без прозвища, без роду, без племени, я Иван безродный, Удалая Голова, витязь бездомный и бесконный; служил я верно Богу и некрещеному царю своему в земле, что за триста конных миль; сбили меня царедворцы завистливые с чести, с хорошего места, лишили милостей царских, службы непосильные служить посылали, золотые горы сулили-обещали; сослужил я службу, сослужил другую, душу познал их кривую – не дали, чего посулили, на произвол судьбы за третьей службой отпустили: «Иди туда, неведомо куда, ищи того, неведомо чего; разойдись один по семи перекресткам, с семи перекрестков по семи дорогам столбовым; за горою лес, а за лесом гора, а за тою горою лес, а за тем лесом опять гора; придешь в тридесятое государство, что за тридевять земель, в рощу заповедную; стоит там терем золотой, в тереме том живет Котыш Нахал, невидимка искони века; у него возьми гусли-самогуды, сами заводятся, сами играют, сами пляшут, сами песни поют; их-то принеси царю, царевичам, царедворцам и наперсникам их потешаться, музыкою заморскою забавляться!
Отозвался невидимка снова:
– Кого ищешь, Иван Молодой Сержант, того нашел. Зовут меня Котышем Нахалом, вековечный я невидимка, живу в заповедной роще в тереме золоченом. Знаю я художества разные и многие; умею я строить-набирать гусли-самогуды, да с уговором: грех пополам; я буду работать, а ты будешь светить мне лучиной три дня и три ночи без смены, без засыпу; просветишь – гусли-самогуды возьмешь; а заснешь, не то вздремнешь, так голову, как с воробья, сорву!
«Полез по горло, – подумал Иван, – лезть и по уши».
Надрал он лучин хвойных, зажег, светит день, светит ночь, светит и еще день, сон клонит неодолимый; кивнул Иван головой, задремал.
А Котыш Нахал толк его под бок:
– Ты спишь, Иван?
– Ох, спать, я не сплю и дремать не дремлю, а думаю я думу.
– А какую же ты думаешь думу?
– А думаю я, глядя в окно, множество несметное растет по свету белому леса разнокалиберного – а какого более растет, кривого или прямого? Чай, кривого больше.
Котыш Нахал призадумался.
– Погоди, – говорит, – постереги ты на досуге гусли, я пойду посчитаю.
Долго ли, нет ли ходил Котыш, а Иван поспал изрядно.
– Вставай, Иван, – закричал Котыш, – твоя правда, кривого лесу больше; и больше так, что на числа положить, так русским счетом и не выговоришь. Зажигай-ка лучину да садись за работу, свети трое суток сряду!
Светит капрал наш день, светит и ночь, добился и до другой – опять песня та же; крепился, крепился – задремал!
А Котыш его толк в ребро.
– Спишь? – говорит.
– Ох, спать я не сплю и дремать не дремлю, а думаю я думу!
– А какую же ты думаешь думу?
– А думаю я: несметное множество людей на свете у Бога да у земных царей, а мало ли было, да перемерло? Каких же больше людей на свете, живых или мертвых? Чай, мертвых больше!
Покинул Котыш опять Ивана на стороже, сам пошел считать. Ходил он сутки с неделей без семи дней, по-ихнему без году год со днем, выходил всю поднебесную; а Иван на брюхо лег, спиной укрылся, зевнуть не успел, заснул.
– Вставай, капрал! Пора за работу, а правда твоя, мертвых людей больше; живых без четверти с седьмухой три осьмины, а остальные все мертвые!
Светит Иван опять ночь со днем, перемогся и другую, а до третьей стало доходить – вздремнул, да так, что всхрапнул да присвистнул!
Толкнул его Котыш в ребро:
– Спишь, Иван?
А он очнулся, да не нашелся, а вымолвил с перепугу словцо русское: виноват!
– Из твоей вины, – молвил Котыш Нахал, – не рукавицы шить, не сапоги тачать, а если так, то делать нечего, смерть твоя пришла неминучая. Поди-ка выдь на лужайку муравчатую, на мою заповедную мелкотравчатую, погляди еще раз на белый свет, простися, покайся, умирать собирайся!
Вышел Иван Молодой Сержант на лужайку заповедную вечнозеленую, вспомнил родину свою, супругу молодую, прекрасную Катерину, и залился слезами горькими. Вынул Иван платочек заветный итальянский утереть в последний раз слезу молодецкую – а уж Котыш Нахал зовет его на расправу, под окном косятчатым сидя, в растворчатое глядя.
– Отколе ты взял платок этот? – спросил Котыш Нахал, невидимка искони века.
Иван рассказал, от кого и каким случаем платок ему достался.
Молвил Котыш:
– Если так, то ты бы мне давно это сказал – стало быть, ты женат на дочери моей прекрасной девице Катерине, и ты по завету, которому столько же лет, как ей самой, не только пребудешь жив, здоров и невредим и свободен от всякой пени, но и должен получить в приданое собственные мои гусли-самогуды, искони готовые, заветные, на которые и было положено завету заслужить любовь и руку дочери моей прекрасной девицы Катерины.
Снарядил его, в поход отпустил, гусли-самогуды в мошне кожаной на плечи повесил – заиграли, заплясали, песни чудные запели, – а Иван лыжи наострил да направил восвояси; шагает, как жар-птица летает, домой торопится-поспешает. Шел он оттуда високосный год без недели со днем, не то поменьше, не то побольше, не поспеть ему и назад в сутки! Стоит над путем-дорогой избушка-домоседка, распустила крылья, как курочка-наседка, а в ней стукотня; лукошко, кузовок, корзина да коробок вместо цыплят вокруг похаживают, а две ведьмы, сестры, одна буланая, одна соловая, вокруг избы дозором объезжают. Повесил Иван гусли-самогуды на дерево, заслушались ведьмы игры чудесной, а он тем часом обошел кругом, да и в избу. Старик седой молотом полновесным перед жерлом огненным на наковальне булатной кует булавы стальные, запускает их в набалдашники золотые, а готовые на полати за печь кидает. Это был вещун-чародей, служивший на Ивана по повелению Катерины службы царские, но они друг друга не знавали в глаза. Старик принял радушно пришельца усталого.
– Ляг, говорит, да отдохни; а старуха моя, коли похлебать чего хочешь, сварит тебе щец – за вкус не берусь, а горяченько да мокренько будет!
Словом, напоил, накормил и спать положил, а с рассветом выпроводил, да услышал, на беду, игру чудесную гуслей-самогудов, и стал он их у Ивана просить-выпрашивать. Не захотел отдать ему Иван сокровища своего заветного, плодов поисков, трудов и похождений неимоверных, – а тот не взял добром, так взял всемером; помощники, которым, как мы уже видели, числа нет, явились по мановению повелителя своего, воздух и небо затмили множеством своим.
– Хочешь ли бороться с каждым и со всеми? – спросил вещун-чародей. – Или добровольно за булаву любую отдашь мне гусли твои?
Иван подумал, да и отдал гусли! Выбрал булаву поувесистее и пошел, проклиная белый свет! Куда деваться ему теперь? Что делать? Как дома, как в люди показаться и принести повинную голову свою на плаху? А был уже так близок великой цели своей! В раздумье играя булавой, стал он набалдашник золотой отвертывать. Отвернул – из палицы кованой несметное и бесчисленное множество войска боевого, конного и пешего, вылетает, в строй парадный перед ним на лугу собирается, генералы с адъютантами своими во всю прыть на Ивана, витязя бездомного и бесконного, наскакивают, отдают честь должную полководцу, музыка полный поход играет, подвиги Ивана Молодого Сержанта выхваляет, армия вся в три темпа ружья на караул осаживает, правою ногою отступает. Это несметные полчища бесов вещуна-чародея, обмундированные, вооруженные. Надел Иван набалдашник золотой – исчезло все, как не бывало; снял – опять здесь, и бой, и музыка, и армия, и генералы с рапортами; а гусли-самогуды в котомке за плечами.
Смекнул делом капрал наш; набалдашник надел, палицу в руку, котомку за плечи, самоходцы на ноги, и марш на один шабаш в родимую свою сторонушку. Поспел до рассвета; стал на луга заповедные царские, которые недовольно человек ни один не смел святотатными стопами своими попирать, но на кои и птица мимолетная не садилась; снял голову с булавы и построил армию несметную прямо против дворца царского, а гусли-самогуды заставил играть: «За горами, за долами!»
Царь, проснувшись, разгневался на дерзостного пришельца необычайно, струсил без меры и послал губернатора графа Чихиря Пяташную Голову осведомиться немедленно: что, и как, и кто, и почему? Идет Чихирь, узнал Ивана Молодого Сержанта издали, подходит дерзостно, шляпы плюмажной не сымает, речи строптивые-ругательные произносит:
– Не удивишь ты нас, Иван окаянный, что скоро воротился, и врасплох нас не застанешь! На тебя виселица готова давным-давно!
Притравил словом одним Иван бесов своих на старого недруга закоснелого: схватили – не довольно по клочку, по волоску на каждого не досталось! Ждал, ждал царь ответа с нетерпением великим.
– Нет, – говорит, – видно, этот музыки заслушался; поди-ка ты, фельдмаршал мой Кашин!
– Не ломайся, овсяник, не быть калачом, – сказал ему Иван.
И этому была участь не завиднее первого, и третьему генералу Дюжину также. Но теперь вызвался и пошел сослуживец и поборник Ивана Молодого Сержанта, поступивший ныне на место убылого, сосланного за тридевять земель по гусли-самогуды. Зная службу и дисциплину, стал он подходить к новому полководцу почтительно, держал мерный шаг, руки по шву, фуражку снял на приличном расстоянии, одним словом: шел – не спотыкался, стал – не шатался, заговорил – не заикался, и осведомился от имени царского о происходящем. Иван Молодой Сержант, спроста без прозвища, без рода, без племени, а теперь фельдмаршал, полуторный генерал и сам себе кавалер, обнял его, приласкал, сказался именем своим, приказал царю бить челом и доложить, что Иван воротился из похода своего, сослужил службу царскую, принес гусли-самогуды из рощи заповедной вечнозеленой от Котыша Нахала, вековечного невидимки, царю, царевичам и наперсникам их потешаться, музыкою забавляться. Сам надел набалдашник на булаву, снял войско с заповедных лугов и в послушании остался ожидать решения царского. Царь Дадон Золотой Кошель выслал звать его ко двору на чай и ужин, произвел в военачальники свои, губернаторы, сенаторы, генералы и кавалеры, – но только что Иван дался в обман и пошел без подозрения на зов царский, как два наемные резника с кистенями, с ножами бросились с остервенением ему навстречу: они имели повеление обезоружить его, отняв палицу, и бросить его в темницу. Велика Федора, да дура, а Иван мал, да удал; им было бы выждать, покуда он взойдет в тесные ворота дворцовые, и захватить его сзади, а они, не поглядев в святцы да бух в колокол, поспешили, людей насмешили, вышли рано, да сделали мало. Теперь Иван в последний раз испытал коварство царя Дадона Золотого Кошеля и советников его правдолюбивых; он выпустил войско свое, конное и пешее, навстречу убийцам, обложил дворец и весь город столичный, так что лишь только нашедшая туча дождевая пронеслась в недоумении, ибо некуда было и капле дождя капнуть, – и истребил до последнего лоскутка, ноготка и волоска Дадона Золотого Кошеля и всех сыщиков, блюдолизов и потакал его.
– Человеку нельзя же быть ангелом, – говорили они в оправдание свое.
– Но не должно ему быть и дьяволом, – отвечал он им. – И Соломон и Давид согрешали – давидски согрешаете, да не давидски каетесь! Нет вам пардону!
Иван был провозглашен от народа царем земли той, а супруга его, благоверная Катерина, – царевною…
Сказка о Бедном Кузе Бесталанной Голове и о переметчике Будунтае
Жил-был во земле далекой, промеж чехов да ляхов, старик гусляр да старуха гуслярка… И старухе намедни прилучилось поиграть на гуслях: как полезла она за решетом да стянула их рядном с полатей – загудели, сердечные, сказывают, вечную память по себе пропели да и смолкли.
До этого греха старик наш кой-как с ломтя на ломоть перебивался: наживное имущество, гусли, служили верою и правдой безволосому и белобородому, утешали жителей села Поищихи, со проселки и выселки, и кормили старичков наших и сына их, бедного Кузю. Но теперь, после того когда старухе нехотя случилось поиграть на гуслях этих и в первый и последний, когда, сверх того, старички, живучи в сырой, дряблой землянке, захворали, то пришлось было им пропадать совсем. Вот они и сложили поскребыши и осколки гуслей своих в мешок, повесили его сыну, бедному Кузе, на шею и послали его собирать подаяние милосердных и жалостных прихожан; кто знал старика и помнил гусли его, тот-де не отринет и теперь, а подаст. Ходит Кузя по миру и поет под оконцами песни.
Раз как-то в воскресный день бедный Кузя наш подошел поздним вечером под светлое оконце брусяной десятской избы, пропел песенку свою, тряхнул осколышами гуслей в мешке – нет ответу, ни привету, а шум и тары да бары в избе слышатся большие. Подошел Кузя поближе, вплоть под окно; глянул – сидят бабы; прислушался – идут у них толки о нечистой силе, про знахарей, волхвов, кудесников да про киевских ведьм. Всего, чего бедный Кузя наслушался у окна, пересказывать не станем; одначе долго у него не выходило из головы, как бабы клялись и божились, что коли кто чары творит да зажмешь в это время пальцем сучок в стене бревенчатой избы, так пересилишь его; а еще говорили, что ведьму, знахаря, колдуна и всякого, кто только спознался да живет с нечистой силой, можно пригвоздить к месту и покорить себе на живот и на смерть, коли приколоть булавкой тень его к земле либо к стене; бедняга пропал тогда и с нечистым своим; будет моргать очами да повертываться, что на колу, и наконец взмолится перед булавкой твоей, как турок неверный перед русским штыком! Бедный Кузя рылся как-то в золе, в сору и в навозе, собирая кости, которые он жег и продавал на ваксу и на разные снадобья какому-то засевшему в ближнем уездном городке осколышу наполеоновской армии, учителю всякой всячины и досужему делателю ваксы и помады, – как вдруг к нему, к Кузе, подошел, отколь ни взялся, цыган ли, татарин ли какой, поглядел на него и присел на кучку навоза, будто хотел стеречи ее от суковатой клюки бедного Кузи. Кузя поглядел на него искоса, стал опять разгребать сор поодаль от шабра, от соседа, и сметил, что новый сторож, на кучке сидючи, задремал.
– Кто это? – спросил тогда Кузя потихоньку шальную Мотрю, которая пасла телят и свиней.
– Неужто ты эту собаку не знаешь? – сказала Мотря шальная. – Это Будунтай, чертов пай, всем ведомый переметчик; он в Вятке барсуком из норы вылез, в свояки семи шаманам сибирским приписался, под Чудовом в козла оборотился, в Вологде свечой подавился, да кабы казанские татары не сняли с него шкуры на сафьян, так бы и светильня за ним пропала! Он перекинулся в тройку бегунов, а из них две лошаденки белые, а одна голая, – да и ушел на три стороны; ищи его! Вот он за что и слывет у нас переметчиком, что перекидывается, собака, во что ни задумал!
Бедный Кузя оглянулся на Будунтая, испугавшись голосистого крика шальной Мотри, а уж Будунтая и нет: на том месте, где он сидел, лежит только камень, а камня того, кажись, прежде не было. Кузя застрогал деревянную шпильку, подкрался к камню против солнца, да и приколол тень камня того к земле. «Что-то будет?» – подумал он. Долго камень лежал да отмалчивался, а Кузя стал разгребать под ним кучу навоза. Тогда и камень не утерпел: он перекинулся пошехонцем, в поршнях[5], в зипуне, с берестовой котомкой за плечами, и стал просить Кузю, чтобы он не ругался над бедным, бездомным поденщиком, чтобы не подрывался под него суковатою клюкою, а вынул бы колышек, на который-де того и гляди либо скотина, а не то и прохожий человек наступит да напорет ногу. Тогда Кузя наш догадался, что Будунтай недаром о колке заговаривает, и не вынул его, доколе тот не посулил ему за волю свою любого.
– Сокрушил меня, злодей! Проси чего хочешь, – сказал наконец Будунтай, а самого сердце так и подмывает.
– Выучи меня своему досужеству, – стал тогда просить бедный Кузя.
– Изволь, – отвечал Будунтай, – отпусти ж меня!
– Нет, врешь, обманешь, в лес уйдешь, – приговаривала шальная Мотря.
– Дай задаток, – сказал Кузя, – видно, Мотря шальная правду говорит! Дай задаток, а не то не отпущу!
Будунтай разгреб, не вставая с места, под собою кучу, достал горсть алтына, золота, и высыпал его Кузе в котомку.
– Врет, обманет, в лес уйдет, – приговаривала опять Мотря.
– Все это хорошо, – сказал Кузя, – да этого мало; надо мне тебя затаврить!
Сделал – и выдернул из земли колышек. Будунтай только крякнул, встал, встряхнулся, в черного петуха обернулся и приказал Кузе приходить в самую полночь за село, на распутье, где дороги разбегаются: в лес, на водопойное озеро, да на кладбище. Сам взмахнул крыльями, перекинулся рябой сорокой и полетел, как сороки летают, поджимая крылышки под мышку, да все прямо, что из лука стрела.
Бедный Кузя пришел домой, высыпал старикам своим пригореть золота, сказал, что богатый человек берет его в услужение да в ученье и вот прислал-де им задаток. Старики порадовались и потужили; сын покинул им отставные гусли и пошел в полночь на перепутье.
Прислонившись к верстовому столбу, прождал он уже долгонько, стало время за полночь, а Будунтая нет. Как вдруг столб, у которого стоял бедный Кузя, взвизгнул по-верблюжьи.
– Кой черт! Ты, что ли, это, Будунтай?
– Я! – сказал столб.
– Пойдем, что с тобой делать, пойдем ко мне в науку; да только гляди, теперь ты мне слуга, поколе не выучишься всему досужеству моему, от аза до ижицы!
– А там что, – спросил Кузя, – как выучусь?
– А там, – отвечал Будунтай, – на свой пай сам промышляй.
Будунтай взял его и продержал в науке довольно долгое время. Как он учил его своему художеству? Да вот как: самого в ком свернет – вот вам кочан капусты… Такое ученье бедному Кузе наскучило и надоело; он стал проситься домой, уверяя, что он уже всю науку прошел и всему научился. Будунтай-переметчик позвал стариков, родителей его, вывел им трех коней и спросил:
– Который ваш сын?
– Старик поглядел да и указал, наудалую, на авось, среднюю.
– Нет, – отвечал Будунтай, – знать, сын твой недоучился. Поди и приходи через полгода.
Вы знаете, ребята, что ждать полгода долго, страх долго; а между тем, оглянись назад, его уже и нет! Старик пришел в срок, а Кузя как-то тихомолком шепнул ему:
– Укажи-де на ту кобылу, которая будет вертеть хвостом.
Но Будунтай вывел ему трех куцых куропаток и велел узнать сына. Старик указал опять на какую попало – и не угадал. Кузя известил отца, что в следующий раз будет оправлять носом перышки на шейке, – а Будунтай вывел опять коней. Средний махнул, однако ж, хвостом, старик его узнал и взял выученного сына домой.
– Возьми его, – сказал переметчик Будунтай, – да слушай: береги его как око свое; если ж понадобятся тебе деньги, то вели сыну оборотиться в коня, веди на базар и продавай; да только смотри, уздечки с ним не отдавай, а сыми да неси домой, так и он дома будет.
Колдун махнул рукой и пропал, словно сквозь землю провалился; а лошади оборотились в людей: вороной жеребчик – в Кузю бесталанного, рыжая кобыла – в шальную Мотрю.
Старик пришел с сыном домой, дождался торгового дня; Кузя оборотился конем, отец повел его на базар, продал, накупил сладкого и горького, квашеного и соленого – а он, вишь, держался русской поговорки: пей кисло, да ешь солоно, так и на том свете не сгниешь. Накупивши всего, чтобы было чем полакомить и старуху свою, пошел домой, а Кузя, его сын бесталанный, дорогою его нагнал, и они опять оба вместе, рассмеявшись да порадовавшись, как ни в чем не бывало воротились домой.
А ушел наш Кузя от нового хозяина своего вот каким делом: ржевский мещанин, барышник, приехавший в нашу сторону закупать лошадей, чтобы там гнать их на Лебедянскую ярмарку, сторговал и купил у старика гусляра каракового коня, четырех лет, трех с половиною вершков, без тавра и без отметин, поспорил было с хозяином зато, что этот, поупрямившись, не хотел передать ему, как водится, повод новокупки из полы в полу, а с коня, не по обычаю, снял недоуздок, – известно, что корова покупается с подойником, а конь с недоуздком, – наконец однако же, чтобы не упустить сходной покупки, на все согласился и заплатил гусляру деньги. Не успел этот отойти, а ржевский барышник оглянуться на бойкую, голосистую торговку, с которой тем часом молодой калмыцкий жеребчик стянул зубами головной платок, как народ, обступив нашего коновала и барышника, стал хохотать и указывать на него пальцами. Ржевский мещанин оглянулся назад – у него в поводу не конь, а человек. Что тут было шуму, крику, брани, божбы и смеху – весь базар расходился; казаки отняли у рыжего коновала бедного Кузю; этого отпустили, а того прозвали полоумным. Хотел он было идти просить – да к кому пойдешь и на кого?
Но это, слышь, не все, а была еще потеха вот какая: крымский цыган, подкочевавший на базар с походного кузницею и увидевший, что приключилось со ржевским коновалом, рассудил, что Кузькино ремесло не плохой хлеб и что не худо бы попытаться перенять у него доброе дело; загадано – сделано; цыган продал тому же барышнику клячонку свою, а потом украл ее у него же из рук, передал товарищу, а сам надел на себя недоуздок. Когда же барышник наш оглянулся и снова увидел, что ведет в поводу не коня, а живого человека, только другой масти, смурого цыгана, то плюнул, кинул повод, перекрестился, прочел: «С нами крестная сила» и «Помилуй мя, господи!» – уехал с базару, и с той поры в Черкасск более ни ногой. Ну его, рыжего, к семи Семионам, обойдемся и без барышников! Только, окаянные, цены портят, с чужого добра сбивают, на свое наносят да набивают, а проку в них ни на волос!
Дождавшись другого базарного дня, гусляр наш опять вывел лошаденку на продажу. На грех навязался какой-то шестипалый пройдоха, подпоил нашего старика, присударивал да присударивал и купил у пьяного гусляра коня и увел его совсем, с недоуздком. Старик пришел домой, проспался, спохватился, да ожидает сына своего чуть ли не поныне.
На этот раз купил Кузю бесталанного сам Будунтай. Должен был Кузя поневоле ему покориться.
Будунтай, изморивши да загонявши коня новокупленного до бела мыла и задавши на нем концов десяток-другой по городу, прискакал домой – а дом у него стоял в чистом поле невидимкою – и привязал лошадь подле тыну. Только что Будунтай в избу, а Кузя ну чесаться щекою, задрав голову кверху, – задел недоуздком за кол плетня, да и стащил его долой с головы через уши.
Мальчишка, сын Будунтая, увидел это, на дворе стоя, и побежал сказать отцу. Тот, выскочив, пустился в погоню за конем, и тут-то пошла потеха: Кузя, видя, что лютый барс его нагоняет, ударился об землю, перекинулся белым кречетом и взмыл по-над крутым берегом реки. Будунтай ударился на него сизым беркутом; Кузя ринулся клубом об берег, перекинулся пескарем и соскочил в воду. Будунтай, таки прямо как мчался за ним, комом грянулся об воду, распластав высокий вал надвое, и щукою зубастой насел на хвост мелькавшего серебряной чешуйкой пескарика. Кузя-бедняга вынырнул стрелою из воды, сделал, собравшись с последними силами, скачок в маховую сажень, обернулся в золотое колечко и подкатился под ноги гулявшей в те поры на муравке побережной Милолики, дочери владельца той земли. Княжна Милолика подхватила колечко, надела его на пальчик и с радостным удивлением оглядывалась вокруг. Будунтай вынырнул гусем лапчатым из воды, выплыл на берег, встряхнулся, оборотился в купца кашемирского, подошел к княжне и стал просить убедительно отдать ему потерянное им колечко. Княжна испугалась густой черной бороды и воровских карих очей да сурменых бровей и чалмы кашемирца, закричала и прижала колечко к груди своей. Сенные девушки да подруженьки набежали, окружили младую княжну свою, кинулись все на неотступного бородача и начали его щекотать без пощады, до того, что названый гость хохотал, и кашлял, и плакал, и чихал, и ногами и руками лягался, и снопом овсяным по мураве катался, да такая над ним беда прилучилася, что позабыл было всю науку свою; через великую силу опамятовавшись, оборотился он мигом в ежа, от которого девушки, поколов алые пальчики свои чуть ли не до крови, с криком отскочили. Пастух, прибежавший на крик и шум, взмахнул долгим посохом своим и ударил свернувшегося тугим клубом ежа, и еж рассыпался калеными орехами; запрыгали орешки по земле, а девки кинулись их подбирать, да опять-таки с криком отскочили, побросав все, что захватили в лайковые ручки свои: орешки не тем отозвались, это были раскаленные ядрышки, и барышни наши пообжигали себе пальчики.
Княжна показала царственным родителям своим ненаглядное колечко да испросила позволение любить его и не сымать с пальчика своего ни день, ни ночь. Как только осталась она одна, то и начала играть колечком: надела его на тонкий шитый платочек свой и, забавляясь, покачивала да перепускала по платочку от конца до конца. Вдруг колечко как-то упало, покатилось, рассыпалось – и казак, молодецкая душа, Кузя бесталанный, стоял перед княжною. Он убрался на этот раз в малиновый бархат да в тонкое синее сукно. Никто в палатах царских не слыхал разговоров его; княжна, однако же, вышла к браному столу и грустна и радостна, и опять-таки с заветным колечком на руке. Она сказала только батюшке, что сего дня-де, наверное, опять явится тот страшный купец, кашемирская борода, и будет просить выдачи колечка, и умоляла отца не отбирать у нее этого сокровища.
Когда же и на самом деле по вечеру явился купец, у которого все еще не прошла икотка после вчерашней щекотки да хохотни, когда пришел, говорю, кашемирец за потерянным будто бы на берегу реки колечком, то царь-отец позвал дочь свою и приказывал отдать купцу кольцо: «Нам чужое добро таить, дескать, не идет». Княжна отвечала, что не смеет ослушаться дорогого родителя своего, но и не может передать мужчине колечко из рук в руки, а поэтому и кинула его на пол, пусть-де не прогневается да сам подымет. Но колечко рассыпалось мелким жемчугом; купец живо встряхнулся, перекинулся черным петухом и начал проворно подбирать жемчужинки; а подобравши все, взлетел он на окно, захлопал крыльями и закричал петухом: «Кузя, где ты?» – да за словом и выпорхнул в окно.
Но княжна, которую наш Кузя, видно, наперед уже поучил да настроил, кинув колечко, уронила в то же время, будто невзначай, платок свой да им и прикрыла одну самую крупную жемчужинку. Она-то вдруг выкатилась теперь из-под платка, отвечала на спрос петуха, словно петухом же: «А я здеся!» – и ринулась соколом из окна; грянул сокол с налету – только шикнул крыльями по воздуху, – грянул клубом в черного петуха, подпорол ему заборным ногтем левый бок да черканул по левому крылу, помял и поломал все перья правильные; упал камнем петух замертво в крутоберегий поток, и понесло его волною вниз по реке, по зеленой воде. Почернела и побагровела вода от пенистой крови; а подрезанное левое крыло вскинуло и подняло ветром, оно и запарусило туда ж по пути, вниз по реке, поколе не завертело петуха встречным теченьем в заводи, – там, сказывают, сомина, чертова образина, им было подавился, да нет, справился, проглотил; не подавится он, чай, и самим сатаной, не токма конем его подседельным.
Сокол взмыл над теремом царским, впорхнул в широкое окно, сел на руку княжны своей и поглядывал на нее ясными, разумными очами. В это самое время черный петух испустил дыхание свое, а ясный сокол спорхнул на пол и предстал в том же виде, как колечко давеча перед княжною: перекинулся молодцом молодецким. Со смертию Будунтая Кузя лишился, правда, силы и уменья перекидываться и принимать иной образ, да и не тужил уж об этом; живучи в довольстве и в богатстве с супругою своею, бывшею княжною Милоликою, вскоре наследовал он престол царский, жил да княжил, правил да рядил, солоно ел, да кисло пил, стариков своих, гусляров, поил да кормил, а Терешке косолапому велел братчиной да складчиной насыпать песку за голенища! Держите его, дурака, ребята, держи его!
Сказка о Шемякиной суде и о воеводстве и о прочем; была когда-то быль, а ныне сказка буднишняя
Карлу Христофоровичу Кнорре
Шемяка родился не воеводою, а мужиком. Край его был бедный, народу смыслящего мало, письменного не много, а Шемяка у дьячка в святцы глядеть выучился, знал праздник, по приметам, отличать от буден, ходил в тонком кафтане – а как на безрыбьи и рак рыба, а в городе Питере и курица птица, так мир его и посадил в старосты. Шемяка мужик смирный: когда спит, так без палки проходи смело; и честный, заговорит, так что твои краснобаи, душа на ладони и сердце на языке; а что скажет, то и свято, где рука, там и голова; лихоимства не знал, бывало Федосей, покойник, царство ему небесное, вечная память, смышлен и хитер на выдумки, на догадки, тороватей немца иного – ему пальца в рот не клади! Бывало и комар носу не подточит; да любил покойник, нечего греха таить, чтобы ему просители глаза вставляли серебряные; бывало стукнет по голове молотом, не отзовется ль золотом? Да и сам только тем прав бывал, что за него и праведные деньги молились. Шемяка наш прост, хоть кол на голове теши, да добр и богобоязлив; так мужики и надеялись нажить от него добра, да и оскоромились. Не то беда, что растет лебеда, а то беды, как нет и лебеды!
Приходит к старосте Шемяке баба просить[6] на парня, что горшки побил. Парню, лежа на полатях, соскучилось; поймал он клячу, а как он был не из самых ловких и проворных, так не умел и сесть, покуда кума его не подсадила. Клячонка начала его бить, понесла, а на беду тут у соседки на частоколе горшки сушатся – понесла, да мимо горшков; он как пошел их лбом щелкать, все пересчитал, сколько ни было!
Судья Шемяка подумал, да и рассудил: чтобы кума заплатила протори[7], убытки и горшки соседки, за то, что парня криво на клячу посадила.
– Где суд, там и расправа; мы проволочки не любим! Деньги на стол, кума, да и ступай домой!
Чтобы тебе быть дровосеком, да топорища в глаза не видать, за такой суд, подумал сват Демьян; убил бобра. Заставь дурака богу молиться, так он и лоб расшибет!
Теперь подошла другая баба с просьбою. К ней в огород и во двор и в сени повадился ходить соседский петух; а поваженный, что наряженный, отбою нет; и такой он забияка, что бьет без пощады ее петуха и отгоняет от куриц, а соседка приберечь и устеречь его не хочет. Тогда судья Шемяка приказал поймать ей своего петуха и принести, и повелел писцу своему очинить ему нос гораздо потоньше и поострее, наподобие писчего пера, дабы он мог удобнее побивать петуха соседнего. Но он скоро, и не дождавшись победы своей, исчах и умер голодною смертью. Что ж делать; на грех мастера нет; и на старуху бывает проруха, конь о четырех ногах, да спотыкается, а у нашего петуха, покойника, только две и были!
Теперь еще пришла баба просить за мужика. Как квочки раскудахтались, сказал Шемяка, – визжать дело бабье! Ехали они вместе, баба с мужиком, на рынок; мужик стал про себя рассуждать: продам я курицу, продам яйца да куплю горшок молока; а я, примолвила баба сдуру, я хлеба накрошу. Тогда мужик, не медля ни мало, ударил ее в щеку и вышиб у нее два зуба; а когда она спросила, зарыдав, за что, так он отвечал ей: «Не квась молока». Мужик с бабой пришли к Шемяке и просили друг на друга; мужик, не запираясь ни в чем, принес два зуба, которые у нее вышиб, в руках.
– Квасить молоко чужое не годится, – сказал Шемяка просительнице, – на чужой каравай рот не разевай, а пораньше вставай да свой затевай! Но и ты не прав, земляк: вина одна; с чужим добром не носись, на утварь ближнего не посягай. Отдай бабе сей же час оба зуба, сполна, да и ступайте, господь с вами! тут и без вас тесно, и на брюхе пресно: сегодня еще ни крохи, ни капли в глотку не попадало, а хлопот полон рот – в голове как толчея ходит; бьешься, бьешься как слепой козел об ясли! Либо одуреешь с этим народом, прости господи, либо с ума сойдешь, либо, за недосугом, когда-нибудь без покаяния умрешь!
За такие и иные подобные хитрые увертки и проделки нашего судьи правдивого, старосты Шемяки, посадили его на воеводство, и стали уже отныне честить-величать по батюшке, Шемякою Антоновичем. Полюбится сатана лучше ясного сокола; вечером Макар гряды копал, ныне Макар в воеводы попал! Коси малину, руби смородину! Жил прежде, так стал поживать ныне; готовый стол, готовый дом, а челобитчиков, просителей, на крыльце широком, что локтем не протолкаешься! Шемяка возмечтал о себе и стал, как овсяная каша, сам себя хвалить и воспевать: я-де старого лесу кочерга, меня не проведешь и на кривых оглоблях не объедешь; у меня чем аукнешь, тем и откликнется; судить да рядить я и сам собаку съел; я и малого греха, и малой неправды не потерплю ни в ком; от малой искры да Москва загорелась; вола и резник обухом бьет, убей муху! А у меня кто виноват, так виноват, хоть себе невидимка, хоть семи пядей во лбу будь!
А как бы сват мой Демьян его подслушал, так и подумал бы про себя: ври на обед, да оставляй и на ужин! Ох ты гой еси добрый молодец, судья правдивый, Шемяка Антонович, сын отца своего родного-кровного Антона Поликарповича. Ни ухо ты, ни рыло, ни с рожи, ни с кожи, а судишь так, что ни мыто, ни катано, ни брито, ни стрижено; у тебя ум за разум заходит, знать, чересчур перевалил; а где тонко, там, того и гляди, порвется! И сатана в славе, да не за добрые дела; а иная слава хуже поношенья. Ты богослов, да не однослов; мягко стелешь, да жестко спать; скажешь вдоль, а сделаешь поперек; запряжешь и прямо, да поедешь криво!
Все это подумал бы он про себя, а сказать не скажет ни слова. Кто Шемяку посадил в воеводы, тот и отвечает. Солдат солдата под бок толкает: «Земляк! куда ты идешь, гляди-ка, тут головы не вынесешь без свища!» – «Про то знает тот, кто посылает, – проворчал старый служивый, – не ты за свою голову отвечаешь; а ты знай иди, да с ноги не сбивайся!» Так и я; не наше дело, попово, не нашего попа, чужого. Моя изба с краю, я ничего не знаю!
Пришел мещанин к воеводе Шемяке Антоновичу просить на соседа. Сосед у него был убогий, по имени Харитон, отставной целовальник. Он бы поехал и на топорище по дрова, да чай не довезет и до угла – так он и пришел просить у зажиточного хозяина кобылу. У меня, говорит, и дровни стоят наготове, и кнутишко припасен, и топор за поясом, так за малым дело стало: лошаденки нет! не откажи, батюшка!
Так и кума моя, Соломонида, что на Волге жила, не тем будь помянута, бывало о масленой пошлет внучку к золовке: приказала-де бабушка кланяться, собирается блины печь, так уж наставила водицы, натолкала и соли, припасла и сковородник, а велела просить: сковороды нет ли, мучицы гречневой, молока да маслица!
Ссудил сосед Харитона, отставного целовальника, кобылой, пришел тот к нему и за хомутом; а как хомута лишнего у этого не случилось, так он ему не дал. Тогда убогий Харитон наш не призадумался: он привязал кобылу просто к дровням за хвост и поехал по дрова; когда же, навалив воз большой, возвращался из лесу домой, так был под хмельком; он ворота отпер, подворотню выставить позабыл, а сам кобылу стегнул плетью. Она бросилась через подворотню и вырвала себе хвост весь, а дровни остались за воротами. Харитон приводит кобылу без хвоста, а хозяин, не приняв ее, пошел на него просить.
Воевода Шемяка повелел кобылу ту привести и освидетельствовать, действительно ли она без хвоста! А когда сие оказалось справедливым, и присяжные ярыги и думный грамотей в очках хвоста искали, искали и не нашли, – тогда воевода Шемяка суд учинил: Как оный убогий мужик, Харитон, отставной целовальник, взял кобылу с хвостом, то и повинен возвратить таковую ж; почему и взять ему оную к себе и держать, доколе у нее не вырастет хвост.
– Ну, вот и с плеч долой, – сказал Шемяка про себя, – сделаешь дело и душе-то легче! Премудрость быть воеводой! Ведь не боги же и горшки обжигают!
«Удалось смелому присесть нагишом да ежа раздавить, – подумал сват Демьян, – первый блин да комом! Хоть за то спасибо, что не призадумается; отзвонил, да и с колокольни! Чуть ли наш воевода не с Литвы; а туда, говорят, на всю шляхту один комар мозгу принес, да и тот, никак, девки порасхватали, а на нашего брата не досталось, что шилом патоки захватить! Нашему воеводе хоть зубы дергай, человек другому услужил, а сам виноват остался; бьют и Фому за Еремину вину! Ни думано, ни гадано, накликал на свою шею беду – не стучи, громом убьет. Кабы знал да ведал, где упасть, там бы соломы подостлал – не давать бы кобылы, не ходить бы просить. Мое дело сторона; а я бы воеводе Шемяке сказал сказку, как слон-воевода разрешил волкам взять с овец по шкуре с сестры, а больше не велел их трогать ни волоском! Такой колокол по мне хоть разбей об угол! Поглядим, что дальше будет».
Приходит еще проситель, по делу уголовному. Сын вез отца, больного и слепого, на салазках в баню и спустился с ним подле мосту на лед. Тогда тот же Харитон, отставной целовальник, у которого и было ремесло, да хмелем поросло, шел пьяный через мост, упал с мосту и убил до смерти больного старца, которого сын вез на салазках в баню. Харитон, подпав суду по делу уголовному, немного струсил; а когда его позвал Шемяка-судья, то он, став позади просителя, показывал судье тяжелую, туго набитую кожаную кису, будто бы сулит ему великое множество денег. Шемяка Антонович, судья и воевода, приказал и суд учинить такой: чтобы Харитону целовальнику стать под мостом, а вышереченному сыну убиенного прыгать на него с моста и убить его до смерти. Долг платежом красен. Покойнику же отдать последнюю честь и пристроить его к месту, то есть отвести ему земли косую сажень, выкопать землянку, снять с него мерку да сшить на него деревянный тулуп, и дать знак отличия, крест во весь рост.
Сват мой Демьян, услышав все это, замолчал, как воды в рот набрал, и рукой махнул. Теперь, говорит, дело в шапке и концы в воду; хоть святых вон понеси! До поры до времени был Шемяка и прост, да лихоимства не знал; а в знать и силу попал, так и пустился во всякие художества: по бороде да по словам Авраам, а по делам – Хам; из речей своих, как закройщик модный, шьет, кроит да выгадывает, по заказу, по деньгам, по людям, по лицу – что дальше, то лучше; счастливый путь!
Наконец приходит еще челобитчик. Тот же пьяный дурак Харитон выпросился к мужику в избу погреться. Мужик его пустил, накормил и на полати спать положил. Харитон оборвался с полатей, упал в люльку, задавил ребенка. Отец привел Харитона к судье и, будучи крайне огорчен потерею дитяти своего, просил учинить суд и правду. Береза не угроза, где стоит, там и шумит! Харитон целовальник знал уже дорогу к правосудию: сухая ложка рот дерет, а за свой грош везде хорош. Он опять показал Шемяке из-за челобитчика туго набитую кожаную мошну, и дело пошло на лад.
Ах ты окаянный Шемяка Антонович! Судья и воевода и блюститель правды русской, типун тебе на язык! Лукавый сам не соберется рассудить беспристрастнее и замысловатее твоего; а кто хочет знать да ведать последний приговор судьи Шемяки, конец и делу венец, тот купи за три гривны повествование о суде Шемякином, с изящными изображениями, не то суздальского, не то владимирского художника, начинающееся словами: «В некоторых Палестинах два мужа живаше» – и читай – у меня и язык не повернется пересказывать; а я по просьбе свата замечу только мимоходом, что изображение суда Шемякина, церемониала шествия мышей, погребающих кота, и сим подобные, неосновательно называются обыкновенно лубочными: это, говорит Демьян, показывает невежество и унизительно для суздальцев; изображения сии искусно вырезываются на ольховых досках, а не на мягком и волокнистом лубке. Но сват меня заговорил, и я отбрел от кола; начал, так надобно кончить. Кто в кони пошел, тот и воду вози; не почитав сказки, не кидай указки!
Итак, по благополучном решении и окончании трех уголовных дел сих, Шемяка послал поверенного своего требовать от Харитона платы, которую он ему во время суда сулил и показывал в кисе кожаной. А Харитон целовальник отвечал: это не киса у меня, а праща; лежали в ней не рубли, а камни; а если бы судья Шемяка меня осудил, так я бы ему лоб раскроил! Тогда Шемяка Антонович, судья и воевода, перекрестясь, сказал: слава Богу, что я не его осудил: дурак стреляет, Бог пули носит; он бы камень бросил и, чего доброго, зашиб бы меня! Потом, рассудив, что ему пора отдохнуть и успокоиться после тяжких трудов и хлопот, на службе понесенных, расстроивших здоровье его, так что у него и подлинно уже ногти распухли, на зубах мозоли сели, и волоса моль съела, – поехал, для поправления здоровья своего, на службе утраченного, за море, на теплые воды. А Харитон, целовальник отставной, как пошел к челобитчикам требовать по судейскому приговору исполнения, так и взял, на мировую, отвяжись-де только, с одного козу дойную, с другого муки четверти две, а с третьего, никак, тулуп овчинный да корову – всякого жита по лопате, да и домой; а с миру по нитке, голому рубаха, со всех по крохи, голодному пироги! Всяк своим умом живет, говорит Харитон; старайся всяк про себя, а господь про всех; хлеб за брюхом не ходит; не ударишь в дудку, не налетит и перепел; зимой без шубы не стыдно, а холодно, а в шубе без хлеба и тепло, да голодно!
Сказка о похождениях черта-послушника Сидора Поликарповича, на море и на суше, о неудачных соблазнительных попытках его и об окончательной пристройке его по части письменной
Однокашникам моим Павлу Михайловичу Новосилъскому и Николаю Ивановичу Синицыну
Сатана, не самый старший, всегда лично в первопрестольном граде своем царствующий, а один из приспешников и нахлебников его, один из чертей-послушников, праздновал именины свои; а звали того черта Сидором, и Сидором Поликарповичем. На пирушке этой было народу много, все веселились честно и добропорядочно; плясали пляски народные и общественные, не как у нас, на ногах, а скромно и чинно, на голове; играли в карты и выезжали все на поддельных очках; расплачивались по курсу фальшивыми ассигнациями самой новой, прочной английской работы, не уступающей добротою настоящим; но все это делалось, говорю, мирно и ужиточно.
Вдруг входит человек в изодранном форменном сертучишке, – кто говорил, что это хорунжий, отставленный три раза за пьянство и буянство; кто говорил, что это небольшой классный чиновник, а кто уверял, что это отставной клерк, унтер-баталер, а может быть, и подшкипер. Не успел он почтить собрания присутствием своим, как в тот же миг ввязался в шашни миролюбивых посетителей и, не откладывая дела и расправы, ударил на них в кулаки. Люблю молодца за обычай! Да и не детей же с ними крестить стать! Черт-именинник как хозяин сунулся было разнимать, но как от первого русского леща у него в ушах раздался трезвон в семь колоколов с перезвоном, на языке и горько и кисло стало, а из глаз искры посыпались градом, так он присел и присмирел. Гости расползлись по домам, по вертепам своим, и храбрый воитель и победитель наш остался пировать один, как тетерев на току.
– Дурак ты, – сказал настоятель, сатана-староста, Сидору, когда этот пришел к нему плакаться на беду свою, – дурак круглый и трус, и худой, как я вижу, нам слуга, когда жалеешь для службы нашей шкуры своей и пары-другой зубов! Тебя, вижу я, надобно в черном теле держать! Ты бы обрадовался находке да последил ее; я давно вам, неизворотливым, сказывал, что мне чиновные озорники и пройдохи почетные нужны, – чтобы вы их сманивали да зазывали, а вы знай ходите поджавши хвосты, как смиренники! Вы у меня как-то все от рук отбились: погоди, я вас пригну к ногтю! Изволь ты у меня отправиться на землю, изведать на деле сушь и глубь и быт гражданский и военный и взять оседлость там, где для оборотов наших окажется повыгоднее; да прошу без всяких отговорок служить, как люди служат, не для поживы и личных выгод, а для блага и пользы общей нашей, не щадя ни живота, ни крови.
Сидор Поликарпович вылез из преисподней, стал ногами на твердую землю и оглядывался кругом на просторе; с него еще пар валил, как с московского банщика, а он все еще не сбил оскомину после вчерашней переквашенной русской закуски; а сверх того сплечился немного в задней левой ноге, когда выбирался из пропасти преисподней, а потому прихрамывал и сел отдохнуть.
«Плохое житье наше, – подумал он про себя. – С тех пор как нашего брата с неба спихнули, все обижают; всякий ярыга дулю подносит и по ушам хлещет! Свались только ты, так и подобьют под ноги, а станешь вставать, оправляться, так подзатыльников и не оберешься! Народ умудряется и просвещается со дня на день, и бесхвостое это племя за все берется, во все ввязывается: под землю подрывается, бороздит по морю, крестит по воздуху, – не присвой я себе жару, огня ярого, так бы и не было у меня своего красного уголка, нечем было бы перед ними похвалиться! Бьешься, бьешься как рыба об лед, а поживы мало, часом и харчи не окупаются!»
Он оглянулся кругом, поводил рылом во все стороны, а он, как добрый гончий, искал верхним чутьем, вздохнул горько и сказал: «Идти добро промышлять отселе подальше – здесь, в этой земле, за причетом нашим, и босым и постриженным, приступу нет; они и без нашего брата управятся!»
Он встал и пошел на восток, ибо вылез на землю на самом крайнем западе, на взморье, под крутым берегом, где конец света и выдался мыском в море крайний клок земли, нашей части света. Шел он, шел, долго ли, коротко ли, вёдром ли, погодкой ли, а дошел до страны от нас западной, пригишпанской, королевства задорного; а обитают в королевстве том люди неугомонные, неужиточные, родятся в них замыслы несбыточные. Там-то Сидор наш встретил отрядец солдат на привале. Солдаты те пришли из стран северных, необозримых, пространством морю прилежащему, ледовитому, равных; перешли путем земли многоязычные и отдыхали от трудов и утомительного перехода. Черт подсел к ним и начал расспрашивать их:
– Куда, ребятушки, идете?
– Идем мы, куда Макар телят не гоняет, куда ворон костей твоих не занесет, идем под Стукалов монастырь пить да гулять, а не сиднем сидеть, играть в мяча чугунного, грызть орехи каленые ядреные; идем хлебом-солью гостей чествовать, сажать боком-ребром на прилавки железные, узкие, граненые, за скатерти браные травчатые-муравчатые, за столы земляные; поить до упаду хмельным багряным вином, опохмелять закусками ручными – ореховыми, приговаривать: «Не ходи один, ходи с батюшкою»; припевать: «Не тебе, супостату, на орла нашего сизого, на царя нашего белого руку заносить окаянную!» Кому пир, а кому мир; а кому суждено, разбредемся – сляжем по землянкам даровым, не купленным, по зимовьям не просторным, низеньким; нашему брату жизнь – копейка, голова – наживное дело! Идем пожить весело, умереть красно!
«И гладко строгает, и стружки кудрявы! – подумал черт Сидор Поликарпович. – Дай еще с ним потолкую, авось не будет ли поживы!»
– А что, служивый, чай, здесь житье ваше привольное, хорошее? – интересуется черт.
– В гостях хорошо, а дома лучше, – отвечает гренадер.
– Здесь девушки хороши, – намекает черт.
– Много хороших, да милых нет! – ему в ответ гренадер.
– Хороши, да не милы! Сбыточное ли это дело? – опять допытывается черт.
– У нас не по хорошу мил, а по виду хорош!
– Так что же вы милых покинули, а зашли к немилым! – ехидничает черт.
– Не пил бы, не ел, все на милую глядел – да слезою моря не наполнишь, кручиною поля не изъездишь, а супостата вашего крестом да молитвою не изведешь; стало быть, садиться казаку на коня, а нашему брату браться за пищаль да за щуп! – говорит гренадер.
– Да вы, господа кавалеры, волей или неволей сюда зашли?
– Наша воля – воля царская; за него животы наши, за него головы!
– Поглядишь на вашего брата, так жалость донимает! Кабы на мою немудрую голову – что бы, кажись, за радость в такой вериге ходить! Покинул бы честь и место, да и поминай как звали меня самого!
– А у тебя самого – распазить да навоз возить! – отвечает ему гренадер.
«Какой этот сторожкой! – подумал черт Сидор Поликарпович. – Пойду к другому! Дай пристану тут к заносному племени этому; к ним и ходить далеко и проживать холодно. Здесь, во стране пригишпанской, западной, сручнее будет мне с ними побрататься; а там – чем отзовется, попытаюсь с ними вместе и до их земли добраться!»
Наш новобранец, из вольноопределяющихся, пристал, служил и ходил под ружьем, терпел всю беду солдатскую, перемогался, но – крепко морщился! Ему в первые сутки кивером на лбу мозоль намяло пальца в полтора; от железного листа в воротнике шея стала неповоротливее, чем у серого волка; широкою перевязью плеча отдавило, ранцем чуть не задушило, тесаком икры отбило! Солдату, говорят, три деньги в день, куда хочешь, туда их и день; веников много, да пару нет, а мылят, так все на сухую руку! У солдата шило бреет, а шубы нет, так палка греет! «Эти поговорки приелись мне, как сухой ячмень беззубой кобыле, уходили меня, как кающегося грехи; это не по мне! Семь недель, как в великий пост, голодом сиди, семь недель мозоли сбивай, покуда раз, да и то натощак, угодишь подраться да поживиться! Что мне за неволя в таком хомуте ходить! Стану жить я по-своему».
Сказано – сделано. Полк вышел к смотру, у всех и ранцы и амуниция исправны, а у нашего Сидора ни кирпичика форменного, ни ваксы сухой, ни воску, ни лоску, пуговицы не чищены, ниток в чемоданчике, напоказ, ни серых, ни белых!
Сидор Поликарпович думал переиначить всю службу по-своему, да и опростоволосился крепко! Ему это отозвалось так круто и больно, что он, забыв все благие советы и наставления старосты-сатаны, бросил все – и службу, и ранец, и ружье, и суму, проклял жизнь и сбежал. Он удирал трое суток без оглядки, набил плюсны и пятки и присел наконец под липку перевести дух. Не успел он еще опамятоваться, как вдруг увидел перед собою человека невысокого росту, в низкой треугольной шляпе без пера, в расстегнутом сером сюртуке, длинной жилетке, в ботфортах, который стоял, сложив руки на груди и выставив левую ногу вперед, и разглядывал по очереди все отдаленные, через дол и лес пролегающие дороги, и был, казалось, в нерешимости, которую ему избрать. Черт Сидор подошел, обнюхал незнакомца кругом, в одно ухо ему влез, в другое вылез и узнал таким образом все помышления и замыслы его. В это время вдруг подлетел латник с косматым шлемом и, указывая назад, донес, что он опять уже видел мельком пики на красных и синих древках и нагайки. Тот кинулся на коня и помчался стрелой; и наш Сидор, смекнув и разгадав дело, едва успел сунуть ему за пазуху письмо, которое он, пригнувшись на корточках за заднею лукою седла всадника, написал и которое при сей верной оказии вздумал отправить во тьму окромешную к командиру своему, сатане-старосте, чтобы известить его о плохих успехах своих и проситься домой. Сидор не колдун, да угадчик; письмо его запоздало несколько, это правда, но оно, застрахованное, действительно дошло наконец до места и передано всадником с рук на руки старосте-сатане, настоятелю Стопоклепу Живдираловичу; вот оно от слова до слова:
«Письмо от черта-послушника, Сидора Поликарповича, к сатане-старосте, Стопоклепу Живдираловичу, писанное на земле, во стране пригишпанской, западной, и отправленное во тьму окромешную при первой оказии с человеком невысокого росту в треугольной шляпе без пера.
Старосте нашему, Стопоклепу Живдираловичу, от послушника его и нахлебника, Сидора Поликарповича, нижайший поклон; супруге его, Ступожиле Помеловне, от усердного поклонника ее, Сидора Поликарповича, многия лета и нижайший поклон; теще его, ведьме чалоглазой, Карге Фоминишне, по прозванию Редечной Терке, нижайший от нас же поклон и всякая невзгода мирская; равномерно и сожительнице нашей, драгоценной Василисе Утробовне, наклон и супружеское наше приказание, задним числом со дня отлучки нашей, пребыть нам верной; деткам нашим, сыновьям: Кулаку, Зарезу и Запою, дочерям: Мохнашке и Сивухе – родительское наше проклятие на веки нерушимое и поклон; брату нашему, Искусу Поликарповичу, и сожительнице его, Чуме Цареградовне, дяде нашему, Тузу Бубновому под крапом и сожительнице его, Крале Червонной Зотообрезной, а равно и всей преисподней – нижайший поклон наш и всякая неправда мирская и нечистые дела и соблазны; желаем им всякое наитие замыслов нечестивых в успех и воздаяние сторицею за понесенные труды и беды; а о себе скажем, что мы благодаря ходатайству старосты нашего, Стопоклепа Живдираловича, и процветающим в краях здешних глупостям и вздорным пакостям людским еще в живых и здравствуем, хотя все посильные наши попытки доселе еще мало понесли за собою плодов, и много мы бедствий земных на себе испытали, и осталася за нами одна только надежда, что новое предприятие наше принести нам долженствует успех вящий и жатву обильную, душегубительную. А вышли мы из преисподней во стране, бедной науками, и художествами, и просвещением, где блаженствуют наши, и босые и постриженные, на краю света, – почему и сочли мы за лишнее основать здесь пребывание наше, а отправились через горы высокие, снежные на Восток и обрели там людей, наклонных к дури и к пакостям, самодовольных и бессовестных; почему, рассудив также, что оные люди рук наших не минуют, раздавали мы им только значки, трехцветные и белые, для основания междоусобий; а потом и намеревались держать путь свой еще далее на Восток, как дошло до нас сведение, что нахлынули от стран северных люди, дюжие телом и крепкие духом, им же несть числа, а страна их ледовита и ими любима; и заложил во время оно преставившийся царь их, а наш первейшей враг, столицу свою в земле неприятельской, и довершили ее наследники царя того и потомки, вопреки стараниям и покушениям нашим, а древнюю столицу свою, до которой нет нам приступу от великого множества церквей, коих числится сорок сороков, отстояли они ныне снова и подняли на дым, дабы не досталось в руки иноплеменникам двадесяти языков, под предводительством подручника нашего на царя и землю их покусившихся; и уморили они тех иноплеменников захожих голодом и холодом, и уходили и извели оружием, и написали сказку: «О беспечной вороне, попавшейся во щи гостей голодных», и следили того предводителя до земли и столицы его, где мы ныне обретаемся, и побивали его нещадно на каждом шагу. А посему и сочли мы за лучшую пакость подбиться к сим ненавистным нам доблестным и смиренным воителям и искусить их к совращению с пути повиновения и благочестия. Но сия попытка, несмотря на то, что, усердствуя ко благу нашему общему, не щадили мы ни плеч своих, ни шкуры, обошлась нам весьма несходно, и понесли мы от нее накладу более, чем барышей. Есть у них, например, обычай военный, что не спрашивается: отколе взять, а говорится только: чтоб было; глядишь – и есть; а чуть прогуляешь, проглядишь, так тотчас за расправу, а это вовсе не по нас! И пуще всего невзлюбили мы у них той музыки, что стучат в глухие бубны без бубенчиков да подыгрывают в два смычка без канифоли на кожаной скрипке; испытали мы притом жизнь холодную и голодную, так что часом и уведешь где-нибудь быка, да негде изжарить, некогда съесть; а по всему этому и рассудили мы наконец предоставить их участи своей, покинуть и сбежать. Они же, воители те, царей своих чтят свято, за землю обширную, отчасти ненаселенную и дикую, стоят всем оплотом дружно и норовисто, а посему успеха нам еще ожидать должно мало. Таким делом изведали мы быт их на суше, а ныне намерены при помощи отца настоятеля и старосты нашего сесть на корабли их, здесь обретающиеся, и держать путь вместе с ними чинно и тихо до земли их и осмотреться там, на месте, не упуская удобного случая взять оседлость свою, как наказано нам было, там, где окажется повыгоднее и попривольнее. О чем, здравствуючи, будем не оставлять вас своими уведомлениями; а вас просим усердно находить нас таковыми же. А писано сие письмо к вам через самого того земли пригишпанской, западной, повелителя, нашего подручника, которому срок на земле ныне вышел уже давным-давно и следует ему явиться к старосте, Стопоклепу Живдираловичу, во тьму окромешную; но, по мнению нашему, востребуется послать дюжину-другую разночинцев и послушников, нашей братьи, дабы они могли уловить и увлечь с собою того подручника нашего и представить в преисподнюю; ибо сам он, употребляя во зло долготерпение наше, день за день просрочивает и явиться к месту откладывает. А за сим, испрашивая от старосты нашего, и настоятеля, и всей братии послушников всякую невзгоду и проклятие небесное и земное, остаемся усердствующим ко соблазну общему служителем и послушником вашим чертом Сидором Поликарповым.
Приписка. Еще уведомляем вас и о том, что оные северные страны повелитель, лишь только первый на миродавца того руку наложил, и отстоял земли и народы и веси своя, и избил всю заморскую рать его, и отобрал все оружие и до тысячи огнеметных литых орудий, то и все земли крещеные, доселе миродавцу тому раболепствовавшие, очнулись, и оперились, и противу него восстали, завопили, и начали витии велеречивые священнодействовать и писать воззвания доблестные и песни ободрительные войскам своим и всему народу; а понеже той северной страны повелитель даровал милость и пощаду всем на него посягавшим и карать их более не пожелал, а требует от них мира и дружбы, каковое изумительное великодушие поразило и врагов и новых союзников его, то и не худо бы нам заранее разослать в те иные земли послушников наших, дабы соблазнить все народы и земли крещеные забыть, что скорее, то лучше, таковое им оказанное беспримерное благодеяние и заставить их в бессилии своем и немощи обносить оговорами и клеветою северной той страны обитателей и властителей их и мстить им за вышереченное благодеяние всяким наветом злым, и словом, и делом, и где чем прилучится. О чем и прошу довести до сведения старосты нашего и настоятеля, Стопоклепа Живдираловича; ибо замечено нами на пути нашем, что наклонность к таковым нам любезным пакостям и злодеяниям таится уже в семенах раздора многоязычных племен тех».
Отправив письмо это, соскочил Сидор с задней луки седла и чуть было не повис в тороках! «Долго ль до беды, – подумал он. – О серник споткнешься, затылком грянешься, а лоб расшибешь!» Он присел; а как было уже довольно поздно и Сидор наш уморился крепко, то и лег, свернулся, наутро встал, стряхнулся, совершил поход в один переход и сел на корабль у взморья.
«Фортуна бона, – подумал черт Сидор Поликарпович – а он думать научился по-французски, – фортуна бона, – подумал он, когда изведал службу нашу на море. – Я хоть языкам не мастер, а смекаю, что тютюн, что кнастер[8]; мои губы не дуры, язык не лопатка, я знаю, что хорошо, что сладко. Здесь жизнь разгульная и всякого добра разливное море! Каждый день идет порция: водка, мясо, горох, масло; под баком сказки, пляски, играют в дураки и в носки, в рыбку и в чехарды; рядятся в турок и верблюдов, в жидов и в лягушек; спят на койках подвешенных, как на качелях святошных, – одна беда – простору мало, да работы много!»
Он надел на себя смоленую рабочую рубаху, фуражку, у которой тулья шла кверху уже, а на околыше были выметаны цветными нитками зубцы и узоры; опоясался бечевкой, привесил на ремне нож в ножнах кожаных, свайку, насовал в карманы шаровар каболки[9], тавлинку[10], кисет; вымазал себе рожу и лапы смолою, взял в зубы трубчонку без четверти в вершок и, проглотив подзатыльника два от урядника за то, что сел было курить на трапе, примостился смиренно к камбузу, где честная братия сидела в кружке, покуривала корешки и точила лясы.
– Что скажешь, куцый капитан общипанной команды, поверенный пустых бочек? – спросил марсовой матрос трюмного, – каково твои крысы поживают?
– Приказали кланяться, не велели чваниться! – отвечал тот.
– Не бей в чужие ворота плетью, – заметил старый рулевой насмешнику, – не ударили бы в твои дубиной! Век долга недели, не узнаешь, что будет; может быть, доведется еще самому со шваброй ходить!
– Не доведется, Мироныч, – отвечал первый, – с фор-марсу на гальюн не посылают! Без нашего брата на марса-pee и штык-боут не крепится!
– Не хвалися, горох, не лучше бобов, – проворчал третий. – А кто намедни раз пять шкаторину[11] из рук упускал, покуда люди не подсобили?
– Упустишь, когда из рук рвет, – отвечал опять тот. – Ведь не брамсельный дул, а другой риф брали!
– У доброго гребца и девятый вал весла из уключины не вышибет, – сказал урядник с капитанской шестерки, – не хвали меня в очи, не брани за глаза, не любуйся собой, так и будешь хорош!
– Запевай-ка повеселее какую, Сидорка, – сказал нашему Поликарповичу сосед его. – Что ты сидишь – надулся, как мышь на крупу! Ты волей пристал к нам, так и зазнаешься; а у нас, вишь, неволя скачет, неволя пляшет, неволя песни поет!
– Не свайкой петь, когда голосу нет! – отвечал Сидор, оскалив зубы, как мартышка. – Запевай-ка ты свою:
Здравствуй, милая, хорошая моя,
Чернобровая, похожа на меня!
– На тебя? – спросил урядник. – Надо быть, хороша была! Неужто и с тобой какая ни есть слюбилась?
– Нет такого мерзавца, чтобы не нашел своей сквернавки, – отвечал Сидорка. – Кабы люди не сманили, и теперь бы со мной жила!
– Кабы нашего сокола вабило не сманило, сто лет бы на месте сидел, – подхватил марсовой. – А какая твоя любка была, Сидорка, чернавка или в тебя, белянка?
– Была белобрысая, была и черномазая, – отвечал Сидорка, – было, да быльем поросло! Нашему брату за вами, в бубновых платочках, не угоняться!
– Да, мы таки постоим за своих, – подхватил тот же марсовой, – и поспорим хоть с кем, что против нашей, ниже у косноязычного француза, не найдешь ни одной! Бывало, моя как приоденется да приумоется, так хоть водицы испить!
– Чистоплотен больно, – промолвил Мироныч, – что за дворянин! Когда горох в котле, так, стало быть, и чист; брюхо не зеркало, что в зубах, то и чисто!
– Горох горохом, – отозвался кок за камбузом, – а в рассоле из-под солонины, ребята, нечего греха таить, наудил нынеча угрей!
– Эка невидаль, – отвечал Мироныч, – будто то и черви, что мы едим; по-моему, так то черви, что нас едят! Смазной, да затягивай хоть ты сдуру песню свою про червяка черемхового!
– Погоди, – отвечал Смазной, – вишь, трюмный наш, Спирька, задремал, так чтоб не потревожить!
– Чего тут годить; на посуле, что на стуле, посидишь да и встанешь, – сказал опять первый.
– Встанешь, пройдешься, да и опять присядешь, – отвечал тот, – посуленое ждется; что я тебе за песенник дался? Много ли вас тут охочих до песен моих? Я меньше как при двенадцати зубов не оскалю и голосу не подам!
– И дело, – подхватил марсовой. – У нас был в Касимове мещанин; как начал торговать, так, бывало, на пятак в день уторгует да еще два гроша сдачи даст; а расторговался, поднялся с мелочного на оптовой-валовой, так в нитках пасмы не разбивает, в варганах полудюжины не рознит!
Дудка просвистела на шканцах, и осиплый голос прокричал в форлюк: «Пошел все наверх!» Все кинулись, кто в чем сидел, и Сидора Поликарповича нашего подле трасу семь раз с ног сбивали! Он вылез последним, и вахтенный урядник, сказав ему, что он скор как байбак, поворотлив как байдак, спросил:
«Не угодно ли прописать боцманских капель?» – «Не все линьком, – отвечал Сидор, – можно и свистком!» – «Да, можно, – ворчал тот, – засядете под баком, так вас оттоле калачом не выманишь, ломом не выломишь, шилом не выковырнешь Пошел на марса-фал!» Сидор кинулся на марса-фал, а его в шею. «За что?» – «Не трёкай!» Опять по шее. «За что?» – «Иди ходом, лежи валом, не дергай!» Кричат: «На брасы на правую!» А Сидора в шею. «За что?» – «Не тяни без слова!» Опять в шею. «Отдай», – говорят; отдал – «Тяни!» Ну, словом, замотали бедного Сидорку нашего до того, что он и не знал, куда деваться, куда ни сунься – урядник; за что ни ухватись – линек! «Из бухты вон!» – раздалось с юту, и Сидор наш, который еще не знал ни бухты, ни лопаря, оглянуться не успел, как боцман отдал пертулинь[12]; якорь полетел, потащил за собою канат, а с канатом и Сидорку, который не успел выскочить из свернутых оборотов каната, и Поликарповича в полтрети мига вместе с канатом прошмыгнуло в обитый свинцом клюз, выкинуло под гальюном, перед носом корабля! Он вынырнул, ухватился за водорез, за ватерштаги, вылез на бушприт и стоял долго, почесывая затылок и оглядываясь кругом: таких проказ он и во сне не видал! Он не мог опамятоваться. «Что за нелегкая меня сюда принесла! – подумал он, присев под кливером, у эзельгофта. – Тут замотают так, что с толку своротишь, из ума выбьешься! Попал я, видать, из огня да в воду! Как ни ладишь, ни годишь, а не приноровишься никак к этой поведенции, к морской заведенции! Не дотянешь – бьют, перетянешь – бьют; а что и всего хуже – работа впрок нейдет; тяни, тяни, да и отдай! Тяни, из шкуры лезь, тяни, да и отдай! Что это за каторга? По-моему бы, выдраил в струнку один раз, на шабаш, закрепи, да и не замай! А тут не успел навернуть на планку либо битенг, опять сымай, трави, отдавай – а там опять тяни! На это не станет и сил; у меня руки в плечах оттянуло так, что лапы в пол-икры болтаются: это не шутка! А глядишь – завтра то же, послезавтра опять то же… Служи сам настоятель, сатана-староста. Неохота лап мочить, а то бы соскочил сейчас, да и пошел! Терпеть, видно, до первого якоря, а там – и черт не слуга!»
Рассудил, как размазал, и не стал работать; отнекивался в ожидании первой якорной стоянки, а между тем стал бурлить тихомолком, задумал всполошить всю команду. Свистят: «Первую вахту наверх!» Сидорка забился на кубрике где-то, сидит, дух притаил. Кричат: «Аврал, аврал!» – и подавно то же; Сидорка и сам не идет, и других не пускает! Как тут быть? Капитан хватился за ум. Он догадался, что все это проказы заморского выходца, новобранца нашего, Сидора, и вздумал повернуть делом покруче. «Свистать к вину!» – закричал он вахтенному уряднику. Урядники собрались все вокруг грот-люка, просвистали резко и согласно «к вину», вся команда вышла, и черт Сидор Поликарпович также вылез.
Тогда капитан приказал его схватить и, как первого зачинщика, растянул его на люк и вспорол, да так, что с него, с живого, сухая пыль пошла, что, как говорится, и чертям тошно стало! А сам приговаривал: «Я тебя взял на службу государеву, одевал и кормил тепло и сытно, а ты ум свой с концов обрезал, да и в середке ничего не оставил, вздумал проказить на свою голову – закорми чушку, так будет плакаться на пролежни; трунил ты надо мной, потешусь и я над тобой; проведу и я свою борозду, поставлю над тобою пример, чтобы у тебя сдуру молодец какой-нибудь не вздумал перенимать; передний заднему дорога; не задай острастки, так, чего доброго, черниговского олуха какого-нибудь и оплетешь! Не я бью, сам себя бьешь; кнут не мука, а вперед наука – один битый семерых небитых стоит! Это тебе в задаток; а если расплачиваться начистую с тобою доведется, так знай, что дело пойдет в рост! Тогда не пеняй!»
Черт Сидор Поликарпович, вырвавшись от жару такого, какого и у себя дома, в преисподней, не видывал, кинулся со всех ног через кранбалку и уцепился за одну лапу якоря, который только что был отдан и летел в воду, пошел с ним ко дну и впился мертвым зубом в илистый, вязкий, под плитняком, грунт морской; а когда на другой день судно стало сыматься с якоря, а черта нашего едва было не достали со дна морского, то он, в беде неминучей, перегрыз зубами канат у самого рыма, и боцман с баку закричал: «Пал шпиль! Лопнул канат, щебнем перетерло и конец измочалило!» «Черт с ним, и с якорем, – подумал баковый матрос, которого выпороли заодно с Сидоркою, – у нашего царя якорей много, всех не переломаешь! По крайней мере избавились от новобранца этого неугомонного, что пришел из стран пригишпанских, западных, и сел кстати, как вахлак на мослак!»
Таким образом, черт Сидор Поликарпович пропал вторично без вести, считался год со днем в бегах и наконец из списков по сухопутному и морскому ведомству был выключен. Поминают об нем старослуживые с тремя шевронами, поминают, как царя Гороха да Ивашку Белую Рубашку! Черт Сидор пропал, концы схоронил, и след простыл! Какие приключения и похождения проходил и изведал он на дне морском, – мореплаватель ли какой, со всем причетом и пожитками своими, морем хладным объятый и во мраке багровом до искупления своего по дну морскому крейсирующий, или другой кто приняли, приютили, наставили и научили Сидорку нашего, – этого я и не знал да позабыл; а у меня память такая куриная, что чего не знаешь, того и не помнишь!
Знаю только, что вскоре после того, как сбылось с Сидоркою рассказанное в сказке нашей приключение и похождение, стал показываться оборотень какой-то в кудрявых и прописных Азах, коими расчеркиваются чиновные и должностные наши. Он, Сидорка, то роги выставит, то ногой лягнет, то когти покажет, то язык высунет, то хвостом, как мутовкой, пыль взобьет, – а сам с той поры никогда и никому более в руки не дается и на глаза не показывается; удавалось, правда изредка, сбить ему рог, так вырастал опять новый, покруче первого; посадили ему было как-то язык в лещедку[13], так он за перо; и видел его целком один только сват мой Демьян, да и то во сне! Сидит, сказывал, лоскут красного, чернилами испятнанного сукна подостлавши, затирает чернильные орешки с купоросом, с камедью, чинит перья-скорописчики, ножички подтачивает, смолку на подчистку изготовляет; сват Демьян подошел было к нему сдуру во сне, хотел поглядеть на него, так тот накормил его палями, напоил чернилами да начал было на него писать на листе форменного формата донос; так мой Демьян от него отрекся, отчурался; я, говорит, не вор, не пьяница, в домостроительстве не замечен, так во мне для тебя, хоть ты двадцать стоп испиши, ни русла, ни ремесла; человек я маленький, полуграмотный, шкурка на мне тоненькая, да и та казенная; пишу я по-казацки, супостата шашкою по затылку, коня донского нагайкою по ребрам; так ты отвяжись и не пятнай доброй славы моей, чтобы всяк мог говорить и ныне, как говаривали встарь:
Козак, душа правдивая,
Сорочки немае –
Коли не пье, так воши бье,
Таки не гуляе!
Черт Сидор Поликарпович задал еще острастку куме Соломониде; а впрочем, остался при хлебном и теплом ремесле своем и при месте – он выписал из преисподней супругу свою, Василису Утробовну, сыновей: Кулака, Зареза и Запоя, дочерей: Мохнашку и Сивушку, и живет с ними припеваючи! Он доходами и сам сыт и подушное за себя и за всю семью свою, по последней ревизии, сатане-настоятелю, Стопоклепу Живдираловичу, уплачивает, а супругу его, Ступожилу Помеловну, дарил неоднократно к праздникам камачею, камкою, ожерельями и платками; места же своего покинуть не думает, а впился и въелся так, что его теперь уже не берет ни отвар, ни присыпка!
Вот вам сказка гладка; смекай, у кого есть догадка; кто охоч, да не горазд, тот поди, я с ним глаз на глаз еще потолкую; а кто горазд, да не охоч, тот прикуси язык да и отойди прочь!
Сказка о Георгии Храбром и о волке
Сказка наша гласит о дивном и древнем побыте времен первородных: о том, что деялось и творилось, когда скот и зверь, рыба и птица, как переселенцы, первородны и новозданцы, как новички мира нашего, не знали и не ведали еще толку, ни складу, ни ладу в быту своем; не обжились еще ни с людьми, ни с местом, ни с житьем-бытьем, ни сами промеж собой, не знали порядка и начальства, говорили кто по-татарски, кто по-калмыцки и не добились еще толку, кому и кого глодать и кому с кем в миру и в ладах односумом жить; кому с кем знаться или не знаться, кому кого душить и кого бояться; кому ходить со шкурой, а кому без шкуры, кому быть сытым, а кому голодным.
Серый волк, по-тогдашнему бирюк, промаявшись трое суток без еды, в чаянии фирмана, разрешающего и ему, грешному, скоромный стол, побрел наконец на мирскую сходку, где, как прослышал он мельком от бежавшей оттуда мимо логва его с цыпленком в зубах лисы, Георгий Храбрый правил суд и ряд и чинил расправу на малого и на великого. Пришел серый на вече; стал поодаль, поглядел, присел на задние лапы по-собачьи и опять поглядел, прислушался маленько, вздохнул, покачал головой, облизался и поворотил оглобли назад. «Тут не добьешься и толку, – подумал он про себя, – крику и шуму довольно; а что дальше – не знаю. Чем затесываться среди белого дня в эту толпу, отару, ватагу, табун, гурт, стаю, стадо – в это шумливое и крикливое стоголосное скопище, где от давки пар валит, от крику пыль стоит, чем туда лезть среди белого дня, так лучше брести восвояси. Я не дурак; хоть и знаю, что и мне, наряду со всеми, сказано: век живи, век учись, а умри дураком. Так по крайности до поры до времени, поколе господь терпит грехам моим, поколе смерть сама на меня не нашатнулась, быть дураком не хочу. Нашему брату в сумерки можно залезть промеж других людей, а кабы в темь полуночную, так и подавно; а среди белого дня – бармоймин, не пойду».
Итак, он пришел домой, залез в трущобу глухую, повалился на бок и стал, щелкая зубами, искать по шубе своей. Настала ночь, и серый смекнул и догадался, что эдак сыт не будешь. «Совсем курсах пропал, – ворчал он про себя, – животы хоть уздечки вяжи, а поашать нечего!» Что станешь делать: вылез из терновника, ожил и освежился маленько, когда резкий северяк пахнул по тулупу его, взбивая мохнатую шерсть, – очи у него загорелись в теми ночной, словно свечи. Подняв морду на ветер, пустился он волчьей скачкою по широкому раздолью и вскоре почуял живность. Но, поскольку это была только первая попытка серого промыслить самоучкою, то он и не разнюхал, на какую поживу, по милости шайтана, наткнулся, а только облизывался, крадучись да приседая, поддернув брови кверху и приподняв уши зубрильцем, и прошептал: «Что-то больно сладкое!»
Он заполз на первый раз в стадо сайгаков; а как и самоучкою удаются ину пору мастера не хуже ученых, а сайгаки сердечные о ту пору были посмирней нынешних овец, то серый наш без хлопот пары две отборных зарезал наповал, словно век в мясниках жил, да еще другим бедняжкам кому колено, кому бедро, а кому и шею выломил. Сайгаки всполошились, прыснули по полю вправо и влево да подняли тревогу. Кто живой да с ногами был, все сбежались, звери и птицы налицо. А рыбы, по неподручности сухопутного перехода, послали от себя послов, трех черепах с черепашками, которые, однако же, уморившись насмерть, к сроку запоздали, а потому дело на сходке обошлось и без них. И с той-то поры, сказывают, рыбы лишены за это навсегда голоса. Видите, что уже и о ту пору был порядок и расправа и вина без наказания не проходила: всякая вина виновата.
Итак, звери сбежались, день проглянул, и серого нашего захватили врасплох уже над последнею четвертью третьего сайгака. Он, знать, себе на уме; думает: запас хорошо, а два лучше, а потому серый наш о ту пору, как и ныне, шутить не любил. Но ему неладно отозвалась эта первая попытка: дело новое, дело непривычное; ныне шкуру снять с сайгака не диковинка; а тогда еще было не то. Звери и птицы все ахнули, на такую беду небывалую глядючи; один только молодой лошак, вчерашнего помету, стоял и глядел на изуродованных собратов своих, что гусь на вечернюю зарницу. Но мир присудил по-своему: костоправ-медведь осмотрел раненых, повытянул им изломанные шейки да ножки, повыправил измятые суставчики и ворчал про себя, покачивая головой и утираясь во все кулаки: «Неладно эдак-то делать; эдак что же будет? Руки-ноги выломил, а которому и вовсе карачун задал – это дело неладно!»
Между тем бабы сошлись и стали голосить по покойникам: «Ах ты мой такой-сякой, сизой орел, ясный сокол! На кого ж ты нас, сирот круглых, покинул? А кто ж нам, сердечным, кто нам будет воду возить, кто станет дрова рубить? Кто будет нас любить и жаловать, кто холить да миловать, кто хлебом кормить да вином поить?»
Наконец принялись люди и за серого: «Кто он, греховодник? Подайте-ка его сюда!» Он бы за тем не очень погнался, что ему на первый раз поиграли в два смычка на кожаном гудке, причем мишка с отборным товарищем исправляли должность ката[14] и, присев на корточки, надев рукавицы и засучив рукава, отсчитали серому честно и добросовестно сто один по приговору, так что на сером тулуп гора-горой вздулся, – а на нем шкура, правда, и не черного соболя, да своя, – ну, это бы, говорю, все ничего, да ему то обидно было, что и вперед не велели таскать сайгаков, а на спрос: «Чем ему кормиться?» – не дали ни ответу, ни привету. Кричали только все в голос, чтобы серый не смел ни под каким видом резать да губить живую скотину, чтобы не порывался лучше на кровь да на мясо, а выкинул думку эту из головы. Живи-де смирно, тихо, честно, не обижай никого, так будет лучше.
Серый наш, встряхнувшись да оправив на себе сермягу свою, плакал навзрыд, подергивая только плечами, и спрашивал: «Что же прикажете есть, чем быть мне сытым? Я не прошу ведь на каждый день ужина да обеда, да хоть в неделю раз накормите: неужто круглый год скоромного куска в рот не брать?» Но никто на это ему не отвечал, и сходка по окончании секуции на том и кончилась; каждый побрел восвояси, разговаривая с дружкой и вслух подсмеиваясь над серым, приятелем нашим, который сидел подгорюнившись, как богатырь недотыка, поджав хвост и повесив голову, и глядел на недоглоданные копытца, рожки и косточки.
По этой мирской сходке видим мы, что Георгий Храбрый, набольший всем зверям, скотине, птице, рыбе и всякому животному, успел уже постановить кой-какой распорядок, указал расправу, расписал и порядил заплечных мастеров, волостных голов, писарей, сотских и десятских – словом, сделал все, как быть следно и должно.
«Эдак неладно, – сказал серый, покачивая головой на повислой шее, – совсем яман булыр, будет плохо. Да на что же меня, грешного, с этими зубами на свет посадили?» Сам вздохнул, отряхнулся и пошел спросить об этом Георгия Храброго: «Пусть-де сам положит какое ни есть решение, ему должно быть известно об этом; пусть укажет мне, чье мясо, чьи кости глодать, а травы я себе по зубам не подберу».
«Георгий! – сказал он, присев перед витязем и наклонив униженно неповоротливую, да покорную шею свою. – Георгий, пришла мая твая просить, дело наша вот какой: мая ашать нада, курсак совсем пропал, а никто не дает; на что же, – продолжал он, – дал ты мне зубы, да когти, да пасть широкую. На что их дал мне, и еще вдобавок большой мясной курсак, укладистое брюхо? Ему порожним жить не можно. Прикажи ты меня, Георгий, накормить да напоить; не то возьми да девай куда знаешь. Я вчера наелся, Георгий, и теперь до четверга потерпеть можно; а там, воля твоя, прикажи меня кормить!»
Георгий Храбрый был о ту пору занят делами по управлению новорожденного разношерстного народа своего и войска, и Георгию было не до волка. Большак поморщился и отправил его к сотнику: «Ступай, братец, к туру гнедому, он тебя накормит». – «Ну вот эдак бы давно, – сказал серый, вскочил и побежал весело в ту сторону, где паслось большое стадо рогатого скота. – Я бы вчера и не подумал таскать сайгаков самоуправством, коли б кто посулил мне говядинки: куй-иты, сухыриты, баранина ль, говядина ль, по мне все равно, был бы только, как калмыки говорят, махан, мясное».
Он подошел к быку туриному и просил, по словесному приказанию Георгия Храброго, сделать какой там следовать будет распорядок, как говорится в приказной строке, об утолении законного голода его. «Стань вот здесь, – сказал бык, – да повернись ко мне боком». Серый стал. Бык, задрав хвост и выкатив бельмы, разогнался, подхватил его рогами и махнул через себя. «Сыт, что ли?» – спросил он, когда серый наш, перевернувшись на лету раза три через хвост и голову, грянулся об землю навзничь крестцом. У серого отнялся язык; он вскочил и поплелся без оглядки, приседая всем задом, как разбитая старуха на костылях. У быка на каждом рогу осталось по клоку шерсти, не меньше литовского колтуна.
Серый добрел кой-как до логва своего, прилег и лежал, обмогался да облизывался трое суток, и то насилу отдохнул. Обругав мошенником и быка и Георгия, пошел он, однако же, опять искать суда и расправы.
«Ну, дядя Георгий, – сказал он, заставши этого опять за делом, – спасибо тебе! Я после закуски твоей насилу выходился!» – «А что, – спросил Георгий, – нешто бык не дает хлеба?» – «Какого хлеба? – отозвался серый. – Бойся бога, дядя; у нас, когда вставлял ты мне эту скулу да эти зубы, у нас был, кажись, уговор не на хлеб, а на мясное!» – «Ну а что ж, бык не дает?» – «Да, не дает!» – «Ну, – продолжал Георгий, – ступай же ты к тарпану, к лошади, она даст». Сам ушел в свои покои и покинул бедняка.
Серый оглянулся; косячок пасется за ним недалечко. Он подошел, да не успел и заикнуться, не только скоромное слово вымолвить, как жеребец, наострив уши, заржал, наскакал на него и, не выждав от серого ни «здравствуй», ни «прощай», махнул по нем, здорово живешь, задними ногами; да так, слышь, что кабы тот не успел присесть да увернуться, так, может быть, не стал бы больше докучать Георгию своими зубами; еще, спасибо, не кован был жеребец о ту пору, а то беда бы. Серый мой взвыл навзрыд, закричал благим матом, подбежал тут же к Георгию Храброму и бил челом неотступно, чтобы сам поглядел, как народ с ним, с серым, обходится, да сам бы уж и приказал туру или гнедому, тарпану ли его накормить. «Видишь, – говорил он, – видишь, что сделал со мной жеребец этот при тебе, в глазах твоих и при ясном лице твоем; благо, что сам ты видел, а то бы, чай, опять не поверил!» Георгий осерчал на серого, что больно докучает, не дает покою.
«Все люди как люди, – говорил он, – один ты шайтан; пристает, что с ножом к горлу, подай да подай; поди, говорят тебе, да попроси из чести, смирно, чинно; да не ходи эдаким сорванцом, забиякою; погляди-ка на себя, на кого ты похож? Чего косишься исподлобья да свинкой в землю глядишь? Вишь, тулуп взбит, колтуны с него висят, рыло подбито, сущий разбойник; не мудрено, что тебя и честят по заслугам. Нешто люди эдак ходят? Поди к архару, к дикому барану, да попроси честью, так он накормит тебя, да и отвяжись от меня, не приставай, что больной к подлекарю».
Серый пошел, прежде всего скупался, постянул зубами с шубы своей сухари да колышки, встряхнулся, прибрался, умылся, расчесался и отправился, облизываясь уже наперед, к архару, к барану. Этот, поглядев на нашего щеголя и наслушавшись сладких речей его, попросил стать над крутым оврагом, задом в чистое поле. Волк стал, повесил хвост и голову, наострил ухо и распустил губы; баран разогнался позадь его, ударил по нем костяным лбом, что тараном в стену; волк наш полетел под гору в овраг и упал замертво, на дно глубокой пропасти. У него в глазах засемерило, позеленело, заиграли мурашки, голова пошла кругом, что жернов на поставе, в ушах зазвенело, и на сердце что-то налегло горой каменной: тяжело и душно. Он лежал тут до ночи, а очнувшись, просидел да прокашлял до рассвета, а заутре во весь день еще шатался по оврагу, словно не на своих ногах либо угорелый. Как он тужил, как он охал, как бранился и плакал, и клял божий свет, и жалобно завывал, и глаза утирал, как наконец вылез, отдохнул и опять-таки поплелся к отцу-командиру, к храброму Георгию, – всего этого пересказывать не для чего, довольно того, что Георгий послал его к кабану, да и тот добром не дался, а испортил серому шубу и распорол клыком бок.
Серый, как истый мученик первобытных и первородных времен, когда не было еще ни настоящего устройства, ни порядка, хоть были уже разные чиновники, сотские, тысяцкие и волостные, – серый со смирением и кротостью коренных и первоначальных веков зализал кой-как рану свою и пошел опять к Георгию, с тем однако же, чтобы съесть его и самого, коли-де и теперь не учинит суда и расправы и не разрешит скоромного стола. «Еще и грамоты не знают, – подумал серый про себя, – и переписка не завелась, а какие крючки да проволочки по словесной расправе выкидывают! Ну, а что бы еще было, кабы далося им это письмо?»
Серый пошел и попал в добрый час. Георгий Храбрый был и весел, и в духе, и на безделье. Он посмеялся, пошутил, потрепал старого по тулупу и приказал ему идти к человеку. «Поди, – говорил он, – поди в соседний пригород и попроси там у добрых людей насущного ломтя; проси честно, да кланяйся и не скаль зубов, не щетинь шерсти по хребту, да не гляди таким зверем». – «Ох, дядя, – отвечал волк, – мне ли щетиниться! Опаршивел я, чай, с голоду, так и шерсть на мне встала; бог тебе судья, коли еще обманешь!» – «Поди же, поди, – молвил опять Георгий, – люди – народ добрый, сердобольный и смышленый, они не только накормят тебя и напоят, а научат еще, как и где и чего промышлять вперед».
Серый на чужом пиру с похмелья, веселого послушав, да не весел стал. Ему что-то уж плохо верилось; боялся он, чтобы краснобай Георгий опять его не надул. Да уж делать было нечего: голод морит, по свету гонит; хлеб за брюхом не ходит: видно, брюху идти за хлебом.
Добежав до пригорода, серый увидел много народу и большие белокаменные палаты. Голодай наш махнул, не думав, не гадав, через первый встречный забор, вбежал в первые двери и, застав там в большой избе много рабочего народу, оробел и струсил было сначала, да уж потом, как деваться было ему некуда, а голод знай поет свое да свое, серый пустился на авось: он доложил служивым вежливо и учтиво, в чем дело и зачем он пришел; сказал, что он ныне по такому-то делу стал на свете без вины виноват; что и рад бы не грешить, да курсак донимает; что Георгий Храбрый водил его о сю пору в дураках, да наконец смиловался, видно, над ним и велел идти к людям, смышленому, сердобольному и многоискусному роду, и просить помощи, науки, ума и подмоги. Он все это говорил по-своему, по-татарски, а случившийся тут рядовой из казанских татар переводил товарищам своим слова нежданного гостя. Волк попал не на псарню и не в овчарню; он просто затесался в казармы, на полковой двор, и, перескочив через забор, забежал прямо в швальню. Служивые художники его обступили; хохот, смех, шум и крик оглушили бедняка нашего до того, что он, оробевши, поджал хвост и почтительно присел среди обступившей толпы. Сам закройщик, кинув работу, подошел слушать краснобая нового разбора и помирал со смеху, на него глядя.
Наконец все ребята присудили одного из своих, кривого Тараса, который состоял при полку для ради шутовской рожи своей, с чином зауряд-дурачка, присудили его волку на снедь, на потраву, и начали с хохотом уськать да улюлюкать, притравливая волка на Тараску. Но серый наш не любил, да и не умел шутить: он зверем лютым кинулся на кривого зауряд-чиновника, который только что успел прикрыться от него локтем, и ухватил его за ворот. Ребята с перепугу вскочили на столы да на прилавки, а закройщик, как помолодцеватее прочих, на печь; и бедный Тараска за шутку ледащих товарищей своих чуть не поплатился малоумною головушкой своей. Он взмолился серому и просил пощады. «Много ли тебе прибудет, – говорил он, – коли ты меня теперь съешь? Не говоря уже о том, что во мне, кроме костей да сухожилья, ничего нет, да долго ли ты мною сыт будешь? Сутки, а много-много что двое; да коли и с казенной амуницией совсем проглотишь, ежели не подавишься, и то не боле как на три дня тебе станет. Пусти-ка ты лучше меня, так я тебя научу, как подобру-поздорову изо дня в день поживляться можно. Я сделаю из тебя такого молодца, что всякая живность и скоромь сама тебе на курсак пойдет, только рот разевай пошире!»
«За этим дело не станет, – подумал волк, – только бы ты правду говорил. Пожалуй; господь с тобой, я за этим и пришел, чтобы вас честно просить принять меня по этой части в науку; закройщиком быть не хочу, да я знаю, что вы не в одни постные дни сыты и святы бываете, а обижать я и сам не хочу никого».
Тараска кривой отмотал иглу на лацкане, побежал да принес собачью шкуру и зашил в нее бедного волка. Вот каким похождением на волке появилась шкура собачья; каков же он до этого случая был собою – не знаем, а сказывают, что был страшный. «Вот тебе и вся недолга, – сказал Тараска, закрепив и откусивши нитку, – вот тебе совсем Максим и шапка с ним! Теперь ты не чучело и не пугало, а молодец хоть куда; теперь никто тебя не станет бояться, малый и великий будут с тобой запанибрата жить, а выйдешь в лес да разинешь пасть свою пошире, так не токма глухарь – баран целиком и живьем полезет!» – «Не тесно ли будет?» – спросил серый, пожимаясь в новом кафтане своем. «Нет, брат, ныне, вишь, пошла мода на такой фасон, – отвечал Тараска косой, – шьют в обтяжку и с перехватом, только бы полки врознь не расходились, а на тебя я как раз угадал молодецки и пригнал на щипок, оглянись хоть сам!» Серый наш уж хотел было сказать: «Спасибо», – да оглянулся, ан господа портные соскочили с печи да с прилавок, сперва смех да хохот, а там уж говорят: «Да чего ж мы стоим, ребята? Валяй его!» И, ухвативши кому что попало, кинулись все и давай душить серого в чужом тулупе; а этому, сердечному, ни управиться, ни повернуться, ни расходиться: сзади стянут, спереди стянут, посередке перехвачен. Пустился бедняга без оглядки в степь и рад-рад, что кой-как уплелся да ушел, хоть и с помятыми боками, да по крайности с головой; а что попал из рядна в рогожу, догадаться он догадался, да уж поздно.
Он стал теперь ни зверем, ни собакой. Спеси да храбрости с него посбили, а ремесла не дали. Кто посильнее его, кто только сможет, тот его бьет и душит где и чем попало. А ему в чужих шароварах плохая расправа; не догонит часом и барана, а сайгак и куйрука понюхать не даст; а что хуже всего – от собак житья нет. Они слышат от него и волчий дух и свой; да так злы на самозванца, что рыщут за ним по горам и по долам, чуют, где бы ни засел, гонят с бела света долой и ходу не дают, грызут да рвут с него тулуп свой, и бедному голодаю нашему, серому, нет ни житья, ни бытья. А пробивается да поколачивается он кой-как, по миру слоняясь; то тут, то там урвет скоромный кус либо клок – и жив, поколе шкуры где-нибудь не сымут. Да уж зато и сам он теперь к Георгию Храброму ни ногой. «Полно, говорит, пой песни свои про честь да про совесть кому знаешь; водил ты меня, да уж больше не проведешь». Серый никого над собою знать не хочет; всякую веру потерял в начальственную расправу, а живет записным вором, мошенником и думает про себя: «Проклинал я вас, кляните ж и вы меня; а на расправу вы меня до дня Страшного суда не притянете; там что будет – не знаю, да и знать не хочу; знаю только, что до того времени с голоду не околею».
С этой-то поры, с этого случаю у нашего серого, сказывают, и шея стала кол колом: не гнется и не ворочается, оттого что затянута в чужой воротник.
Папенька поставил на стол табакерку. Какая прекрасная! пестренькая, из черепахи. А что на крышке-то! Ворота, башенки, домик, другой, третий, четвертый; а деревья-то золотые, а листики на них серебряные; а за деревьями встает солнышко, и от него розовые лучи…
– Это городок Динь-Динь, – сказал папенька и тронул пружинку…
Вдруг, невидимо где, заиграла музыка.
– Папенька! нельзя ли войти в этот городок?
– Мудрено, мой друг: этот городок тебе не по росту.
– Ничего, папенька, я такой маленький; мне так бы хотелось узнать, что там делается…
– Право, мой друг, там и без тебя тесно.
– Да кто же там живет?
– Там живут колокольчики.
Папенька поднял крышку на табакерке, и что же увидел Миша? И колокольчики, и молоточки, и валик, и колеса…
Миша удивился:
– Зачем эти колокольчики? зачем молоточки? зачем валик с крючками?
А папенька отвечал:
– Не скажу тебе, Миша; сам подумай. Только вот этой пружинки не трогай, иначе все изломается.
Папенька вышел. Миша смотрит: внизу табакерки отворяется дверца, и из дверцы выбегает мальчик с золотою головкою и в стальной юбочке, останавливается на пороге и манит к себе Мишу.
Миша побежал к дверце и с удивлением заметил, что дверца ему пришлась точь-в-точь по росту.
– Позвольте узнать, – сказал Миша, – с кем я имею честь говорить?
– Динь-динь-динь, – отвечал незнакомец, – я мальчик-колокольчик, житель этого городка. Мы слышали, что вам очень хочется побывать у нас в гостях, и потому решились просить вас сделать нам честь к нам пожаловать.
Мальчик-колокольчик взял его за руку, и они пошли. Тут Миша заметил, что над ними был свод, сделанный из пестрой тисненой бумажки с золотыми краями. Перед ними был другой свод, только поменьше; потом третий, еще меньше; и так все другие своды – чем дальше, тем меньше.
– Я вам очень благодарен, – сказал Миша. – Но посмотрите, какие у вас низенькие своды, там я и ползком не пройду. Я удивляюсь, как и вы под ними проходите.
– Динь-динь-динь! – отвечал мальчик. – Пройдем, не беспокойтесь.
В самом деле, с каждым их шагом, казалось, своды подымались, и наши мальчики всюду свободно проходили; когда же они дошли до последнего свода, мальчик-колокольчик попросил Мишу оглянуться назад. Миша оглянулся, и что же он увидел? Теперь тот первый свод, под который он подошел, входя в дверцы, показался ему маленьким, как будто, пока они шли, свод опустился. Миша был очень удивлен.
– Отчего это? – спросил он своего проводника.
– Динь-динь-динь! – отвечал проводник, смеясь. – Издали всегда так кажется. Видно, вы ни на что вдаль со вниманием не смотрели; вдали все кажется маленьким, а подойдешь – большое.
– Да, это правда, – отвечал Миша, – я до сих пор не думал об этом, и оттого вот что со мною случилось: третьего дня я хотел нарисовать, как маменька возле меня играет на фортепьяно, а папенька на другом конце комнаты читает книжку. Только этого мне никак не удалось сделать: тружусь, тружусь, рисую как можно вернее, а все на бумаге у меня выйдет, что папенька возле маменьки сидит и кресло его возле фортепьяно стоит, а между тем я очень хорошо вижу, что фортепьяно стоит возле меня, у окошка, а папенька сидит на другом конце, у камина. Маменька мне говорила, что папеньку надобно нарисовать маленьким, но я думал, что маменька шутит, потому что папенька гораздо больше ее ростом; но теперь вижу, что она правду говорила: папеньку надобно было нарисовать маленьким, потому что он сидел вдалеке. Очень вам благодарен за объяснение, очень благодарен.
Вот перед ними еще дверцы; они отворились, и Миша очутился на улице. Мостовая вымощена перламутром; небо пестренькое, черепаховое; по небу ходит золотое солнышко; домики стальные, полированные, крытые разноцветными раковинками, и под каждою крышкою сидит мальчик-колокольчик, и много их, много и все мал мала меньше.
Между тем их окружили мальчики-колокольчики, теребили Мишу за платье, звенели, прыгали, бегали.
– Весело вы живете, – сказал им Миша, – век бы с вами остался. Целый день вы ничего не делаете, у вас ни уроков, ни учителей, да еще и музыка целый день.
– Динь-динь-динь! – закричали колокольчики. – Нет, Миша, плохое нам житье. Правда, уроков у нас нет, да что же в том толку? Вся наша беда именно в том, что у нас, бедных, никакого нет дела; нет у нас ни книжек, ни картинок; целый день играй да играй, а ведь это, Миша, очень, очень скучно. Можешь себе вообразить, каково целый век, ничего не делая, просидеть в табакерке, и даже в табакерке с музыкою.
– Да, – отвечал Миша, – вы говорите правду. Это и со мной случается: когда после ученья примешься за игрушки, то так весело; а когда в праздник целый день все играешь да играешь, то к вечеру и сделается скучно.
– Да, сверх того, на нас есть другая беда, Миша: у нас есть дядьки.
– Какие же дядьки? – спросил Миша.
– Дядьки-молоточки, – отвечали колокольчики, – уж какие злые! То и дело что ходят по городу да нас постукивают.
В самом деле, Миша увидел, что по улице ходили какие-то господа на тоненьких ножках, с предлинными носами и шептали между собою: «Тук-тук-тук! тук-тук-тук! поднимай! задевай! тук-тук-тук!». И в самом деле, дядьки-молоточки беспрестанно то по тому, то по другому колокольчику тук да тук. Он подошел к этим господам, очень вежливо поклонился им и спросил, зачем они колотят бедных мальчиков. А молоточки ему в ответ:
– Прочь ступай! Там в палате и в халате надзиратель лежит и стучать нам велит. Тук-тук-тук!
– Какой это у вас надзиратель? – спросил Миша у колокольчиков.
– А это господин Валик, – зазвенели они, – предобрый человек, день и ночь с дивана не сходит; на него мы не можем пожаловаться.
Миша – к надзирателю. Смотрит: он в самом деле лежит на диване, в халате и с боку на бок переворачивается, только все лицом кверху. А по халату-то у него шпильки, крючочки видимо-невидимо; только что попадется ему молоток, он его крючком сперва зацепит, потом спустит, а молоточек-то и стукнет по колокольчику.
Только что Миша к нему подошел, как надзиратель закричал:
– Кто здесь ходит? кто здесь бродит?
– Это я, – храбро отвечал Миша, – я – Миша…
– А что тебе надобно? – спросил надзиратель.
– Да мне жаль бедных мальчиков-колокольчиков, дядьки их беспрестанно постукивают…
– А мне какое дело! Пусть себе дядьки стукают мальчиков! Мне что за дело!
Миша пошел далее – и остановился. Смотрит, золотой шатер с жемчужного бахромою; наверху золотой флюгер вертится, а под шатром лежит царевна Пружинка и, как змейка, то свернется, то развернется и беспрестанно надзирателя под бок толкает. Миша сказал ей:
– Сударыня царевна! Зачем вы надзирателя под бок толкаете?
– Зиц-зиц-зиц, – отвечала царевна. – Глупый ты мальчик. Кабы я валик не толкала, валик бы не вертелся; кабы валик не вертелся, то он за молоточки бы не цеплялся, молоточки бы не стучали; кабы молоточки не стучали, колокольчики бы не звенели; кабы колокольчики не звенели, и музыки бы не было!
Миша наклонился и прижал царевну пальчиком.
В одно мгновение пружинка с силою развилась, валик сильно завертелся, молоточки быстро застучали, колокольчики заиграли дребедень, и вдруг пружинка лопнула. Все умолкло, валик остановился, молоточки попадали, колокольчики свернулись на сторону, солнышко повисло, домики изломались… Тогда Миша вспомнил, что папенька не приказывал ему трогать пружинку, испугался и… проснулся.
Миша долго не мог опамятоваться. Смотрит: та же перед ним табакерка; возле него сидят папенька и маменька и смеются.
– Где же мальчик-колокольчик? Где дядька-молоточек? Где царевна Пружинка? – спрашивал Миша.
– Тебя музыка убаюкала, и ты вздремнул. Расскажи же нам, что тебе приснилось!
– Папенька, – сказал Миша, – мне все хотелось узнать, отчего музыка в табакерке играет; вот я принялся на нее прилежно смотреть и разбирать, что в ней движется и отчего движется; думал, думал и стал уже добираться, как вдруг, смотрю, дверка в табакерку растворилась… – Тут Миша рассказал весь свой сон по порядку.
– Ну, теперь вижу, – сказал папенька, – что ты в самом деле почти понял, отчего музыка в табакерке играет; но ты это еще лучше поймешь, когда будешь учиться механике.
Водном доме жили две девочки – Рукодельница да Ленивица, а при них нянюшка.
Рукодельница рано вставала, печку топила, хлеб месила, избу мела, петуха кормила, за водой ходила.
А Ленивица в постельке лежала, потягивалась. Встанет да и сядет к окошку мух считать. Как всех пересчитает Ленивица, так уж и не знает, за что приняться и чем бы заняться. Сидит, плачет да жалуется, что ей скучно.
Однажды Рукодельница пошла за водой, опустила ведро на веревке, а веревка-то и оборвись; упало ведро в колодец. Расплакалась Рукодельница да и пошла к нянюшке рассказывать про свою беду; а нянюшка Прасковья говорит:
– Сама беду сделала, сама и поправляй.
Пошла Рукодельница опять к колодцу, ухватилась за веревку и спустилась по ней к самому дну. Тут с ней чудо случилось. Едва спустилась, смотрит: перед ней печка, а в печке пирожок сидит да приговаривает:
– Я совсем готов, подрумянился, сахаром да изюмом обжарился; кто меня из печки возьмет, тот со мной и пойдет!
Рукодельница схватила лопатку, вынула пирожок и положила его за пазуху. Идет она дальше. Перед ней сад, а в саду стоит дерево, а на дереве золотые яблочки; яблочки промеж себя говорят:
– Мы яблочки наливные, созрелые; кто нас с дерева стрясет, тот нас себе и возьмет.
Рукодельница подошла к дереву, потрясла его, и золотые яблочки так и посыпались к ней в передник.
Рукодельница идет дальше. Смотрит: перед ней сидит старик Мороз Иванович, седой-седой; сидит он на ледяной лавочке да снежные комочки ест; тряхнет головой – от волос иней сыплется, духом дохнет – валит густой пар.
– А! – сказал он. – Здорово, Рукодельница! Спасибо, что ты мне пирожок принесла; давным-давно уж я ничего горяченького не ел.
Тут он посадил Рукодельницу возле себя, и они вместе пирожком позавтракали, а золотыми яблочками закусили.
– Знаю я, зачем ты пришла, – говорит Мороз Иванович, – ты ведерко в мой колодец опустила; отдать тебе ведерко отдам, только ты мне за то три дня прослужи. А теперь мне, старику, и отдохнуть пора; приготовь мне постель, да смотри взбей хорошенько перину.
Пошли они в дом. Был он весь изо льда, а по стенам убрано снежными звездочками. На постели у Мороза Ивановича вместо перины лежал снег пушистый. Рукодельница принялась взбивать снег, чтоб старику было мягче спать, а меж тем у ней, бедной, руки окостенели и пальчики побелели.
– Ничего, – сказал Мороз Иванович, – только снегом пальцы потри, так и отойдут, не ознобишь. Я ведь старик добрый; посмотри-ка, что у меня за диковинки.
Тут он приподнял свою снежную перину с одеялом, и Рукодельница увидела, что под периною пробивается зеленая травка. Рукодельнице стало жаль бедной травки.
– Вот ты говоришь, – сказала она, – что ты старик добрый, а зачем ты зеленую травку под снежной периной держишь, на свет божий не выпускаешь?
– Не выпускаю потому, что еще не время; еще трава в силу не вошла. Осенью крестьяне ее посеяли, она и взошла, и кабы вытянулась уже, то зима бы ее захватила, и к лету травка бы не вызрела. Вот я и прикрыл молодую зелень моею снежной периной, да еще сам прилег на нее, чтоб снег ветром не разнесло; а вот придет весна, снежная перина растает, травка заколосится, а там, смотришь, выглянет и зерно, а зерно крестьянин соберет да на мельницу отвезет; мельник зерно смелет, и будет мука, а из муки ты, Рукодельница, хлеб испечешь.
– Ну, а скажи мне, Мороз Иванович, – сказала Рукодельница, – зачем ты в колодце-то сидишь?
– Я затем в колодце сижу, что весна подходит, – сказал Мороз Иванович, – мне жарко становится; а ты знаешь, что и летом в колодце холодно бывает, оттого и вода в колодце студеная, хоть посреди самого жаркого лета.
Добрый Мороз Иванович погладил Рукодельницу по головке да и лег почивать на свою снежную постель.
Рукодельница в доме прибрала, кушанье изготовила, платье у старика починила.
Старичок проснулся и поблагодарил Рукодельницу.
Так прожила Рукодельница у Мороза Ивановича целых три дня.
На третий день Мороз Иванович сказал Рукодельнице:
– Спасибо тебе, хорошо ты меня, старика, утешила, и я у тебя в долгу не останусь. Вот тебе твое ведерко, а в ведерко я всыпал целую горсть серебряных пятачков; да сверх того вот тебе на память брильянтик – косыночку закалывать.
Рукодельница поблагодарила, пошла опять к колодцу, ухватилась за веревку и вышла на свет божий.
Когда Рукодельница пришла домой и рассказала все, что с ней было, нянюшка очень дивовалась, а потом промолвила:
– Вот видишь ты, Ленивица, что люди за рукоделие получают! Поди-ка к старичку да послужи ему, поработай, так и ты горсть пятачков заработаешь.
Вот Ленивица пошла к колодцу, схватилась за веревку да и бух прямо ко дну. Смотрит – перед ней печка, а в печке сидит пирожок, такой румяный, поджаристый, сидит, поглядывает да приговаривает:
– Я совсем готов, подрумянился, сахаром да изюмом поджарился; кто меня возьмет, тот со мной и пойдет.
А Ленивица ему в ответ:
– Да как бы не так! Мне себя утомлять – лопатку поднимать да в печку тянуться; захочешь – сам выскочишь.
Идет она, перед нею сад, а в саду стоит дерево, а на дереве золотые яблочки; яблочки промеж себя говорят:
– Мы яблочки наливные, созрелые; кто нас с дерева стрясет, тот нас себе и возьмет.
– Да как бы не так! – отвечала Ленивица. – Мне себя утомлять – ручки поднимать, за сучья тянуть… Успею набрать, как сами нападают!
И прошла Ленивица мимо них. Вот дошла она и до Мороза Ивановича. Старик по-прежнему сидел на ледяной скамеечке да снежные комочки прикусывал.
– Что тебе надобно, девочка? – спросил он.
– Пришла я к тебе, – отвечала Ленивица, – послужить да за работу получить.
– Дельно ты сказала, девочка, – отвечал старик, – за работу деньга следует, только посмотрим, какова еще твоя работа будет. Поди-ка взбей мою перину, а потом кушанье изготовь да платье мое повычини.
Пошла Ленивица да думает: «Стану я себя утомлять да пальцы знобить! Авось старик не заметит и на невзбитой перине уснет».
Старик в самом деле не заметил или прикинулся, что не заметил, лег в постель и заснул, а Ленивица пошла на кухню. Кое-как зелень обчистила, мясо и рыбу разрезала да, чтоб большого труда себе не давать, как все было мытое-немытое, так и положила в кастрюлю.
Вот старик проснулся, просит обедать. Ленивица притащила ему кастрюлю, как есть, даже скатертцы не подостлала.
Мороз Иванович попробовал, поморщился, а песок так и захрустел у него на зубах.
Ленивица отведала, да тотчас и выплюнула, а старик покряхтел, покряхтел да и принялся сам готовить кушанье и сделал обед на славу, так что Ленивица пальчики облизала, кушая чужую стряпню.
После обеда старик опять лег отдохнуть, да припомнил Ленивице, что у него платье не починено.
Ленивица принялась платье разбирать; взяла было иголку, да с непривычки укололась; так ее и бросила. А старик опять будто бы ничего не заметил, ужинать Ленивицу позвал да еще спать ее уложил.
На третий день приходит Ленивица и просит Мороза Ивановича ее домой отпустить да за работу наградить.
– Если тебя совесть не зазрит, – отвечал старичок, – я тебя награжу: и какова твоя работа, такова будет тебе и награда.
Мороз Иванович дал Ленивице пребольшой серебряный слиток, а в другую руку – пребольшой брильянт.
Ленивица так обрадовалась, что схватила то и другое и, даже не поблагодарив старика, домой побежала.
Пришла домой и хвастается.
– Вот, – говорит, – что я заработала; целый слиток серебряный, да и брильянт-то чуть не с кулак…
Не успела она договорить, как серебряный слиток растаял и полился на пол; в то же время начал таять и брильянт.
Вбывалошно время, когда за лесом да за другим дорогим товаром не пароходы, а корабли приходили, балласт привозили, товар увозили, – в Соломбале в гавани корабли стояли длинными рядами, ряд возле ряду. Снасти на мачтах кружевьем плелись. Гаваньские торговки на разных языках торговаться и ругаться умели.
В ту пору в распивочном заведении вышел спор у нашего русского капитана с аглицким. Спорили о матросах: чьи ловчей? Агличанин трубкой пыхтит, деревянной мордой сопит:
– У меня есть такой матрос ловкач, на мачту вылезет да на клотике весь разденет себя. Сышшется ли такой русский матрос?
Наш капитан спорить не стал. Чего ради время напусто тратить? Рукой махнул и одним словом ответ дал:
– Все.
Ладно. Уговорились в воскресенье проверку сделать.
И вот диво – радии не было, телефону не знали, а на всю округу известно стало о капитанском споре и сговоре.
В воскресенье с самого утра гавань полна народом. Соломбальски, городски, из первой, второй и третьей деревень прибежали. Заречны полными карбасами ехали, наряды в корзинах на отдельных карбасах плавили. Наехали с Концов и с Хвостов – такие деревни живут: Концы и Хвосты.
От народу в глазах пестро, городски и деревенски вырядились вперегонки, всяка хочет шире быть, юбки накрахмалили, оборки разгладили. Наряды громко шуршат, подолы пыль поднимают. Очень нарядно.
Мужики да парни гуляют со строгим форсом – до обеда всегда по всей степенности, а потом… Ну, да сейчас разговор не о том!
Дождались.
На кораблях команды выстроились. Агличанин своему матросу что-то пролаял. Нам на берег слышно только: «Гау, гау!»
Матрос аглицкой стал карабкаться вверх и до клотика докарабкался. Глядим – раздевается, одежду с себя снимат и вниз кидат. Разделся и как есть нагишом весь слез на палубу и так голышом перед своим капитаном стал и тоже что-то: «Гау, гау!» Очень даже конфузно было женскому сословию глядеть.
Городски зонтиками загородились, а деревенски подолами глаза прикрыли.
Наш капитан спрашиват агличанина:
– Сколько у тебя таких?
– Один обучен.
– А у нас сразу все таки.
Капитан с краю двух матросов послал на фок-мачту и на бизань-мачту.
А тут кок высунулся поглядеть. Кок-то этот страсть боялся высокого места. На баню вылезет – трясется. Вылез кок и попал капитану под руку. Капитан коротким словом:
– На грот-мачту!
Кок струной вытянулся:
– Есть, на грот-мачту!
Кок как бывалошным делом лезет на грот-мачту. Смотрю, а у кока глаза-то крепко затворены.
На фок-мачте, на бизань-мачте матросы уж на клотиках и одежу с себя сняли, расправили, по складкам склали, руками пригладили, ремешками связали. На себе только шапочки с ленточками оставили, это чтобы рапорт отдавать – дак не к пустой голове руку прикладывать!
Коли матросы в шапочках да с ленточками – значит, одеты, на них и смотреть нет запрета.
А кок той порой лезет и лезет, уж и клотик близко, да открыл кок глаза, оглянулся, у него от страху руки расцепились, и полетел кок!
Полетел да за поперечну снасть ухватился и кричит агличанину:
– Сделай-ка ты так!
Агличанин со страху трепешшется, головой мотат, у него зубы на зубы не попадают, он что-то гаукат. Аглицкой капитан рассердился, надулся:
– Как так, аглицкого матроса надобно долго обучать, а русски отроду умеют и даже ловче?
Во Архангельском городу это было. В таку дальну пору, что не только моей памяти не хватит помнить, а и бабке с прабабками не припомнить году-времени. Мы только со слов на слова кладем да так и несем: которо растрясется, которо до записи дойдет.
Дак вот жил большой богатой человек. Жил он лесом, в разны заграницы лес продавал. Было у такого человека три сына. Старшой да средней хорошо вели дело: продавали, обдували, считали, обсчитывали и любы были отцу.
Младшему сыну торговля не к рукам была, ему бы песней залиться да плясом завиться. Да и дома-то он ковды-нековды оследиться. Все с компанией развеселой время вел – звали этого молодца Гулена. Парень ласковой, обходительной, на поклон легок, на слово скор, на встрече ловок. Всем парень вышел, только выгодных дел делать не умел.
Задумал большой человек сбыть парня Гулену. И придумал это под видом большого дела. Отправил всех трех сынов с лесом-товаром в заграницы.
Старшому (а был тот ледяшшой, худяшшой, до чужого жадный, загребушшой) отец корабль снарядил дубовой, паруса шелковы, лес нагрузили самолутчей, первосортной.
Второй был раскоряка толстенной, скупяшшой-перескупяшшой. Про себя хвалился: «у скупа не у нета», а от его никто не видал ничего.
Этому второму корабль был дан сосновой, паруса белополотняны, лес – товар второсортной.
А третьему, развеселому, снарядил отец посудину разваляшшу и таку дыряву, что из дыры в дыру светило, а вода как хотела, так и переливалась, рыбы всяки как на постоялой двор заходили, уходили.
В этой посудине пряма дорога на дно. Поверх воды держится, пока волной не качнет.
А товар нагружен насмех: горбыли, обрезки да стары кокоры, никуда не нужны которы, парусом – старой половик.
Никудышно судно снаряжено, товар никудышной нагружен. Вот как Гулену на борт заманить?
Придумал богач тако дело: по борту разваляшшего суденышка наставил штофов, полуштофов с водкой, а на корму цельну четвертну. По-за бутылками зеркалов наставил. С берега видится, что все судно водкой полно.
Увидал Гулена развеселый груз на суденышке, созвал, собрал своих приятелев собутыльников, балагуров, песенников. Собрались, поглядели и песню запели:
Мы попьем, попьем,
Мы по морю сгуляем.
Отдали концы корабли и суденышко в одно время в одну минуту. Ледяшшой худяшшой да раскоряка толстяшшой большим передом опередили Гулену и в море вышли. А Гулена с товаришшами-приятелями чуть двигаются, водку пьют, песни поют и не примечают, что идут десятой день девяту версту. Водку выпили, в море выплыли. А тут развернулась погодушка грозной бурею. Вода вздыбилась, волны вспенились.
Гулена за борт выкинул горбыли, обрезки да стары кокоры. Порожно суденышко на воде, как чайка, сидит да по волнам летит. Гулене с товаришшами дело одно: хошь стой, хошь ложись, только крепче держись!
Ветер улетел, море отшумело, отработалось, в спокой улеглось.
Видит Гулена: по переду судна на воде что-то очень белет и блестит, белет и сверкат и похоже на остров. Гулена суденышком да о самой остров и пристал. А остров-то из чистой соли был.
Ну, мешкать не стали, дыры сквозны законопатили, соли нагрузили. Попутна вода да поветерь в заграницу суденышко пригнали. В гавани к стенке стали, люки открыли, солью торгуют.
Люди заграничны подходили, на язык соль брали, плевались, уходили.
Взял Гулена малой мешок соли и пошел по городу. В городу, в самой середине, царь жил. У царя гостьба была, понаехали разны цари-короли. В застолье сели, обеда дожидаются, разговоры говорят, всяк по-своему.
Гулена зашел в кухню. Сначала обсказал: кто и откудова и с чем приехал, соль показал. Повар соль попробовал:
– Нет, экой невкусности ни царь, ни гости цари-короли есть в жизнь не станут!
Гулена говорит:
– Улей-ко в чашку штей!
Повар налил, Гулена посолил.
– Отпробуй теперича.
Повар хлебнул да ишшо хлебнул, да и все съел.
– Ах, како вкусно! Я распервеюшшой повар, а эдакого не едал!
Гулена все, что нужно, посолил. Поварята еду на стол таскают болыпи блюда, по пяти человек несут, а добавошны к большим кажной по одному ташшит, а добавошных-то блюдов по полсотни.
Мало погодя в кухню царь прибежал, кусок дожевыват и повару кричит:
– Жарь, вари, стряпай, пеки ишшо, гости все съели и есть хотят, ждут сидят. И что тако ты сделал, что вся еда така приятна?
– Да вот человек приехал из Архангельского городу и привез соль.
Царь к Гулене:
– Много ли у тебя этой соли? И сколько чего хошь, чтобы мне одному всю продать! Други-то цари-короли еду с солью попробовали, им без соли ни быть ни жить больше. А как соль будет у меня одного, то буду я над всеми главным.
Гулена отвечат:
– Ладно, продам тебе всю соль, но с уговором. Чтобы вы, цари-короли, жили мирно, без войны, всяк на своем месте, своим добром и на чужо не зариться, на этом слово дай. Второ мое условие: снаряди корабль новой из полированных дерев с златоткаными парусами, трюма деньгами набей: передний носовой трюм бумажными, а задний кормовой золотыми. И третье условие – дочь взамуж за меня отдай, а то соль обратно увезу.
Царь согласился без раздумья. Делать все стал без промедленья.
Скоро все готово. Корабль лакированный блестит, паруса златотканы огнем светятся.
Гулена сам себе сватом к царской дочери с разговором:
– Что ты делать умешь?
– Я умею шить, вышивать, мыть, стирать, в кухне обряжаться, в наряды наряжаться, петь да плясать.
– Дело подходяшшо, объявляю тебя своей невестой!
Девка глаза потупила, сама заалела.
– Ты, Гулена, царям-королям на хвосты соли насыпал, за это я иду за тебя!
Пир-застолье отвели.
Поехали. Златотканы паруса горят: как жар-птица летит.
Оба старши брата караулили Гулену в море у повороту ко городу Архангельскому. Увидали, укараулили и давай настигать. Задумали старши младшего ограбить, все богатство себе забрать.
Тут спокойно море забурлило, тиха вода зашумела, вкруг Гулениного корабля дерево забрякало, застукало. Все хламье, что заместо товару было дадено: горбыли, обрезки да стары кокоры – столпились у Гуленина корабля, Гулене, как хозяину, поклон приветной отдали да поперек моря вызнялись. Гуленин корабль от бури и от братьев-грабителей высоким тыном загородили.
Море долго трепало и загребушшего и скупяшшего. Домой отпустило после того, как Гулена житье свое на пользу людям направил.
Время столько-то прошло. Слышит Гулена, что царь, которой соль купил, войну повел с другими царями. Гулена ему письмо написал: что, мол, ты это делашь да думашь ли о своей голове? Слово дал, на слове том по рукам ударили, а ты слово не держишь? Царски ваши солдаты раздерутся да на вас, царей, обернутся.
Царь сделал отписку, послал скору записку. Написана на бумажном обрывке и мусленым карандашом:
– Я царь – и слову свому хозяин! Я слово дал, я вобратно взял. Воля моя. Мы, цари, законы пишем, а нам, царям, закон не писан.
Малы робята и те понимают – кому закон не писан.
Я вот с дедушкой покойным (кабы был жив – поддакнул бы) на корабле через Карпаты ездил.
Перва путина все в гору, все в гору. Чем выше в гору, тем больше волны.
Экой качки я ни после, ни раньше не видывал.
Вот простор, вот ширь-то! Дух захватыват, сердце замират и радуется.
Все видно, как на ладони: и города, и деревни, и реки, и моря.
Только и оставалось перемахнуть и плыть под гору с попутным ветром. Под гору завсегды без качки несет. Качат, ковды вверх идешь.
Только бы нам, значит, перемахнуть, да мачтой за тучу зацепили. И ни в ту, ни в ну.
Стой, да и все тут.
Дедушка относа боялся главне всего. А ну как туча-то двинет да дождем падет? Эдак и нам падать приведется. А если да над городом да днишшем-то угодим на полицейску каланчу али на колокольню?
Днишше-то прорвет, а на дырявом далеко не уедешь.
Послал дедушка паренька, – был такой, коком взяли его, и плата коку за навигацию была – бочка трески да норвежска рубаха.
Дедушка приказ дал:
– Лезь, малец, на мачту, погляди, что оно там нас держит? Топор возьми; коли надобно, то у тучи дыру проруби али расколи тучу.
Парень свернулся, провизию забрал, сколько надо: мешок крупы, да соли, да сухарей.
Воды не взял: в туче хватит.
Полез.
Что там делал? Нам не видно. Чего не знаю, о том и говорить не стану, чтобы за вранье не ругали.
Ладно.
Парень там в туче дело справлял и что-то на поправку сделал. И уронил топор.
Мачты были так высоки, что топор, пока летел, весь изржавел, а топоришшо все сгнило. А мальчишка вернулся стариком. Борода большушша, седа!
Но дело сделал – мачту освободил.
Дедушка команду подал:
– Право на борт! Лево на борт!
Я рулем ворочаю. Раскачали корабль. Паруса раскрыли. Ветер попутной дернул, нас и понесло под гору.
Мальчишке бороду седу сбрили, чтобы старше матери не был, опять коком сделали.
И так это мы ладно шли на корабле под гору, да что-то под кормой зашебаршило.
Глянули под корму, – а там мезенцы морожену навагу в Архангельск везут!
Поехал я за дровами в лес. Дров наколол воз, домой собрался ехать да вспомнил: заказала старуха глухарей настрелять.
Устал я, неохота по лесу бродить. Сижу на возу дров и жду. Летят глухари. Я ружье вскинул и – давай стрелять, да так норовил, чтобы глухари на дрова падали да рядами ложились.
Настрелял глухарей воз. Поехал, Карьку не гоню, – куды тут гнать! Воз дров, да поверх дров воз глухарей.
Ехал-ехал да и заспал. Долго ли спал – не знаю.
Просыпаюсь, смотрю, а перед самым носом елка выросла! Что тако?
Слез, поглядел: между саней и Карькиным хвостом выросла елка в обхват толшшиной.
Значит, долгонько я спал. Хватил топор, срубил елку, да то ли топор отскочил, то ли лишной раз махнул топором, – Карьке ногу отрубил.
Поскорей взял серы еловой свежой и залепил Карькину ногу.
Сразу зажила!
Думать, я вру все?
Подем, Карьку выведу. Посмотри, не узнашь, котора нога была рублена.
Тебе, девка, житье у меня будет легкое, – не столько работать, сколько отдыхать будешь!
Утром станешь, ну, как подобат, – до свету. Избу вымоешь, двор уберешь, коров подоишь, на поскотину выпустишь, в хлеву приберешь и спи-отдыхай!
Завтрак состряпашь, самовар согреешь, нас с матушкой завтраком накормишь – спи-отдыхай!
В поле поработать, али в огороде пополешь, коли зимой – за дровами али за сеном съездишь и спи-отдыхай!
Обед сваришь, пирогов напечешь: мы с матушкой обедать сядем, а ты – спи-отдыхай!
После обеда посуду вымоешь, избу приберешь и спи-отдыхай!
Коли время подходяче, – в лес по ягоду, по грибы сходишь, али матушка в город спосылат, дак сбегашь. До городу – рукой подать, и восьми верст не будет, а потом спи-отдыхай!
Из города прибежишь, самовар поставишь. Мы с матушкой чай станем пить, а ты спи-отдыхай!
Вечером коров встретишь, подоишь, попоишь, корм задашь и спи-отдыхай!
Ужину сваришь, мы с матушкой съедим, а ты спи-отдыхай!
Воды наносишь, дров наколешь, – это к завтрему, и спи-отдыхай!
Постели наладишь, нас с матушкой спать повалишь. А ты, девка, день-деньской проспишь – проотдыхашь – во что ночь-то будешь спать?
Ночью попрядешь, поткешь, повышивашь, пошьешь и опять спи-отдыхай!
Ну, под утро белье постирать, которо надо – поштопать да зашьешь и спи-отдыхай!
Да ведь, девка, не даром. Деньги платить буду. Кажной год по рублю! Сама подумай. Сто годов – сто рублев. Богатейкой станешь!
Как парень к попу в работники нанялся
Нанялся это парень к попу в работники и говорит:
– Поп, дай мне денег вперед хоть за месяц.
– На что тебе деньги? (Это поп говорит.) Парень отвечат:
– Сам понимать, каково житье без копейки.
Поп согласился:
– Верно твое слово, – како житье без копейки!
Дал поп своему работнику деньги вперед за месяц и посылат на работу. Дело было в утрях. Парень попу:
– Что ты, поп, где видано не евши на работу иттить!
Парня накормили и – опять гнать на работу. Парень и говорит:
– Поевши-то на работу? Да я себе брюхо испорчу. Теперича надобно полежать, чтобы пишша на место улеглась.
Спал парень до обеда. Поп на работу посылать стал.
– На работу? Без обеда? Ну, нет, коли время обеденно пришло, дак обедать сади.
Отобедал парень, а поп опять на работу гонит. Парень попу толком объяснят:
– Кто же после обеда работат? Уж тако завсегдашно правило заведено – тако положенье: опосля обеда – отдыхать.
Лег парень и до потемни спал. Поп будит:
– Хошь теперича иди поработай!
– На ночь-то глядя? Посмотри-кось: люди добры за ужну садятся да спать валятся. То и мне надоть.
Парень поел, до утра храпел. Утром наелся, ушел в поле, там спал до полден. Пришел, пообедал и опять в поле спать. Спал до вечера и паужину проспал. К ужину явился, наелся. Поп и говорит:
– Парень, что ты сегодня ничего не наработал?
– Ах, поп, поглядел я на работу: и завтра ее не переделать, и послезавтра не переделать, а сегодня и приматься не стоит.
Поп весь осердился, парня вон гонит:
– Мне экого работника не надобно. Уходи от меня!
– Нет, поп, я хошь и задешево нанялся, да деньги взял вперед за месяц и буду жить у тебя. Коли очень погонишь, я, пожалуй, уйду. Ежели хлеба дашь день на десять.
Жили в соседях Шиш Московский да купец.
Шиш отроду голой, у его двор полой, скота не было, и запирать некого. Изба большая: на первом венце порог, на втором – потолок, окна и двери буравчиком провернуты. Сидеть в избе нельзя, да глядеть на ей гоже! Шиш в эдако окошечко глаз впялит да и любуется.
Именья у Шиша – для штей деревянный горшок да с табаком свиной рожок. Были липовых два котла, да сгорели дотла.
Зато у купчины домина! Курицы на крышу летают, с неба звезды хватают. Я раз вышел в утрях на крыльцо, а петух полмесяца в зубах волочит.
У купца свинья живет, двести пудов сала под шкурой несет да пудов пятьдесят соли в придачу.
Все равно – совру наудачу – и так никто не поверит…
У купца соха в поле сама о себе пашет, а годовалый ребенок мельничный жернов с ладошки на ладошку машет.
А две борзых суки мельницу на гору тянут, а кляча ихну работу хвалит, себе на спину мельницу валит, кряхтит да меня ругает.
– Мне, – говорит, – твое вранье досаждает!
Всего надобно впору, а ты наплел целу гору!
Это, светы мои, присказка, а дело впереди.
Пришла зима, а дров у Шиша ни полена, и притянуть не на чем. Пришел к купцу, конается:
– Не дайте ли коняшки в лес съездить?
Купец покуражился немного, однако лошадь отпустил.
– Бери, пейте мою кровь, летом отработаешь. Чувствуй, что я отец и благодетель. Что ише мнессе?
– Хомута, пожалста, не соблаговолите ли ише хомута?
– Тебе хомута?! А лаковой кореты ише не надо? А плюшево одеяло ножки накрыть не прикажете-с?
Так и не дал хомута.
Шиш привел кобылу домой, вытащил худы санишки о трех копылишках и поехал в лес. Нарубил дров, наклал болыпашшой воз, привязал кобыле за хвост да как зыкнет… Лошадь сгоряча хватила да себе хвост и оборвала. Сревел Шишанко нехорошим голосом, да нечего делать!
Повел кобылу к хозяину:
– Вот получите лошадку. Покорнейше благодарим-с!
Купец и увидел, что хвоста нет:
– Лошадку привел? Иде она, лошадка?
– Вот-с, извиняюсь…
– Это, по-вашему, лошадка? А я думал – зайчик, без фоста дак… Только и у зайчика намечен известной фостик, а тут фостика нет… Может, это ведьмедь?! Но мы ведьмедев боимся!..
В суд, в город, того же дня поташшил купец Шиша.
Надо идти по мосту. Железнодорожный мост матерушшой через реку. Ползет бедной Шишанушко, а у его дума думу побиват:
«Засудят… Сгноят в остроге… Лучше мне скорополучно скончачче, стукнучче об лед да…»
Разбежался, бедняга, да и ухнул вниз, через перила… А под мостом по льдю была дорога. И некоторой молодой человек на ту пору с отцом проезжал. Шишанко в окурат в сани к им и угодил да на один взмах отца-то до смерти и зашиб…
Несчастной сын сгреб Шиша – да тоже в суд.
Тут кряду отемнело, до городу не близко, приворотили и Шиш, и купец, и парень на постоялой, ночь перележать. Наш бедняга затянулся на полати. Ночью ему не спится, думы тяжелы… Ворочался да с полатей-то и оборвался. А под полатеми зыбка с хозяйским робенком. Робенка Шиш и задавил. Робенковы родители зажили, запели. И они на Шиша в суд. Теперь трое на его ногти грызут. Один за коня, другой за отца, третий за младеня.
Едет Шиш на суд. Грустно ему:
– Прости, прошшай, белой свет! Прошшайте, все мои друзья! Боле не видачче!
Не знат, что и придумать, чем оправдаться или чем пригрозить… На случай взял да и вывернул из шассе булыжник. Завернул в плат и спрятал за пазуху.
У судьи в приказе крык поднялся до потолка. Купец вылез, свое россказыват, в аду бедному Шишу места не дает…
Судья выслушал, зарычал на Шиша:
– Ты что, сопляк?! По какому полному праву хвост у их оторвал?
Шишанко вынул из-за пазухи камень в платке да на ладони и прикинул два-три раза. Судье и пало на ум: «Ух, золота кусок у мужика!.. Это он мне золото сулит…»
И говорит:
– Какой несимпатичный факт!.. Выдернуть у невинной животной фост… Ваше дело право, осподин купец! Пушшай оной Шиш Московской возьмет себе вашую кобылу и держит ее, докуль у ей фост выростет… Секлетарь, поставь печать! Купец и ты, Шиш Московской, получите копии решения.
Подкатился отецкой сын. Судья спрашиват:
– Ты пошто ревишь? На кого просишь?
– Все на их жа, на Шиша-с! Как они, проклятики, папу у меня скоропостыжно задавили.
– Как так?
– У нас, видите ли, папа были утлы, стары, в дело не гожи, дак мы везли их в город на комиссию сдавать. И токмо из-под мосту выехали, а они, дьявола, внезапно сверху пали на папу, папа под има скоропостыжно и скончались!
Судья брови насупил:
– Ты что это, Шиш голай? Родителей у проезжающих давить? Я тебя…
Шишанко опять камень в платке перед судьей и заподкидывал. Судья так понял, что опять золото сулят. И говорит:
– Да! Какой бандитизм! Сегодня папу задавил, завтра маму, послезавтра опять папу… Дак это что будет?! Опосле таких фактов из квартиры вытти страшно… Вот по статьям закона мое решенье: как ты, Шиш Московской, ихного папу кокнул, дак поди чичас под тот самой мост и стань под мостом ракообразно, а вы, молодой человек, так как ваше дело право, подымитесь на мост да и скачите на Шиша с моста, пока не убьете. Секлетарь поставит вам печать… Получите…
Безутешный отец выскочил перед судью:
– Осподин судья, дозвольте всесторонне осветить… Оной злодей унистожил дитятю. Рехал-рехал на полатях, дале грянул с вышины, не знай с какой целью, зыбку – в шшепы и, конечно, дитятю.
Шиш затужил, а платок с камнем судьи кажет. Судья ему мигат – понимаю-де, чувствую… И говорит:
– Этот Шиш придумал истреблять население через наскакивание с возвышенных предметов, как-то: мостов, полатей и т. п. Вот какой новой Жек Патрушитель! Однако Хемида не спит! Потерпевший, у тя жена молода?
– Молода, всем на завидось она!
– Дак вот, ежели один робенок из-за Шиша погиб, дак обязан оной Шиш другого представить, не хуже первого. Отправь свою молодку к Шишу, докуль нового младеня не представят… Секлетарь, ставь печати! Обжалованию не подлежит. Присутствие кончено.
Шишовы истцы стали открыто протестовать матом, но их свицары удалили на воздух. Шиш говорит купцу:
– Согласно судебного постановления дозвольте предъявить лошадку нам в пользование.
– Получи, гадюга, сотню и замолкни навеки!
– Не жалаю замолкать! Жалаю по закону!
– Шишанушко, возьми двести! Лошадка своерошшена.
– Давай четыреста!
Поладили. Шиш взялся за отецкого сына:
– Ну, теперь ты, рева Киселева! Айда под мост! Я на льдю встану короушкой, на четыре кости, значит, а ты падай сверху, меня убивай…
– Братишка, помиримся!
– Желаю согласно вынесенного приговора!
– Голубчик, помиримся! На тебя-то падать с экой вышины – не знай, попадешь, нет. А сам-то зашибусе. Возьми, чем хошь. Мне своя жисть дороже.
– Давай коня с санями, которы из-под папы, дак и не обидно. Я папу в придачу помяну за упокой.
Сладились и с этим. Шиш за третьего взялся:
– Ну, ты сегодня же присылай молодку!
– Как хошь, друг! Возьми отступного! Ведь я бабу тебе на подержанье дам, дак меня кругом осмеют.
– Ты богатой, у тебя двор постоялой, с тебя пятьсот золотыми…
Плачет, да платит. Жена дороже. Только все разошлись, из суда выкатился приказной – и к Шишу:
– Давай скоре!
– Что давай?
– Золото давай скоре, судья домой торопится.
– Како золото, язи рыба?!
– А которо из-за пазухи казал…
– Вы что, сбесились? Откуль у меня быть золоту? Это я камнем судьи грозил, что, мол… так – да так, а нет – намеки излишны. Пониме?
Приказного как ветром унесло. Судье докладыват Шишовы слова… Тот прослезился:
– Слава тебе, осподи, слава тебе! Надоумил ты меня сохраниться от злодея!
Недалеко от Шишова дома деревня была. И была у богатого мужика девка. Из-за куриной слепоты вечерами ничего не видела. Как сумерки, так на печь, а замуж надо. Нарядится, у окна сидит, женихов выглядыват. Шиш сдумал над ней подшутить.
Как-то, уж снежок выпал, девка вышла на крыльцо. Шиш к ней:
– Жаланнушка, здравствуй.
Та закланялась, запохохатывала.
– Красавушка, ты за меня замуж не идешь ли?
– Гы-гы. Иду.
– Я, как стемнеет, приеду за тобой. Ты никому не сказывай смотри.
Вечером девка услыхала – полоз скрипнул, ссыпалась с печки. В сенях навертела на себя одежи – да к Шишу в сани. Никто не видал.
Шиш конька стегнул – и давай крутить вокруг девкиного же дома. Она думает: ух, далеко уехала!
А Шиш подъехал к ее же крыльцу:
– Вылезай, виноградинка, приехали. Заходи в избу.
– Да я не знай, как к вам затти-то. Вечером так себе вижу.
– У нас все как у вас. И крыльцо тако, и сени… Заходи – да на печь, а я коня обряжу.
Невеста с коня, а Шиш дернул вожжами – да домой. А девка на крыльцо, в сени, к печи… На! – все как дома…
Сидит на печи. Рада, ухмыляется. Только думает: «Что же мужня-то родня? По избе ходят, говорят, а со мной не здороваются…»
Домашние на нее тоже поглядывают:
– Что это у нас девка-та сегодня, как именинница?..
А она и спать захотела. Давай зевать во весь рот:
– Хх-ай да бай! Хх-ай да бай! Вы что молчите? Я за вашего-то парня замуж вышла, а вы, дики, ничего и не знаете?!
Отец и рот раскрыл.
– Говорил я тебе, старуха, – купи девке крес, а то привяжется к ней бес!..
По свету гуляючи, забрел Шиш в трактир пообедать, а трактирщица такая вредня была, видит: человек бедно одет – и отказала:
– Ничего нет, не готовлено. Один хлеб да вода.
Шиш и тому рад:
– Ну, хлебца подайте с водичкой.
Сидит Шиш, корочку в воде помакивает да посасывает. А у хозяйки в печи на сковороде гусь был жареный. И одумала толстуха посмеяться над голодным прохожим.
– Ты, – говорит, – молодой человек, везде, чай, бывал, много народу видал, не захаживал ли ты в Печной уезд, в село Сковородкино, не знавал ли господина Гусева-Жареного?
Шиш смекнул, в чем дело, и говорит:
– Вот доем корочку, тотчас вспомню…
В это время кто-то на хорошем коне приворотил к трактиру. Хозяйка выскочила на крыльцо, а Шиш к печке; открыл заслонку, сдернул гуся со сковороды, спрятал его в свою сумку, сунул на сковороду лапоть и ждет…
Хозяйка заходит в избу с проезжающим и снова трунит над Шишом:
– Ну что, рыжий, знавал Гусева-Жареного?
Шиш отвечает:
– Знавал, хозяюшка. Только он теперь не в Печном уезде, село Сковородкино, живет, а в Сумкино-Заплечное переехал.
Вскинул Шиш сумку на плечо и укатил с гусем. Трактирщица говорит гостю:
– Вот дурак мужик! Я ему про гуся загадала, а он ничего-то не понял… Проходите, сударь, за стол. Для благородного господина у меня жаркое найдется.
Полезла в печь, а на сковороде-то… лапоть!
Шиш бутошников-рогатошников миновал, вылез на площадь. Поставлены полаты на семи дворах.
Посовался туда-сюда.
Спросил:
– Тут ума прибавляют?
– Тут.
– Сюда как принимают?
– Экзамен сдай. Эвон-де учителевы избы!
Шиш зашел, котора ближе. Подал учителю рубль. Учитель – очки на носу, перо за ухом, тетради в руках – вопросил строго:
– Чего ради семо прииде?
– Учиться в грамоту.
– Вечеру сущу упразднюся, тогда сотворю тебе испытание.
После ужина учитель с Шишом забрались на полати.
Учитель говорит:
– Любезное чадо! Грабисся ты за науку. А в силах побои терпеть? Без плюхи ученье не довлеет. Имам тя вопрошати, елика во ответах соврешь, дран будешь много. Обаче ответствуй, что сие: лапкой моется, на полу сидяще?
– Кошка!
Учитель р-раз Шиша по шее…
– Кошка – мужицким просторечием. Аллегорически глаголем – чистота… Рцы паки, что будет сей свет в пещи?
– Огонь!
Р-раз Шишу по уху:
– Огонь глаголется низким штилем. Аллегорически же – светлота. А како наречеши место, на нем же возлегохом?
Шиш жалобно:
– Пола-ати.
Р-раз Шиша по шее:
– Оле, грубословия твоего! Не полати, но высота!.. На конце восписуй вещь в сосуде, ушат именуемом.
– Вода.
Р-раз Шиша по уху:
– Не вода, но – благодать!
Я тут не был, не считал, сколько оплеух Шиш за ночь насобирал. Утром учитель на улку вышел, Шиш кошку поймал, ей на хвост бумаги навязал, бумагу зажег. Кошка на полати вспорхнула, на полатях окутка зашаяла, дыму до потолка… Шиш на крыльцо выскочил. Хозяин гряду поливат. Шиш и заревел не по-хорошему:
– Учителю премудре! Твоя-то чистота схватила светлоту, занесла на высоту, неси благодать, а то ничего не видать!!!
Сам ходу задал, – горите вы с экой наукой!
Какой-то день прибежали к Шишу из волости:
– Ступай скоре. Негрянин ли, галанец приехал, тебе велено при их состоять.
Оказалось, аглицкой мистер, знающий по-русски, путешествует по уезду, записывает народные обычаи и Шишу надо его сопровождать. На Шише у всех клином свет сошелся. Отправились по деревням. Мистер открыл тетрадку:
– Говорите теперь однажды!
Шиш крякнул:
– Наш первой обычай: ежели двоим по дороге и коняшку нанять жадничают, дак все одно пеши не идут, а везут друг друга попеременно.
Мистер говорит:
– Ол раит! Во-первых, будете лошадка вы. Я буду смотреть на часы, скажу «стоп».
– У нас не по часам, у нас по песням. Вот сядете вы на меня и запоете. Доколь поете, я вас везу. Кончили – я на вас еду, свое играю.
Стал Шишанушко на карачки. Забрался на него мистер верхом, заверещал на своем языке песню: «Длинен путь до Типперери…» Едут. Как бедной Шиш не сломался. Седок-от поперек шире. Долго рявкал. Шиш из-под него мокрехонек вывернулся. Теперь он порхнул мистеру на загривок.
– Эй, вали, кургузка, недалеко до Курска, семь верст проехали, семьсот осталось!
Заперебирал мистер руками-ногами, а Шиш запел:
Тили-тили,
Тили-тили,
Тили-тили!..
Мистер и полчаса гребет, а Шишанко все нежным голосом:
Тили-тили,
Тили-тили,
Тили-тили!..
У мистера три пота сошло. Кряхтит, пыхтит… На конце прохрипел:
– Вы будете иметь окончание однажды?
Шиш в ответ:
– Да ведь песни-то наши… протяжны, проголосны, задушевны!
Тили-тили,
Тили-тили,
Тили-тили!..
Бедный мистер потопал еще четверть часика да и повалился, – где рука, где нога:
– Ваши тили-тили меня с ног свалили!
Всех Шишовых дел в неделю не пересказать. Про Шиша говорить – голова заболит. Про Шиша уж и собаки лают. Здесь я от большого мало возьму, от многа немножко расскажу.
Ходил Шиш, сапоги топтал, версты мерял. Надоело по деревням шляться. В город справил. Чья слава лежит, а Шишова вперед бежит. Где Шиш, там народу табун.
Это увидал из окна амператор:
– Что за народ скопивши?
– Это парнишка один публику утешает-с.
– Не Шиш ли?
– Так точно-с.
– Позвать сюда!
Шиша привели. Царь сразу над ним начал сгогатывать:
– Ты в татку ле в матку, в кого ты экой? Сшути-ко мне шутку позазвонисте. Выкради из-под меня да из-под моей супруги перину. Выполнишь задание – произведу тебя в жандармерию и твой патрет – во все газеты. Сплошаешь – в Сибири сгною!..
Только Шиш за двери – амператор своим караульщикам ружья выдал:
– Мы с Шишом Московским об заклад побились. Перину из-под меня придет воровать. Спальну нашу караульте день и ночь!
Шиш выбрал ночку потемнее и в щель дворцового забора стал охрану высматривать. Видит – дремлют под спальными окнами, вора ждут. Людей бы на ум, а Шиша на дело.
Он дунул на огороды, выдернул с гряды пугало, опять к тому же забору примостился, вызнял пугало кверху – и ну натряхивать…
Это караульщики и увидали:
– Ребята, не робей! Вор пришел! Через тын лезет…
– Рота-а, пли!!!
Шиш того сразу пугало удернул. Будто убили. А стража радехонька:
– Ну, ребята, мертвое тело оттуль завтра уберем. А теперь на боковую. Боле некого ждать.
Только они восвояси утянулись, Шиш через забор да в поварню. Стряпки спят. На печи в горшке тесто подымается, пузырится. Шиш с этой опарой да в царскую спальню окном.
Царь с царицей на перине почивают. Царь нетолста храпит, царица тихонько носом выводит…
Шиш на перстышках подкрался да как ухнет им опару ту под бок…
Сам с подоконника – ив кусты…
Вот царица прохватилась:
– О-о, тошнехонько! Вставай-ка ты, омморок!.. Эво как обделался! Меня-то всю умарал!
– Нет, гангрена! Это ты настряпала!..
До третьих петухов содомили. Тут царица одумалась:
– Давай лучше выкинем перину-то на подоконник, на ветерок, а сами соснем еще часиков восемь.
Только они музыку свою завели – захрапели, Шиш перину в охапку да со двора. На извозчика да домой.
Навстречу бабы-молочницы:
– Шиш, куда полетел?
– У нас дома не здорово! Таракан с печи свалился.
Царица рано вскочила:
– Что я, одичала – сплю! Министры перину увидят – по всей империи ославят… На!!! Где перина-та???
Фрелины Машки, Дашки забегали, заискали.
Царя разбудили… Его и горе берет и смех долит.
– Полковник! Запрягай коня, скачи к Шишу. Он меня в дураках оставил… Ох, в землю бы я лег да укрылся!..
Полковник на добра коня – да пулей в деревню, к Шишову дому. Не поспел наш Шишанушко увернуться. Начальство на дворе.
Людей бы на ум, а Шиша на дело. Он в клеть, достал бабкин наряд: сарафан, жемчужную повязку, ленты – накрутился и – в горницы. Полковник там. Видит – девица заходит, личиком бела и с очей весела.
Шпорами брякнул:
– Вы… видно, сестра?
– Да… сестра Шишова…
Забыл полковник, зачем приехал. Около этой сестры похаживает, похохатывает. Шиш думает – пронеси бог тучу мороком…
– Вы бы по лесу его, прохвоста, искали…
– Хе-хе-хе! Мне и тут приятно-с!
Шиш бутылку откупорил: «Напьется пьян – убежу…»
А тот охмелел, хуже стал припадать:
– Желаю с вами немедленно законным браком.
О, куда от этого жениха деться?..
На шаг не отпускает. Сиди рядом. Стемнело.
Полковник велит постель стлать. Попал гвоздь под молот. Над другими Шиш шуточки шутит, а над собой их не любит.
Только у Шиша уверток – что в лесу поверток. Он давай руками сарафан ухлапывать.
– О, живот схватило! О, беда! На минутку выпустите меня…
– Убежишь?
– Что вы, у нас рядом! Вы даже для верности подол в дверях зажмите.
Полковник выпустил эту невесту в сени, а подолешко в притвор. Сидит ждет.
Шиш того разу из сарафана вывернулся да вместо себя козу и впряг в эти наряды. Сам шубенку на плечи, шапку на голову, котомку в руки – да и… поминай как звали.
Полковник слышит – коза у дверей топчется, думает – невеста:
– Милочка, ты что долго?
– Б-э-э-э!
…Двери размахнул, а в избе коза в сарафане. Полковник через нее кубарем – да на коня, да в город. Потом год на теплых водах от родимца лечился.
Смолоду-то не все же гладко было у Шиша. Ну, беды мучат, да уму учат. Годов-то двадцати пришвартовался он к некоторой мужней жене. Муж из дома – Шишанко в дом. Собрался этот муж в лес по бревна.
– Жена, с собой чего перекусить нет ли?
Она сунула корок сухих.
– Жена, неужели хлеба нету помягче, с маслицем бы?
– Ладно и так. Не маслена неделя.
Муж уехал, а к ней Шишанушко в гости. Засуетилась, блинов напекла гору, масла налила море, щей сварила.
А у мужа колесо по дороге лопнуло, он сторопился домой. Жена видит в окно:
– О, беда! Мой-то хрен без беды не ездит. Ягодка, ты залезь в кадку, она пустая… Он скоро колесо сменит…
Муж заходит:
– Колесо сменить вернулся… Ишь как у тебя дородно пахнет. Дай закусить.
Жена плеснула щей.
– Я блинка любил бы…
– Блины к празднику.
Взяла миску с блинами и выпружила в кадку спрятанному Шишу.
– Жена! Ты что?!
– Сегодня праздник Окатка – валят блины в кадку…
Муж и догадался. Схватил чугун со щами:
– Жена, ты блины, а я для праздника, для Окатка, щей не пожалею.
И чохнул горячими щами в кадку. Шишанко выгалил оттуда на сажень кверху – да из избы…
Тащился Шиш пустынной дорогой. Устал… И вот обгоняет его в тарантасе незнакомый мужичок. Шишу охота на лошадке подъехать, он и крикнул:
– Здорово, Какойто Какойтович!
Мужичок не расчухал в точности, как его назвали, но только лестно ему, что и по отчеству взвеличили. Тотчас попридержал конька и поздоровался.
– Что, – спрашивает Шиш, – аль не признали?
Мужичок говорит:
– Лицо будто знакомое, а не могу вспомнить…
– Да мы тот год на даче в вашей деревне жили.
– А-а-а!.. Извиняюсь!.. Очень приятно-с!
– Как супруга ваша? – продолжает Шиш.
– Мерси. С коровами все… Да вы присядьте ко мне, молодой человек. Подвезу вас.
Шишу то и надо. Забрался в тарантас, давай болтать. Обо всем переговорил, а молча сидеть неохота. И говорит Шиш спутнику:
– Хозяин, давай рифмы говорить!
– Это что значит рихмы?
– Да так, чтобы было складно.
– Ну, давай.
– Вот, например, как звали твоего деда?
– Кузьма.
– Я твоего Кузьму за бороду возьму!..
– Ну, уж это довольно напрасно! Моего дедушку каждый знал да уважал. Не приходится его за бороду брать.
– Чудак, ведь это для рифмы. Ну, а как твоего дядю звали?
– Наш дядюшка тоже были почтенные, звали Иван.
– Твой Иван был большой болван!
Шишов возница рассвирепел:
– Я тебя везу на своем коне, а ты ругаться!.. Тебя как зовут?
– Леонтий.
– А Леонтий, так иди пешком!
– Дяденька, это не рифма…
– Хоть не рихма, да слезай с коня!
Дядька с бранью уехал, а Шишу остаток пути пришлось пройти пешком. И смешно, и досадно.
Давным-давно в подворотне богатого дома жил мальчик сирота. Опираясь на стену в своем рубище, он просил подаяния у прохожих.
Весна только-только вступила в свои права, а горные склоны утопали в зелени, и приветливое весеннее солнце лучилось на всю округу.
Прохожие шли своей дорогой, избегая взгляда маленького нищего.
Стоило солнцу поравняться с вершиной изумрудной горы, как поднялся промозглый ветер и бездомного паренька зазнобило.
– О, красно солнышко, лишь ты по доброте своей согревало меня, почему ты покидаешь меня в морозном сумраке? Нет у меня ни матери, ни крыши над головой. У чьего порога мне злосчастному искать приюта? Вернись за мной, солнышко!..
Мальчишка тихо проливал слезы – влажными потоками струились они по его впалым щекам. А люди шли каждый к своему дому, не замечая его. Не желая замечать…
И солнце спряталось за гору и скрылось из виду.
– Солнышко, мне известно, ты ушло к своей матери. Вы живете за горою. Я найду тебя. Ей-богу, найду…
И бедняга, дрожа как осиновый листок, цепляясь за стены роскошных домов, продвигался вперед, оставляя город далеко позади.
Вот он у подножия горы. Нелегко дается ему каменистый подъем. Стирая ноги о камни, преодолевая нечеловеческую боль, мальчик без остановок взбирался вверх.
Непроглядная тьма окутала изумрудную гору. Звезды с вершины так и манили. А промозглый ветер все не утихал, отдаваясь в каньонах и утесах.
Сновали-охотились на черных крыльях филины.
Мальчик, забыв страх, поднимался выше и выше.
Внезапно он услышал собачий лай, а через миг ночь разорвал человеческий голос:
– Кто ты и куда направляешься?
– Я мальчик. Иду к солнцу. Подскажи, добрый человек, где его дом, близко ли, далеко ли?
Незнакомец приблизился с лучиной в руках и ласково обратился к ребенку:
– Ты, должно быть, устал? И когда ел в последний раз? Следуй за мной. И как только отец с матерью отпустили тебя одного среди ночи да среди стужи?
– Нет у меня отца-матери. Сирота я…
– Следуй, сыночек, за мной, – снова позвал участливый незнакомец и за руку повел малыша в свой дом.
Дом его оказался небольшой избушкой, семья – жена и трое детишек – расселись вокруг стола.
В просторном дворе за избушкой блеяли овцы. Незнакомец был пастухом.
– Дорогие дети, я вам братишку привел. Теперь вас не трое, а четверо. Где на троих хлеба хватает, и для четвертого кусок найдется. Обнимайте родного, что стоите?
Жена пастуха первая заключила сироту в свои объятия, ласково, по-матерински, расцеловала. Дети за ней следом – по-братски обняли.
Мальчик не смог сдержать слезы счастья.
За стол все садились, светясь от радости. Мать приготовила постель и всех уложила рядом с собой. Изможденный мальчик вскоре забылся сном.
Во сне он улыбался. Ему грезилось, что он нашел, в конце концов, солнце, разнеженный и обогретый, он спит теперь в его теплых объятиях.
Сердце мальчика пело от радости – ну как тут не проснуться?
Стряхнув с себя остатки сна, он увидел, что никакое не солнце он обнимает, а своих братьев и мать.
Тут только он осознал, что солнце живет здесь, в этом доме. И сам он, вчерашний сирота, в объятьях солнца.
Жил да был один холостяк, и звали его Стан. Ни отца, ни матери – рос среди чужих людей. Бездомным мальчиком шел он от порога к порогу, пока не остановился в одной процветавшей деревне. Не у одного господина побывал он в услужении, прежде чем перевалило Стану за тридцать, овечки у него завелись, телега о двух волах, корова дойная, избушку себе справил – сам себе хозяином сделался. Да что за хозяин без хозяйки? Только вот до того он был от соседей про женушек наслышан, что только и знал, что женитьбу откладывал: с осени на зиму, с зимы на весну, с весны на лето, а воз с женитьбой и ныне там. В народе говорят: в двадцать лет по своей воле женишься, до двадцати пяти – другие помогут, до тридцати – бабе кланяйся, а после тридцати сам черт тебе не сват.
Был Стан характера тихого, слова лишнего не проронит, а как скажет – и не возразишь.
Любой бы такому зятю был рад – да разве уговоришь? Друзья ли, бабы ли – все оставили его в покое.
Однажды поднялся он до третьих петухов, мамалыгу с брынзой в сумку упаковал, запряг волов и с божией помощью за дровами отправился. Светало, когда леса достиг. Дров нарубил, в повозку сложил, пустил волов пастись и сам подкрепиться расположился. Уж и сыт, а мамалыга все есть – не домой же нести. На пне оставил со словами: «Найдет угощение какое-нибудь существо – поблагодарит». С божией помощью запряг волов и домой пошел – солнце как раз в зените было. Едва лес остался позади, накрыла Стана гроза: дождь, град со снегом пополам – темно, хоть глаз выколи. Страшный суд какой-то! В такое ненастье и праведнику до греха недалеко – любимая чертями погода.
Скараоский, самый важный над чертями начальник, возьми да и разошли своих слуг рогатых по воде и по суше с миссией: людей перессорить и вреда побольше причинить.
Метнулись черти на все четыре стороны. Кому, может, и посчастливилось из них, да только не тому, кто выбрал лес для своих гнусностей.
Сбившись с копыт в поисках подходящего случая, в сумерках разглядел черт след от Становой повозки и на цыпочках прокрался к опушке, где дровосек повозку грузил. Самого парня к тому времени и близко не было.
Осерчал черт, зубами защелкал: без ничего к Скараоскому не сунешься, а от затяжной пешей прогулки у рогатого головокружение началось, с голодухи живот к спине прирос.
А кусок мамалыги лежит себе на пне – на корм нечисти. Слопал черт мамалыгу и к начальнику поплелся. В аду его ждал допрос с пристрастием:
– Что, приятель, преуспел? Много душ загубил?
– Какое там, – повинился черт, трепеща от страха. – До того природа разбушевалась, что на весь лес – один посетитель из рода человеческого. Только ушел он от меня, опоздал я с погоней. Хорошо хоть, попался мне кусок мамалыги на пне. Утолил голод, а то ведь и отощать можно. Вот и все, ваше темнейшество.
– Ах ты ж мелкий бес! Мамалыгу стрескал, а про слова человека, на пне ее оставившего, тебе и невдомек?
– Какие такие слова, господин?
– Да ты простых смертных мысли читать должен, не то что разговоры подслушивать! Меня и в лесу-то не было, а уж знаю, что было сказано: «Найдет угощение какое-нибудь существо – поблагодарит». Поблагодарил, как проглотил?
– Молча съел, господин.
– Вона как! Ни в чем на вас, чертей, положиться нельзя! Но я тебя проучу: иди-ка ты на службу к своему кормильцу и три года на него батрачь. Звонкой монеты не проси, ударьте по рукам, что ты, как выйдет срок, заберешь из его дома, что тебе понравится. И чтобы Адовой Пятке от твоего заработка польза была – вон подпорки все истлели… Сообразишь ли, что надобно? Ступай немедля.
– Будет исполнено, господин!
Перед Становым домом превратился черт в восьмилетнего мальчишку, ко двору благодетеля затрусил. Стан мешал себе мамалыгу, когда раздался собачий лай. Глядь – парнишка от псов на забор залез. Кинулся Стан к забору отозвать собак:
– Молчать, Хормуз! Стоп, Балан! Домой, Зурзан! А ты откуда, малыш? Что псов мне дразнишь?
– Какое дразнишь, дядя? Я убогий сиротка, службы себе ищу.
– Службы? Да ты с гусями не справишься… Сколько лет?
– Тринадцать.
– Тринадцать ли. Семь, много – восемь. Как зовут-то?
– Кирике кличут.
– Часом, не святой Кирике Хромой, кто чертей за волосы тянет, крестил тебя?
– Знать такого не знаю, но меня Кирике кличут.
– Да ты и впрямь воробушек, Кирике, чик-чирик.
– Какой есть, не из каждого великана выйдет толк. По труду о человеке судят, не по росту-имени.
– Ай да Кирике – умен, как черт! Отгадай-ка лучше загадку: широкое – на широкое, сверху – горячее, сверху – раскоряченное, сверху – кривизна, сверху – белизна, сверху – желтизна, сверху – богатырь?
Кирике только улыбнулся:
– А отгадаю – дашь мне кусочек?
– Сначала отгадай, там видно будет.
– На дворе печь, огонь, таганец, чугунок, вода в чугунке, мука и пестик – мамалыгу мешать.
– Умница, Кирике! Сколько за год службы берешь?
– На год не согласен.
– А на какой срок?
– На три года, господ на переправе не меняют.
– Прекрасно, Кирике. И сколько за три года тебе положить?
– А нисколько. Пищу да платье. А как отслужу, отдашь мне из своего хозяйства, на что глаз положу.
– Странная сделка. А коли душа моя тебе приглянется? Черт тебя знает.
– Успокойся, многого у тебя не попрошу, заберу ненужное.
– Да уж ладно, только уговор: не ругаться, а то, чего доброго, доведешь меня до греха.
– Это само собой.
– Вот и по рукам. Подкрепись-ка картошкой в чесночном соусе и мамалыгой и за работу.
Устроился мальчишка поудобней, утолил голод и служить начал. И так работа у него спорилась, что с ним и Стан тоску свою забыл, везунчиком стал, разбогател, Кирике как сына полюбил.
Минуло два года, и Кирике спросил:
– Господин, почему ты до сих пор холост? Так и состариться недолго без наследника. Кому нажитое передашь?
– Господь с тобой, Кирике! Не женился в свое время – теперь только чертям на смех. Я больше старик теперь, чем парень…
– Нечего, господин, стариком притворяться. Самое время тебе жениться: есть чем жену и детей кормить. Добра-то сколько.
– Чудак ты, Кирике, человек. Ни посевов у меня нет, ни… Жену нелегко содержать…
– Коли так, то уж я пособлю, чтобы пшеницы тебе хватило на калачи не то что к свадьбе – к крестинам. Видишь вон то поле спелой пшеницы?
– Да.
– Отправляйся к помещику с тем, что возьмешься сжать и собрать ему в скирды весь его хлеб. Денег за это не проси, а требуй столько пшеницы, вместе с соломой, сколько под силу утащить тебе вдвоем с работником.
– Ты, Кирике, никак из ума выжил? Для такой службы сотни, а то и тысячи рук надобны. Игра не стоит двух вязанок пшеницы.
– Господин, доверься мне и иди к помещику.
На десятый раз только собрался он с духом, к помещику побрел:
– Нужны жнецы?
– А то как же. Пшеница вызрела.
– Я бы сжал ее.
– В одиночку?
– Не все ли равно? Мое дело – сжать и в скирды ее сложить.
– Что будут стоить твои усилия?
– Вот сложу я хлеб в скирды, а ты мне столько пшеницы отдашь, вместе с соломой, сколько утащу на спине со своим парнишкой.
Рассудил помещик, что говорит с безумцем, и молвил:
– Завтра на заре принимайся за работу. По плодам трудов и о цене договоримся.
Воротился Стан домой, а Кирике тут как тут:
– Господин, о чем с помещиком договорился?
– Как ты сказал, так и ему передал, только вот полю его конца-краю не видать. Заварили мы, братец, кашу…
– Успокойся, господин, доверься мне… – говорит Кирике.
К полю добрались в сумерках, Кирике уложил Стана спать: утро вечера мудренее, а сам моментально всю нечисть собрал и работать заставил. Кто жнет, кто снопы вяжет, кто убирает и скирдует…
Пробудился Стан на заре: все исполнено. А слуги помещика уж господину донесли, тот сам и пожаловал!
– Принимай работу, – сказал Стан. – Расчитаться надобно.
А Кирике тем временем веревкой, которой был подпоясан, перевязал большую скирду, на спину взвалил – и был таков. Барин дар речи потерял: как бы не унес на себе Стан остальные скирды. Ласкою взять задумал:
– Прими, мил человек, деньги вместо остального хлеба и ступай своей дорогой! Кабы знать, что сам черт к этому руку приложил.
– Врешь, барин, с божией помощью справились!
– Без нечистого не обошлось, так что бери мешочек с деньгами и иди душу спасать.
Ликующий Стан взял плату и поспешил к Кирике, а дома уже все обмолочено, свеяно, смолото.
Назавтра говорит Кирике:
– Теперь-то, господин, противиться не станешь? Я уйду, один останешься. Как хозяйство такое большое поднимать? Жениться нужно.
– Ах, Кирике, и женился бы, да где найти девушку хорошую, не бабу сварливую?
– Не тревожься, господин! Я тебе такую хозяйку найду, каких еще поискать. Женское сердце для меня – открытая книга. Вслепую могу невесту тебе выбрать. Соседи, вон, шепчутся, что тебе жену не на что содержать.
– Как же ты мне жену выберешь?
– А пойдем с тобой в воскресенье в село на танцы. Пляши с той, что мила тебе будет, а я со стороны посмотрю, что за птица.
Так они и сделали. Танцы в самом разгаре. Кирике с другими мальчишками на заборе сидит, кривляется. А Стан от одной девицы глаз оторвать не в силах, кружит возле нее, нет-нет да и за руку схватит – влюбился без ума. Только музыка смолкла, говорит Стану чертенок:
– Господин вон как раскраснелся! Девица полюбилась, не иначе?
– Хороша чертовка, будто приворожила.
– Лучше подальше от нее держись. Ты погляди на нее: и не улыбнется. Три ребра чертовых у нее. Хоть и у самой прекрасной женщины тоже одно такое ребро есть – нам бы ее найти.
Послушался Стан, и вернулись они домой вдовоем, а мысли у господина все о следующем воскресенье.
В воскресенье идут они на танцы в другое село. Кирике с мальчишками озорничает, Стан с девицей пляшет, беседу ведет, а та ему совсем голову вскружила. Кирике его за руку поймал:
– Господин, ты, видно, и эту взять готов. Понравилась?
– А хоть бы и так!
– Так она нам не подходит. В тихом омуте… у нее два ребра чертовых имеются.
Снова уступил Стан, да с того дня заболел парень женитьбой! Иссохся весь, пока воскресенья дождался.
Вот пришли они в третье село на танцы. Повел Стан девушку, а у нее, чертовки, искорки в глазах. С первого взгляда таких девиц примечал, а что на сердце у них, одному Кирике ведомо. А он тут как тут. В унисон забились сердца Стана и незнакомки. Сатана их свел, не иначе. Отозвал Кирике Стана в сторону:
– Она ли, господин?
– Она, Кирике! Или на ней, или ни на ком не женюсь.
– Так она нам в самый раз, – отвечает Кирике. – Хоть и есть и у нее одно чертово ребро, ну да вытащим.
Радости Стана не было границ! От девицы не отходит, да и она на знаки внимания охотно отвечает. Не выдержал Стан, направился у родителей руки ее просить. А те и счастливы сосватать за хорошего человека, свадьбу не откладывали, забрал жених невесту с приданым домой, зажили душа в душу. И говорит Стан своему работнику:
– Не жена у меня, Кирике, а золото!
– Золото, спору нет. Да не забывай, что и у нее одно ребро чертово есть: если хочешь с ней остаток жизни провести, вынуть надобно.
Не прошло и года, родила жена Стану сына. А три месяца спустя приехал в гости тесть, зовет супругов на свадьбу женина брата. Кирике, чертенок, все смекнул и говорит:
– Господин, жена с ребенком пусть едут, а сам пообещай следом отправиться, если время выкроишь, а нет – так и нет.
Тесть, жена и ребенок втроем уехали.
На другой день свадьбы говорит Кирике Стану:
– Господин, пришло время чертово ребро у жены твоей достать. Прыгай на коня и скачи на свадьбу. Рядом с домом тестя твоего стоит избушка, где старая сводня живет, мастерица в своем деле – ведьме под стать. Поезжай к ней, выдай себя за путника. Золотые горы ей обещай, а уговори ее жену твою в избушку заманить. Узнаешь цену женской верности.
– Так ведь узнают меня там, Кирике?
– Хоть на свадьбу прямиком ступай, уж я все сделал, чтобы никто тебя не узнал.
Едва добрался муж до того села, пришел к старой сводне и вытребовал привести ему в тот же вечер жену некого Стана из соседнего села.
Бабка аж рот открыла:
– Любезный, как я могу такое провернуть? Муж у нее добрый, собой хорош, зажиточный, и сама она не из таких…
Подал Стан ей мешочек со звонкой монетой и пообещал:
– Стоит тебе, бабушка, сослужить мне службу, благодарность щедра и молчалива будет.
– Под монастырь подводишь, любезный! Знаю, что сердечная мука с людьми сотворить может… Уж и не знаю, на какой козе к этой женщине подъехать… Возьмусь, но за результат не ручаюсь.
Бросила она свою избу на гостя, сама же на свадьбу отправилась – благо недалеко. Подзывает сводня Станову жену и давай ей вполголоса с три короба обещать – у той аж голова кругом пошла.
– Бабушка, – спрашивает, – как бы нам все устроить?
– Дело нехитрое, красавица. Ступай в спальню своего дитяти, разбуди – оно и захнычет, а ущипнешь – и вовсе на крик изойдет. Батюшка твой суровый, тотчас прикажет бабке показать, то есть мне. Хватай люльку с мальцом – и ко мне в избу. А потом…
Так женщина и поступила: прямиком к Стану в избу пошла с ребенком на руках. Еще и дверь за ней не закрылась, как давай она болтать-хохотать. Муж так и остался неузнанным.
Наливал Стан жене со старухою зелено вино, вынимал наследника из люльки и домой спешил – так Кирике его выучил!
Кирике – навстречу:
– Что, господин, я ли лукавил?
– Нет, Кирике. Эта женщина на все способна. Ить с ней. Вот ей Бог, а вон порог, окаянной!
– Не спеши, господин! Жена у тебя редкая. Давай-ка дождемся ее и от чертова ребра освободим. Посмотришь, какая женщина выйдет.
Едва хмель прошел, как опомнились Станова жена и старая сводня: ни гостя, ни ребенка в избе. Они реветь, руки заламывать – да разве слезами горю поможешь? А младенца и след простыл.
– Ой, беда, – воет баба. – Хоть у черта теперь, как быть, спрашивай!
Чертовка ее и надоумила.
– А сверни-ка пеленки, уложи в люльку, избу подожжем, а как загорится, заголосим «Пожар!» Пока со свадьбы народ сбежится, изба обвалится. По обгорелой колыбели о судьбе младенца судить будут.
– Твоя правда, бабушка.
– Правда и в том, что мне на старости лет бездомной сделаться предстоит.
– Даже и не думай. В моем доме приют найдешь. Муж мой – сама доброта, на правах матери погорелицу поселим.
Подожгли избу и давай причитать:
– Ох, несчастье! Дитятко наше в пламени погибло!
Видя, как они убиваются, сбежавший народ загудел словами утешения. А назавтра убитый горем дед отослал дочь свою и старуху с одним из работников к мужу. Уже в телеге говорит молодая старой:
– Бабушка, спрячься в этот мешок, пока чертов батрак наш не рассчитается – сегодня срок службы его выходит.
По приезде домой телегу бросили во дворе, а Станова жена кинулась оглашать родные стены плачем, мужу о случившемся рассказывать. А дома ни Стана, ни Кирике. Дотащила она тогда с помощью отцова работника мешок до кухни, схоронила за печной трубой и обратно к батюшкиному дому помощника отпустила. Едва он скрылся из виду, появился Стан.
Поведала она ему о несчастье, как сводня научила. А Стан отвечает:
– Не плачь, жена, будут у нас еще детки. Не вини себя. Господь располагает.
На пороге показался Кирике. Хозяйка – ну к нему со своим горем. А Кирике и говорит:
– Не верь ей, господин! Держи крепче, вынем из нее то ребро!
Схватил ее Стан за косы, на пол повалил, а Кирике принялся левые ребра пересчитывать: раз, два, три! Четвертое вытащил со словами:
– Теперь, господин, жена у тебя – чистое сокровище, – сказал и бросился в соседнюю избу, чтобы вернуться с младенцем на руках.
Мать так и обмерла. А Кирике прощаться надумал:
– Ровно три года у тебя отслужил, господин. И теперь мне пора. Если спросит кто, скажи, что работал на тебя нечистый целых три года за кусок мамалыги, что ты оставил некогда на пне в лесу, и за худую подпорку для Адовой Пятки.
Выволок Кирике из-за трубы мешок со старухой и скрылся.
И пока Стан сожалел о потерянном верном слуге и благодетеле, Кирике жил не тужил себе в аду у Скараоского в почете, а старая сводня кряхтела под Адовой Пяткой.
Так избавился Стан и от нечистого, и от старухи.
С женой и ребенком у них лад. С тех пор, если кто когда-никогда принимается ему побасенки травить, он только головой качает: хватит, дескать, ваньку валять, не тому небылицы сказываете, ибо я Стан Бывалый.
Жили-были дед и баба: деду сто лет стукнуло, бабе – девяносто, а детей все не было, да и добра ничего не нажили: изба прохудившаяся, сами в обносках. А с недавних пор и вовсе тоска их не покидала. Никто к ним в гости не заглядывал, словно старики – прокаженные.
Как-то баба деду и говорит:
– Завтра на заре иди, куда ноги понесут. И первого встречного, будь то человек ли, зверь ли, клади в суму и неси домой. Воспитаем его как своего ребенка.
Дед, тоже мечтавший о детях, так и сделал… Шел он оврагами, пока не приметил широкую лужу, а в ней – свинью с двенадцатью поросятами. Завидев деда, свинья пустилась наутек – поросята за ней, кроме одного. Этот, самый паршивый, в грязи увяз.
Поймал его дед, сунул грязнулю в суму – и домой:
– Гляди, баба, какое чадо я тебе принес! Вон какой сынишка чернобровый, ясноглазый, на тебя смахивает! Ты бы обмыла его, как с младенцами поступают, а то запылился немного кровинушка…
Уж она его и мыла, и щетинку расчесывала, за пару дней совсем выходила. На очистках да отрубях рос поросенок как на дрожжах – бабе на радость.
Собрался как-то дед в город за покупками. Вернулся, а баба давай его расспрашивать:
– О чем, старик, в городе толкуют?
– Хочет царь дочь свою замуж выдать, по всему миру велел объявить: кто от своего дома до царского дворца золотой мост перебросит, драгоценными каменьями вымостит, по обе стороны деревьями посадит с диковинными птицами, того зятем сделает и наследником половины царства. А кто возьмется, да не справится, – тому голову с плеч. Многих царевичей уже казнил. Весь народ их оплакивает!
– Одно хорошо, дед, что наш сынок говорить не обучен и до царских невест ему дела нет.
Так они беседовали, пока их не прервал голосок из-за печки:
– Батюшка, матушка, я мост перекину…
Баба на радостях утратила дар речи. Дед стал от нечистой силы креститься. А поросенок не отстает:
– Не бойся, батюшка, это я… Иди к царю с тем, что я ему мост построю.
Расчесал старик бороду, на посох свой оперся и направился во дворец.
Спрашивает царь деда:
– По какому делу, старик, пожаловал?
– Ваше Величество! Сын мой прознал, что царевна на выданье, вот и послал меня перед ваши светлы очи – сказать, что он берется золотой мост построить.
– Коли сможет, отдам за него дочь и полцарства в придачу. Коли нет, и более знатных казнили. Веди ко мне сына, если не раздумал.
Отвесил старик царю земной поклон и поплелся за сыном.
Поросенок, узнав о царском приглашении, весело потрусил за дедом. Скачет, хрюкает, землю роет, как обычная свинья.
Велит царь этих двух сватов впускать. Старик при входе кланяется, в дверях мнется.
А поросенок по коврам забегал, захрюкал, дворец по периметру обнюхал.
Не на шутку разгневался царь:
– Да ты, старик, окончательно из ума выжил? Кто тебя надоумил свинарник в царских покоях устраивать?
– Не вели казнить, государь, вели слово молвить! Этот поросенок и есть сынок мой.
– Так это он мне мост соорудит?
– На то уповаем, ваше величество.
– Забирай своего кабана и марш отсюда! А если до завтрашнего утра не будет моста, не будет у тебя головы.
Дома рассказал старик старухе обо всем, заспорили муж с женой, только к утру их сон сморил. Поросенок тогда окошко копытцем выбил, дунул – и будто два огненных клуба потянулись от их избенки до белокаменных царских палат. Чудо-мост со всем, что при нем полагалось, возник словно из воздуха. Избенка дедова стала дворцом, да роскошнее царского. Проснулись старик со старухой – а они разодеты в пурпур, все золото мира – в их сокровищнице. А поросенок знай себе резвится, на персидских коврах валяется.
Все царство облетела молва про великое чудо. На царском совете постановили царевну за старикова сына выдать, правда, свадьбу не играли – что за венчание с поросенком?
Но царская дочь со своей судьбой смирилась и давай хозяйничать в новом дворце.
Днем поросенок по-прежнему по дворцу скакал, а ночью свиную кожу с себя снимал, превращаясь в красавца царевича. Вроде и привыкла к нему молодая, а через пару недель навестила родителей и выложила перед ними все как на духу. Мать возьми да и научи ее:
– Как твой муж заснет, брось его свиную кожу в огонь, так ты от нее и избавишься!
Едва вернулась она домой, приказала камин затопить. Затрещала в пламени щетина, свернулась брошенная в огонь свиная шкура. Запах распространился на весь дом, и проснувшийся молодой в ужасе вскочил. Кинулся к камину, заплакал:
– Глупая женщина! Что ты натворила?! Если кто научил тебя, оказал медвежью услугу; если в твоей голове такой план зародился, мало в ней толку!
Внезапно железный обруч стянул стан царицы, а муж все говорил:
– Лишь когда я дотронусь до твоего стана правой рукой, спадет этот обруч и ты сможешь родить младенца, ибо по глупости своей навредила ты и бедным родителям моим, и мне, и себе. Если я когда-нибудь понадоблюсь, знай, что имя мое Фэт-Фрумос, а найти меня можно в Ладан-монастыре.
С этими словами Фэт-Фрумос скрылся из глаз, а вместе с ним и чудо-мост, и дворец, в котором старики с невесткой среди всего золота мира жили. Старики поплакали и невестку на все четыре стороны отпустили, ведь теперь им ее не прокормить.
И пустилась она по белу свету бродить, мужа своего искать. Долго-долго она шла, прежде чем добралась до одиноко стоящей избушки, поросшей мхом, и постучалась в калитку.
– Кто? – отозвался старушечий голос.
– Откройте путнице без крыши над головой.
– Коли с добром ты, входи, а нет – уноси ноги, вон у моей собаки зубы стальные, не убережешься!
– С добром, бабушка!
Отворила старуха калитку:
– Как ты сюда попала, женщина? Сюда и жар-птице не залететь, не то что человеку дойти.
– Грехи свои искупляю, бабушка. Паломница я в Ладан-монастырь, а где он, и знать не знаю.
– Счастлив твой бог, раз попала прямо ко мне. Я – святая Середа, может, слышала?
Кликнула святая Середа клич, и тут же сбежались животные со всех ее владений. Принялась святая Середа расспрашивать их про Ладан-монастырь, но все в один голос отвечали, что даже им незнакомо. Расстроилась святая Середа, да делать нечего. Вручила она путнице просфору и немного вина на дорогу, а также золотую прялку-самопрялку (в нужде, дескать, пригодится) и послала бедняжку к своей старшей сестре святой Пятнице.
Целый год шла она по непроходимым местам, пока не добралась до святой Пятницы. У нее повторилось то же, что и у святой Середы, – только, кроме просфоры и вина на дорогу, дала ей святая Пятница золотое мотовило, которое само пряжу наматывало, а потом направила святая Пятница царевну к своей старшей сестре, святой Думинике. В тот же день странница продолжила свой путь по местам еще более диким и безлюдным, чем раньше. Так, будучи не в силах третий год разрешиться от бремени, с большим трудом добралась она до святой Думиники. Святая была не менее гостеприимна, чем ее сестры. Приголубила бедняжку, кликнула клич, и враз сбежались все существа – подводные, наземные и небесные, но и им невдомек, где Ладан-монастырь стоит, как вдруг, неизвестно откуда, хромоногий жаворонок приковылял и прямо к святой Думинике. Вопрошает его святая:
– Может, ты, жаворонок, слышал, где Ладан-монастырь стоит?
– Как не слыхать, хозяйка?! Я туда влекомый сердцем летал, когда ногу сломал.
– Коли так, немедля доставь эту женщину в Ладан-монастырь и научи, как ей дальше себя вести.
– Да пребудет воля твоя, хозяйка, хоть и нелегка дорога.
Вручила тогда святая бедной путнице просфору и немного вина в дорогу, а еще золотой поднос, золотую, усыпанную самоцветами наседку с золотыми же цыплятами. Доверила заботы о царевне жаворонку, и тот, хромая, сразу отправился в путь. Когда несчастная валилась с ног от усталости, сажал ее жаворонок на свои крылышки, и они летели по воздуху. Целый год провели они в странствиях, преодолели безбрежные моря и бесконечные страны, пробирались сквозь непролазные леса и смертельные пустыни, населенные драконами, ядовитыми гадами, василисками, чей взгляд превращал в камень, не говоря уже о гидрах о двух дюжинах голов и других монстрах, подстерегавших на каждом шагу.
В конце концов очутились они в другом мире, мире райского блаженства!
– Вот и Ладан-монастырь, – пояснил жаворонок. – Здесь обитает Фэт-Фрумос, которого ты искала все эти годы.
Царевна едва не ослепла от окружавшей ее роскоши, а когда поняла, что перед ней чудо-мост и тот дворец, в котором длилось ее недолгое счастье с Фэт-Фрумосом, она чуть не плакала от радости.
– Рано радуешься. Здесь тебя ждут новые испытания, – опустил ее с небес на землю жаворонок и показал колодец, к которому приказал приходить три дня подряд, поведал, кого она повстречает и как следует отвечать, как использовать прялку, мотовило, поднос и золотую наседку с цыплятами.
Попрощавшись со своей подопечной, он поспешил улететь обратно, дабы сохранить от увечья свою вторую ножку. А усталая путница поплелась к колодцу.
На месте она взяла прялку и дала отдых ногам. Спустя какое-то время явилась за водой служанка. Завидев незнакомку с волшебной прялкой, что без посторонней помощи золотую пряжу тоньше волоса прядет, бросилась к хозяйке докладывать.
А хозяйкой здесь была ключница Фэт-Фрумоса – ведьма. Как узнала она про волшебную прялку, тотчас послала служанку за путницей. Стоило той явиться во дворец, как ведьма перешла к делу:
– Я слыхала, есть у тебя золотая прялка, что сама прядет. Продай мне ее, назови свою цену.
– Разреши мне провести ночь в опочивальне царя.
– По рукам! Отдай прялку и жди здесь до вечера – царь как раз с охоты вернется.
Рассталась путница с прялкой и ждет. А ведьма такого зелья царю в молоко подлила, что забылся он беспробудным сном. Зовет тогда ведьма путницу в его опочивальню:
– Располагайся, а на заре я приду за тобой.
Ведьма перешла на шепот – боялась, чтобы не услышал ее из соседней комнаты слуга царя, его извечный спутник на охоте.
Не успела ведьма уйти, как пала бедная путница на колени перед спящим мужем:
– Фэт-Фрумос! Протяни только руку, дотронься до моего стана, чтоб рассыпался заколдованный обруч, чтоб пришел на свет твой ребенок!
Так промучилась несчастная ночь напролет, а царь будто ничего не слышит. На заре явилась ведьма и прогнала бедняжку. Села та опять у колодца, слезы глотает, мотовило достает. Снова служанка пришла за водой, а ушла с вестью о новом чуде. Тотчас вернула алчная ведьма служанку к колодцу, опять выманила у царевны ее сокровище, чтобы наутро выставить вон.
Той ночью причитания царевой жены услышал преданный царский слуга и задумал обмануть коварную ведьму. Едва царь вскочил с постели и оба они отправились на охоту, слуга поведал ему о событиях двух последних ночей… Сердце царя забилось в два раза быстрее, по щекам его катились слезы, а тем временем его злосчастная супруга вновь дежурила у колодца, ведь у нее еще оставалась золотая наседка с цыплятами рядом на подносе! Служанка в этот раз про воду напрочь позабыла – сразу к хозяйке кинулась:
– Хозяйка! У той женщины есть поднос и наседка с цыплятами – все из золота, красоты неописуемой.
Вскоре завладела ведьма последним царевниным сокровищем.
Когда царь вернулся с охоты и ему подали молока, он незаметно вылил его и притворился, что крепко спит.
А ведьма, всецело полагаясь на свое зелье, сама привела путницу в царскую спальню. Снова рыдала несчастная у царского ложа:
– Фэт-Фрумос! Смилуйся над двумя невинными душами, что вот уже четыре года несут страшное наказание. Протяни свою правую руку, обними меня, дабы рассыпался железный обруч и пришел на свет твой ребенок. Мне не вынести больше этого бремени!
Не успела сказать, как Фэт-Фрумос коснулся ее стана. Со звоном разлетелся обруч, и она родила младенца.
Рассказала она супругу, что пришлось пережить ей с момента их последней встречи.
Царь не стал ждать утра, тотчас приказал ведьму к себе привести со всеми сокровищами, по праву принадлежавшими его жене.
Кто бы мог узнать ведьму в той свинье, которая с поросятами в луже валялась и от которой Фэт-Фрумос своему названному отцу достался. Это она превратила Фэт-Фрумоса, своего хозяина, в паршивого поросенка, чтобы женить его на одной из одиннадцати своих дочерей, с которыми тогда из лужи выскочила. За что и казнил ее Фэт-Фрумос страшною казнью. А слугу своего преданного щедро одарили царь с царицей и при себе держали до конца его дней.
Вот не справил Фэт-Фрумос свадьбу в свое время, а теперь такую свадьбу и такие крестины закатил, каких раньше не знали. Были здесь и родители молодой царицы, и дед с бабой, его воспитавшие, снова в пурпуре, во главе стола. Три дня и три ночи пировали, а может, и теперь пируют.
В тридевятом царстве, в тридесятом государстве жил король с тремя сыновьями, а на другом конце земли – его брат Зелен-царь с тремя дочерьми. Братья-цари так давно не встречались, что дети их и подавно не были знакомы.
И вот почувствовал Зелен-царь, что недолго ему жить осталось, письмо брату написал с просьбой немедля прислать того из племянников, кто достоин его на троне сменить.
Созвал король сыновей:
– Кому из вас под силу править государством Зелен-царя?
Старший сын сделал шаг вперед:
– Мне, старшему.
– Ладно, сын. Если готов поручиться в благополучном исходе поездки, выбирай из табуна любого жеребца, из казны – вдоволь золота, вооружись, нарядись как следует и в добрый путь, – сказал король, а сам, проводив первенца, завернулся в медвежью шкуру, прыгнул на коня, обскакал сына короткою дорогою и схоронился под мостом.
Несется королевич на своем резвом коне, а из-под моста на него медведь идет. Жеребец так взбрыкнул, что королевич едва в седле удержался и с позором коня обратно повернул. А король его уже дома ждет, из медвежьей шкуры разоблачившись:
– Что-то дома оставил, сын? Возвращаться – плохая примета.
– Ничего не оставил, отец, но у моста выскочил мне навстречу страшный медведь, напугал меня до полусмерти. Насилу вырвался из его лап, пусть кто другой свое счастье пытает.
Снарядился тогда средний сын в путь-дорогу, да и тот с «медведем» не сладил, знать, и среднего конь подвел. Ох и высмеял король старших сыновей.
Младший королевич сделался пунцовым и выбежал в сад наедине о своей предстоящей попытке подумать, как вдруг видит горбатую старуху бродяжку. Пожалел ее королевич, не оставил без подаяния.
– Да пошлет тебе Бог долгую жизнь! – рассыпалась в благодарностях старуха. – Быть тебе царем столь же могущественным, сколь добрым. Я научу, как этого достичь. Ступай к отцу и попроси у него оружие и платье, что он по молодости носил, да лошадь, на которой он юношей ездил. Платье, по правде сказать, – та еще ветошь, и оружие давно заржавело. Конь же, которого я для тебя приметила, придет раскаленными углями похрустеть с подноса, что ты поставишь посреди табуна. Конь-то и будет отводить беды, что посыплются на твою голову.
Король так брови и сдвинул, когда младший сын в дорогу засобирался и о коне его старом заикнулся.
– Кони столько не живут, – заметил он.
– Отец, ты мне коня своего старого только посули, а уж я его достану и из-под земли.
Стряхнул королевич пыль с обнаруженных на чердаке узды и седла, разогнал моль с почти истлевшего платья, ржавчину с меча-булавы счистил. А потом насыпал на поднос пылающих углей и выставил перед отцовским табуном, который враз раздвинулся, пропуская к жаровне едва живую клячу со светящимися ребрами.
Пока он размышлял, стоит ли позориться верхом на эдаком тощем любителе углей, как доходяга стукнул копытом и превратился в такого скакуна, что загляденье просто, и молвил человеческим голосом:
– Садись на меня, господин, да крепче держись!
Выше туч и быстрее ветра летали королевич и его конь, прежде чем последний принял свой прежний облик: на скорость передвижения, дескать, внешний вид не влияет.
Приехал королевич к отцу на дрянной клячонке – нашел, мол, твоего старого коня. Запасся юноша водой, принял от короля царскую грамоту и поехал той же дорогой, что и старшие братья. Ехал до темноты, как вдруг из-под моста кинулся на него медведь. Конь двинулся к медведю, а королевич поднял булаву, чтобы поразить врага, когда раздался знакомый голос:
– Не бей, сын, это я!
Обнимал король младшего сына да приговаривал:
– Доброго товарища ты себе выбрал, с таким и царем стать впору. Но вот мой тебе совет: остерегайся рыжего человека, а от безбородого да лысого и вовсе бегом беги. Слушайся коня, только он меня в молодости и выручал. А от меня прими эту медвежью шкуру – вдруг пригодится.
Продолжил королевич свой путь. Полтора месяца вела их дорога к таинственному лесу, откуда показался лысый и безбородый человек:
– Добрый день, молодец! Возьми меня к себе в услужение – я здешние места как свои пять пальцев знаю.
Отрицательно покачав головой, наш всадник скрылся из виду. Сколько не успел королевич проехать, а лысый, разве что в другой одежде, опять его приветствует:
– Не скупись, доблестный витязь, найми меня в услужение – в опасной дороге всякая помощь дороже золота!
– Я и сам себе помощник неплохой, – сказал королевич, поглаживая булаву.
Опять он ускакал быстрее ветра, вот только вскоре совсем заблудился и уж, по правде сказать, рад был «третьему» лысому, а тот, на этот раз в богатых одеждах и верхом на добром коне, само собою, не заставил себя ждать:
– Ты, брат, знать, нездешний, коли поехал этой дорогой! Сразу видно, что ты чужеземец и здешних мест не знаешь. Обрыв ли, или свирепый бык, скрывающийся в ущелье… Что-то непременно погубит тебя. Поворачивай обратно или бери меня в помощники.
Не видя другого выхода, королевич продолжил путь вместе с лысым. Долго они скакали, и замучила лысого жажда. Протянул ему королевич свою флягу с водой, а тот возьми да и опрокинь ее на землю. Осерчал королевич:
– Ты что, лысая башка, делаешь? Где здесь еще воды найти?
– Попридержи гнев, господин. Твоя вода несвежая была, а мы вот-вот до колодца с чистой как слеза младенца водой доедем.
Как сказал лысый, так и получилось, да еще и присоветовал королевичу в колодце освежиться. А колодец, само собой, не без крышки был. Так королевич оказался в ловушке. А лысый, сидя верхом на захлопнутой крышке, злорадствует:
– Вот я тебя и сцапал, не зря ты меня остерегался! А теперь признавайся, кто таков и куда направляешься, а не то сгною тебя здесь.
Королевич рассказал все как на духу, и пришлось ему с лысым местами поменяться да клятву верности и неразглашения негодяю дать. Отнял лысый королевскую грамоту, оружие королевича себе присвоил и говорит:
– Теперь ты Белый Арап, мой холоп!
Сели они на коней – каждый на своего – и к Зелен-царю поехали: впереди лысый «господин», позади его «холоп».
По приезде лысый незамедлительно во дворец Зелен-царя явился – по грамоте дядя признал в нем племянника и оказал должный прием. А Белого Арапа господин пинками на конюшню отослал.
За обеденной трапезой Зелен-царь угощал «племянника» дивным салатом и рассказывал, что такой растет лишь в медвежьем саду, из которого никто, кроме его лесника, живым не возвращается.
Тут лысый злодей смекнул, что хорошо бы извести Белого Арапа, и говорит:
– Я не я буду, если мой слуга не наберет этого салата!
Возражений он и слышать не хотел, призвал Белого Арапа и приказывает:
– Немедля отправляйся в медвежий сад и без такого вот салата не возвращайся.
Закручинился Белый Арап, побрел на конюшню, обнял своего коня и все ему рассказал.
– Эх, господин, – говорит конь, – чем горевать, садись-ка лучше на меня верхом и доверь мне направление выбирать.
И полетел конь на дивный остров, омываемый морем, где остановился возле особняком стоявшей хижины, что поросла мхом.
На пороге ждала Белого Арапа та получившая подаяние старуха, что помогла в свое время выбрать коня. А была это сама святая Думиника. Она уже знала, что за беда привела к ней королевича.
Вылила она сонное зелье в колодец, что в медвежьем саду стоит, и уснул дикий зверь сном агнца, тут святая Думиника Белого Арапа и позвала:
– Надевай медвежью шкуру, что тебе от отца досталась, и ступай за салатом. Зверь спокоен, но коли кинется – брось ему медвежью шкуру и беги сюда ко мне со всех ног.
Белый Арап все в точности исполнил: залез в сад и столько салата нарвал, что и не унести, а тут, как назло, очнулся медведь и припустил за ним. Сбросил тогда Белый Арап медвежью шкуру и только его и видели.
Вернулся он ко двору Зелен-царя и вручил салат лысому.
Царь с дочерьми только руками развели от удивления, но у Зелен-царя хватало диковинок, среди которых – самоцветы невиданные. А достать их можно в оленьем лесу. Зверь и сам-то весь в каменьях, а один, что во лбу, и вовсе сияет звездой. Не придумали еще оружия, чтобы убить его.
Тут опять позвал лысый Белого Арапа:
– Отправляйся в олений лес, и без оленьей шкуры с головой и драгоценностями, которые зверь на себе гордо носит, не возвращайся!
Белый Арап опять побрел со своей бедой к коню, а тот в свою очередь его к святой Думинике повез. Стоит ли говорить, что с ее помощью добыл Арап и оленью шкуру, и оленьи самоцветы? Стоит ли говорить, что за сей подвиг господин своего верного слугу не пожаловал. Только и милости испросили для Белого Арапа дочери Зелен-царя, что на пиру прислуживать, что правитель устроил в честь своего «племянника».
Пир был в самом разгаре, когда в окно вдруг забилась волшебная птица и женским голосом прокричала:
– Ешьте, гуляйте, а о дочери Рыжего царя и не помышляйте!
Тут все стали между собой переговариваться. Кто-то говорил, что дочь Рыжего царя – безжалостная воительница, кто-то – что она злая колдунья. Лысый же решил узнать, какова она на самом деле, и велел Белому Арапу не кого-нибудь, а эту самую девицу ему добыть.
Сломленный, Белый Арап побрел к своему верному коньку и говорит:
– Не успел я от лысого натерпеться, как надо с рыжим сладить.
Благо, конь его верный хорошо дорогу к Рыжему царю знал, а путь, надо сказать, неблизкий.
Доскакал Белый Арап до мостика через речку, а навстречу ему муравьиная свадьба – пришлось вплавь реку переплывать. А за доброту его дала Белому Арапу королева муравьев свое крылышко: стоило его сжечь – и весь муравьиный народ на помощь прибудет.
Едет дальше и видит дикий рой неприкаянный мечется: пожалел он пчел и смастерил им улей, и пчелиная царица в долгу не осталась:
– Белый Арап, прими это крыло. Если я тебе понадоблюсь, подожги его – я тотчас явлюсь.
А на лесной опушке ждало Белого Арапа диво дивное: сидит напротив костра великанище, две дюжины саженей дров полыхают, а он простуженным голосом хрипит, что коченеет, а вместе с ними сама матушка земля дрожит. Не задерживай он дыхание, весь лес бы насквозь промерз. Подумал Белый Арап и взял Холода с собой.
А дальше ждала Белого Арапа иная диковинка: великан, каких свет не видывал, жадно поглощал борозды земли за двумя дюжинами плугов и просил есть. Подумал Белый Арап и взял Голода с собой.
Уже совсем путники были близки к цели, как вдруг увидели великаншу, осушившую две дюжины озер и речку в придачу и просившую пить. Подумал Белый Арап и взял Жажду с собой.
Не прошли странники и мили, как узрели новую диковинку: не человек, а циклоп – глаз один, да размером с решето. Откроет его – все равно что слепой, закроет – днем и ночью, на земле и под землей ничего от него не укроется. Подумал Белый Арап и взял Глаза с собой.
Теперь уже впятером они шли, но, знать, судьба им была встретить шестого: идет себе чудище, за птицами охотится. При луке, но он и сам себе смертельное оружие: при желании мог так в ширину распространиться, что всю землю мог объять, а в высоту если – до звезд дотягивался. А если стрела его промах давала, на лету птиц глотал. Подумал Белый Арап и взял монстра, которому и имени нет, с собой.
Предстал Белый Арап со всей своей странной свитой перед Рыжим царем и сразу же к делу перешел – дочь его потребовал. Рыжий царь вместо ответа их на ночлег устроил, да не где-нибудь, а в тереме из раскаленной меди. Только гости дорогие на пороге терема замешкались, кроме Холода, который так дунул, что враз стало в горнице прохладно. Так и переночевали.
А наутро Белый Арап пошел Рыжему царю кланяться:
– Ваше высочество! Его величество племянник могущественного Зелен-царя, знать, заждался уж меня с вашей дочерью.
– Так и быть, богатырь, – согласился было царь. – Но сначала выпейте и закусите.
Приволокли им дюжину телег с хлебом, дюжину откормленных коров на вертелах и дюжину бочек зелена вина. Стоит ли говорить, что Голоду там было на зубок, а Жажде на один глоток?
Снова Белый Арап напомнил царю о цели своего приезда. И загадал ему Рыжий царь до утра перебрать меру мака, смешанного с песком. На том бы приключения Белого Арапа и закончились, не вспомни он вовремя о муравьином крылышке, которое тотчас поджег. Муравьи и мак от песка отобрали и Рыжего царя, пока тот спал, искусали.
Как узнал царь, что задача его выполнена, крепко призадумался, как теперь от гостей избавиться.
А Белый Арап настойчивость проявил: отдавайте дочь да и все тут.
– Прежде, богатырь, – заскрипел зубами Рыжий царь, – потрудись мне службу сослужить. Как пойдет моя дочь почивать, охраняй ее сон. Если наутро она в своей кровати проснется, тогда, пожалуй, и забирай ее, а нет – прощайся с головой.
Вечером царевна спать легла, Белый Арап под ее дверью караул несет, а друзья его аж до ворот дозором построились.
Пробило двенадцать, обернулась царевна птичкой и вылетела из спальни. Мимо пяти дозорных незамеченной пролетела, но Глаз ее, разумеется, разглядел и тотчас позвал того, кому и имени не придумать, и говорит:
– А ведь царская дочь нас провела. Только нам с тобой ее вернуть под силу. Следуй со мной, я укажу, где она схоронилась, а дальше все от тебя зависеть будет.
Стоит ли говорить, что они с царевной вернулись?
Обнаружив дочь в спальне, царь не на шутку разозлился, а Белый Арап и дальше судьбу испытывает: без царевны, дескать, не уедем.
– Вот что, богатырь, – строго сказал царь, – есть у меня приемная дочь, точная копия родной. Если высмотришь из двоих одинаковых родную, ее и отдам.
А пока царевен облачали в одинаковые одежды, Белый Арап вспомнил о пчелином крылышке, поджег и призвал пчелиную царицу.
– Не беспокойся, Белый Арап, – заверила его пчелиная царица, узнав о его затруднении. – Со мной ты узнаешь ее из тысячи: красавица, что начнет от меня платочком отмахиваться, окажется родной дочерью Рыжего царя.
Отправился Белый Арап с пчелой на плече в горницу, где его уже ждали царь с дочерьми, и давай в красавиц всматриваться. А пчелиная царица знай себе кружит у лица царевны – бедняжке только и оставалось, что платочком отмахиваться. Ее-то Белый Арап и подвел к царю:
– Эту девушку я с собой увожу.
Тут уж Рыжему царю нечем крыть:
– Не удалось ей тебя с сотоварищами погубить – тебе ею и владеть.
Поклонился Белый Арап царю и давай царевну торопить:
– Собирайся, голубушка. Племянник Зелен-царя и мой господин станет мне пенять, что меня только за смертью посылать.
– Поспешишь – людей насмешишь, – отвечала царская дочь. – Прежде чем я покину отчий дом, отправим твоего коня и мою голубку на край света за тремя ветками сладкой яблони и водою, живою и мертвою. Если моя голубка быстрей справиться, и думать забудь, чтобы я с тобой уехала. А коли твой конь – сама хоть на край света за тобой пойду.
Пустились конь с голубкою наперегонки. Голубка первой достигла края света – на то она и легче. А как схватила три ветки сладкой яблони, зачерпнула воды живой и мертвой, конь ей дорогу преградил. Только ни лесть его, ни уговоры не возымели действия. Голубка отказалась расстаться с добычей – пришлось силой отнять.
Так привез конь первым три ветки сладкой яблони и волшебной воды. Царевна покорилась своей судьбе, вскочила на коня, естественно волшебного, и присоединилась к Белому Арапу и его странной свите, которая, к слову сказать, вскоре оставила парочку наедине.
И так юноша и девушка в дороге друг к друг приросли, что раздумал Белый Арап лысому такую красавицу отдавать.
Царевне Белый Арап тоже по сердцу пришелся. Как бы то ни было, они продолжили свой путь.
Встречать Белого Арапа с царевною вышел Зелен-царь в сопровождении дочерей, «племянника» и всего двора. Как углядел лысый, что за красавицей дочь Рыжего царя оказалась, кинулся помогать ей коня расседлывать. Но царевна стала его гнать:
– Не приближайся, мерзавец! Не для тебя я сюда приехала, а для Белого Арапа, ибо он настоящий племянник Зелен-царя.
Все присутствующие так и обмерли, а разоблаченный самозванец кинулся на Белого Арапа и отрубил ему голову мечом его же отца, вскричав:
– Поделом тебе, клятвопреступник!
Тут конь Белого Арапа с неистовым ржанием напал на самозванца и не упокоился, пока не поднял его высоко-высоко над землей и не сбросил с высоты птичьего полета.
Пользуясь всеобщей суматохой, дочь Рыжего царя, не теряя ни секунды, приставила Белому Арапу голову к телу, тремя ветками сладкой яблони оплела, побрызгала сперва мертвой водой, потом живой, и королевич вернулся к жизни. Стал он глаза тереть и говорит:
– Как же крепко я спал!
– И не проснулся бы, Белый Арап, кабы не я, – сказала дочь Рыжего царя, целуя его и возвращая старый отцовский меч.
Тут Зелен-царь влюбленных благословил и своей державой править поставил. На их свадьбе гуляли бедняки и богачи, пчелиная царица и муравьиный народ – словом, все. А может, и по сей день гуляют.
Жили в одной деревне родные братья, оба при женах. Старший был работящий, бережливый и зажиточный, в любом деле ему сопутствовал успех, только детьми Бог не наградил. А младший брат был неудачливый бедняк, ленивый, зато ребятишек – семеро по лавкам. А вот жена у бедняка была трудолюбивая и добрая, а у богатого – скупая и злее не сыскать.
Только и водилось у бедного брата, что пара волов – хоть и гладких, да все же без плуга-бороны, телеги-саней бесполезных. Каждый раз, когда была в них нужда, просил у других, чаще – у брата, у которого всего было вдоволь. А того потом жена тиранила.
– Родня родней, – любила повторять она, – а денежки счет любят.
– Не скупись, жена. Кроме меня, брату помочь некому.
Так бы и дальше продолжалось, если б не телега. Через каждые два дня Дэнилэ за телегой приходит: то дрова везти надо, то муку, то копны…
– Послушай, брат, – сказал наконец старший младшему. – Есть ведь у тебя волы, почему телегу не купишь? Мою уже совсем сломал, нечем уж одалживаться.
– Твоя правда, – соглашался младший, – но где же деньги взять?
– Бери волов – они у тебя рослые и красивые – и ступай на ярмарку. Продашь этих – других возьмешь, подешевле. На разницу телегу приобретешь, хозяйством обзаведешься.
– Дельный совет!
Поспешил домой, вывел волов на веревке и отправился на ярмарку. Поднимается на пологий холм, а навстречу ему человек, перед собой новую телегу катит, только на ярмарке купил.
– Погоди, мил-человек, – обратился к нему Дэнилэ. – Придержи-ка свою телегу, на одно слово подойди.
– Я бы погодил, да она не стоит. А что?
– Телега у тебя будто бы сама идет?
– Будто бы сам не видишь?
– Предлагаю обмен: ты мне телегу, я тебе волов, намучился уж с ними: то сено им нужно, то загон подавай, то от волков береги… Уж как-нибудь изловчусь телегу толкать, раз она и сама идет.
– Я смотрю, ты не так прост, как кажешься… – сказал хозяин телеги. – Тебе повезло, что я сегодня сговорчивый – по рукам: тебе – телега, мне – волы!
Взял Дэнилэ телегу, под гору домой идет.
– Совсем телега взбесилась! Как наворочу мешками с мукой или сеном, чтобы точно так катилась!
А телега знай себе мчит вперед, словно обогнать его хочет.
Но за спуском пошел подъем. Встала телега – и ни с места.
– Плохая была идея с телегой!
С силой подал он телегу в сторону, закрепил на месте, присел на дышло и размышляет: «Ну и ну! Будь я Дэнилэ Препеляк, волов бы загубил, а не будь, телегу бы нашел. Препеляк я или нет?..»
Видит – прохожий гонит козу.
– Эй, приятель, – говорит Дэнилэ. – Не сменяешь ли козу на телегу?
– Даже не знаю… Коза у меня дойная, спокойная…
– Что слова на ветер бросать? Забирай телегу, отдавай козу!
Разве поспоришь? Отдал козу, взял телегу. Затем попутной телеги дождался, привязал к ней свою… Постоял Дэнилэ с открытым ртом и повел козу на ярмарку. А скотина во все стороны рвется, скоро совсем надоела.
Идет он дальше с козой, а навстречу человек с базара возвращается – гуся под мышкой несет.
– Здравствуй, мил-человек! – говорит Дэнилэ.
– И тебе не хворать!
– А давай меняться? Бери у меня козу, а мне отдай гуся.
Поторговались немного, и Препеляк забрал гуся. Приходит на ярмарку, а птица как загогочет во все горло: га-га-га-га!!!
– Ну и ну! От черта избавился, с его батькой связался! Так и оглохнуть недолго!
Напротив человек кошельки продавал. Сменял Дэнилэ гусака на кошелек, что на длинных ремнях на шее носят, повертел его в руках и говорит:
– Голова моя садовая, что же я натворил! Была пара – не волы, а загляденье, остался с пустым кошелем! Словно черт меня попутал, а ведь не впервой на ярмарке.
Добрался Дэнилэ до родной деревни – и к брату:
– Здорово, брат!
– Милости, Дэнилэ! Сколько же ты на ярмарке пропадал?
– Поспешил туда людям на смех.
– Что за вести из города несешь?
– Да несчастные волы мои пропали, будто их и не было.
– Неужто зверь напал или обокрали тебя?
– Да собственной рукой отдал, брат.
Поведал Дэнилэ брату о всех своих менах.
– Что ни говори, братец, редкий ты простак!
– Спору нет, брат, но теперь-то я набрался уму-разуму. Возьми-ка себе кошелек, мне он без надобности. Но бога ради одолжи мне в последний раз телегу с волами: дров из лесу привезти, а то у жены с детьми огонь развести нечем…
– Тьфу! – прервал его брат, не дослушав. – Бери телегу, но это в последний раз.
Дэнилэ только того и надо. В лесу выбрал дерево потолще, даже волов выпрягать не стал, сразу рубить заходился, чтобы ствол точь-в-точь в телегу свалился. В этом весь Дэнилэ Препеляк! Только не рассчитал малость, что тяжелый ствол, падая, телегу в щепки разнесет и волов погубит!
– Вот теперь брата подвел! Как поступить? Может, попрошу у брата кобылу?..
– Что за человек, – не понравилась эта идея старшему брату, – знать, в монастыре тебе место, а не среди людей, до чего ты всем надоел, до чего жену и детей довел. Убирайся!
Вышел Дэнилэ из «гостеприимного» братова дома, оседлал кобылу – только его и видели! Только когда проезжал мимо озера, дошли до него слова брата о монашестве.
– Вот построю я здесь монастырь красоты неописуемой, на весь мир прославлюсь, – решил он.
Начал с креста: смастерил и в землю воткнул – место освятить. А сам в лес углубился, стволы для столба, основания, балки да сваи подобрать. Вынырнул из озера черт – и к нему:
– Ты что это тут возводить удумал?
– Будто не видно?
– Стоп! Озеро, лес, само это место – все наше.
– Ага, и утки ваши на воде. Что еще себе присвоите, ироды рогатые? Вот я вам покажу!
Черт под воду ушел, самому Скараоскому обо всем доложил. Страх объял чертей, посоветовались они, и отправил начальник их Скараоский к отшельнику Дэнилэ гонца рогатого с полным бурдюком золота.
– Возьми деньги! – предлагает парламентер Препеляку. – И чтоб ноги твоей здесь не было.
– Повезло вам, нехристи, что золото ценнее веры, а то бы вам несдобровать!
А в озере тем временем Скараоский беснуется: целое состояние отдал, это ж сколько душ купить можно было…
Пока Дэнилэ соображал, как деньги домой доставить, перед ним новый черт нарисовался:
– Эй, старина! Раздумал мой господин: сначала посоревнуемся маленько, а там уж золото возьмешь.
– Как же соревноваться будем?
– А так: кто из нас через плечо кобылу твою перекинет и три раза вокруг озера пробежится без привалу без роздыху, тот и деньгам хозяин.
Сказал, кобылу подхватил, мигом три круга сделал. У Препеляка аж челюсть отвисла, но он быстро нашелся:
– Большая сила в тебе. Ты кобылу через плечо перебросил, а я ее между ног удержу. – Прыгнул в седло и без передышки озеро трижды – раз за разом – обскакал.
Растерялся черт, но вскоре другое соревнование изобрел:
– Будем бегать наперегонки.
– Только где тебе со мной тягаться? Побежишь для разминки с моим младшим сыном.
Указал черту на кусты, а там заяц сидит.
Рванул с места заяц, черту за ним не поспеть, а Дэнилэ со стороны за гонкой наблюдает, хохочет от души.
– Ну и скор же твой пострел! – отдышавшись, констатировал черт, только его сцапать собрался, а его и след простыл!
– Яблочко от яблоньки… – усмехнулся Дэнилэ. – Хочешь еще со мной взапуски пуститься?
– Нашел дурака! Уж лучше поборемся.
– Поборемся, коли жизнь не мила стала. Только сперва с дядей моим тысячелетним совладай, прежде чем на меня выходить. Хоть он и дряхлый старик, да посильнее тебя будет! – сказал и повел черта к медвежьей берлоге.
Нет нужды пересказывать ход поединка, еле ноги черт унес.
– Что? – смеется Дэнилэ. – Не по нраву такой поединок? Борись тогда со мной!
– С тобой, а то с кем же, давай, кто громче гаркнет.
– Ладно, сперва ты.
Первый раз черт гаркнул – задрожала земля, забурлили моря, рыбы кверху брюхом всплыло видимо-невидимо, чертей из озера повыносило, так и до светопреставления недалеко. А невозмутимый Дэнилэ сидит себе на бурдюке с золотом:
– И это все, на что ты способен? Что-то я и не расслышал. Гаркни-ка еще!
Гаркнул черт того страшнее.
– Нет, не слыхать.
Гаркнул черт опять – чуть не надорвался.
– Да тебя за шелестом травы не слыхать… Моя, значит, очередь гаркнуть?
– Твоя…
– Боюсь, как бы от моего крика твоя голова не лопнула. Если рано тебе помирать, защитим твои глаза и уши полотенцем…
– Как скажешь, очень жить охота!
Завязал Дэнилэ черту глаза и уши полотенцем, размахнулся посохом дубовым (он, конечно, отшельник, а в палку верил больше, чем в святой крест) и хлоп черта по правому виску – во имя Отца…
– Довольно, больше не гаркай!
– Врешь, чертово отродье! Не ты ли три раза гаркал?
И бабах его по левому – и Сына…
– Ой, хватит, сил моих нет!
– А вот и посмотрим!
В третий раз «гаркнул» он черта по голове – и Святого Духа.
– Убивают! – заголосил черт и так, с завязанными глазами и жалобными стонами, водной змейкой в озеро нырнул, все как на духу Скараоскому рассказал: ведьмак ваш Дэнилэ – вот вам мое слово.
А Дэнилэ сидит на бурдюке и думу думает, как бы его домой донести. Выходит из озера третий черт с гигантской булавой наперевес:
– Так вот ты каков, приятель! Теперь мой черед с тобой соревноваться. Кто из нас булаву эту выше подбросит, тот и деньги возьмет.
– Вот с тебя, нечисть, и начнем!
Черт булаву ка-а-ак швырнет – только через трое суток в почву врезалась, земную твердь едва не пошатнула.
– А тебе так слабо? – прихвастнул черт.
– Ничего не слабо, вытащи-ка ее из матушки земли.
Черт и вытащил.
– Ну, что резину тянешь?
– Будь терпелив, лукавый, успеется.
Ждет-пождет сатана, а уж ночь: звезды мерцают, а луна щербатая.
– Что же не бросаешь?
– Бросить недолго, прощайся с булавой.
– С чего бы это?
– Видишь на луне щербинки? Это братья мои потусторонние. Им как воздух железо надобно – нечем лошадей подковать. Глянь, как руками размахивают, на булаву твою глаз положили.
– Э нет! Булава – от дедов-прадедов наследство, ни в жисть с ней не расстанусь! – подхватил булаву и – в озеро. Докладывает Скараоскому, как чуть без булавы не остался.
Закипела в Скараоском ярость, собрал он нечисть и приказывает:
– Пусть кто-то из вас немедля пойдет и погубит проклятиями недруга нашего!
Вышел один черт вперед, а сам так и трусится.
– Не робей! – приободрил Скараоский. – Погубишь – в чине поднимешься.
Момент – и черт предстал перед Дэнилэ.
– Эй, приятель! Ты своими выходками всех чертей на уши поднял, теперь не отвертишься. Будем проклинать друг друга: кто в этом преуспеет, тот и деньги возьмет.
Как начал клясть нечистый, так бедный Дэнилэ на один глаз кривой стал, но виду не подал:
– Не на того напал, мелкий бес! Наплачешься у меня.
– Что попусту болтать, изрыгай уже проклятия, коли способен.
– Перебрасывай бурдюк с золотом через плечо и за мной: дома оставил отцовские проклятия.
С этими словами он оседлал бурдюк. Подхватил его нечистый вместе с бурдюком на плечи, Дэнилэ и оглянуться не успел, как оказался дома, увидел жену и детей.
– Сыны мои дорогие, тащите-ка сюда проклятия отцовские: чесалку и гребни для пакли! – распорядился Препеляк.
Набежало детишек отовсюду, каждый – с отцовским проклятием.
– Держите, молодцы, этого господина да прокляните как следует, чтоб мало не показалось!
А детям, дело ясное, сам черт не брат. Набросились всей оравой и давай лукавого драть. Черт как закричит. Насилу ноги унес, о деньгах даже не вспомнил.
А Дэнилэ Препеляк голодный вкус бедности напрочь позабыл и долгую жизнь прожил. До глубоких седин собирал за изобильным столом своих чад.
Давным-давно, когда в пустыне можно было встретить бога, жили-были угрюмый, как непроглядная ночь, царь с лучезарной, как белый день, царицей.
Полвека воевал царь с соседом. Сосед покинул этот мир, но вражда кипела в крови его потомков. Угрюмый же царь был бездетным, ему некому было передать свою ненависть. Лучезарная царица жила вдовой при старом муже, оттого что он больше времени проводил на войне, чем в неблагословенном ложе.
Как-то встав с постели, она принялась оплакивать свою бездетность перед ликом матери всех скорбящих, и ответом на мольбы юной царицы были слезы, заструившиеся из темных глаз Богородицы. Царица приложилась губами к влажной иконе и вскоре почувствовала, что ждет ребенка.
Минуло девять месяцев, и родила царица сына. Мальчик был белее молока, с сияющими, как лунные лучи, волосами, и назвали его Фэт-Фрумос – дитя слезинки. Угрюмый царь изменил своей угрюмости, а солнце трое суток не уступало месяцу места на небосклоне.
Ребенок рос не по дням, а по часам.
Почувствовав себя в силе, велел он выковать себе железную палицу, которую подбрасывал до самого неба. Вооружившись таким образом, пошел он войной на кровных врагов-соседей.
На третий день пути открылся его взору дворец из слепящего белого мрамора. Он стоял на утопающем в зелени острове, омываемом зеркальным озером. Сел он в позолоченную ладью, что поднималась и опускалась на чистых волнах, налег на весла и оказался у мраморной дворцовой лестницы, освещенной канделябрами, в которых горели звезды. Проследовав в зал, он увидел ломившийся от яств стол, а подавались кушанья не в чем-нибудь, а в жемчужных раковинах. Бояре веселились, словно вспомнили молодость.
– Здравствуй, Фэт-Фрумос! – приветствовал его царь. – Наслышан я о тебе, теперь вот свиделись.
– А тебе недолго здравствовать осталось – выходи на смертный бой. Хватит злоумышлять против моего отца.
– Ведь не о заговорах речь, я честно на поле брани выходил. А против тебя не выйду, лучше братом назову.
Бросились царские сыновья друг другу в объятия, выпили братину с ликовавшими боярами, и спрашивает царь Фэт-Фрумоса:
– Кого ты пуще всего на свете страшишься?
– Одного бога. А ты?
– Одного бога да лесной ведьмы. Эта ужасная старуха разоряет мое царство. Где не пройдет – пустыни да развалины. Проиграл я с ней войну, теперь вот десятину ей плачу – каждого десятого мальца моих подданных. Сегодня как раз ее день сбора податей.
В двенадцать часов ночи в темном небе с улюлюканьем пронеслась бешеная лесная ведьма. Крылья ее развевались по ветру, старческое лицо напоминало выдолбленную источниками скалу, на голове росли деревья, глаза ее – две пропасти, рот – черная дыра.
Фэт-Фрумос на лету поймал колдунью и со всей силы швырнул ее в огромную каменную ступу, придавил сверху скалой и сковал семью железными цепями. Как ни пыталась ведьма освободиться, ничего не вышло, и покатилась она в ступе через леса, оставляя за собой след.
Фэт-Фрумос вернулся, пир отпировал, потом только взял палицу и по следу пошел. И привел его след к белу терему. На пороге застал он девушку за прялкой. Белоснежное платье, золотые косы, венок из ландышей, тонкие пальцы, удерживавшие золотое веретено, – такой красавицы он еще не видел.
Заслышав приближение Фэт-Фрумоса, девушка подняла на него глаза цвета морской волны.
– Здравствуй, Фэт-Фрумос, – молвила она. – Ты давно завладел моими снами, в которых мы любим друг друга.
– Ты само совершенство, – прошептал он в ответ. – Чья ты дочь, красавица?
– Лесной ведьмы, – призналась она, потупившись.
– Мне безразличен твой род, – успокаивал он. – Мы любим друг друга, вот что имеет значение.
– Тогда нам нужно бежать. – Она кинулась ему на грудь. – Мать убьет тебя, едва увидит, и тогда я умру от горя.
– Не тревожься, – сказал он, размыкая объятия. – Где мне найти ведьму?
– Беснуется, запертая тобою в ступе, пытается перегрызть оковы.
Фэт-Фрумос хотел тотчас броситься на врага, но красавица остановила его:
– Сначала, Фэт-Фрумос, я расскажу, как победить мать. Посмотри на две эти бочки: одна – с водой, вторая – с силой. Поменяем их местами. Устав от поединка, мать обычно кричит: «Погоди, надо воды испить!»
Она привыкла пить силу, когда враг просто утоляет жажду, но в этот раз будет наоборот.
На том и порешили, прежде чем Фэт-Фрумос крикнул:
– Эй, колдунья, как дела?
Ведьма так забилась в ступе, что оковы слетели.
– Ну, Фэт-Фрумос! Сейчас померяемся силами.
Подбросила его ведьма до облаков с такой силой, что он, падая, по щиколотки в земле оказался.
Фэт-Фрумос в долгу не остался и ее вогнал в землю аж до колен.
– Погоди, надо воды испить! – предложила лесная ведьма.
Ведьма глотала воду, а Фэт-Фрумос – силы.
С во много раз помноженным рвением принялся он за ведьму и вогнал ее в землю по шею. Небо заволокло серыми тучами, завыл промозглый ветер. Терем трясся, будто в лихорадке. Алые змеи пронзали облака, начался шторм, раздавались раскаты грома, ничего доброго не предвещавшие. В кромешной темноте Фэт-Фрумос различил милую сердцу тень с развевающимися золотыми волосами и простертыми вверх руками.
Еле живая от страха, девушка прильнула к нему. Он подхватил красавицу на руки и помчался сквозь бурю.
Фэт-Фрумос представил ее царю как свою невесту, и глаза его побратима наполнились слезами.
– Почему твои глаза влажны, о царь? – спросил Фэт-Фрумос.
– Фэт-Фрумос, – молвил царь, – даже жизни моей будет мало, чтобы отблагодарить тебя за то, что ты уже сделал, но я дерзну попросить большего.
– Чего же?
– Мое сердце принадлежит девушке с задумчивым взглядом, нежной, как тихая заводь. Она дочь охотника Дженара, столь же жестокого, сколь она прекрасна! Мои попытки похитить ее проваливались одна за одной. Вдруг удача улыбнется тебе?
Оседлал Фэт-Фрумос лихих коней, а невеста его осталась ждать и плакать.
Долго ли, коротко ли он ехал, прежде чем на горизонте показался замок Дженара, но ошибки быть не могло: в распахнутом Фэт-Фрумос узрел миленькое девичье личико с задумчивым взглядом.
– Здравствуй, Фэт-Фрумос, – крикнула она и кинулась отворять ворота величественного замка, в котором жила совсем одна. – Ночью мне было видение, что ты явишься от моего любимого.
Замок охранялся котом о семи головах. Когда мяукала тревогу одна голова, слышно было на расстоянии одного дня пути, когда все семь голов – на расстоянии недели пути.
Дженар охотился неподалеку, всего в одном дне пути от замка.
Подхватил Фэт-Фрумос красавицу на руки, усадил на коня, дальше они не скакали, а летели над морем.
Надо сказать, что у Дженара был волшебный конь с двумя сердцами. Замяукала одна голова замкового стража, и этот конь громко заржал, возвещая о похищении девушки. Дженар в два счета нагнал беглецов.
– Фэт-Фрумос, – молвил Дженар, – ты мне симпатичен и для первого раза я тебя прощаю, но во второй раз пощады не жди!.. – И скрылся из виду вместе с дочерью.
Но Фэт-Фрумос повторил попытку.
Дженар охотился в двух днях пути, когда Фэт-Фрумос и его дочь ускакали верхом на конях из его же конюшни под протяжное мяуканье двух кошачьих голов. Скоро они уже глотали пыль из-под копыт Дженарова коня.
Лицо Дженара приняло жестокое выражение. Он поднял Фэт-Фрумоса и швырнул его в темные грозовые облака, скрывшись из виду вместе с дочерью.
Горстка пепла – все, что осталось от Фэт-Фрумоса, – смешалась с раскаленными песками пустыни. Пепел превратился в родник и ручейком побежал по песку. В журчании ручья можно было уловить грустную песню о светловолосой невесте Фэт-Фрумоса. Но кто мог услышать этот голос в пустыне, где не ступала нога человека?
А тем временем в пустыне были два странника. Одежды и лицо первого сияли ярким светом, второй напоминал лишь тень первого. Ступни Христа и святого Петра (а это были они), обожженные пустынным песком, коснулись освежающей поверхности ручья, и странники проследовали по воде до самого источника. Там Христос утолил жажду, омыл лицо и руки. Отдыхая под древесной сенью, Христос вознесся мыслями к своему небесному отцу, святой же Петр обратился в слух и уловил грустную песнь родника. Он попросил:
– Господи, пусть родник станет тем, кем был раньше.
– Аминь, – поднял руку Господь, и они продолжили свой путь.
Фэт-Фрумос словно очнулся ото сна и стал осматриваться. Узнав удалявшихся по водной глади странников, он понял, кому обязан своим воскрешением, и начал молиться.
На память пришло его обещание выкрасть дочь Дженара. Вечером Фэт-Фрумос уже был на подступах к замку. Дочь Дженара утерла слезы, увидев его живым и невредимым.
– Тебе меня не выкрасть, – сказала она, – если не обзаведешься таким же конем, как у моего батюшки, с двумя сердцами. У самого синего моря живет старуха, хозяйка семи кобылиц. Тому, кто их убережет три дня, она позволяет выбрать себе жеребенка. Горе-сторожей ждет смерть, а удачливых обман: старая ведьма вынимает у всех коней сердца и вкладывает их в одного. А конь без сердца, сам понимаешь, ни на что не годен.
Оседлав коня, он поехал добывать другого.
Солнце жгло немилосердно, когда Фэт-Фрумос приметил комара, метавшегося в горячем песке.
– Фэт-Фрумос, – позвал комар, – отнеси меня в лес, я, царь комаров, в долгу не останусь!
Фэт-Фрумос послушался.
Выехав из лесу, он увидел обессиленного рака со следами солнечных ожогов.
– Фэт-Фрумос, – позвал рак, – кинь меня в море, я, царь раков, в долгу не останусь!
Фэт-Фрумос кинул рака в море и поехал дальше.
Сумерки застали его у грязной лачуги с частоколом с насаженными человеческими головами. На завалинке, на коленях искавшей у нее в головах молодой рабыни, расположилась сморщенная седая старуха.
Фэт-Фрумос поздоровался.
– Приветствую тебя, юноша, – поднялась старуха. – Не моих ли кобыл пришел пасти?
– Их.
– Мои кобылы щиплют траву лишь ночью… Можешь приступать хоть сейчас… Эй, раба! Накорми юношу моей стряпней и проводи его.
Так как за целый день он не держал во рту маковой росинки, он не отказался от старухиной трапезы, а потом, вскочив на одну из кобыл, погнал остальных на пастбище. На месте его сморил сон. А когда он проснулся, на горизонте брезжил рассвет, а кобыл поблизости не было. Стал он уже прощаться с головой, как вдруг из леса показались кобылы, гонимые огромным комариным роем, – вот и благодарность царя комаров.
Когда Фэт-Фрумос пригнал кобыл, старуха так взбеленилась, что крепко досталось и ни в чем не повинной рабыне и кобылицам.
– Прячьтесь как следует, черт вас дери, чтоб никто не сыскал! – приговаривала она, полосуя лошадиные спины.
Назавтра Фэт-Фрумос снова погнал кобыл и, опустившись на траву, проспал беспробудным сном до самого утра. Каково же было его удивление, когда со дна морского, спасаясь от полчищ раков, поднялись сбежавшие кобылы, – вот и благодарность царя раков.
Перед третьим дозором старухина рабыня отвела его в сторону:
– Ты Фэт-Фрумос, я слышала о тебе. Не ешь старухиной стряпни, она льет туда сонное зелье… Я приготовлю тебе иную пищу.
Девушка незаметно накормила его. Бодрый и полный сил, к полуночи он вернулся с дозора, загнал кобыл в стойло и вошел в горницу. Старуха на лавке казалась мертвой. Фэт-Фрумос разбудил спавшую на печи рабыню:
– Посмотри, твоя старуха испустила дух.
– Как бы не так, – вздохнула она. – Полночь всегда сковывает ее тело мертвым сном… Завтра твоей службе придет конец. Возьми меня с собой, иначе тебе не уйти от ведьмы, – с этими словами она извлекла из древнего сундука стертый точильный камень, щетку и косынку.
Утром пришло время старухе рассчитывать пастуха. За обедом она отлучилась в конюшню, вынула сердца у семерых коней и схоронила их в жеребце-трехлетке, походившем на скелет, и позвала Фэт-Фрумоса выбирать коня. Кони без сердец были хороши как на подбор, а трехлеток-скелет с семью сердцами валялся в углу на куче навоза.
– Вот этот мне люб, – сказал Фэт-Фрумос о трехлетке.
– Неужто ты даром работал? – удивилась хитрая старуха. – Выбирай-ка кого-то из этих красавцев жеребцов…
– Вот этот мне люб, – твердил Фэт-Фрумос.
– Забирай, – процедила она сквозь зубы.
Он прыгнул в седло и только его и видели.
В лесу он подобрал дожидавшуюся его рабыню, усадил за собой и припустил что было мочи.
На землю опустилась ночь.
– Спину печет, – вскрикнула вдруг девушка.
Фэт-Фрумос обернулся. За ними несся настоящий шквал, а огромные глаза-угли полосовали алыми, как пламя, лучами тело девушки.
– Брось щетку, – попросила она.
Фэт-Фрумос бросил. Позади них тотчас вырос непролазный лес, кишащий голодными волками.
Фэт-Фрумос не жалел коня.
– Спину печет, – снова вскричала девушка.
Фэт-Фрумос оглянулся и увидел огромную серую сову с налитыми кровью глазами.
– Брось точило, – велела девушка.
Фэт-Фрумос бросил. Позади них тотчас выросла неприступная серая скала.
Фэт-Фрумос поехал еще быстрее.
– Печет, – повторила девушка.
Старуха проделала отверстие в скале и просочилась сквозь него струей обжигающего дыма.
– Брось косынку, – скомандовала девушка.
Фэт-Фрумос повиновался.
Они увидели позади себя широкое озеро, в котором купались серебристая луна и огненные звезды.
Фэт-Фрумос услышал длинное заклинание и поднял глаза на облака. В паре часов пути летела в поднебесье полночь на медных крыльях. Когда сумасшедшая старуха догребла до середины озера, Фэт-Фрумос подбросил вверх свою палицу, она стукнула о крылья полночи.
Будто камень, рухнула полночь на землю и жалобно прокаркала дюжину раз.
Луна скрылась за тучами. Старуха, под тяжестью железного сна, погрузилась в волшебное озеро, которое по центру поросло длинной черной травой. Так выглядела темная душа старухи.
– Спасен! – воскликнула девушка и ушла в туманное царство теней, откуда явилась на землю, вызванная колдовством старухи, а юноша один направился к замку Дженара.
В этот раз Дженар охотился на расстоянии семи дней пути. Фэт-Фрумос усадил его дочь на коня перед собой, и все семь кошачьих голов в один голос замяукали.
Конь Дженара громко заржал.
– Что стряслось? – спросил охотник.
– Фэт-Фрумос выкрал твою дочь, – сказал волшебный конь.
– Догоним мы его? – поинтересовался Дженар, недоумевая, почему Фэт-Фрумос жив.
– Нет, – молвил конь, – он скачет верхом на моем брате, у которого на пять сердец больше, чем у меня.
Атем временем Фэт-Фрумос с дочерью Дженара прибыли во дворец царя.
Никто уже не верил в возвращение Фэт-Фрумоса, а его невеста выплакала все глаза. Слез собралась полная золотая купель, в которой живой и невредимый Фэт-Фрумос смыл с себя дорожную пыль. Слепой уснула она в его объятиях, и снилось ей, что Богородица забрала с небосвода две голубые утренние звезды и положила их на ее лоб. Проснувшись, она снова стала зрячей.
На завтра была назначена свадьба царя с дочерью Дженара.
На послезавтра играли свадьбу Фэт-Фрумоса.
Впереди их ждала долгая и счастливая семейная жизнь, а если верить молве, что над Фэт-Фрумосами время не властно, то и вечная.
Жили-были два брата, умный и глупый. Умный принуждал глупого работать и так издевался над глупым, что в один прекрасный день бедняга не стерпел: не буду, дескать, при тебе жить, отдавай, что мне причитается, и разойдемся.
– Хорошо, – согласился умный. – Я покормлю скот, а ты в последний раз сбегаешь на водопой и приведешь его обратно. Какая скотина забредет в хлев – моя, какая стороной обойдет – твоя.
На улице стужа, а глупый погнал коров на водопой. Обратно замерзшая скотина не шла – неслась к хлеву, спеша оказаться внутри. Во дворе остался один лишь паршивый бычок – вот и все глупцово наследство.
Накинул глупец на шею своему имуществу веревку и потянул на базар. На пути им встретились развалины покинутого дома.
– Ну же, бычок, переставляй копыта! Ну же! – погоняет глупый, а развалины ему в ответ:
– Ну же!..
Глупый притормозил:
– Это ты мне. Да?
– Да… – отвечает эхо.
– Бычка возьмешь? Обойдется не накладно!
– Ладно…
– Сколько предлагаешь? Эй, говори опять…
– Пять…
– Немедля заплатишь мне?
– Не…
– Ну так я завтра приду. Где хочешь найди!
– Иди…
Глупый счел, что сделка состоялась, и привязал бычка у развалин, а сам отправился домой.
На следующее утро встал с петухами и отправился за деньгами. А бычка – вот незадача – ночью волки сцапали. Приходит глупый и видит одни кости.
– Выходит, – констатирует, – зарезал и слопал. Не бычок теперь, а кости и рога.
– Ага…
– Жирный, как по мне?
– Не…
Глупый не на шутку испугался, что останется без денег.
– Это, – сказывает, – не мое дело. Я продал, ты купил – и по рукам. Отдавай мои кровные, пять золотых. Заплатишь, не согрешишь?
– Шиш…
Тут глупый как разгневался, как схватил палку, как давай колотить по ветхим стенам. Раз за разом вышибает камень за камнем. Ему посчастливилось: ведь в этой стене был замурован древний клад. Камни выскочили, и золото стало падать к ногам глупого.
– Другое дело, – обрадовался глупый. – Только это перебор. С тебя пять золотых, а чужого мне не надо.
Взял свое и пошел домой.
– И как, продал бычка? – издевается умный брат.
– Да.
– И кому?
– Развалинам.
– И что, расплатились?
– Само собой разумеется, заплатили. И рады бы меня обмануть, да я надавал им от души палкой, они карманы и вывернули. Я взял свои пять золотых – и домой, а остальное и ныне там.
– Где развалины? – подступает к нему умный, а у самого глаза горят.
– И не подумаю говорить. Ты настолько алчен, что и сам нагребешь, и мне на спину взвалишь – прощай позвоночник.
Умный твердит, что сам все унесет, только указать надобно.
– Отдай, – просит, – мне свое золото и расскажи, где остальное взять. Сам-то гол как сокол, рванье носишь – куплю тебе обновок.
А глупый и уши развесил: протянул брату свои пять монет и проводил к развалинам покинутого дома. Сгреб умный золото, забрал домой. Разбогател. А глупому брату обновку все не покупает.
Обиделся глупый – и поплелся к судье справедливости искать.
– Многоуважаемый судья! Был я хозяином бычка, да продал его развалинам…
– Хватит, – остановил его судья. – И откуда в человеке столько глупости? Бычка он развалинам продал!..
И за порог дурака.
Тот пошел у других справедливости искать – все только пальцем у виска крутят.
И теперь носит глупый брат рванье, у случайных прохожих справедливости ищет, но кто его, дурака, послушает? Все пальцами у виска крутят. А умный брат со всеми заодно.
Жил да был петух. Раз, копаясь в мусоре, отыскал золотой. Вспорхнул на крышу и давай хвастаться:
– Ку-ка-ре-ку, я монетку нашел!
Сам царь крикуна услышал и приказал своим визирям деньги отобрать, а те и рады стараться.
Петух голосит:
– Ку-ка-ре-ку, царь меня обокрал и разбогател!
Царь отдал золотой визирям со словами:
– Отнесите ему обратно, а то опозорит нас на всю округу.
Вернули визири петуху монетку, а тот опять на крышу:
– Ку-ка-ре-ку, царь меня убоялся!
Разгневался царь и приказал своим визирям изловить птицу, свернуть шею и в супе на обед подать – съесть надумал. Схватили визири петуха. Несут, а он не умолкает:
– Ку-ка-ре-ку, царь меня в гости пригласил!
Швырнули крикуна в котел вариться, а он знай себе кричит:
– Ку-ка-ре-ку, ну и баньку царь мне истопил!
Уж и сварили петуха, подали царю, а обед ликует:
– С царем трапезничаем, ку-ка-ре-ку!
Хотел его царь целиком проглотить, а тот во все царево горло кричит:
– Гуляю по переулочку, ку-ка-ре-ку!
Царь смекнул, что так просто от петуха не избавиться, никак он не замолчит, и отдал приказ визирям выхватить мечи:
– Закричит – сразу рубите!
Визири приготовились.
Петух из царева живота кукарекает:
– Со света белого во тьму погружен, ку-ка-ре-ку!
– Рубите! – скомандовал царь.
Блеснули мечи визирей – охнули по цареву брюху.
Выкарабкался петух на волю, взмыл на крышу:
– Ку-ка-ре-ку!
Отправился как-то раз плотник на заработки. Дошел до какой-то деревни, глядь – а народ там дрова руками ломает.
– Эй, – окликнул он, – вы зачем руками дрова ломаете, словно у вас топора нет?
– Что еще за топор? – поинтересовались местные.
Вытащил плотник свой топор из-за пояса и на глазах у всех нарубил дров. Весть о топоре мигом облетела всю деревню.
Со всей деревни набежало крестьян, обступили они плотника, на кучу всякого добра топор выменяли.
Сговорились по очереди дрова рубить.
В первый день топор был у старосты. Только он удар не рассчитал – по ноге себе угодил, о чем не преминул раструбить на всю деревню:
– Смотрите-ка! Братец-топор из ума выжил – дерется!
То-то народу собралось с дубинками – заходились по топору стучать. Уж они его не щадили, а топору хоть бы что. Тогда они его подожгли.
Когда пламя поутихло, крестьяне увидели, что от топорища осталась лишь горстка пепла, зато сам топор как лежал, так и лежит, только что багровым сделался.
Все – в крик:
– Ой, беда! Братец-топор побагровел, знать, от гнева, теперь несчастья жди!
Судили-рядили и в тюрьму топор определили. Швырнули они топор в сенник, а тот, само собой, как спичка вспыхнул, дым коромыслом стоит.
Крестьяне в панике кинулись за столяром.
– Ступай, – говорят, – немедля, утихомирь свой топор!
Некогда жил себе бедняк. Поступил он на службу помощником рыбака.
Плата – пару рыбин в день, тем и кормились с женой.
Поймал раз рыбак красивую рыбку и сказал работнику проследить за ней, а сам – снова в воду.
– Господь всемогущий, – думает бедняк, – тоже ведь живое существо, родители у нее есть, товарки, чувства радости и боли.
Не успел о том помыслить, как рыбка заговорила.
– Так и есть, – отвечает, – брат мой. Я плескалась с товарками в речных волнах, и так мне было весело, что не помня себя попала в сети рыбака. Наверное, матушка уже хватилась меня и рыдает, а товарки грустят. Сама я едва жива без воды. Вот бы снова забавляться вместе с товарками в прохладных и чистых волнах. Прояви милосердие, отпусти меня…
Бедняк сжалился над рыбкой и бросил ее в реку.
То-то рыбак разозлился:
– Дуралей! Я по пояс в воде зябну, рыбачу, а ты мой труд не ценишь? Убирайся! Какой ты мне работник? Ступай помирать с голоду.
Выхватил у него корзину с рыбой и выставил бедняка прочь.
– Что же теперь делать, чем жить? – с такими мыслями побрел тот домой.
2
Грустит бедняк о своей бесталанности, и встречается ему на пути Чудовище в человеческом обличье, а перед собою гонит добрую корову.
– Привет, старина! Ты чего нос повесил, о чем печалишься? – интересуется Чудовище.
Поведал бедняк о своих несчастьях.
– Послушай, приятель, – говорит Чудовище. – Одолжу я тебе на три года свою корову. Будет у вас с женой молока непереводно, уж насытитесь. А по прошествии трех лет приду я к вам ночью с загадками. Ответите – корова вам останется, а нет – вы мне достанетесь.
«Голодной смерти не миновать, – мыслил бедняк. – Надо брать корову, три года продержимся, а там бог не выдаст, свинья не съест: то ли выход найдем, а то и загадки отгадаем…»
– Согласен, – только и сказал он.
Ударили по рукам, и бедняк повел корову домой.
3
Три года прожили старик со старухой как у бога за пазухой, пока срок не вышел.
Сидят теперь муж с женой да на дверь смотрят, предсказать пытаются, что за загадки им Чудовище приготовило.
И стучится к ним незнакомец.
– Здравствуйте, – приветствует юноша, – я путник. Дело к ночи, а я слишком устал, пустите меня на ночь.
– Пустить-то можно, только жаль нам тебя. Одолжили мы у Чудовища на три года корову, а сегодня оно явится к нам с загадками. Отгадаем – останемся с коровой, а нет – станем его рабами. Что бы ни случилось с нами, ты не должен пострадать.
– Я и о себе, и о вас позабочусь, – успокоил их гость и остался.
Пробило полночь, когда в дверь стали колотить.
– Кто?
– Чудовище с загадками.
Тут старик со старухой и вовсе дар речи потеряли.
– Я сам за вас отвечу, – подмигнул юноша-гость.
– Я прибыл, – напоминает о себе со двора Чудовище.
– Я тоже прибыл, – вторит ему из дому гость.
– Откуда ты прибыл?
– Из-за моря.
– А как?
– Оседлав хромого комара.
– Значит, море маленькое.
– Совсем не маленькое! Соколу и до середины не долететь.
– Значит, сокол еще птенец.
– Хорош птенец! Если «крылышки» расправит, на весь город тень отбрасывает.
– Значит, не город, а городок.
– Хорош городок! Зайцу его не обежать.
– Значит, не заяц, а зайчишка.
– Хорош зайчишка! Шкурки на шубу-шапку-обувь станет.
– Значит, носить будет карлик.
– Хорош карлик! Прокричи у него на голове петух, он и не услышит.
– Значит, он глухой.
– Как же – глухой! Серна далеко в горах траву жует – и то слышит.
Чудовище так растерялось, что не придумало ничего лучше, кроме как убраться восвояси.
То-то старик со старухой обрадовались! Утром гость собирался было продолжить свой путь…
– Ты не можешь так просто уйти! – преградили ему путь старик со старухой. – Мы тебе жизнью обязаны. Как отблагодарить тебя?
– Не стоит благодарности! Я должен идти.
– Назови хоть имя свое, чтобы мы знали, за кого молиться.
– Добро хоть в воду брось – не пропадет, не утонет. Помнишь, как отпустил ты говорящую рыбку? Так вот это был я. Теперь Чудовище узнало, как рыба может говорить, – сказал незнакомец и пошел своей дорогой.
Жил-был царь, страстный до небылиц охотник. И издал он указ: «Кто явится ко мне со своей выдумкой и в ответ услышит «лжец» – тому дарую полцарства».
Первым пришел пастух:
– Долгие лета тебе, царь! Владел мой отец дубинкой, которой можно было до самого неба дотянуться и млечный путь замутить.
– Не исключено, – кивнул царь. – Вот мой дед владел трубкой, так он ее от солнца прикуривал.
Ушел пастух с пустыми руками.
Его сменила швея:
– Прости, царь, что замешкалась. Вчера такая гроза случилась, что молния небеса разрезала – пришлось зашивать.
– Благое дело делала, – похвалил было царь. – Да, знать, гнилыми нитками штопала – утром дождь возобновился.
Ушла и швея несолоно хлебавши.
А бедняк с мерой в руках тут как тут.
– За чем пожаловал? – удивился царь.
– Ты мне меру золота задолжал.
– Я? Тебе? Меру золота? – вскричал царь. – Лжец!
– Ах, лжец? Полцарства вынь да положь.
– Святая правда, запамятовал! – стал искать пути к отступлению царь.
Уже не бедняк говорит:
– Ну так отсыпай меру золота!
Жил-был Назар-бедняк, человек без особых талантов и работать не любивший, к тому же трус, каких мало. День-деньской возле жениной юбки крутился, за что и прозвище свое получил – Назар Трусливый.
Как-то ночью вышли супруги во двор, а ночь выдалась светлая.
– Ну, жена! Такая ночь будто создана, чтобы грабить караваны, – размечтался Назар Трусливый.
– Нашелся разбойничек! – опустила его с небес на землю жена. – Из дому ни ногой!
Рассердился Назар:
– Глупая женщина! Не сметь мне перечить!
Жена – в дом, дверь – на засов:
– Чтоб тебе, трусу, пусто было! Иди грабь караваны! Что встал?
В тот вечер, несмотря на все мольбы Назара, дверь жена так и не отперла – пришлось на улице ночевать.
Уже был светлый день, когда лежал обездоленный Назар на солнышке, все надеясь, что его вот-вот впустят, когда привязались к нему мухи. Тут уж как не ленив был – замахнулся – разом всех, кто лицо его облепил, прикончил!
– Ну и ну! – удивился Назар.
Попробовал подсчитать потери врага, да сбился – так много мух полегло. Казалось, целая тысяча.
– Коли я такой богатырь, что мне делать рядом с этой глупой женщиной? – проговорил и пошел прямиком к сельскому попу, рассказал ему о намерении бросить жену и о своем ратном подвиге. А еще стал уговаривать попа как-нибудь его подвиг увековечить. Поп не без чувства юмора был, взял да и написал на полотне:
«Слава Назару Храброму, одним ударом тысячного врага разбившему!»
Назар прикрепил это полотно на шест, угнал соседского осла и покинул село.
Долго ли, коротко ли он ехал, прежде чем обуял его страх – так далеко от дома он еще не выбирался.
Уж Назар и напевал, и сам с собой беседы вел, и на осла покрикивал, а с первобытным ужасом совладать не смог. Как назло, начал реветь осел… Ну и Назар вместе с ним – кто громче?
А дальше дорога пролегала через лес, где за каждым кустом-деревом мерещился дикий зверь или лютый разбойник… Назар с ослом пуще прежнего орут.
Тем временем шел по лесу крестьянин, вел под уздцы коня. Оглушенный диким ревом, остановился, решил, что рыщут здесь разбойники, бросил коня и пустился наутек.
Так Назар Храбрый пересел с осла на коня, на котором добрался до незнакомой деревни. А там как раз свадьбу гуляли. Незваного гостя пригласили занять почетное место, кормили-поили, как короля.
Остальных гостей любопытство разобрало: кто таков этот пришелец? Тут местный поп, не зря будь грамоте обучен, разобрал письмена на знамени гостя:
«Слава Назару Храброму, одним ударом тысячного врага разбившему!»
Скоро все наперебой твердили, что перед ними сам Назар Храбрый, одним ударом тысячного врага разбивший!
– Да, это Назар Храбрый! – кивнул какой-то пустомеля. – Его и не узнать!
Кто-то взял на себя труд поведать о подвигах Назара, кто-то козырял давнишним с ним знакомством…
– Что же такой герой ездит без оруженосца? – недоумевали некоторые.
– Это в его стиле! Назар Храбрый однажды сказал мне: «К чему мне слуги! Весь свет – слуга у моих ног».
Гости пили за здоровье Назара Храброго, в его честь слагали песни, а оставив свадебный пир, пустили слух о нем на весь мир. Младенцев стало модно называть Назарами.
А Назар, оставив далеко позади радушную деревню, пустил коня жевать сочную траву, а сам прилег отдохнуть на зеленой полянке.
Господами этих земель были семь братьев-великанов, семь разбойничьих атаманов. Выглянули они из окон своей крепости на вершине холма и заметили путника, расположившегося на их лугу. Захотелось им знать, кто этот дерзкий пришелец.
Похватали они свои тяжелые дубинки – и на луг, а там мирно пасется конь и безмятежным сном спит человек под развевающимся на ветру знаменем. Стали они читать:
«Слава Назару Храброму, одним ударом тысячного врага разбившему!»
– Так ведь это сам Назар Храбрый!
Даже великаньих ушей достигла весть о народном герое. В ужасе ждали они пробуждения Назара.
А тот, как увидел склонившихся над собой семерых свирепых великанов с дубинками наперевес, задрожал, как осина на ветру, и побледнел.
От великанов не укрылось, что он изменился в лице, но они решили, что он побелел от ярости и готовится одним ударом сразить их всех. Пали они ниц и залепетали:
– Слава Назару Храброму, одним ударом тысячного врага разбившему! Счастлив наш бог, что легендарный Назар сам к нам пожаловал. Мы, семеро братьев, будем служить тебе верой и правдою. Следуй за нами вон в ту крепость на вершине холма, окажи честь хозяйке – нашей сестре-красавице. Не погнушайся нашего хлеба-соли.
В крепости его принимали по-царски, а бесконечные рассказы о его подвигах сделали свое дело: красавица великанша влюбилась в Назара Храброго, что опять же сыграло ему на руку.
В это время объявился в окрестностях тигр и повадился разорять эти земли. Честь убить зверя, естественно, выпала Назару Храброму!
Узнав об этом, Назар бросился бежать по направлению к родному дому, но все решили, что он выступил на тигра. Невеста его остановила:
– Без оружия не пущу. Вооружись – и счастливой охоты!
Принял Назар оружие из ее рук и поплелся в лес. Взобравшись на дерево, он надеялся так разминуться с хищником.
А чертов тигр, как нарочно, разлегся под тем самым деревом. Увидев зверя, Назар с перепугу свалился с дерева… прямо на полосатую спину – зверь как понесет! Перед глазами у Назара замелькали долины и горы… А народ только диву давался: Храбрый Назар оседлал тигра!
Подпитались они отвагою у своего легендарного героя, с воинственным кличем и вооруженные чем попало напали они на тигра и убили зверя.
– Досадно! – сказал Назар, когда все уже было позади. – И надо было убивать его теперь, когда он укрощен мною? Мы ведь мчали быстрее ветра.
Известие о победе над зверем донеслось до крепости. Мужчины и женщины, старики и дети – все вышли встретить триумфатора.
На радостях сыграли свадьбу Назара Храброго с красавицей великаншей. Неделю славили молодых.
А ведь у сестры великанов уже был жених – правитель соседней страны. Как узнал он, что его невеста отдана другому, собрал рать и пошел войной на семерых разбойничьих атаманов.
Выстроились великаны перед Назаром Храбрым – ждут приказов.
Снова Назар хотел сбежать в родное село. А все решили, что он в чем был хочет отразить атаку врага, стали его за руки хватать: «Погоди воевать без меча и доспехов. Хоть и герой ты, да об одной голове!»
Шпионы соседского короля свою работу знали, и прокатилась по вражескому лагерю молва, что Храбрый Назар в одиночку, безоружный на поле брани спешит. С трудом удержали его. Теперь же за ним стоят стройные ряды солдат.
Вывели на ристалище необъезженного жеребца, помогли Назару в седле устроиться.
Солдаты принялись горланить, следуя за своим военачальником:
– Слава Назару Храброму! Смерть врагу!
Лихой конь, почуяв под собой неуверенного ездока, заржал и пустился на врага во весь опор. Солдаты решили, что Назар Храбрый управляет жеребцом, и с кличем ликования бросились в атаку.
Понял Назар, что не удержаться ему в седле, схватился, как за последнюю соломинку, за дерево, а оно гнилое. Так в руках Назара оказался обломившийся сук толщиной с приличное бревно. Вражеское войско от такого зрелища бросилось врассыпную с криками:
– Спасайте свои жизни! Назар Храбрый деревья с корнями вырывает!
Победителем возвращался Назар Храбрый в крепость великанов – его ждал трон.
В замке Бамборо жил король. У него была красавица жена и двое детей: сын, которого звали рыцарь Винд, и дочь Маргарита. Рыцарь Винд отправился в чужие края на поиски счастья, и вскоре после его отъезда умерла королева. Король долго печалился о ней, но однажды во время охоты он встретил девушку необычайной красоты и решил жениться на ней. Он послал домой гонца с известием, что скоро привезет в замок Бамборо новую королеву.
Принцесса Маргарита была недовольна, узнав, что мачеха займет место ее матери, но не стала жаловаться и в назначенный день подошла к воротам замка с ключами, чтобы передать их мачехе.
Вскоре к воротам подъехала процессия, и новая королева остановилась возле принцессы. Маргарита низко поклонилась мачехе и стояла, опустив глаза, ее щеки горели.
– Приветствую тебя, дорогой отец, в твоем наследственном замке, – сказала она, – приветствую тебя, моя новая мать, все, что здесь есть, – твое. – И она подала ей ключи.
Один из рыцарей, сопровождавших новую королеву, воскликнул:
– Воистину прелестнее этой северной принцессы нет никого на свете.
Королева вспыхнула, ее глаза засверкали, и она про себя пробормотала: «Скоро я положу конец ее красоте».
В эту же самую ночь королева, которая, как оказалось, была волшебницей, прокралась в уединенный подвал и стала там колдовать. Трижды она произнесла свои заклинания и наконец околдовала принцессу Маргариту. Вот что шептала злая королева:
– Ты сделаешься страшным змеем и останешься чудовищем до тех пор, пока рыцарь Винд, сын короля, не придет в скалы Спиндль и не поцелует тебя трижды.
Так леди Маргарита легла спать красивой девушкой, а проснулась страшным змеем. Утром в комнату принцессы вошли служанки и увидели, что на ее постели, свернувшись, лежит страшное чудовище, оно развернулось и поползло к ним навстречу. Девушки с криком убежали, а змей выполз из окна, направился к скале Спиндль и лег там, высунув страшное жало.
Вскоре все в окрестности узнали о том, что в скалах Спиндль поселился громадный змей. Проголодавшись, чудовище выползало из своей норы в пещере, бросалось на всякое живое существо и пожирало его. Все были в ужасе. Наконец крестьяне пошли к старику отшельнику и спросили его, что им делать.
Он посмотрел в свою книгу и сказал:
– Страшный змей – это принцесса Маргарита, она от голода делает такие ужасные вещи. Носите ей каждый день молоко и хлеб. Молоко оставляйте в кадках, а хлеб кладите на камни. Змей перестанет беспокоить окрестности. Если же вы желаете, чтобы к Маргарите вернулся ее прежний образ и с нее спали чары, пошлите за ее братом, рыцарем Виндом.
Все сделали так, как велел отшельник. Змей пил молоко, ел хлеб и не беспокоил более окрестности.
Когда рыцарь Винд услышал, что принцесса околдована, он поклялся освободить сестру. Ту же клятву повторили тридцать три солдата из его отряда. Они принялись задело: выстроили продолговатый корабль, киль которого сделали из тиса, и двинулись к замку Бамборо.
Но когда корабль подходил к гавани, волшебная сила подсказала мачехе, что ей грозит опасность. Она побежала в подземелье, созвала подвластных ей духов и сказала им:
– Через море плывет рыцарь Винд. Он не должен высадиться на берег. Поднимите бурю, сделайте все, что хотите, только помешайте ему ступить на землю.
Духи помчались навстречу кораблю. Но когда они подлетели к нему, то почувствовали, что ничего не могут сделать, так как его киль был из дерева тиса, на которое волшебство не действует. Печально вернулись они к королеве-волшебнице и сказали ей об этом. Долго она не знала, что предпринять, наконец велела своим воинам напасть на рыцаря Винда, когда он высадится в гавани. Кроме того, при помощи чар она приказала змею не пускать Винда на берег.
Когда корабль подошел довольно близко к берегу, змей бросился в воду, окружил корабль рыцаря Винда своими кольцами и отнес его далеко от берега. Три раза рыцарь Винд приказывал своим воинам грести изо всех сил к гавани, но каждый раз змей мешал ему пристать к берегу. Наконец рыцарь приказал повернуть судно в другую сторону.
Королева-волшебница подумала, что он решил бросить попытку высадиться на берег. Однако Винд просто проплыл подальше, пристал к другому месту и благополучно высадился там. Обнажив меч, натянув лук, он бросился вместе со своими воинами на страшного змея.
В то мгновение, когда нога рыцаря Винда ступила на берег, королева потеряла свою колдовскую силу. Она пошла к себе в башню. Теперь ни один дух, ни один воин не мог помочь ей, она знала, что настал ее последний час.
Тем временем рыцарь Винд бросился на змея, и чудовище не причинило ему никакого вреда, напротив, в ту минуту, когда молодой человек занес меч, чтобы поразить его, из страшных челюстей змея раздался нежный голос принцессы Маргариты.
– Брось меч, – говорила она, – опусти лук, поцелуй меня трижды, я не сделаю тебе ничего плохого.
Рыцарь Винд опустил руку и не знал, что делать. Он думал, что тут замешано новое волшебство. Между тем змей опять сказал:
– О, брось твой меч, опусти твой лук и трижды поцелуй меня, потому что, если ты не снимешь с меня чары до заката солнца, я никогда не приму прежнего облика.
Рыцарь Винд подошел совсем близко к змею и поцеловал его. Не произошло никакой перемены. Рыцарь Винд поцеловал его во второй раз, опять ничего не случилось. Когда же он в третий раз поцеловал отвратительное существо, змей с ревом и свистом отступил от него и из его кожи выскочила принцесса Маргарита. Брат накинул на нее свой плащ и пошел вместе с нею в замок.
Войдя в свой старый дом, он поднялся по лестнице в башню мачехи и, увидев ее, дотронулся до ее плеча веткой тисового дерева.
Как только ветка коснулась королевы-волшебницы, она задрожала и стала делаться все меньше и меньше. Наконец на глазах принца она превратилась в большую безобразную жабу с блестящими глазами. Со страшным шипением жаба сбежала по ступеням дворца и скрылась.
Еще до сих пор в окрестностях замка Бамборо ползает громадная черная жаба. Это заколдованная злая королева.
В старинные времена в одном из северных графств Англии жил богатый и знатный барон, который в то же время был могущественным волшебником и знал все, что должно случиться. Однажды, когда его маленькому сыну минуло четыре года, он заглянул в волшебную книгу, чтобы посмотреть, что будет с мальчиком. К своему отчаянию, барон увидел в ней, что его сын со временем женится на совсем простой девушке, которая только что родилась в семье очень бедного человека, в маленьком доме, стоявшем в тени Йоркского собора.
Барон тотчас же велел привести себе коня, вскочил в седло и помчался в город. Разыскав дом, о котором говорилось в волшебной книге, и проехав мимо его крыльца, он увидел бедняка, который печально сидел у порога. Барон соскочил с коня, подошел к бедняку и спросил:
– Что с тобой, добрейший?
– Видите ли, ваша милость, – ответил бедняк, – у меня уже было пятеро детей, когда появилась на свет шестая девочка. Откуда я возьму столько хлеба, чтобы прокормить всех их?
– Не падай духом, – сказал барон, – я тебе помогу. Я возьму новорожденную девочку к себе, и тебе не придется заботиться о ней.
– От всей души благодарю вас, сэр, – сказал бедняк.
Он вошел в домик, вынес оттуда новорожденную и подал ее барону. Тот вскочил на коня и увез маленькую девочку. Подъехав к берегу реки, он бросил малютку в воду и поскакал к своему замку.
Но малютка не утонула. Некоторое время пеленки и одеяльце поддерживали ее на поверхности воды, и она плыла, пока поток не выбросил ее на отмель напротив рыбачьей хижины. Тут ее нашел рыбак, он пожалел малютку и взял к себе в дом. Девочку окрестили и назвали Нелли. Она прожила у рыбака до пятнадцати лет и стала красавицей.
Однажды барон и его товарищи охотились на берегах реки Узы и остановились возле рыбачьей хижины, чтобы напиться. К ним вышла пятнадцатилетняя девушка и принесла им воды. Все они заметили красоту Нелли, и один из приятелей барона сказал ему:
– Вы умеете угадывать судьбу, барон, скажите, за кого она выйдет замуж?
– О, это легко угадать, – сказал барон, – она обвенчается с каким-нибудь бедняком. Но, если угодно, я погадаю ей. Подойди-ка ко мне, милая, да скажи, в какой день ты родилась?
– Не знаю, сэр, – ответила девушка, – меня подобрали на берегу. Говорят, меня принесло течением реки к этой отмели пятнадцать лет назад.
Барон отлично понял, кто эта девушка, и когда охотники поехали дальше, он сначала поскакал вместе с ними, а потом вернулся к хижине рыбака и сказал Нелли:
– Послушай, девушка, я хочу тебя осчастливить. Возьми вот это письмо и отнеси его к моему брату в Скарборо, там ты и останешься на всю жизнь.
Девушка взяла письмо и сказала, что охотно исполнит приказание барона. Между тем вот что писал он:
«Дорогой брат, схвати подательницу этого письма и тотчас же вели ее казнить.
Девушка немедленно двинулась в путь, но по дороге ей пришлось заночевать в маленькой гостинице. В эту же ночь на гостиницу напала шайка разбойников. Схватив девушку, они скрутили ей веревкой руки, завязали ей глаза и обыскали ее карманы, но нашли только письмо. Разбойники его распечатали, прочитали и решили, что безжалостно казнить такую красивую и кроткую девушку. Предводитель взял перо, лоскуток бумаги и написал:
«Дорогой брат, немедленно обвенчай подательницу этого письма с моим сыном.
Он отдал письмо Нелли и приказал ей идти дальше.
Она пришла в Скарборо к благородному рыцарю, у которого в то время гостил его племянник – сын барона. Прочитав письмо, рыцарь приказал немедленно сделать все приготовления к свадьбе и в тот же день обвенчал Нелли с молодым бароном.
Вскоре после этого сам барон приехал в замок брата и с удивлением увидел, что совершилось именно то, чего он так боялся. Однако молодые люди были уже обвенчаны. Тем не менее барон решил избавиться от Нелли. Он предложил ей погулять и повел ее на прибрежные утесы. Оставшись вдвоем с Нелли, барон схватил ее за руки и хотел сбросить в глубины морские. Но Нелли стала трогательно умолять его пощадить ее.
– Я не сделала ничего дурного, – сказала она, – и если только вы меня не убьете, я исполню все, что вы прикажете. Если вам угодно, ни вы, ни ваш сын никогда больше не увидите меня.
Барон снял с пальца золотой перстень и, бросив его в море, сказал:
– Не показывайся мне до тех пор, пока не увидишь этого кольца.
Бедная Нелли ушла. Она долго бродила, наконец увидела большой красивый помещичий дом и попросила дать ей какую-нибудь работу. Ей предложили сделаться кухаркой. Она согласилась.
И вот однажды она увидела, что в дом помещика входит барон со своим братом и сыном. Нелли не знала, что ей делать, но вскоре успокоилась, подумав, что никто из них не увидит ее.
Бедняжка вздохнула и принялась чистить большую рыбу, которую нужно было приготовить к обеду. Когда Нелли потрошила ее, она заметила в ней что-то блестящее, вынула золотую вещицу и узнала кольцо барона, которое он бросил с высокого утеса в Скарборо. Нелли очень обрадовалась и, конечно, постаралась как можно лучше сварить рыбу.
Гости помещика съели рыбу и нашли, что она приготовлена необыкновенно хорошо, спросили хозяина дома, кто варил рыбу. Помещик сказал: «Не знаю», – и позвал в столовую своих слуг.
– Пришлите сюда кухарку и повара, варившего эту чудную рыбу, – приказал он им.
Слуги побежали в кухню и сказали Нелли, что ее зовут в столовую. Она оправила платье, надела золотой перстень барона на палец и вошла в нарядную комнату.
Гости увидели молодую красивую кухарку и удивились. Барон же пришел в бешенство. Он кинулся на нее с кулаками, но Нелли шагнула ему навстречу и показала руку, на которой блестело кольцо. Потом она сняла перстень с пальца и положила его на стол.
Тут барон наконец-то понял, что он не в силах бороться с судьбой, подал девушке руку, подвел к столу и объявил всем, что это жена его сына.
1
Косящато окно – окно, сделанное из деревянных косяков.
2
Фирман – указ султана или шаха.
3
Повытчик – столоначальник, ведающий отделом учреждения.
4
Посольщик – гонец, посыльный.
5
Поршни – род легкой обуви, сделанной из куска сырой кожи или шкуры.
6
Просить (на кого-либо) – подавать жалобу в суд.
7
Протори – издержки, расходы (устар.).
8
Кнастер – крепкий курительный табак.
9
Каболка – пеньковая нить.
10
Тавлинка – берестяная табакерка.
11
Шкаторина – нижний край паруса.
12
Пертулинь – якорный канат.
13
Лещедка – расколотая на конце, расщепленная палка, для сжиманья, ущемленья; орудие птицелова.
14
Кат – палач.