Книга: Двенадцать, или Воспитание женщины в условиях, непригодных для жизни

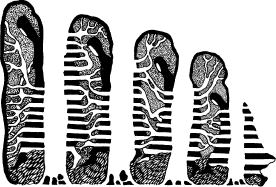
Двенадцать, или Воспитание женщины в условиях, не пригодных для жизни
«Роман — не авторская исповедь, а исследование того, чем является человеческая жизнь в той ловушке, в какую превратился мир».
«Во вселенной существует планета, где все люди рождаются во второй раз. При этом они полностью осознают свою жизнь, проведенную на Земле, и весь приобретенный там опыт».
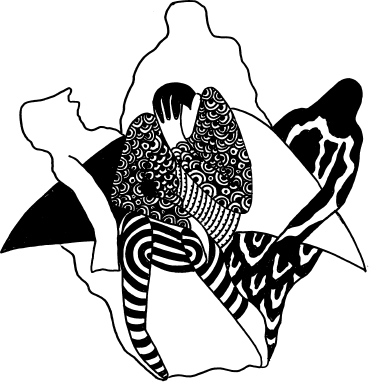
1
…Я выхожу в сумрачное морозное утро — будто ныряю в противную мутную и холодную воду. Включаю автопилот. И просто пытаюсь достаточно четко переставлять ноги. Чтобы идти. Вдоль домов. По аллее промерзших деревьев. К остановке. Я вставляю в уши наушники и надеваю на нос солнцезащитные очки, хотя солнца нет уже недели две. Просто мне не хочется смотреть на мир. Надеюсь, он ко мне тоже неравнодушен. И поэтому он время от времени переворачивается и выливает на меня всю свою грязь.
Я делаю то же самое. В маршрутку передо мной лезет какая-то уродка в шубе из дохлых кошек. «Куда прешься, зараза?» — мысленно ругаюсь я. (Хотя в общем-то я довольно-таки вежливая и любезная. Порой даже детей называю на «вы»). Потом взгляд выхватывает из толпы какую-то бабку. «А тебя куда несет в час пик? Сидела бы дома у батареи, если они еще греют…» Потом все зло мира концентрируется на юнце с инфантильным выражением лица. Интересно, сколько невинных девичьих жизней он перепортит, прежде чем заляжет на диване в ожидании жареной курицы под соусом тартар?
Этим утром (собственно, такое случается довольно часто) я не люблю мир. И ему на меня наплевать. Он знает, что слишком мал. Он мне тесен. В нем воняет бензином, носками, духами, селедкой. И нет места для сороковой симфонии Моцарта или для «Лакримозы». В нем нет места (и времени) для слез. Вообще-то я не плачу вот уже несколько лет — наверное, пять или десять. Такой себе робот на автопилоте… Надо же было прожить столько лет, чтобы понять, что смысла в жизни нет. И твоя судьба зависит лишь от того, сбросил ли какой-нибудь ангел перышко, пролетая над твоей колыбелью. Хорошо тем счастливчикам, к которым прикоснулся он САМ. Но таких немного. Наверное, над моей детской кроваткой почистил свои взъерошенные перья кто-то другой, самый мелкий из божьей свиты воробей.
Иногда на меня накатывает мощная волна благотворительности. Тогда я раздумываю над тем, не собрать ли с улиц бездомных собак или не пойти ли работать в детский дом. Предложение (одной знакомой) поработать в доме скорби застало меня врасплох именно в такой момент.
«У тебя будет свой кабинет, — говорила знакомая. — Работа спокойная. Будешь вызывать к себе пациентов. Часок-другой поговоришь — и свободна! Все равно их вылечить невозможно! А единица такая в больнице есть.
Пусть это будешь ты». Я привыкла быть единицей и поэтому сразу согласилась.
И вот я еду в маршрутке, нацепив наушники и очки. Приступ благодетельности прошел, а трудовая книжка уже лежит в сейфе главврача. Надо отбыть хотя бы пару недель.
Я еду. Смотрю в окно. Стараюсь не замечать, что на мое плечо оперся тот самый юнец с розовым лицом резинового пупса. В моих ушах звучит «Лакримоза». С нею я погружаюсь в вечность. И такие слова, как «дерьмо» или «сука», медленно испаряются из моего лексикона. Тетка в шубе из кошек мне уже почти нравится, старая дама вызывает жалость… Моцарт делает свое дело.
Кто-то может подумать, что я — несчастный человек. Ведь у благополучных только одна запись в трудовой книжке, у них есть семья, может быть, дачный участок. А я могу прожить семь пятниц на неделе. И несколько жизней в придачу, пока еду в этой маршрутке. Поэтому, думаю, возможно, сейчас и нашла свое место? В Желтом доме. В уютном кабинете с кушеткой и полукруглым столом. Неплохо, если бы это было так. Посмотрим…
На самом деле не так уж я не люблю этот мир. Я просто хочу перестроить его. Под себя. Для этого нужна незаурядная хитрость. Ведь постоянно приходится делать вид, что сама перестраиваешься под него. Чтобы не выделяться среди других.
Какая-то девочка напротив слишком пристально всматривается в мое лицо. Ее взгляд лишен случайного любопытства. Я это знаю наверняка. Взглянув один раз, она просто сверлит меня глазами. Вернее сказать — поедает. Я даже чувствую, как мое лицо тает, как мороженое на солнце.
— Извините, — наконец нерешительно шепчет она, — это о вас статья в «Подиуме»?
«Подиум» — это иллюстрированный модный журнал.
— Нет, — говорю я, — вы меня с кем-то перепутали.
Девушка в сомнении кивает головой:
— Да нет… На вас был вот этот перстень…
Кольца — это моя слабость. И если в мире много похожих лиц, то сочетание знакомого кольца со знакомым лицом — это уже вещественное доказательство. Цена моей славы — вот такие восторженные взгляды юных девиц, которые мечтают попасть в глянцевый журнал.
— Нет-нет, — повторяю я и отворачиваюсь к окну. Включаю музыку в плеере громче. Я хочу перевернуть эту страницу. Она слишком блестит…
Собственно, я еще ничего не сделала, чтобы привлекать к себе внимание. А все, что достигнуто, осталось в прошлой жизни, о которой не хочется вспоминать. Я давно уже ничего не пишу, но и сейчас слышу этот въедливый вопрос: «Как к вам приходят такие сюжеты?»
Для меня это очень сложный вопрос. Трудно объяснить нормальным людям…
Вот сейчас я смотрю на женщину в шубе из кошек. И меня потихоньку начинает тошнить. Бывают шубы из такого меха, что и не поймешь, что это такое — хвосты или спинка. Кажется, это просто мягкая пушистая ткань фабричной выделки, которая ну никак не связана с убийством, со смертью… Но кем нужно быть, чтобы приобрести именно такую — шкурки, явно содранные с дворовых кисок — серых в тоненькую полоску, сшиты так, что почти видны их распятые тельца. В подмышках серые полоски прерываются двумя белыми пятнышками. У несчастного животного были «особые приметы». Наверное, по ним ее и разыскивала хозяйка, обходя помойки и приюты для животных. «Вы не видели?.. У нее еще два таких пятнышка… белые… на спинке…» Вот они, эти пятнышки, прямо надо мной, под высоко поднятой рукой тетки, вцепившейся в поручень.
Меня тошнит. Надеюсь, вас тоже…
И вот эта тетка в шубе выходит из маршрутки (она, понятно, еще едет, держа над моей головой свою руку с этими пятнышками, но мое воображение уже выталкивает ее наружу), куда-то идет (куда — для нас не имеет значения) и натыкается на безутешную хозяйку определенной части своей верхней одежды. Той, что в подмышке. Они могут сначала поболтать о погоде, о детях или мужьях… Пока хозяйка мурки не заметит распятый силуэт с двумя белыми пятнами.
Дальше из этой ситуации можно делать все что угодно. Комедию, драму, триллер. Развивать в разных направлениях, раздувать страниц на четыреста, вводя туда кучу героев — тоже довольно разных. От слесаря Васи до олигарха N.
Дело не в них. Дело в… маленькой гребенке, на которой играет мелодию герой фильма Кислевского «Три цвета. Белый» — сначала на полу парижского метро, потом — в собственном офисе в Варшаве. То есть дело в направлении мысли, в конце концов — в деталях. Вот в этой шубе из домашних животных, в белых пятнышках в подмышках, из которых может разыграться настоящая шекспировская драма.
Эту историю я никогда не напишу. Она всплыла случайно и канула в небытие. Собственно, их вокруг меня — полно. На них я зарабатывала кучу денег, отправляя когда-то свои первые опусы в разные журналы. В общем-то, это — перевернутые страницы моей жизни. Я сменила имя, постриглась и перекрасилась, бывшие знакомые меня не узнают. Остались такие вот безумные поклонники, как эта девчушка. Да и те узнают меня не потому, что читали, а потому, что мое лицо раньше часто появлялась на телевидении и страницах прессы, в частности модной, глянцевой. То есть такой, которую они читают, надеясь удачно выйти замуж или профессионально намалевать на своем лице черты какой-то Кайли Миноуг. Иногда я получала от них письма. Они воспринимали мои истории всерьез. Так же, как я воспринимала романы своих любимых писателей.
Но когда я поняла, КАК все делается — мне надоело читать.
Непостижимым для меня остался только Шекспир. Технологию других вещей я начала понимать. И когда это произошло, решила — настало время изменить судьбу.
Участие во всеобщей профанации — не мой путь.
— Вот вы какая… — говорит главврач, и я прихожу в ужас: неужели он любитель модных журналов? — Моя жена, когда услышала, что вы будете у нас работать, очень обрадовалась. Велела непременно взять у вас автограф. Завтра я принесу журнал. Она их собирает.
Я молча вежливо улыбаюсь. Внутри подташнивает, сосет под ложечкой, как при чувстве голода.
— Ну вот, — говорит главврач, — сейчас пойдем, посмотрим ваш кабинет.
Он рассказывает о моих обязанностях, о режиме работы, о больнице и персонале.
Для меня главное то, что я буду сидеть в отдельной комнате и, возможно, буду облегчать участь каких-то несчастных своим общением с ними.
— Я назначил вам третью и седьмую палаты, — говорит главврач. — Люди там тихие, спокойные. Единственное, чего им недостает, — это общение. Собственно, должность, на которую мы берем вас, — это мое «ноу-хау».
Он пускается в пространные пояснения, как и почему возникла идея «психоспикера» (так он назвал эту должность). Но мне и так все ясно.
— Прекрасная идея! — говорю я.
Врач продолжает с воодушевлением свой рассказ. Наверное, ему тоже не хватает личного психоспикера. Всем хочется говорить. И всем кажется, что нет ничего важнее событий его жизни. В конце концов, так оно и есть…
Врач ведет меня в кабинет, который должен стать моим. Кабинет уютный, с фигурными решетками на окне. Тут есть кресло, стол со стулом, небольшой шкаф и торшер — для создания иллюзии домашнего уюта. Стены — белые. По ним вьются пластиковые заросли. Скоро их сниму, думаю я, заменю на несколько вазонов с настоящими цветами.
— Ну вот, — говорит главврач, — располагайтесь. Можете начать знакомство с вашими подопечными хоть сейчас. В вашем распоряжении — сестра-хозяйка. Она принесет все необходимое. В коридоре сидит дежурная — она вам все покажет и расскажет. Возникнут вопросы — я всегда к вашим услугам.
Он направляется к двери, и я понимаю, что птичка попала в клетку…
— И вот еще что… — оборачивается ко мне главврач, уже стоя за порогом. — Совсем забыл: все разговоры должны быть записаны на магнитофон! Это необходимо для лечения. Встречаются интересные экземпляры…
Он закрывает за собой дверь, до последнего мгновения наблюдая за мной. Последним в щелке исчезает длинный мясистый нос. Я сохраняю приветливую улыбку. Наверное, я тоже интересный экземпляр?..
Позже сестра-хозяйка — полная тетенька в синем халате — заносит в комнату электрический чайник и магнитофон со стопочкой кассет.
Еще через пару минут в дверь стучит дежурная медсестра, которая сидит «на коридоре».
— Сейчас у нас завтрак, — говорит она, — а после двенадцати я приведу к вам первого. Вот его карточка. Ознакомьтесь пока.
Она не проявляет ко мне никакого интереса. Я для нее — новая сотрудница.
Я чувствую, что птичка уже увязает в чем-то мягком и влажном по самые уши.
— Ну конечно! — говорю я, сажусь за стол и раскрываю карточку. С умным видом углубляюсь в чтение. Медсестра точно так же закрывает двери, наблюдая за моими движениями. Наверное, у них так заведено. Так же они закрывают двери палат. Хорошо, что на моей нет окошка, вырезанного посредине.
Я пытаюсь разобраться в разнокалиберных врачебных почерках. Ничего не смысля в специфических терминах, перелистав энное число страниц, откладываю карточку в сторону. В конце концов, я не врач — я «психоспикер», мне нужно просто побеседовать.
Около двенадцати я начинаю дергаться. Дважды за полчаса я тайком пробираюсь в служебный туалет (для этого нужно просить ключи у «коридорной» — и это очень неприятно), потом вставляю кассету в магнитофон, проверяю, все ли в порядке, сажусь за стол, смотрю на дверь. Наконец в нее стучат. Дверь робко открывается.
— Можно?
Вот он, первый. Я смотрю на карточку и читаю имя и фамилию.
— Пожалуйста, смелее, — приветливо говорю я, нажимая под столом кнопку записи. — Садитесь. Давайте знакомиться.
Я представляюсь и вопросительно смотрю в глаза мужчине без возраста. У него седые волосы, аккуратная треугольная бородка (он мне напоминает Рериха) и светлые, почти прозрачные глаза. Мне немного неловко смотреть на его халат и пестрые тапочки. Ему бы был к лицу твидовый пиджак с галстуком-бабочкой…
— Моего имени история не сохранила, — произносит пациент. — Я — технолог. Можете называть меня так.
— Хорошо. А какого производства?
Он морщится и подергивает плечами.
— Моего имени история не сохранила, — повторяет он и продолжает: — Абиотические факторы — те, что влияют на компоненты экосистем и силы неживой природы. В частности, газовый состав воздуха, температуру, влажность или сухость, привкусы… Но суть не в этом. Она в альбедо, то есть в белизне, то есть в способности поверхности отражать поток излучения, в частности в отражении планетами потока света, падающего на их поверхность… Собственно, я не тщеславный. Суть не в этом.
Я тупо смотрю на его бородку. Глаза пациента излучают непостижимую мудрость. В магнитофоне зря крутится пленка, записывая полную абракадабру. Я не знаю, как прервать этот поток.
— История не сохранила моего имени не только потому, что я сознательно отошел в тень. Все намного проще: было бы странно вписывать себя в свою историю — в рамки, выстроенные собственноручно для других. В совокупности эволюционных процессов у популяции возникают новые виды. Микроэволюция приводит к мутациям, порой к мутуализму — такой форме межвидовых отношений, когда взаимодействие двух видов выгодно каждому из них…
— Это очень, очень интересно, — говорю я, сознавая, что тут — безнадежный случай, название которому может дать только главврач.
Я уже не пытаюсь понять. Мое дело — выслушать. По крайней мере, делать вид, что слушаю… Слежу за тем, как двигаются его губы и подергивается белый треугольник бородки. Интересно, кто так аккуратно подстригает ее каждое утро? Неужели он сам? Наверное, нет, ведь пациентам запрещено иметь ножницы… Постепенно ловлю себя на том, что мне неважно, о чем он говорит. Главное — интонация. А она убаюкивает. Я даже вздрагиваю, когда он перестает говорить.
— Я сделал все, что мог, я умываю руки…
Он добавляет еще несколько фраз и сцепляет пальцы в замок. Сейчас он кажется вполне нормальным. Такой себе мужчина, увлеченный неведомой мне наукой.
— Хорошо, я вам очень благодарна, — вежливо говорю я, выключая магнитофон. — Но в следующий раз мне бы хотелось, чтобы вы ответили на несколько моих вопросов. Договорились?
Он послушно кивает головой. В его взгляде вспыхивает на миг нечто вроде иронии. Ясное дело: ему не о чем говорить с такой невеждой, как я.
Вызываю коридорную. Она уводит пациента. Он покорно уходит, оглядываясь на меня.
— До встречи, — говорю я.
Взглянув на часы, понимаю, что на следующего «клиента» у меня не хватит ни времени, ни сил. Учитывая, что домой мне добираться не менее полутора часов, начинаю собираться. Я еще не уверена, что вернусь сюда завтра. «Ты этого хотела? — говорю сама себе. — Ты это получила. Тихое место, непыльная, хоть и низкооплачиваемая работа и море общения с возможностью молчать». Я бросаю в сумку кассету. Не знаю зачем, но бросаю. Возможно, этот жест — механический?
— Ну как вам? — спрашивает дежурная медсестра, и в ее ухмылке просматривается издевка.
Представляю, что она думает обо мне.
— Интересно, — говорю я.
— Завтра будет еще интереснее, — бесцветным голосом произносит женщина.
Я хочу избежать общения и быстро иду к лестнице. Кажется, выход должен быть где-то слева. Я иду вниз, вдоль белых стен царства теней, прохожу через стеклянную дверь вахты и выхожу во двор. Чтобы добраться до остановки, нужно пройти по фруктовому саду, потом через домик еще одной охраны. На улице холодно, поэтому никто не гуляет. Оглядываясь на здание, вижу в окне третьего этажа размытый силуэт. Почему-то мне кажется, что это он — тот, кто называет себя «технологом». От взгляда сверху у меня всю дорогу к остановке зудит затылок…
В маршрутке я заснула и едва не проехала свой дом, в котором два месяца назад сняла квартиру. Наверное, еще не привыкла к новому месту. Предательская мысль о джакузи и бокале коктейля «Малибу» мелькнула в мозгу, и меня сразу же затошнило. Эту мысль я пояснила тем, что слишком устала сегодня. Еще бы! Шесть часов непонятного монолога!
Дома я выпила стакан теплого молока, сделала себе бутерброд с колбасой и горчицей и залезла в постель. Я люблю есть в постели, будто больная. Но я не больная. Просто это кажется мне уютным. На тумбочке у моего дивана — куча конфет и пустых оберток, вялые апельсины, несколько стаканов из-под молока и сока. Моя б воля, я бы вообще не вставала с дивана. Когда-то я читала о таком человеке, который попал в Книгу рекордов Гиннесса: двадцать лет в постели. Замечу, человек был вполне здоров.
Телевизора у меня нет, поэтому засыпать довольно сложно. Я вставила в магнитофон сегодняшнюю кассету. Может быть, голос снова убаюкает меня?
Удобно устроилась в постели. Если засну — магнитофон выключится автоматически.
…Услышав знакомый спокойный голос, я даже представила себе тихие светлые глаза и треугольную бородку. Но не уснула. Что-то в этом вздоре привлекло мое внимание. Я не могла сформулировать, что именно заставило меня вслушиваться. Монолог напоминал… разноцветное одеяло, сшитое из отдельных лоскутов. Все они были разного размера, с разным рисунком. Что соединяет такое одеяло, думала я, прислушиваясь к голосу. Основа! Разноцветные лоскуты обычно нашиваются на единую основу! У хорошей швеи эта основа совсем незаметна — только пестрый узор. Я вскочила с постели. Сна как не бывало!
Взяв бумагу и ручку, начала записывать несвязный монолог.
С того момента, как я вернулась домой, прошло уже семь часов. Вокруг меня валялась куча исписанных листов, в окне уже таял месяц, ночь переходила в утро. Что дальше? Я столько раз перечитывала написанное, что у меня заболели глаза. Я чувствовала, что в этом вздоре все же должен быть некий смысл.
А если отделить более-менее знакомые и простые формулировки от потока научных терминов? Я взяла маркер и начала подчеркивать понятные мне фразы.
«Моего имени история не сохранила. — Абиотические факторы — те, что влияют на компоненты экосистем и силы неживой природы. В частности, газовый состав воздуха, температуру, влажность или сухость, привкусы… Но суть не в этом. Она в альбедо, то есть в белизне, то есть в способности поверхности отражать поток излучения, в частности в отражении планетами потока света, падающего на их поверхность… Собственно, я не тщеславный. Суть не в этом.
История не сохранила моего имени не только потому, что я сознательно отошел в тень.
Все намного проще: было бы странно вписывать себя в свою историю — в рамки, выстроенные собственноручно для других. В совокупности эволюционных процессов у популяции возникают новые виды. Я должен был находиться вне их. Микроэволюция приводит к мутациям, порой к мутуализму — такой форме межвидовых отношений, когда взаимодействие двух видов выгодно каждому из них. Иначе не мог бы наблюдать за всей картиной в целом…»
Набралось страниц тридцать-сорок. Среди них попадались и совсем чистые — без единого подчеркивания.
Работа была довольно кропотливой. Когда была прочитана последняя страница, я решилась еще на один подвиг: переписать понятные фразы на отдельные листы. Когда завершила эту писанину, до утра оставалось полтора часа. Пронумеровав страницы, начала снова читать…
«Моего имени история не сохранила. Собственно, я не тщеславный. Суть не в этом.
Было бы странно вписывать себя в свою историю — в рамки, выстроенные собственноручно для других. Я должен был находиться вне их. Иначе не мог бы наблюдать за всей картиной в целом. Был бы лишь ее деталью — ОДНОЙ из деталей. Песчинкой в пригоршне песка. А так — я сам держал этот песок в своей ладони и просеивал его сквозь пальцы. Быстро или медленно. Быстро или медленно…
Только однажды я пожалел, что нахожусь ВНЕ ИГРЫ. Что моя жизнь проходит не так, как у других, что обречен на долгое одиночество вместо мига сладкого падения в безвестность.
…Это было очень давно. В вашем представлении это „очень“ ограничивается пятью, десятью, двадцатью годами собственной жизни. Или же двумя-тремя столетиями, но тогда вы не придаете значения этому „очень“, листая страницы учебника истории. Все же „очень давно“ — это находиться в пределах собственной жизни. Ведь другой для вас не существует! „До“ и „после“ поражают воображение только тогда, когда этот промежуток времени отражается на собственном лице.
Остальное — дым…
У меня же все иначе.
Мой план оказался гениальным. Я шел к нему не спеша. Я имел возможность размышлять над ним очень долго. Сам не знаю, как пришел к правильному решению. Скорее всего, это произошло случайно, интуитивно. В общем-то, как и все гениальное. Я попробую так же просто рассказать о нем. Намного проще, чем делал это прежде. Ведь то, что вы уже знаете, — лишь обобщение, ПРОГРАММА. Обычно за такими серьезными открытиями кроются другие — почти абсурдные, курьезные. Все великие открытия начинались с ванны Архимеда, яблока Ньютона или снов Менделеева.
…Каждое утро я встречал ее у источника. Ее стали посылать туда, едва она достигла семилетнего возраста. Идти было далеко — сначала по желтой равнине, потом — в гору, под лучами палящего солнца. Кроме того, кувшин был слишком тяжелым для ее худеньких, измазанных золой и козьими кизяками ручонок.
Я видел сотни таких малышек. Прежде и сейчас. Все они в семь лет мечтают быть принцессами, в четырнадцать — воюют с прыщами, в двадцать умирают от любви, а в тридцать — от скуки и тяжкого труда. Есть, конечно, „вариации на тему“. Но не для тех, кто в семь лет ходит за козами. Их судьба чаще всего не имеет вариаций…
Итак, я видел ее у источника. Перед тем как подставить горлышко кувшина под струю, она умывалась. Долго терла лицо, отмывала ладони. Особенное умиление у меня вызывало то, как она моет ступни — упрямо трет их камешком, внимательно рассматривает и снова трет, пока они не становятся нежными и желтовато-розовыми, как пергамент, светящийся на солнце. Потом ровная струйка со звоном лилась в кувшин. Лилась так долго, что девочка успевала немного вздремнуть на большом круглом камне. Сквозь дремоту она прислушивалась к звуку и просыпалась как раз в тот миг, когда вода наливалась до краев. О, забыл сказать, она говорила воде: „Добрый день!“ — когда приходила, и „Спасибо!“ — когда кувшин наполнялся водой. Одним словом, обычная маленькая девчушка…
Я видел всю ее будущую жизнь настолько отчетливо, что мое сердце порой сжималось. Я знал, что в тридцать, нарожав кучу детишек, она увянет, будет носить черную тунику и платок, пряча под ним поредевшие волосы и сожженное солнцем загрубевшее лицо. И точно так же будет приходить к источнику, только уже не станет говорить воде ни добрый день, ни спасибо… У нее уже сейчас был уставший вид.
Однажды я не сдержался и, пока она дремала, вылил половину воды из кувшина, давая ей возможность поспать подольше. Делал так несколько раз. Когда проделал в четвертый, девочка мгновенно вскочила — наверное, прислушиваясь к собственному ритму, она не могла спать так долго.
— Ты где? — звонко крикнула она.
Чтобы не испугать ее, я должен был отозваться и сказал, что я тут, рядом, но такой старый и уродливый, что лучше ей меня не видеть.
Она и не настаивала на моем появлении. „Может быть, ты и уродливый, но ты — добрый, — сказала она. — Я знала, что ты есть. Я тебя ЧУВСТВОВАЛА!“ Вот какая это была девочка…
С тех пор мы начали беседовать. Она приходила и всегда спрашивала одно и то же: „Ты — тут?“ Сначала я сомневался: стоит ли отзываться? Но ее глазенки так старательно скользили по зарослям и каменным глыбам, в них было столько ожидания, что я не мог не ответить.
Вот так я и узнал, что живет она в бедной семье своего дяди, что у того куча детей и она должна присматривать не только за козами, но и за своими младшими братьями и сестрами. Обычная история! Я знавал множество таких. Но что-то было в этой малышке. Я спрашивал ее о каких-то взрослых странных вещах, развлекая себя и волнуя ее детское воображение. Но она всегда находила удивительно мудрые и простые ответы. Дети бывают довольно мудрыми. Не ведая о мире дальше своего селения, она рассказывала мне о звездах, которые могут видеть все на свете, и убеждала, что там, за горами и морем, тоже живут люди. И их жизнь очень похожа на жизнь в ее селении. А если это правда, то у них тоже есть дети, они готовят еду, разводят коз. „Но это же скучно, — возражал я, пытаясь сбить ее с толку. — Одно и то же каждый день! Чем же они в таком случае отличаются от камней, воды, животных?“ — „Они — мечтают!“ — уверенно отвечала девочка. Если бы она могла видеть мою улыбку! „О чем?“ — стараясь быть серьезным, спрашивал я. Она внимательно осматривала камни и растения у источника, надеясь отыскать мои глаза. И, не находя их, уверенно отвечала: „О том, чтобы всегда была вода. Солнце. И звери. Чтобы дети не болели. Чтобы… чтобы всем людям на ладошку досталось по бабочке! И чтобы никто не умирал“.
Вот какая это была девочка…
…Еще вчера она терла свои нежные пятки ребристым камешком, и они светились, будто пергамент. Но время неслось быстро. Я даже не заметил, как наши разговоры усложнились, а вместо одного кувшина она уже несла два, таких больших, что походка ее стала тяжелой. Прямо поверх коричневой туники она набрасывала яркий бирюзовый платок с золотой каймой — подарок соседа-плотника, а глаза ее тоже становились бирюзовыми и такими выразительными, будто были нарисованы кобальтовой краской. Она, как и прежде, старательно умывалась перед тем, как набрать воду, и по обыкновению звала меня.
Я же полностью расслабился, совсем утратил осторожность. Ведь я тоже был одинок, и этому одиночеству предстояло стать еще более безмерным. Теперь мне было обидно за ее участь, которую я видел в деталях и которая стала для меня еще яснее, стоило ей надеть этот бирюзовый платок с золотой полоской… Я не сдержался. „Помнишь, ты говорила, что хочешь, чтобы всем людям на ладошку досталось по бабочке? — говорил я. — Но это, пойми, невозможно! Там, за твоим селением, люди убивают друг друга. Они недобрые и тщеславные. У них есть вода и солнце, но им нужно больше. Намного больше, чем нужно тебе!“ Я видел в ее глазах печаль и поэтому продолжал мучить ее: „Что бы ты могла сделать, чтобы все изменить к лучшему?“
Откровенно говоря, я и сам размышлял над этим. Моя вина в том, что я будоражил этими мыслями ее, сваливая все проблемы на эту юную душу, и… ждал ответа. Разве я имел на это право?! Что она, тринадцатилетняя крестьянка, могла предложить? Бирюзовый платок? Свою тряпичную куклу? Кувшин? Новорожденного козленка?
Она задумчиво оглядывалась по сторонам. „Я? А что у меня есть, кроме жизни?..“ — обращалась к пустоте. И я задыхался от этого ответа. „Но, отдав жизнь, ты не ощутишь глубину этой жертвы, — продолжал добиваться я. — Отдать жизнь — это одно мгновение, после которого исчезает все — боль, страх, реальность. Это слишком просто“. Она напряженно морщила лоб, дергала край платка, смешно сдувала прядь волос, падающую ей на лоб. „Я бы могла отдать самое дорогое… То, что принадлежало бы только мне и что было бы горько отдавать…“ — „Что именно?!“ — не успокаивался я. И она прибегала к истинно детским уловкам, отвечая вопросом на вопрос: „А что будет с другими?“
Тут мы не понимали друг друга! Я вынужден был открывать ей удивительные вещи. Она слушала, затаив дыхание. Даже замирала серебряная струйка воды, лившаяся в кувшин. Очень осторожно я рассказывал ей о Леонардо да Винчи, Паскале, Копернике и Бруно. (Понятно, что я не называл ни одного конкретного имени — боялся сглазить. Главным в моих историях было то, что произойдет потом, если мир станет целостнее, совершеннее, подчиненным одной общей ПРОГРАММЕ.) Я говорил о крыльях и законе всемирного тяготения, о теории вероятности и классической механике.
Конечно, все это было старательно упаковано в яркую сказочную обертку, чтобы она не испугалась. „Да, да, — в восторге говорила она после каждой такой сказки, — это замечательно! Но… что тогда будет с другими?“
И я был вынужден вдаваться в еще более трагические вещи, без которых невозможен прогресс. Я рассказывал про Жанну д'Арк и Евдокимоса Дижесиса, про Симона Боливара и Шамиля, про Ференца Ракоци. В ее глазах вспыхивал синий огонь, от него пылали щеки и лоб, сплетенные пальцы нервно сжимались. „Да, да, — шептала она. — Но что будет с другими?!“ Я был готов провалиться сквозь землю. Хитрюга! Слово за слово она вытянула из меня почти все! Не понимая, что она имеет в виду, я должен был цитировать Александра Македонского и Макиавелли, говорить о Дракуле, Гитлере и Сталине, Чаушеску и Пиночете! Голова у меня шла кругом. Упрямая, неразумная крестьянка! Своими „другими“ она сводила меня с ума, доводила до неосмотрительных поступков и абсурда.
Она и сама не знала о своем редкостном даре — чувствовать людей и их настроение. Поэтому шептала: „Ну не сердись, успокойся. Если бы что-то зависело от меня, я бы согласилась отдать самое дорогое. Ты должен мне верить!“
Я верил. Но понимал, что у нее ничего нет. Кроме бирюзового платка с золотой каймой.
…Солнце немилосердным острым плугом вгрызалось в эту каменистую землю, от чего трескались самые твердые скалы. Она не приходила к источнику уже несколько недель. Порядок был нарушен. А я не люблю беспорядка.
Наконец она появилась. В этот раз голова ее была плотно обвязана тем самым платком, а сверху надета коричневая длинная накидка, которую придерживал на голове деревянный обруч. Я все понял: ее выдали замуж.
Милая маленькая девочка, подумал я, тебя не спасли твои проникновенные синие глаза и густые каштановые волосы, ты не стала принцессой. Или, по крайней мере, женой сборщика налогов, торговца медью или молодого городского жителя. Они обходили селение десятой дорогой, презрительно зажимая нос. Теперь мне остается только наблюдать, как в тебе угаснет свет. Твой маленький скукожившийся мирок — с его козами, кувшинами, чугунками, сомкнутыми веками, покрывалом, плотно облегающим голову, протертым манным супом, хмельным бормотанием, визгом пилы и стуком молотка, с заскорузлыми старческими пальцами праведника-плотника и его тайной зависти к твоей юности.
…Она подошла к источнику чинным шагом, как взрослая. Она копировала старших и старалась выглядеть серьезной.
Она молчала. Я знал, что она стеснялась обратиться ко мне, как прежде. И не могла понять почему. Но я знал: за несколько лет наших „тайных свиданий“ она стала другой. Точнее не стала — она и была другой. Просто я помог ей почувствовать это. И вот теперь ей было стыдно от того, что она не оправдала моих надежд.
„Семья разрослась, — наконец тихо сказала она, садясь на камень. — Они больше не могут кормить меня. Да и дети подросли. Теперь есть кому ходить за козами…“ Я молчал. „Мой муж очень старый, — продолжала она. — Он очень добр ко мне. Он всегда был хорошим человеком. Он угощал меня патокой…“ Я молчал. „У него свой дом. Окно выходит в сад…“ Я молчал. „Я боюсь только одного: у нас не будет детей. А это было бы для меня самым дорогим. Самым важным…“ Я молчал. Но на этот раз мое молчание обрело смысл. Я молчал, пока она умывалась, набирала воду, поправляла волосы, выбившиеся из-под платка. Подождав еще с минуту, она медленно пошла в гору, неся на плечах тяжелые кувшины…
Все сбылось. Все наконец выстроилось! Не хватало лишь этого маленького звена. Я радовался. Я уже знал, каким образом уложить все в четкую и стройную систему: инициатива должна исходить не от меня. Кто бы мне поверил? Я создал ТЕОРИЮ, но никак не мог воплотить ее на практике. Ведь нужно было еще нечто — то, чего в ней не хватало, — вот эта девочка из маленького грязного бедного селения. Маленькое НИЧТО, мечтающее, чтобы „всем на ладошку досталось по бабочке“. И только я мог превратить это ничтожное НИЧТО, эту крохотную временную жизнь в великий подвиг. Ведь она была готова отдать „самое дорогое“.
Потом появилась динамика. Как говорят теперь — позитивная. Я сдвинулся с места, на котором так долго топтался…
Я снова заговорил с ней. И говорил так откровенно, что спустя какое-то время она прибежала к источнику, сияя от счастья: применяя зелья, строгий режим и еще тьму-тьмущую лекарских премудростей, она сумела побудить своего старого мужа к продолжению рода.
…Наверное, нет смысла продолжать рассказ — что было потом, вы хорошо знаете.
Но если бы мое сердце не было таким большим и емким, оно бы разорвалось от одного воспоминания о том, как она отдавала это „самое дорогое“ в тысячи чужих рук.
Только один раз она пришла к источнику, только один раз рвала на себе волосы. И уже не была похожа на ту маленькую девочку, которая говорила воде: „Добрый день!“ Я попробовал напомнить ей о нашем уговоре. А потом замолк, глядя, как она лежит у воды и тоненькая струйка бьет ей в голову. В почти седую, серебряную голову. Такую же серебряную, как эта вечно юная струйка воды…
Я всегда знал, что мир должен быть гармоничным. Но эту гармонию нужно создавать собственными руками. Природа — только подсказка, полотно же мастера — дело рук. Размышляя таким образом, я прибег только к одной, но очень важной хитрости.
В ту ночь, когда она лежала у источника, а ее замученный сын — в пещере, вход в которую закрывала огромная глыба, я понял, что именно сейчас нужно сотворить „чудо“! Потом будет поздно. После ее сына появится кто-то другой, потом — третий, четвертый… Время не ждет. Идея гармонии, системы, ПРОГРАММЫ откладывается. А я больше не мог ждать.
Я пошел к пещере, выждал момент (превратившись в доброго старца, напоил стражу и женщин, голосивших неподалеку, сонным зельем — не буду вдаваться в подробности, как я это сделал) и, отваливши глыбу, вынес тело…
Я знал: утром теория будет подкреплена фактом. Отныне я мог спать спокойно…
…Много времени в вашем представлении — или вечность, или пять, десять, двадцать лет собственной жизни. Девочке у источника я подарил первое. Теперь я вспоминаю ее все чаще. И с ужасом понимаю смысл ее настойчивого вопроса: „А что будет с другими?“
Не ученых и героев она имела в виду. Она знала, чувствовала, что их миссия неотвратима, естественна. Так же естественна, как… рождение козленка с белой меткой в сером стаде. Это было ей понятно. ДРУГИЕ. Вот о ком волновалась она. Ученые и герои заслуживают какой-либо жертвы, но их так мало по сравнению с другими!..
Страшные тогда были времена. Кровь и песок! Кровь, смешанная с песком, теперь лежала под ногами в виде терракотовых шариков, „полезных ископаемых“, жирных черноземов. За что я заставил ее страдать?
Я — технолог. Я могу придумать все, что угодно. Моя жизнь такая долгая, что сейчас в ней больше прагматизма, чем милосердия. Подчиняясь собственному азарту, я делал слабых богатыми — и они становились сильными. Я разрабатывал хитроумные и порой жестокие стратегии, чтобы побудить других к сопротивлению, к любви, к мысли. Но они подчинялись силе. Я нагружал их только той ношей, которую они могли вынести, но они ломались и предавали друг друга. Я дарил им шанс, а они пугались и ничего не делали.
Потом мне надоело экспериментировать. Я сделал все, что мог. Я больше не могу придумать ничего нового. Я умываю руки…
У меня есть лишь одно оправдание: я подарил девочке у источника и ее Сыну вечность.
Моего имени история не сохранила…»
2
Мои сомнения развеялись. Я поняла, что не оставлю работу. Даже спать перехотелось. Я собрала расшифрованные странички и спрятала в папку. У меня даже мысли не возникло показать их главврачу. Хватит с него и кассеты. Вряд ли он станет заниматься такой нудной работой, которую провела я. И никто другой, уверена, этого делать не будет…
Собственно, то, что я сделала, — обычная профессиональная привычка. Она сохранилась после того, как у меня пропало желание читать. А это желание пропало последним вслед за многими другими — например, ходить в театр, есть сладкое, пользоваться мобильным телефоном, общаться в лифте с соседями, покупать продукты, заводить любовников, принимать участие в презентациях и вечеринках, лечиться, плавать в бассейне, крутить педали велотренажера, носить бюстгальтер, красить губы, смотреть телевизор, слушать радио, чистить обувь, следить за модой, писать письма, варить кофе, подметать пол, выносить мусор, думать, нюхать цветы, чистить рыбу, рисовать, играть на музыкальных инструментах, получать деньги, делать какой-либо выбор, спать, ездить, мыть кафель, пить витамины, здороваться, произносить тосты, жарить мясо, делать голубцы, открывать двери, застилать постель, вытирать пыль, говорить, плакать, смеяться…
Желания отпадали постепенно и долго. Это был интересный процесс. Начался он с другого чувства, когда я еще активно функционировала в общественной жизни.
Итак, это случилось в театре. Внезапно меня начал душить стыд, настолько, что я закрыла глаза и не могла смотреть на сцену, где шел спектакль. Взрослые люди произносили перед темным залом чужие слова. Сначала они их заучивали, после этого наполняли эмоциями и чувствами, потом добавляли к словам разные движения. Стыд змеей обхватил мою шею и начал ее медленно сжимать. Толпа людей в красивых нарядах сидит в темной бездне и молча смотрит, как другая, гораздо меньшая толпа их одноплеменников суетится в круге света напротив. От удушья я начала кашлять, и одновременно из разных уголков зала, как в ответ на пароль, ко мне присоединились такие же точно несчастные. Своим кашлем я выпустила джиннов, которые давно скреблись в легких других зрителей. В зале случился эффект массового психоза.
— Ты что, простыла? — спросил мужчина, сидевший слева от меня.
Я не ответила. Мне захотелось снова проверить этот эффект, я опустила руки в театральную сумочку и начала осторожно разворачивать конфетку, с интересом прислушиваясь к залу. Минут пять зомбированные мною единомышленники сидели тихо, а потом я услышала такой же шорох со всех сторон. Он был почти неслышен для других — зомбированных тем, что происходит на сцене, но для меня он прозвучал, как шум жеанских волн. Я поняла, что не одинока…
Собственно говоря, все это я проделывала, чтобы заглушить стыд, который все крепче сжимал мое горло. Потом я встала и начала пробираться к выходу.
Вела я себя, конечно, неучтиво. И была этим очень смущена.
Дальше все шло по восходящей… Дома я вдруг выключила телевизор в тот момент, когда в выпуске новостей транслировали беседу двух президентов. Они сидели друг напротив друга и говорили, будто не замечая камер. Почему-то этот момент тоже показался мне верхом стыда. В мозгу всплыла фраза Элизы Дулитл: «На улице прекрасная погода, миссис Хиггинс!»
Волноваться я начала лишь тогда, когда стыд начал меня душить повсюду, где бы я ни была…
С утра я уже сидела на своем рабочем месте. Мне не терпелось перейти к следующей истории. Для главврача это история болезни, не более. Потому что полкассеты я старательно стерла, перед тем, как ее отдать.
Я уже поняла, что могу пообщаться только с одним пациентом в день, и когда дежурная медсестра спросила, кого привести: вчерашнего мужчину или новую пациентку, — решила сначала познакомиться со всеми и попросила привести женщину…
На этот раз я выслушала вполне связную историю. Я спешу пересказать ее, чтобы не забыть, поэтому не обращайте внимания на почерк.
«Так случилось, что в свои двадцать лет я осталась одна… Помню, как когда-то мечтала быть хозяйкой большого дома, бродить по просторным комнатам, разбрасывать вещи где попало, доставать из холодильника сырые сосиски и есть их с горчицей, задыхаясь от ее обжигающего вкуса, валяться до полуночи перед включенным телевизором и не мыть руки после прогулки. И вот теперь я все делаю именно так, но задыхаюсь не от жгучей горчицы, а от настоящей горечи. И пустота квартиры меня не радует. Это — ужасная, гнетущая пустота. Разве об этом я мечтала? Хотя прошел уже год после трагической гибели моих родителей, они навсегда остались тут — в этом доме. Каждое утро я вспоминаю, как в ТОТ день они по очереди чмокали меня, сонную, в щечку, одевались в передней, звенели ключами от машины. Помню даже, как загудел на лестничной площадке вызванный ими лифт. И конечно, мне не забыть взрыв, раздавшийся минутой позже во дворе. Я тогда едва оторвала голову от подушки. Подумаешь! Сейчас такое случается повсюду. А особенно в нашем престижном районе…
То, что я осталась одна, осознала спустя недели две после похорон, когда инспектор по криминальным делам, захаживавший ко мне чуть ли не каждый день, сказал, что „дело сдвинулось с места“, преступников нашли и больше меня беспокоить не будут. По-дружески посоветовал устроиться на работу или хотя бы строго контролировать поступление на мой счет денег, которые зарабатывает концерн моего отца, — он был одним из главных основателей и успел составить документ на наследство, — и конечно же, быть „разборчивой в знакомствах и связях“.
Ни знакомств, ни связей у меня не было. Только сейчас я могла подвести неутешительный итог: я не только осталась одна — у меня не было ни близких друзей (родители старательно оберегали меня, запугивая киднепингом в детстве и претендентами на мою руку, падкими до отцовских денег, когда я повзрослела), ни знакомых, кроме двух-трех соседок — маминых приятельниц. Они изредка навещали меня поначалу, пока я не пришла в себя.
Вот так я и стала хозяйкой большого дома, который был уже не в радость. Меня вполне бы устроила маленькая квартирка, в которой я затаилась бы, как мышь в норе, и не выползала бы из нее до самой старости. Зачем мне вся эта роскошь? Пять огромных комнат, заставленных антикварной мебелью, увешанных картинами-оригиналами (коллекция отца), с библиотекой, в которой самой дешевой книгой была „Тысяча и одна ночь“ на рисовой бумаге, в обложке с орнаментом из настоящего золота, — это из увлечений матери. Сама же я была — никто. Любимый ребенок, которого оберегали от всякого губительного влияния, а тем более от работы. Даже диплом искусствоведа отец мне просто-напросто купил, увидев, как мне трудно подниматься рано утром и идти в ненавистный институт. О чем же я думала раньше? Честно говоря, я считала, что так живут многие. Ведь о жизни я знала только тот минимум, который необходим ребенку обеспеченных и влиятельных родителей.
Потеряв их, я решила взяться за ум. Начала с того, что уволила горничную, выдав ей приличную компенсацию и узнав от нее, где покупают те или иные продукты, как платить за квартиру, как пользоваться стиральной машиной, пылесосом, как вызывать слесаря и куда обращаться по ремонту автомобиля. День за днем я самостоятельно обучалась тому, чего никогда не знала и не умела. Бывало к вечеру валилась в постель совсем обессиленная. Но квартиру содержала в порядке и от голода не умерла…
У меня никогда не было друга. Помню одноклассника, которого однажды пригласила в гости. Он мне очень нравился, и мне хотелось похвастать перед ним тем, что у меня есть. Но после этого визита даже в нашей элитной школе я приобрела репутацию „белой вороны“ и „буржуйки“. Да и родители запретили водить в дом посторонних. Больше у меня никого не было. Сейчас — тем более. Я ловила себя на мысли, что знания мои — книжные, а обороты речи — старомодные, как в средневековых романах. Я поставила на себе жирный крест. Мне даже не светило взять из детдома хорошенького мальчика — не передавать же отцовское добро чужому по крови! Словом, в бурном море, окружающем меня со всех сторон, я чувствовала себя затерянным островком. Как долго это могло продолжаться, я себе не представляла.
А потом случилось чудо… Нет, лучше — все по порядку. В то утро я отправилась в супермаркет. Обычно я проводила в его дебрях по нескольку часов, раздумывая над тем, что же мне нужно для хозяйства, загружая тележку кучей ненужных вещей и проклиная себя за беспомощность и непутевость. Несмотря на то что было утро и у касс людей было не так уж много, но все они — я ощущала это кожей — смотрели на меня с неприкрытым удивлением: продуктов и всяких мелочей в тележке набралось на несколько сотен. Когда же наконец я выкатила тележку на улицу и направилась к своему автомобилю, меня окликнули:
— И вы все это съедите? Или у вас человек двадцать в семье?
Я обычно не обращаю внимания на подобные шутки, а тем более — выкрики в спину. Но приятный тембр голоса все же заставил меня оглянуться. На обочине стоял мужчина и насмешливо на меня смотрел.
Я не знаю, что отвечать в подобных случаях. То ли огрызнуться, то ли обстоятельно ответить на вопрос? Я выбрала второе и рассказала, что семьи у меня нет и что такие покупки делаю раз в два месяца, а потом половина продуктов портится, а половину приходится раздавать соседкам. Он смотрел на меня сначала с удивлением, потом — с сочувствием. И от этого взгляда мне хотелось заплакать. Я извинилась и пошла дальше, но он догнал меня.
— Могу ли я вам чем-нибудь помочь?
Я ответила, что было бы неплохо, если бы он помог загрузить все это добро в багажник. Он с удовольствием этим занялся. А я смотрела на его стриженый затылок и представляла, что это — мой муж, или отец, или брат, или дядя. И что вот сейчас он сядет за руль и скажет: „Детка, пристегни ремень!“ И все станет на свои места. Останутся позади одиночество, страх, неизвестность, неприкаянность, и жизнь потечет привычным руслом. Мужнина распрямил спину и вдруг сказал:
— А хотите я вас подвезу? Я умею водить.
Я хотела. Он открыл передо мной дверцу, а потом сел за руль и сказал почти так, как я представляла себе минуту назад: „Детка, пристегни ремень!“ Может быть, это прозвучало немного иначе, но я услышала именно это: „Детка…“ И… заплакала. Забыла сказать, что я не плакала ни на похоронах, ни позже. Просто не могла. А тут!..
Он помог мне донести до квартиры все мои покупки, я угостила его кофе, а он приготовил яичницу, я открыла все „вкусные“ баночки, которые купила в супермаркете. Он был первым в этом доме, кто не разинул рот, увидев картины, мебель, раритетные ковры и посуду начала прошлого века.
С тех пор он часто заходил ко мне. Поначалу я побаивалась — не охотник ли это за отцовским богатством, не вор ли, не ловелас?.. А он говорил, что у меня красивые руки, прекрасные глаза. Он говорил, что я умна и несправедливо одинока. От него всегда пахло хорошим одеколоном. Очень изысканным, от Шанель — „Платиновый эгоист“. Я не очень-то разбираюсь в этих фирмах — отец, как человек старорежимный, признавал только отечественную парфюмерию, поэтому мне был незнаком такой соблазнительный и головокружительный аромат…
Я не знаю, что такое любовь. Я никогда прежде не любила, а тем более ни с кем это не обсуждала. Как я могла думать о таких великих и важных вещах? Я могла бы спросить у него. Но разве об этом спрашивают у того, кого любят? Я не знала. А поэтому все же решила спросить.
Он помрачнел и закурил свою коричневую ароматную сигарету:
— Ты меня опередила, любимая. Но если бы не это — я бы никогда не решился… Слышишь, никогда! Все это, — и он обвел вокруг рукой, — не для меня. Я не смею быть с тобой. Силы наши неравны… Да и жизнь меня немало потрепала. Мне страшно начинать все сначала.
Он говорил, как Рочестер из „Джен Эйр“ или как другой похожий герой, — так красиво говорили только на страницах моих любимых книг. Я захотела объяснений.
— Хорошо, но история моей жизни печальная, — услышала в ответ.
К печальному я привыкла давно — это мне было понятнее и ближе, чем тишь, в которой я воспитывалась. И он рассказал мне о себе. А я слушала, понимая, что нашла то, что мне нужно, — такую же одинокую душу, пережившую утраты и трагедии. Оказалось, что он был женат несколько раз. Две первые жены умерли, у третьей женщины, с которой он надеялся связать свою судьбу, после двух лет безоблачного счастья проявилось психическое заболевание, в связи с которым она находится в клинике.
— Наверное, это судьба, — говорил он. — Есть люди, которые по своей природе не могут быть счастливыми. Грустно осознавать, что я — один из них… Тебя это не пугает?
Меня не пугало. Наоборот. Я поняла, ради чего мне стоит жить.
— Я не умру, — сказала я, — и не сойду с ума. У меня крепкое здоровье. Меня с детства пичкали кучей витаминов!
Он засмеялся и привлек меня к себе.
Меня никто еще не обнимал…
Мы не хотели пышных торжеств, поэтому расписались в маленьком ЗАГСе, не сообщив об этом никому, кроме моих соседок. Да и кому должны были сообщать — мы были одиноки, созданы только друг для друга.
Я уже ничего не боялась. Муж взял на себя все заботы и запретил мне выезжать в супермаркет, возиться с мытьем окон и полов, освободил меня от множества других хлопот. Я оставила за собой приятное право готовить ему ужин. Целыми днями читала, слушала музыку, смотрела в окно и ждала его звонков с работы. Все вернулось на круги своя, с той лишь разницей, что я действительно стала хозяйкой большого дома — женой, хранительницей домашнего очага. Об этом мечтали мои родители. Но уверена, если бы они были живы, то нашли бы мне „выгодную партию“ и я была бы лишена настоящей любви — такой, какую испытывала теперь. А любила я каждой клеточкой своего тела, могла бы полностью раствориться в лучах этого чувства. А еще было острое чувство жалости. Как глупы те, кто утверждает, что жалость унижает! Нет, это приправа к настоящей любви, замешанная на страхе потерять и желании уберечь. Норой, когда я смотрела на своего мужа, мое сердце сжималось — он казался мне мальчиком. Как он мог выжить в этом мире без меня? Я уже знала, что оба раза после смерти своих жен он оказывался буквально на улице. У него все отбирали алчные родственники, а его вышвыривали, как котенка, как использованную вещь. Мир стал жестоким, а он не умел приспособиться к нему.
К годовщине нашей совместной жизни я решила сделать ему подарок. С утра отправилась к адвокату, который вел когда-то дела нашей семьи.
Я не знала, как преподнести подарок, не знала, как любимый отреагирует на мою дарственную. Но мне хотелось показать, что я отдаю ему не только себя самое — до остатка, а и все, что мне принадлежит. Сказала ему об этом за ужином. И впервые получила возможность увидеть, как он умеет злиться.
— Зачем ты это сделала? — помрачнел он. — Тебе мало того, что я — с тобой, что я люблю тебя? Мне не нужны доказательства твоей любви! Мне вообще ничего не нужно, пойми!
Другой реакции я и не ожидала. Попробовала сгладить конфликт, хотела даже разорвать документы, но в последний момент все же спрятала их в шкаф. И сказала, что хочу принадлежать ему целиком и что это — мой первый самостоятельный поступок, который кажется мне правильным и приятным. И он смирился. Любимый мой мальчик.
Он часто впадал в депрессию. Жаловался на работу, на равнодушие и непонимание окружающих. Он был счастлив только тут, со мной — я это знала точно. И еще знала (успела понять за этот год), что его легко могут обмануть или обидеть, а он готов прийти на помощь каждому, кто о ней попросит, — как тогда мне, у магазина. Я так любила, когда его лицо светлело, когда он смеялся…
Однажды он пришел домой веселый, с каким-то свертком в руках.
— Что я тебе сейчас расскажу! — радостно начал он. — Я познакомился с необыкновенным человеком! Из тех гениев, которые оказались за бортом жизни и в забегаловках цитируют Бодлера. Обожаю таких людей и преклоняюсь перед ними. Но — все по порядку. Захожу в кофейню и вижу: сидит за столиком такой колоритный тип и что-то рисует на листе бумаги. Подсел к нему. Разговорились. Он попросил купить ему стопочку, а расплатился — ты только подумай! — вот этим рисунком. Это — гениально! Сегодня же закажу большую рамку.
И он развернул передо мной рулон. Рисунок, выполненный карандашом, действительно производил впечатление. Я не сразу поняла, что на нем изображено. Это была абстракция. Но какая! Одна линия плавно переходила в другую, закручивалась в спираль, разветвлялась на тысячи тонюсеньких „усиков“. Казалось, она затягивает в свои глубины. Оторвать взгляд было невозможно. Я стояла, как загипнотизированная, задыхаясь от восхищения и какого-то страха, что не смогу выпутаться из этого лабиринта.
В тот же день мы купили большую, очень красивую рамку. Картину мы повесили в нашей спальне. Засыпая, я неотрывно смотрела в нее — именно „в нее“, потому что она была зеркалом, а точнее — Зазеркальем, тайным миром гениального художника.
Как обычно, я проспала до двенадцати. Муж никогда не будил меня, только целовал в щечку, уходя на работу. Я раскрыла глаза и тут же снова закрыла их — такой мощный поток энергии хлынул на меня с картины. Мне хотелось продлить удовольствие, и я с закрытыми глазами восстановила в памяти линии рисунка. Так дети изучают узор на ковре или причудливые трещинки на потолке, различая в них стада оленей, дикие джунгли, загадочные письмена. Я бродила взглядом по картине до тех пор, пока не научилась видеть ее целиком. В какой-то момент мне показалось, что на ней изображены изувеченные серебряной пулей внутренности реликтового животного, спустя минуту я увидела в самом центре глаз, взгляд которого пронзал насквозь, позже я поняла, что это вовсе не глаз, а эмбрион, уютно примостившийся в чьей-то утробе, опутанный тончайшим переплетением сосудов. Картины, которые я себе представляла, сменялись с невероятной скоростью, открывая новые и новые линии, и каждая вела к своему сюжету. Чаще всего он был трагичным. А что еще может рисовать непризнанный гений, который спился!
Стоит ли говорить, что когда я оторвалась от созерцания — и то благодаря телефонному звонку моего мужа! — стрелки часов приближались к пяти вечера… И все это время я пролежала, рассматривая картину!
Я поднялась так резко, что даже потемнело в глазах, начала быстро одеваться. Порвала колготки… Кое-как влезла в джинсы и впервые забыла причесаться. Сегодня на ужин я задумала приготовить особое блюдо из телячьих мозгов под экзотическим соусом: рецепт я нашла в кулинарной книге.
Перечитала рецепт. Начала мыть мозги. И ощутила, что от мертвой белой массы идут импульсы. Вздрогнула, порезала палец, и кровь стала капать на белую плотную массу. В отчаянии швырнула нож: в мойку, а мозги, порозовевшие от крови, — в мусорное ведро. Оно перевернулось, со стола слетели чашки. Собирая осколки, я снова порезала руку. Все это жутко меня разозлило, голова закружилась. Кое-как доплелась до спальни и улеглась, укоряя себя: зачем нужно было валяться до вечера и отдаваться бессмысленному созерцанию. Итак, начнем все сначала! Только на этот раз… Я быстренько набросила на рамку свой пеньюар и опять прилегла. Представим себе, что утро начинается заново. Раз… два… три… Игра заладилась. Напевая, забинтовала пальцы, поставила в микроволновку куриное филе. И едва успела привести себя в порядок, как пришел муж…
Вот, видимо, в чем дело: мне надоело бездельничать. Нужно было чем-то заняться! Я накупила кучу женских журналов и стала изучать всякие статьи с интересными названиями: „Жак преодолеть депрессию?“, „Настоящая женщина — кто она?“, „Создай свое тело!“, „Домашняя кошечка или стерва?“. Раньше я и не предполагала, что эти вопросы мучают миллионы моих соотечественниц, а еще больше меня удивляло то, что об этом пишут. Вплоть до субботы я изучала глубины собственного „я“. Все вызывало у меня удивление. Почему мама не научила меня самому главному?! Особенно тяжелое впечатление производили статьи об изменах, ревности. Мир за окном, оказывается, был полон недовольства. Одна я была счастлива, и ничего об этом не знала. Помня о том, как полдня провалялась перед картиной, я теперь вскакивала с постели, едва раскрыв глаза, — слишком велико было искушение разобраться в линиях! — и бежала в ванную, оттуда — на кухню, а потом часами просиживала в кабинете отца.
В субботу мой любимый снова притащил картину. Не могу сказать, что меня это порадовало. Но когда он разворачивал рулон, я почувствовала странное нетерпение: что на ней?
— С этим нужно что-то делать… — говорил муж, разглядывая полотно. — Это же великолепно! Снова выменял на бутылку! Представляешь?! А он бы мог выставляться за границей. Пропащий человек, так его жаль. Живет, как собака. В следующий раз заплачу ему как следует. Хотя он много не берет — только водкой…
Вот так у нас на стене появилось пять картин. Тот же простой карандаш, те же (и всякий раз — неповторимые!) переплетения линий… Я проводила перед ними часы, и если бы меня спросили, что я вижу, назвала бы множество вещей: нож, часы, глаза, тела, купола церквей, рыбы, птицы, проращенные зерна, комки земли, мозг, внутренности, овощи, звезды, рот, зубы, клыки, копыта, шерсть, дым, апокалипсис…
Меня больше не волновало то, что я не приготовила ужин или не причесалась. Часто я до самого вечера оставалась в халате, накинутом на ночную сорочку…
…Луч лунного света похож: на нож. Он проникает сквозь шторы на окне, будто распарывая их, и мне так хочется взять его в руки. Ощутить вес. Ножом можно распороть любую ткань — он не причинит боли. Нужно только незаметно пробраться на кухню, вытащить его из деревянной подставки. Тихо… Глаза можно не раскрывать — и так видно. Ладонь скользит по стене, в другой — приятная стальная тяжесть лунного луча. Им можно наполнить себя. Подумать только: одно движение — и ты, открывая себя, как ключом, видишь, что там, внутри тебя — один лишь свет…
Но почему от него так больно?
Кто-то трясет меня за плечи, голова моя раскалывается. Я вынуждена открыть глаза…
— Дорогая, дорогая! Что с тобой?!
Я вижу его испуганные глаза. Я вижу себя в ночной сорочке(!), босую(!), в коридоре(!), с ножом, мертвой хваткой зажатым в руке!!! Что со мной?
…Я заболела. Это — жар. Может быть, вирус — грипп какой-то, эпидемия. Я лежу в постели, на столике рядом со мной стоит все необходимое, чтобы не вставать. Муж старается вернуться пораньше, приготовить что-нибудь вкусненькое. Мне не хочется выползать из спальни. Теперь я лучше понимаю художника. Я ЗНАЮ, о чем он говорит со мной.
…Я еще не летала. Я прожила столько лет и ни разу не взлетела, чтобы увидеть это переплетение линий СВЕРХУ. Теперь я знаю, откуда их можно увидеть! Как это раньше не пришло мне в голову? Нужно встать. Обязательно нужно заставить себя подняться, подойти к окну. Оно втягивает меня почти так же, как и картины. И если шагнуть за рамку невозможно, то за окно — довольно легко. Я открываю окно. Мне не холодно. Мне весело. Сейчас, сейчас я пойму, что там, в центре завихрений и колец. Глаз? Эмбрион? Райский сад? Еще немного. Полшага.
…Резкий звонок вырывает меня из теплого туннеля. Линии и узоры расплываются, превращаются в бессмысленную кашу. Нужно открыть дверь.
— Ты чего в таком виде? — спрашивает соседка. — Звоню уже полчаса! И что за холодина у вас в квартире?
Старая корова! Какое она имеет право? Я морщусь, как от зубной боли. Меня охватывает новое чувство, которого прежде никогда не было, название ему — гнев. Мне хочется царапаться и кусаться…
Соседка проходит в комнату и закрывает окно. Тоже мне, воспитательница нашлась!
— Что-то ты мне не нравишься, детка! Ну-ка ложись, я тебе малину принесла — сейчас заварю.
У меня на столике есть все — „Колдрекс“, „Фармацитрон“, „Флюколд“… Малина — это из детства. От малины будет жарко в груди и в глазах… Я плачу. Соседка обнимает меня. Сегодня мне не взлететь…
— Я еду в командировку, — грустно сообщил муж. — Как я тебя такую оставлю?..
Мне не хотелось, чтобы он переживал, и я попробовала улыбнуться. Пусть едет со спокойной душой, развеется. Тем более, что ехать нужно в город, где прошло его детство. Мне уже немного лучше. Нет, правда. Я встала и даже попробовала сварить кофе.
Утром он уехал. А я снова слегла. Разве до этой счастливой встречи я не была тут одна? Несколько дней ничего не изменят. Я лягу и буду ждать его. Вообще не выйду из комнаты, ведь тут так уютно и со мной мои гениальные друзья — картины.
Но эта ночь стала дня меня сущим адом. Я почти не спала. Сердце замирало от ужаса. Так было в детстве, когда мне казалось, что черная рука тянется к выключателю. Тогда главным было лежать тихо, перетерпеть. Но сейчас терпеть было трудно. Я будто ощущала, как мягкие щупальца с рисунка тянутся ко мне, как заползают под одеяло змеи, и огромное чудище распростерло надо мной крылья. Неужели я чем-то провинилась, что они так издеваются надо мной? Ведь я их так люблю… А линии тем временем опутывали, тянули вниз, к корням, к белым червям и личинкам. Черви и личинки — вот новая деталь, которую я рассмотрела только сегодня. Еще утром они напоминали мне гроздья винограда, нежных куколок, прозрачных мотыльков… Вдруг мне показалось, что я умираю, что сердце бьется все медленнее и вот-вот остановится навсегда. Представила себе, как он приедет и испугается! Я знаю, что нужно сделать, чтобы не умереть от страха и дождаться утра. Я быстро начала набрасывать на рамы все, что попадалось под руки, — как тогда, когда накрыла картину пеньюаром…
Не знаю почему, но мне стало легче. Я даже нашла в себе силы выйти на кухню и заварить чай. Захотелось поесть. Я открыла холодильник — ни крошки! Странно, что он не оставил мне продуктов. Милый мой мальчик, я его совсем загоняла! Я достала остатки малинового варенья и кусок хлеба, покрытый плесенью. Постепенно почувствовала, как ко мне возвращается жизнь. Замечательно! Я встречу его совершенно здоровой!
Когда рассвело, я вошла в спальню. С тряпьем на стенах она выглядела немного странно, и мне захотелось поскорее навести порядок. Я уже начала снимать наброшенные вещи, как вдруг поняла: нужно продать эти картины или разорвать на мелкие кусочки — все равно. С тех пор, как они появились, все пошло кувырком. Как я раньше не догадалась? Я выпили кофе. Слабость и апатию как рукой сняло. Я вспомнила, как умирала ночью. Неужели я могла стать третьей умершей женой моего любимого или — второй сумасшедшей в его жизни? Почему у него такая судьба? Я должна спасти его, просто обязана. И тогда все будет хорошо, я уверена. Мы забудем ужасное прошлое и сможем быть счастливы.
Я стала звонить в ЖЭКи и ЗАГСы. Общаться мне было трудно — сказывалось мое добровольное домашнее заточение. Но после нескольких часов — когда трубка в моих руках едва не раскалилась — я наконец выяснила, где жили жены моего любимого. Еще час пришлось потратить, чтобы найти медзаведения, которые выдали свидетельства о смерти. Оказалось, что они находятся в разных районах города.
Я вышла на улицу и захлебнулась весной. Странно, мне казалось, что на дворе все еще зима…
Поскольку автомобиль забрал муж, пришлось вызывать такси. Уже в машине я сообразила, что за информацию придется заплатить. И не ошиблась — сотрудница регистратуры тут же радостно зашелестела карточками, а медсестра быстро сообщила имя участкового врача. Ну а врач равнодушно поведал, что женщина покончила с собой, перерезав вены кухонным ножом. Потом я поехала на квартиру и — снова-таки с помощью „зеленых“ — быстро выяснила, что после смерти женщины ее жилье сразу продали.
Было около шести вечера, когда я, до смерти уставшая, добралась до больницы. Рабочий день заканчивался. Правда, дежурная сестричка позвонила врачу домой и сочинила историю с утерянной карточкой.
— Он очень недоволен, — прошептала она, прикрыв трубку рукой.
Я достала еще десятку.
— Это была очень нервная дама, — наконец сказала медсестра. — Она выбросилась из окна.
Я оторопела. Несколько раз просила ее повторить то, что она сказала. Но суть от этого не изменилась. Женщина выбросилась из окна без очевидных на то причин — у нее был хороший муж, перспективная работа и зажиточные родители во Франции. Я заставила себя посетить ее квартиру. Результат тот же: квартиру продали.
Приехав домой, я легла спать на диване в гостиной. Завтра будет трудный день — я твердо решила, что поеду в психиатрическую лечебницу. Хорошо, что она в городе одна. А имя женщины я запомнила еще во время нашей первой встречи с моим мужем. Даже не знаю почему…
Милый мой мальчик, прости, мысленно повторяла я, лежа на диване. Я делаю что-то подлое и мерзкое. Будто роюсь в твоих вещах. Но потом, когда нам будет хорошо, я вымолю у тебя прощение. Я знаю, ты меня простишь.
В клинике я соврала (впервые в жизни!), что хочу проведать сестру. Своему спокойствию и решительности удивилась сама. Меня проводили в зал для посетителей (конечно, и тут не обошлось без денег).
Минут пять спустя в комнату вошла женщина — изможденная блондинка в сером больничном халате и войлочных тапочках…
— Ты моя сестра? — спросила она.
Я кивнула.
— Цветы поливаешь?..
Я снова кивнула, потому что не представляла себе, что отвечать.
— Я хочу домой… — вдруг жалобным тоненьким голоском пропела она, не сводя с меня пронзительного взгляда.
— А где вы живете? — решилась спросить я.
Глаза женщины угрожающе сверкнули.
— Ты не моя сестра! Ты не моя сестра! — повторяла она.
— Что с вами произошло?
— Я знаю… — Женщина погрозила мне пальцем. — Ты тоже живешь в галерее… Я поняла. Меня не проведешь!
— В галерее? Где это? — растерянно спросила я.
— Тихо… Это там, — она показала пальцем куда-то вниз. — Там тихо… Они работают очень тихо… К ним не подберешься, но у меня есть ключ…
Я поняла, что разговор не состоится и лучше уйти. Несчастная женщина! Я отдала ей пакет с фруктами. Она вынула апельсин и начала его жадно, как яблоко, грызть.
— Прощайте, — сказала я. — Извините, что побеспокоила…
— Это ОНИ тебя будут беспокоить! Еще как! А ключ — вот он! Возьми, если не веришь… — Оглядываясь на дверь, женщина быстро сняла с шеи потертый шнурок с двумя ключами. — Красивый у меня талисман? — спросила, усмехаясь. — Пойди в галерею. Там тихо… Там — ОНИ. Спрячь — а то отберут!
Я машинально взяла ключи:
— И где же эта галерея?
Женщина быстро назвала улицу. Я едва успела положить ключи в карман, как в зал вошла медсестра.
Уже стоя на пороге, я услышала, как вдогонку мне женщина крикнула, будто мы и правда сестры:
— Не забудь полить цветы!
Ехать или нет, ломала я себе голову. Моя новая знакомая произвела на меня тягостное впечатление. Наверное, когда-то она была красивой, даже красивее меня. А теперь во что превратилась? Был ли в ее путаных словах хоть какой-то смысл? Вряд ли. Меня удивило только одно слово — галерея. Нужно съездить, посмотреть. По крайней мере — полить цветы.
Дом находился в центре города, в его старой части, которую начали застраивать элитными многоэтажками. Я вошла в подъезд. Было темно и сыро. Стала подниматься, хотя не понимала, как буду открывать чужую дверь. А вдруг там кто-то живет? Что я скажу?
На всякий случай несколько раз нажала кнопку звонка. Тишина. Я постучала. Никто не ответил. Хотя мне показалась, что я услышала шорох и звяканье посуды. Я толкнула дверь и… задохнулась…
„Платиновый эгоист“! Я узнаю его среди тысячи ароматов… Милый мой мальчик… Но почему? Откуда? Неужели запах может храниться так долго? Я почувствовала укол ревности. Но таким одеколоном пользуется много мужнин… Я подошла к закрытой двери, из-под которой пробивался свет. Распахнув ее, на какой-то миг зажмурила глаза: комната была залита ярким весенним солнцем. Когда же глаза привыкли к свету, я увидела… Нет! Нет, этого не может быть!!! Всюду — на столе, диване, креслах — лежали куски ватмана, а на них… Я уже знала, что может произойти просто от одного взгляда на рисунок!
Я стремглав выскочила из квартиры. Вот она — галерея! Нет, скорее — мастерская безумного и в то же время гениального в своем безумии художника. И запах. Мой запах. НАШ запах. И еще — это я тоже запомнила! — знакомый галстук на стуле, старая пестрая сорочка, в которой он был в первый день нашего знакомства, жакет, небрежно брошенный на диван…
Милый мой мальчик… Почему все так?!
Сойти с ума? Броситься в отчаянии под колеса машины? Что? Господи, что? Но ведь я сама говорила, что здоровье у меня крепкое, что я не умру. Когда я это говорила? Кому?
Я остановилась на миг и отдышалась. Нет, я не сойду с ума и не брошусь под машину. Я знаю, что нужно делать. Сейчас же позвоню своему адвокату, пока я жива, пока можно аннулировать завещание. Но сначала — самое главное.
Я поехала домой. За двадцать два года моей жизни не припоминаю в себе такой решительности. Не разуваясь, зашла в спальню и начала сбрасывать завешенные тряпьем рамы. Потом разбила стекло и, нащупав шероховатую поверхность ватмана (руки и щеки мои пылали, будто я выхватывала бумагу из костра!), смяла упругий картон и бросила его в ванну. Чиркнула спичкой. Сгорая, ватман шуршал, будто неведомые существа, жившие в нем, предчувствовали смерть. Последний раз взглянула на клочок, торчащий из огня, — нежная линия будто манит за собой… Я поднесла к нему спичку и плотно прикрыла дверь — пусть горит в одиночестве. Иначе… Иначе я не уверена, что не выхвачу рисунки из огня.
…Он не вернулся. Но я его и не ждала. Осталась в своем большом отцовском доме. Сделала ремонт, поменяла обои в спальне. А потом решила жить — долго и счастливо. Теперь я — директор большого частного издательства, в которое вложила унаследованный капитал. Сначала было трудно общаться с людьми, вести переговоры и… просыпаться в семь утра. Но постепенно я привыкла. И дела мои пошли в гору.
А началось все с книги, которая всего за год стала бестселлером. Называлась она „Галерея“ — такой себе фолиант на четыреста страниц. Чего греха таить — литературный труд оказался непосильным для меня, поэтому пришлось привлечь пятерых журналистов. Но я этого никогда не скрывала! Тем более что теперь эти журналисты — мои самые перспективные авторы, которых я регулярно издаю. На них, честно говоря, и держится мой бизнес».
Я боялась прервать ее рассказ вопросами, но все же решилась спросить.
— А что случилось с вашим мужем?
Женщина опустила руку в карман своего халата, вынула оттуда смятый клочок бумаги и протянула мне.
— Так все закончилось… — сказала она. В глазах ее мелькнула усмешка. Мне показалось, что она смеется надо мной. Я начала читать…
«Я стою в холодном погребе покосившегося дома на околице Богом забытого городка моего детства. В руке — топор… Я должен положить этому конец. И немедленно. „Так вот, милый мой мальчик, — уговариваю я себя. — Так вот!..“
…В столицу я ни за что не вернусь. На второй день моей так называемой командировки я почувствовал: что-то случилась. Вдруг повысилась температура, бросило в жар, сердце то останавливалось, то колотилось как бешеное. Я глотал таблетки, пил корвалол, потом — водку с перцем… Наконец, скорее интуитивно, догадался: дело не во мне! А когда через полчаса болезнь отступила, убедился окончательно: я проиграл. Мои картины погибли. Я даже знал, как именно — в огне. Мне некуда возвращаться.
…Рисовал я с детства. Мама очень гордилась моими рисунками, обвешала ими весь дом. Но через несколько лет дом опустел — отец погиб на охоте, а мама как-то быстро угасла. Врачи констатировали „общее ослабление организма“ — согласитесь, довольно странный диагноз. В интернате я перестал заниматься рисованием и вернулся к нему только на втором курсе политехнического. Девушка, с которой я встречался, была в восторге от моего таланта. Я знаю точно: она меня любила. Носилась с моими рисунками повсюду, убеждая, что они — гениальные и что мне необходимо получить профессиональное образование. Я бы, наверное, послушался ее, если бы она не погибла — выпала из окна общежития.
А потом… Рассказать — не поверят! Да мне и не верили! Просто восхищались моими работами, платили за них бешеные деньги. А потом я узнавал, как мои ценители один за другим… гибли. И тогда я уехал в столицу. Продавал квартиры своих состоятельных жен. Понимал, что у меня большой дар, которым не стоит пренебрегать. По-настоящему я жил лишь тогда, когда работал. Может быть, я действительно гениальный художник, кто знает…
То, что я могу чувствовать свои произведения на расстоянии, стало для меня открытием. Каких еще сюрпризов ждать от судьбы? И как теперь поступить? Начать все с нуля? С этого промозглого домишки, этого Богом забытого городка? Я устал и больше ничего не хочу. Я должен положить этому конец. Стиснув зубы, я с силой опускаю топор на запястье правой руки…»
3
…Стыд стал душить меня повсюду, где бы я ни была. Это такое удивительное чувство. Особенно тогда, когда знаешь, что раньше — еще месяц или два тому назад — ты весело и обстоятельно, как другие, отвечала на вопрос «Как дела?» или «Что вы думаете о новом романе Коэльо?» Тогда же, после случая в театре, мне казалось, что стыдиться нужно и того, что люди говорят с кем попало о состоянии своего здоровья, о том, чем занимались с утра и что собираются делать вечером. Особенно меня коробило, когда говорили о работе. Раньше я тоже могла восторженно рассказывать о каких-то рабочих моментах, жаловаться на проблемы и рассказывать, как я, умница, нашла выход из той или иной ситуации. В нынешнем же состоянии, когда я пишу эти строки, я начала чувствовать, что работа и служебные обязанности — вовсе не главное. Я поняла: без меня не остановится ни одно производство. Возможно, замрет на миг. А потом снова будет вращать свои колеса и колесики…
Итак, со временем на вопрос «Как дела на работе?» — я отвечала последней строкой из книги, которую я на тот момент читала (тогда я еще могла различать буквы), и люди удивленно пожимали плечами…
У меня еще будет время рассказать обо всем этом подробнее…
Я снова возвращаюсь к тем дням, когда стала понемногу освобождаться от тайного удушливого стыда. Как странно: это произошло именно на этой новой работе. Впервые у меня проснулся интерес. Просто интерес к тому, кого слушаю. Интерес, которого не было вот уже несколько лет.
— Ну, как вам работается? — спросил меня главврач спустя несколько дней и протянул журнал с моими рассказами, чтобы я подписала его для жены.
— Хорошо, — ответила я. Могла бы, конечно, добавить еще что-нибудь.
— Я подобрал для вас самые интересные экземпляры, — продолжал врач, наблюдая за тем, как я вывожу пустопорожние слова на глянцевой обложке. Я заметила, что его взгляд, сосредоточенный на этих словах, был исполнен восторга. Есть люди, для которых почему-то очень важно иметь автограф на печатной продукции. Приближенность какой-либо особы к средствам массовой информации кажется им чем-то вроде прикосновения к вечности. Я представила себе, как мой небрежный почерк и корявая подпись будет демонстрироваться в кругу приятелей, чтобы было о чем поговорить в ближайшие пять минут.
Я промолчала.
— Если хотите, заходите как-нибудь ко мне — поболтаем. — Врач подмигнул мне и зашагал по длинному коридору, время от времени заглядывая в окошечки, прорезанные в дверях палат. Он с довольным видом потирал руки и напоминал директора зоопарка, обходящего свои владения.
После обеда ко мне привели еще одну женщину.
— Это — сложный случай, — предупредила меня медсестра. — Она почти не говорит. Ни с кем. Все время спит… Муж у нее добрый. Приносит ей кучу всего, а она его не узнает, бедняжка…
Я поблагодарила за информацию. Вставила кассету. И включила магнитофон.
Женщина молчала, только смотрела как-то вопросительно. Потом я заметила, что взгляд ее остановился на пачке сигарет, лежащей на столе. Я спросила:
— Закурите?
Она радостно закивала головой. Взяла сигарету, закурила. Несколько минут сосредоточенно наслаждалась вкусом. Потом я услышала ее тихий голос:
Рядом с ними мне было очень хорошо. Они жили за реденькой лесополосой. Я пробиралась к их небольшому фургончику между стволами голых черных деревьев, увязая в сырой земле, вибрировавшей подо мной, как болото. Из-под земли кое-где пробивались клочки прошлогодней травы, каким-то чудом выжившей и удержавшейся на поверхности. Небо тут всегда было серым, как в последние дни февраля, и только далеко на горизонте розовело закатное солнце. Таким пейзаж: был всегда, сколько его помню: редкозубый плетень черных деревьев, охапки желто-зеленой травы под ногами и деревянный фургончик в конце этой реденькой лесополосы.
Казалось бы, мрачноватое зрелище. На самом деле — ничего подобного!
Мне было очень хорошо рядом с ними. Я входила в фургон без стука, и мне тут же хотелось положить голову ему на плечо. Что, собственно, я и делала.
Я так уставала, что не могла говорить. А с ними я могла молчать или перебрасываться обыденными фразами.
Их было двое: парень в тельняшке без рукавов и девушка с длинными прямыми волосами. Он обычно сидел на скамье в глубине фургона и что-то мастерил — строгал ножом деревянный брусок или зачищал наждаком поверхность стола.
Ни то ни другое не мешало мне положить голову ему на плечо: его движения были неспешными и энергичными, как у всех мастеров, увлеченных своей работой. Девушка сидела на пороге у самого входа. Иногда она курила, глядя вдаль на черные деревья, на небо. И мне казалось, что она видит там что-то очень важное.
Они ничем не выказывали своих эмоций по поводу моего визита, но я знала наверняка, что им тоже хорошо и уютно со мной. Очевидно, мы схожи по группе крови или многим другим признакам. Поэтому нам не нужно напрягаться и выдумывать темы для разговоров.
Меня не касалось, кем они приходятся друг другу. Будет ли беспокоить девушку то, что моя голова у него на плече. Мне просто был необходим отдых. И они оба это понимали.
Те несколько часов, которые я тут проводила — в тишине, в созерцании, в ощущении покоя, — проходили незаметно. Потом я прощалась и уходила, наполненная новой энергией, готовая снова окунуться в суету, бурлящую за пределами их рощицы.
Как они жили без меня? Наверное, так же просто: девушка готовила еду, юноша… Не знаю. Может быть, ходил на охоту? Правда, в условиях города это выглядело бы странно…
Меня это не волновало. Просто я приходила к фургону, когда очень уставала, клала голову ему на плечо, наблюдала за девушкой и молчала.
Между нами не было ни любви, ни ревности, ни двусмысленности, ни расспросов, ни словесного пикирования. Но мне казалось, что эти отношения — нечто большее, чем дружба, большее, чем любовь или какие-либо другие чувства, которых в моей жизни и без того было немало…
— Если у тебя появились новые друзья, — сказал муж накануне моего дня рождения, — почему бы нам не пригласить их в гости?
Это была превосходная идея! Я не раз рассказывала ему о фургончике, о тех двоих, которые живут в нем, об их спокойном и размеренном существовании.
Правда, я не могла признаться в том, что кладу голову на плечо парня в тельняшке. Ведь тогда пришлось бы объяснять мужу, что это — совсем не то, о чем он может подумать. Но если бы я начала это объяснять и оправдываться — вышло бы, что это именно ТО. Вот такой парадокс лишних объяснений. Женская головка на мужском плече здесь — совсем иное, чем то же самое — там. Там, у моих друзей, это лишь символ покоя. Таким же символом могло бы стать все что угодно: игра в преферанс, чаепитие, выкручивание лампочки, приготовление борща — не имеет значения. Просто в тот момент, когда я осознала, что мне хорошо, — склонила голову на плечо хозяина фургончика. И это запечатлелось на уровне рефлекса. Только и всего…
Итак, я пригласила их в гости. Они обещали прийти.
Накануне я провела на кухне несколько часов — пекла, жарила, варила, резала овощи. Потом накрывала стол, до блеска натирала фужеры и стаканы. И так устала, что начала воспринимать будущую вечеринку как абсурд, свалившийся на меня, будто железобетонная стена во время землетрясения.
Хотя я привыкла жить так — мыть, стирать, убирать, готовить еду, таскать сумки. Каждый день. Из года в год. Так жили все наши знакомые. Так жила и я. Теперь, думаю, вы понимаете, чем для меня был фургончик…
…Они пришли, когда все уже собрались. Я посадила ее между Николаем Николаевичем, моим шефом, и практикантом Ванечкой, а его — поближе к Дарине, на углу стола.
Они вели себя скованно и скромно. И мне было немного обидно. Мне хотелось, чтобы все присутствующие — эти шумные, суетливые люди — увидели нечто противоположное. Тишину и простоту, преисполненные чувством достоинства.
Гостей было много. Я старательно следила за тем, чтобы одно блюдо вовремя сменялось другим, бокалы и тарелки не были пустыми, чтобы звучала музыка. Спустя несколько часов, когда вечеринка была в разгаре, я заметила, что их нет.
Они ушли по-английски…
— Где же твои друзья? — спросил муж, когда я из последних сил домывала посуду. — Почему они не пришли?
— Как это — не пришли? — удивилась я. — Неужели ты их не заметил?
— Вот как? — воскликнул муж. — Кажется, я пока не ослеп! Кроме тех, кого я знаю, не было ни души!
— Не зли меня, пожалуйста, — устало буркнула я. — Они — были. Просто ушли раньше всех.
— Это ты меня не зли! — возразил муж, который еще с юных лет был заядлым и вспыльчивым спорщиком. — Повторяю: кроме тех, кого мы с тобой вместе приглашали, больше никого не было!
— А кто же, интересно, сидел между Николаем Николаевичем и Ванечкой? — начала заводиться я. — Кто сидел рядом с Даринкой?
Муж окинул меня озадаченным взглядом.
— Ты, наверное, слишком устала…
— Да, я устала, — согласилась я, — но в этом случае это не имеет никакого значения. Они были! И прекратим этот бессмысленный спор.
— Хорошо, — спокойно сказал муж, — я сейчас позвоню Ивану. А то заснуть не смогу.
Он вышел в прихожую и, несмотря на поздний час, позвонил практиканту. Я не прислушивалась. Все это было просто смешно.
— Ну вот, — сказал муж, вернувшись на кухню, с довольным видом потирая руки. — Я был прав. Иван тоже никого не видел. Рядом с ним никто не сидел. В общем, не о чем говорить.
Не сказав ни слова, я бросилась к телефону. Мне было все равно, что показывают стрелки часов. Но Дарина вычитала меня по полной программе и перед тем, как бросить трубку, все же добавила:
— Никого рядом со мной не было! Ты просто поставила лишний стул.
Я вернулась на кухню вконец растерянная. Муж понял все без слов. На его лице засияла довольная ухмылка.
— Как я могла забыть! — обрадовалась вдруг я. — Ведь мы фотографировались! Именно — за столом. Помнишь?
Мне захотелось тут же помчаться в фотомастерскую, но я вовремя спохватилась: ведь было уже далеко за полночь. Пришлось потерпеть до утра…
Я забрала пленку и отпечатанные фотографии только вечером следующего дня. Быстро просмотрела их все и потом тщательно обследовала каждый кадр. Моих гостей на них не было. А рядом с Дариной и между Николаем Николаевичем и Ванечкой зияли пустые места.
Я ничего не сказала мужу. Но и не испугалась. Просто запретила себе задаваться лишними вопросами. Ведь так часто бывает: мы встречаем на своем пути нечто, что не поддается нашему пониманию, например, большую любовь или настоящую преданную дружбу. Когда же мы начинаем с недоверием копаться в механизме этих явлений, он распадается на мельчайшие винтики. И нечто БОЛЬШОЕ превращается в мелкие детали, которые невозможно снова собрать вместе, а если и соберешь — все равно теряется вся ценность и очарование того, что раньше было единым целым. Это я знала по собственному опыту.
И поэтому, как и прежде, продолжала ходить за черный забор маленькой рощи, месила ногами сырую землю и входила в фургон. Они всегда были на месте. Девушка сидела у порога, юноша что-то мастерил. А я клала голову ему на плечо. Забывала обо всем, глядя на то, как из-под его руки выползают золотистые змейки, пахнущие лесом.
Я уходила только тогда, когда чувствовала, что силы мои восстановились, что я снова готова мыть-стирать-убирать, таскать сумки и руководить большим отделом на своем предприятии…
…Стук раздался как гром среди ясного неба. Точнее, небо, как я уже говорила, было совсем не ясным, а серым, как накануне весны.
Стук, звон и зов донеслись с той стороны рощи. «Стук, звон и зов» — собственно, не совсем точные названия для того звука, который заставил меня оторвать голову от его плеча. Этот звук был жутким и… манящим одновременно. Я поднялась. Ноги и руки вмиг онемели, стали ватными. Но я все же шагнула к порогу. Мне не очень хотелось идти, но было в этом зове нечто такое, что заставило пойти на него, как крысу на звук волшебной дудочки. Я не могла сопротивляться. Парень и девушка с тревогой посмотрели на меня, переглянулись. Он чуть слышно прошептал: «Не просыпайся…» — «Не просыпайся, а то — застрянешь!» — повторила девушка.
Я их не поняла. Медленно переставляя ноги, как космонавт в безвоздушном пространстве, направилась в рощу. Вязкая земля тяжело дышала подо мной. Эхо нарастало — в нем звучали знакомые голоса.
Пересекая рощу, я поняла, что не хочу уходить отсюда вот так — не по своей воле, как это было всегда. С противоположной стороны рощи поднялся неистовый ветер, входя в эту воздушную полосу, я, будто перед прыжком в воду, закрыла глаза…
…А когда снова открыла их, передо мной предстало удивительное зрелище: белая пустыня. Я сидела посреди нее одна-одинешенька. Пейзаж с рощей и фургоном, оставшиеся позади меня, и очертания города, маячившие впереди, — все исчезло. Стихло и эхо.
Тишина нависла над песками непроницаемым куполом.
…Так я застряла на грани сна и пробуждения.
О том, что произошло, догадалась не сразу. Сначала нужно было все обдумать, проанализировать. А с логическим мышлением у меня все было в порядке. Кроме того, у меня появилось время на размышления — я больше никуда не спешила. Я стала такой, как ОНИ — те, кого внезапно разбудили. Можно было только догадываться, сколько нас таких было! Может быть, тысячи или даже миллионы — и у каждого было свое собственное раздольное место. Теперь я знала наверняка, что в этой зоне не нужно мыть посуду, готовить еду или охотиться.
Я сидела среди белого мягкого простора, будто внутри теплого кокона, и совсем не хотела выбираться наружу. А зачем? Я сама превратилась в ПЛЕЧО, от которого веяло покоем и уверенностью. Порой я вспоминала парня в тельняшке и девушку с длинными волосами — как они там, без меня? Но в то же время я понимала, что именно теперь стала намного ближе к ним, чем раньше, ведь присоединилась к их миру. Лучше усвоила истину: покой — это то, что может быть лучше любви, важнее обыденности, а может быть, и жизни… А это состояние — довольно странное! — возможно лишь на грани пробуждения, которое длится несколько секунд. В детстве — это секунды покоя, исполненные радостным предчувствием чего-то нового, вкусными запахами из кухни, где бабушка печет блины. Когда ты понимаешь, что тебя ждут, и растягиваешь удовольствие: УЖЕ не спишь, но ЕЩЕ не проснулся…
И если я приходила к кому-то, вероятно, и ко мне кто-то может прийти? Но кто и каким образом? И почему я приходила именно к ним? Кто ОНИ?
Позже я поняла: возможно, я знала их раньше. Знала и забыла. Мужчина в тельняшке мог быть мальчиком, с которым мы вместе ходили в детский сад. Он почему-то запомнил меня. Наверное, и сам не мог бы объяснить — почему? Девушка… Она тоже могла быть кем угодно — продавцом в магазине, медсестрой, контролером в троллейбусе, одной из моих соседок. В определенный момент они подумали именно обо мне. Это был случайный выбор. Парадокс памяти. Будто кто-то подбросил вверх горсть камешков и два-три похожих упали рядом…
Поняв это, я решила ждать. Ведь должен хоть кто-нибудь заглянуть и ко мне…
…Я сидела в уютном маленьком домике, который сделала из песка. В тот момент, когда на горизонте появилась чья-то фигура, я чистила рыбу. Откуда взялась эта рыба — неизвестно! Вчера был клубок ниток, сегодня — рыба… Маленькая серебристая плотва поблескивала в эмалированном ведре. Путник подошел ближе. Я узнала его. Это был мой муж. Только выглядел он как в первые месяцы нашего знакомства…
Он молча сел рядом, взял нож: и вытащил из ведра самую мелкую рыбешку. Я улыбнулась. Теперь я понимала, что это занятие, такое обыденное, станет для него символом отдыха и покоя. Вчера мы могли бы вместе сматывать нитки в клубок…
Мы сидели посреди белой пустыни под прозрачно-голубым небом, время от времени поглядывали друг на друга, смеялись, если какая-то непослушная рыбешка выпрыгивала на раскаленный песок, одновременно склонялись над ней, сталкивались лбами, снова смеялись. Я уже забыла, что нам может быть так хорошо. Я хотела, чтобы это продолжалось вечно.
И поэтому сказала только одно слово: «Проснись!..»
4
— Он проснулся и остался с вами? — спросила я, с удивлением сознавая, что мне не противно слышать собственный голос.
Женщина кивнула. Она больше не хотела говорить.
— Мы еще увидимся, — сказала я.
Она иронично улыбнулась. Они все так улыбались. Все те, кого врач назвал «интересными экземплярами». Мне нравились их улыбки.
Я вообще не люблю слишком серьезных и напористых людей. Порой я не понимаю, почему они суетятся, ради чего живут?
С тех пор как я влипла в эту историю, я начала замечать множество странных вещей — не намеренно. Они сами лезли мне в голову.
Например, сегодня, когда я ехала домой…
…В троллейбус зашел мужчина в плаще. И я его сразу узнала. Мужчина сел у запотевшего окна и широким движением протер его от края до края. Это был Мужчина, Протирающий Запотевшие Окна. Есть люди, которые продуют себе крохотное пятнышко в окне и смотрят в него, как в замочную скважину. А этот — умница! — одним взмахом руки открыл нам всем полную панораму города, проплывающего за окном. Появление этого мужчины заставило меня обратить внимание и на других попутчиков. Как же я была удивлена, когда обнаружила столько знакомых лиц! Рядом с Мужчиной, Протирающим Запотевшие Окна, сидел Мужчина, Недовольный Жизнью и Очень Довольный Собой. Он был абсолютно лысым. Как только его сосед протер стекло, яркое солнце ослепительно засияло на зеркальной лысине Очень Довольного Собой, пуская по всему салону радужных зайчиков. Человек, Недовольный Жизнью, сразу же надел кепку. Он был очень недоволен такой ранней весной: недавно он купил себе новое пальто (которым, конечно, был недоволен из-за его высокой цены), и ему очень хотелось еще немножко поносить его. С другой стороны, он был недоволен слишком скользкой и снежной зимой из-за отсутствия приличных сапог. На самом же деле больше всего он был недоволен собственной женой… При этом животик его выпирал довольно красноречиво, в нем переваривался великолепный мясной пирог и два бокала вкусного виноградного вина. И собой он был вполне доволен.
Рядом, почти опираясь на этого пассажира, стояли две девушки. Одна из них была Та, Что Слишком Громко Разговаривает. Она разговаривала громко. И все вокруг узнали, что через две недели она выходит замуж — под венец пойдет в белом платье, расшитом стразами «под Сваровски».
У входа сидела Пожилая Женщина, Которая Бранится в Людных Местах. Она только раздувала щеки, но я сразу все поняла и поспешила выйти, хотя до моего дома было еще две остановки. Пожилая Женщина успела лишь бросить мне вслед: «Ишь, как вырядилась! Вот в наше время…» Но я не успела узнать, что было в ее время. Я не хотела об этом знать.
Дома я стала вспоминать тех людей, которые часто встречались на моем пути. Они всплывали в моей памяти, и я с удивлением понимала, что теперь знаю их не по именам, а как-то… изнутри. Будто передо мной открылась их более тонкая сущность. Я припомнила своих бывших сотрудников. Неподалеку от меня сидела Женщина, Готовая Принести Себя в Жертву. Правда, она этого еще никогда не делала, но каждое ее движение свидетельствовало о готовности номер один. Даже походка у нее была такая, будто она шаг за шагом поднимается на гильотину времен Французской революции. А когда она протягивала руку, чтобы достать папку с верхней полки, — напоминала полуобнаженную Свободу с картины Делакруа. И в нее очень хотелось впустить пулю. Хотя коллеги отпускали в ее адрес лишь шуточки и насмешки. Пули — это атрибуты иного антуража. Но она была готова и к тому, и к другому.
Через два стола от нее сидела Женщина, Которой Постоянно Звонит Муж. Ему было крайне необходимо узнать, пообедала ли она. А если он слышал утвердительный ответ — сразу же перезванивал, чтобы уточнить, выпила ли она чашку кофе с круассаном. Глаза этой женщины всегда лихорадочно блестели: она боялась, что любимый муж позвонит именно в тот момент, когда она выйдет из кабинета помыть чашку. И тогда жизнь его потеряет смысл. Возможно, навсегда…
Чуть дальше расположился Юноша, Увлекающийся Буддизмом. Это было его тайной. Его лицо всегда украшала отстраненная улыбка. С ним можно было делать все что угодно: макать лицом в сливочный торт, подкладывать на стул кнопки, сунуть за шиворот паука или даже скользкую жабу… Он улыбался. И все вокруг думали, что он — подхалим, карьерист и «тихая сапа». «Этот далеко пойдет!» — говорили о нем в курилке. Но если он и мог пойти далеко — то только в глубь собственного «я», где всегда были цветущие земляничные поляны.
И этого не могла понять Девушка, Обреченная Ходить в Секретаршах. Хоть она давно уже занимала должность заведующей отделом и гоняла Юношу, Увлекающегося Буддизмом, за ванильными булочками в кондитерскую. Она регулярно ходила в фитнес-центр на жемчужные ванны, каждое утро вызывала визажиста, громко жаловалась на утомительные поездки на Формулу-1 и опостылевшие Мальдивы. Но даже если бы к ней завтра посватался один из сыновей принца Чарльза, она не перестала бы отставлять мизинец, поднося к губам чашку с кофе, и придирчиво расспрашивать официанта о составе фондю «франш-конте».
Кого бы я ни вспомнила — для каждого находилась своя, довольно меткая характеристика.
Мужчина, Тщательно Скрывающий Страсть к Казино, Мальчик-Паж, Женщина с Манерами Девочки, Тетенька-Бутончик, который Так и Не Расцвел, Девушка Не От Мира Сего, Мужчина-Кусочек-Сыра, Писаная Красавица, Дедушка-Генерал, Женщина-Звезда… Все они не догадывались, что обречены играть в жизни заранее определенную роль. Одну и ту же, невзирая на обстоятельства…
Но какая роль, в таком случае, отведена мне?
Несколько лет тому назад я бы уверенно могла ответить на этот вопрос. Теперь я должна была это уточнить.
5
…Утром следующего дня для разговора я выбрала мужчину.
У него были длинные волосы, ворот его больничного халата был поднят и подвязан черной бархатной ленточкой. Сев напротив меня — движения его были резкими и в то же время элегантными, — он заложил ногу на ногу, отбросил со лба рыжеватую прядь прямых волос и картинно обхватил колено тонкими нервными пальцами. И сразу заговорил. Заговорил быстро, довольно красиво, глядя куда-то вверх, будто считывая рассказ, напечатанный на стене позади меня…
«Я вышел на берег Гондваны 12 ноября. Паром не работал уже несколько лет. А может быть, несколько десятков лет. Поэтому пришлось нанять лодочника, который задержал мое прибытие на остров на два дня, неторопливо ремонтируя свою яхту.
Я ступил на подтаявшую, поросшую мхом землю, увяз в ней почти по колено и едва успел ухватить чемодан с резко развернувшейся яхты. К тому же чертов лодочник поднял вокруг такой водоворот, что я сразу промок с головы до ног. Ледяной ветер сорвал с меня шляпу и через миг скрыл ее в волнах. Деревья на берегу переплетались ветвями, гнулись, впивались друг другу во всклокоченные верхушки, охапки сорванных листьев превращались в ярко-желтые воздушные ураганы, будто тут шла война. Я растерянно оглянулся назад: может, успею вернуть старика. Но яхта уже исчезла в тумане.
Я огляделся, нет ли за деревьями костра или рыбацких неводов, которые сушатся на берегу, или еще каких-нибудь признаков присутствия людей. Напрасный труд! Зачем я приехал сюда? Да еще с чемоданом, в котором аккуратно уложены несколько сорочек, носки, пара галстуков, новые сапоги и томик моего любимого Превера!
Меня ведь предупреждали, что тут уединенно обитают три-четыре семьи. Но ведь это не значит, что на всем острове нет ни одной гостиницы, бара или почтового отделения, думал я. Да, видимо, ошибался. Вокруг шла непрестанная война деревьев, шумело море, ветер вздымал листья и песок. И — ни души!
Честно говоря, я испугался. Еще раз бросил тоскливый взгляд на горизонт: возможно, лодочник пошутил и сейчас вернется? Но тут на море поднялись такие волны, что стало ясно: даже корабль не рискнет отправиться в такой опасный путь, не то что маленькая рыбацкая яхта!
Ничего не оставалось как пойти вперед, в глубь острова, в надежде, что мой страх необоснован, что скоро я выйду на широкую сухую дорогу, увижу огни, дома, яркие витрины магазинов.
Идти пришлось долго. Беснующиеся деревья пытались опутать меня своими скользкими мокрыми ветвями, песок забивался в сапоги, лицо пришлось прикрыть нашейным платком.
Через час этого безумного пути я все же заметил за холмом что-то похожее на дом и поспешил в ту сторону на слабый пульсирующий огонек.
— Денег мы не берем! — сказал старик в длинной белой сорочке, лишь только я высказал свою просьбу о чашке горячего чая и ночлеге за любые деньги.
— Мы презираем деньги! — подтвердила старуха в таком же одеянии. — Мы уже забыли, что это такое…
Но я ощущал острую потребность в отдыхе, перед тем как снова ступить за порог, туда, где выл ветер и шумел ливень. Я раскрыл перед ними свой чемодан.
— И вещей нам не нужно! — отрезал старик.
— Зачем нам вещи? Куда их надевать? — поддержала его старуха. — У нас есть все необходимое.
Старик пошел прямо на меня, пытаясь выставить за дверь.
— Так что же вам нужно? — выкрикнул я. — Неужели вы никогда не помогали ближним?
Эта мысль испугала меня. Если она была тут — такая маленькая и слабая, — ее тоже могли выставить за порог.
Старик и старуха переглянулись.
— Помощь ближнему не входит в наши обычаи… — сказал он. — Хотя исключение, конечно же, было… Однажды…
Я затаил дыхание. Возможно, сейчас я что-то узнаю о ней? Но старик уже переключился на другое:
— Ну ладно. Вы можете остаться. Если расскажете нам что-нибудь интересненькое. Ночь слишком длинная, а у нас — бессонница.
Я с облегчением кивнул и стал стягивать мокрые сапоги.
Старуха с недовольным видом принялась накрывать на стол: поставила кастрюлю с вареной картошкой, положила несколько мелких рыбешек и бесформенный кусок ржаного хлеба. Старик подкладывал в камин дрова. Я старался есть медленно, чтобы потянуть время, собраться с мыслями. А еще я думал о том, чем мог ее привлечь этот остров? Названием? Жаждой приключений? Возможностью отдохнуть от будничных забот? В волнении я размышлял над тем, как начать поиски, как завести речь о том, ради чего отправился в это трудное путешествие.
Едва я успел допить последний глоток чая, как старик со старухой тут же уселись напротив и, как по команде, подперли жилистыми руками свои морщинистые лица. Они не шутили. Они приготовились слушать. Чертов остров!
Я глубоко вдохнул и выдохнул… О чем им рассказать?
За окном продолжалась война деревьев, ветки настойчиво пытались разбить стекло.
Я начал говорить. Рассказал о том, где и кем работаю, кто мои родители, какие книги люблю читать и какие передачи идут сейчас по телевидению. Это их не вдохновило. Старики заерзали на стульях и с недовольным видом переглянулись. Я поспешил продолжить. Сообщил о результатах последнего футбольного матча, изложил теорию Дарвина о происхождении человека и кое-что из законов физики. Я отчаянно надеялся, что хозяева наконец заснут. Но они сидели, хмуро и злобно уставившись на меня. От их взглядов у меня в глазах лопались сосуды…
— ТА говорила поскладнее, — пробурчал старик.
— Кто? — не сдержался я.
— Никто. Продолжайте. Или убирайтесь вон! — вмешалась старуха.
Пришлось смириться и продолжать. Я стал исступленно читать стихи Превера. Получилось еще хуже, чем с законом Ньютона. Но, к счастью, странные хозяева наконец стали клевать носом. Я выглянул в окно — там уже серела утренняя дымка.
У меня появилась возможность осмотреться. Комната была просторной, в ней приятно пахло древесиной и травами, тихо потрескивали дрова в камине. Две кровати у стены, кресло, широкий стол, стулья — вся было сделано из добротного дерева. Ничего лишнего. Только один из углов был завешен легкой тканью, за которой тускло светился огонек. Я осторожно поднялся с кресла. Интересно, каким богам молятся эти отшельники?
Осторожно отвел в сторону занавеску. Над свечой на большом гвозде висела голубая лента…
Я узнал бы ее среди тысячи других! Я даже догадывался, как она может пахнуть — лавандой, а точнее — лавандовым шампунем…
Холодная и цепкая старческая рука впилась в мое плечо. Я с отвращением отбросил ее, будто это был паук или гусеница.
— Убирайся вон! — Глаза старика полыхали гневом.
— Что это? — спросил я, показывая на ленту.
— Вон! — Он задернул занавеску, и голубая лента исчезла…
— Но куда мне идти? Сдайте мне угол на пару недель. У меня тут есть дела…
— Вы плохой рассказчик, — понизил голос старик. — Идите к сестрам. Это в километре на запад отсюда. А нам квартиранты не нужны!
Хорошо, что хотя бы мои сапоги просохли! Я обулся, подхватил чемодан…
По крайней мере, теперь я знал: ОНА была тут.
Может быть, на этом острове я отыщу кого-нибудь, кто будет ко мне расположен более дружелюбно. Я вышел и окунулся в молочный туман. Деревья прекратили свою битву. Воздух был пропитан пряным запахом вырванной с корнем травы. Почему-то в момент гибели растения пахнут особенно остро…
Я вдруг подумал о том, как мало я знаю. И это показалось мне странным…
Перед тем как постучать в дверь следующего дома (это был аккуратный коттедж: с веселенькими занавесками), я умылся у источника, кое-как поскреб щеки бритвой. Бессонная безумная ночь давала о себе знать: я едва волочил ватные ноги. Было ясно, что гостиницы тут никогда не было. Дома располагались далеко друг от друга, и люди были разобщены не только из-за отсутствия каких-либо признаков цивилизации — телефонной связи, радио, телевидения, а и самой природой. Чтобы добраться до коттеджа, я перевалил через несколько больших холмов и преодолел две лесополосы.
Итак, я побрился, снял галстук (в этой глуши он выглядел довольно смешно) и постучал в двери к тем, кого старики называли сестрами.
…Они действительно были похожи друг на друга. Две женщины неопределенного возраста, в одинаковых черных платьях с белыми воротничками, накрахмаленными с таким старанием, что на подбородках обеих дам проступали красные рубцы.
Доисторические ископаемые Викторианской эпохи не отводили взгляда от носков моих сапог. И так же, как и предыдущие аборигены, категорически отказались от денег, а после небольшой паузы — и от возможности проявить милосердие к усталому путнику.
— Вы же мужчина! — сказала одна, не понимая глаз.
— Мы отвыкли от мужчин! Мы вас боимся! — добавила другая.
— Но ведь я мог бы сделать что-нибудь полезное… Принести воды… Или еще что-нибудь… — стал умолять я, вспоминая условия стариков.
— Мы все делаем сами, — возразила одна.
— Но, — подхватила другая, — мы любим петь. А песен не знаем. Вот если бы вы спели нам что-нибудь…
„Этого еще не хватало — петь псалмы, — в сердцах подумал я, — да это остров каких-то сумасшедших!“
Но мой взгляд уже проник в комнату — в угол, к свече (такой же, как у стариков!), к предмету, который вырисовывался над тусклым огоньком. Тревога охватила меня и заставила покорно кивнуть головой.
…В доме сестер я пробыл почти сутки. С утра я просто улегся, не раздеваясь, на топчан в прихожей и притворился, что тут же заснул: не вышвырнут же они на улицу уставшего сонного человека! Проснулся только на следующее утро от неприятного чувства, будто на меня кто-то смотрит. Женщины в черном действительно стояли надо мной. Едва я пошевелился, они поспешили опустить глаза.
— Можете поесть, — сказала одна. — Там, на столе, молоко и творог.
Все повторилось. Я медленно ел, понимая, что петь мне все же придется — было очевидно, что женщины ждут от меня концерта. А я думал лишь об одном: как бы заглянуть за занавеску. А после того как доел последние крошки, стал судорожно гадать, что же они хотят от меня услышать.
— Теперь пойте! — велели они.
Я с трудом вспомнил слова гимна моей страны.
— Не то, — пробормотала одна.
— Не то, — эхом отозвалась другая. — Таких песен мы не любим. ТА пела иначе…
— Да о ком вы все говорите, черт побери! — не сдержался я. — Кого прячете на вашем проклятом острове?!
И тут обе нависли надо мною, как черные акулы. Острые лезвия воротничков сверкнули, сестры угрожающе зашипели:
— Вон отсюда!
Но я уже не мог сдержаться. Поэтому вскочил и бросился в угол, отдернул занавеску импровизированного алькова и ошеломленный замер: над свечой, на таком же точно, как у стариков, гвозде висели… ЕЕ босоножки.
Старенькие, с потертыми тоненькими ремешками. Я не мог ошибиться! Босоножки — не лента. Я отчетливо помнил каждую впадинку на ее тонюсеньких щиколотках и эти розовые ремешки, которые обхватывали их! Я резко обернулся, требуя объяснений и… уткнулся в дуло ружья, направленное мне в лицо…
…Я бежал, не разбирая дороги, прыгал от куста к кусту, а вдогонку слышались выстрелы. Чемодан, сигареты, сапоги — все осталось в чертовом коттедже. Бежал долго. Несколько раз падал в грязь, поднимался и снова бежал, пока звуки выстрелов стали едва слышны. Обессиленный, я оперся спиной на какой-то забор, медленно сполз по нему на землю и закрыл глаза…
…Я всегда был баловнем судьбы. Друзья считали меня душой компании, а женщины никогда первыми не бросали меня. Я принимал решения сам.
И вдруг эта жизненная программа забуксовала, все пошло кувырком. Три года я пребывал в отчаянии, напряженно размышлял над тем, почему она меня бросила. А потом отправился сюда: она всегда мечтала о диких безлюдных местах…
Не заметил, как уснул — вот так, в грязи, под чужим забором. Теперь у меня не было ни денег, ни чистого белья.
Проснулся я от противного звука. Заглянул в щель в заборе: во дворе двое мужчин пилили дрова. Одному было лет шестьдесят, другому — лет сорок. Похоже, это были отец и сын. Вид у них был вполне нормальный. Я открыл калитку и замер в нерешительности. Оба, оставив работу, двинулись мне навстречу. На всякий случай я бросил взгляд на остро заточенный кол, лежавший неподалеку.
Старший заговорил приветливо. Угостил самокруткой, в которую подсыпал какой-то неведомой мне травы. Наконец я имел возможность поговорить по-человечески, хоть что-то разузнать. И, начав издалека, выяснил, что на острове издавна обитают четыре семьи — те, что сохранились от переселенцев, прибывших сюда в поисках покоя. Я вспомнил вчерашнюю бурю, холод, мокрую землю, вибрирующую под ногами, кружево паутины, натянутое между стволами…
— Вам, наверное, приходится нелегко?..
— Нам все равно, — ответил отец. — В этом и есть весь смысл Покоя. Вам этого не понять. Поэтому мы и не принимаем чужих.
— Никого из них?
— Никого…
— Значит, я первый?
Сын слегка закашлялся, отец похлопал его по спине.
Мы помолчали. Я — размышляя над тем, как продолжить разговор, они… Мне показалось, что и они думают о том же.
— То есть ваша цель — покой? — попытался удовлетворить свой интерес я. — Но ведь должна быть еще и какая-то жизненная философия, которая заставляет вас жить вот так — прятаться от цивилизации, прогресса, новых знаний…
— У нас все свое. Мы не подчиняемся чужим законам, — ответил отец. И перешел к пространным рассуждениям о морали Гондваны. Речь его была слишком длинной и не совсем понятной, как старинные письмена. Я попробовал вникнуть в ее суть, выделить главное. И вдруг это главное само четко предстало передо мной, будто свод определенных правил. Вот они:
а) достояние лишь тогда остается достоянием, когда ты жалеешь о том, что утратил его; б) утратив его случайно или сознательно, ты надеешься все вернуть и страдаешь от того, что оно — где-то рядом и принадлежит кому-то другому; в) поэтому его стоит собственноручно положить на жертвенный костер; г) тогда вера в него останется неизменной, в чистом виде; д) ведь ты будешь уверен: ТАКОГО больше ни у кого нет и никто не воспользуется им. Оно — внутри тебя. Навсегда.
— Ничего себе! — улыбнулся я. — Это означает, что увидев цветок и обнаружив его неотразимость, его нужно… съесть. Уничтожить, растоптать?
— Да, — на удивление серьезно ответил отец.
— Конечно, — подтвердил сын.
Я замер, улыбка сползла с моего лица, а лоб покрылся холодным потом. То, что пришло мне в голову в это короткое мгновение, нельзя было выразить словами — лишь тошнотворный страх и дрожь в конечностях, как перед операцией…
Пытаясь ничем не выказать своего состояния, я попросил воды и на дрожащих ногах вошел вслед за хозяевами в дом. Огляделся. Огонек в углу за занавеской… Размытые контуры за ней…
Я отстранил протянутую руку с кружкой, сделал шаг навстречу тусклому мерцанию. Отвел в сторону ткань. На двух гвоздях, будто распятая бабочка, висел шифоновый платок. Мой подарок — с розовой (под цвет босоножек) оторочкой…
— Что это? — охрипшим голосом спросил я.
— Зря вы так… — нахмурился отец. — Вы нарушили часть нашей морали. Никто не имеет права видеть реликвии. Если хотите уцелеть — уносите отсюда ноги! Пока еще есть время до Большого Совета…
Меня не нужно было просить дважды. Я выскочил за порог. И снова бежал. И — не вру! — лучше бы мне вслед стреляли! На этот раз я бы не пытался уклониться… Закатное солнце опускалось на остров тяжелым красным щитом, давило на мозг. Я бежал, обхватив голову руками. Мне хотелось рыть землю у каждого холма, под каждым деревом. Ужас сменился гневом: я переверну эту болотистую землю, просею ее всю сквозь пальцы, но найду… Что? Что я хотел отыскать?!
Что-то больно ударило меня в висок. Теряя сознание, еще успел подумать, что чья-то пуля все же настигла меня…
…Но ошибся. Это был просто удар об дерево, который вывел меня из строя до самого утра. Холод вернул меня в сознание. Раскрыв глаза, я увидел мальчика. Он стоял надо мной неподвижно, будто памятник.
Ему было лет семь. Увидев, что я жив, он из предосторожности отступил в тень. Превозмогая боль, я поднялся и сел. Вид у меня был как у настоящего клошара, но мне было все равно. „Все равно!“ Вот оно, это чувство, опустошающее и дарящее покой. Я с тоской посмотрел на мальчика — очевидно, это был потомок четвертой семьи, живущей на острове, последний могиканин этой странной местности, последняя жертва морали. Я окликнул его. Дети не врут, и у меня появилась надежда именно сейчас узнать правду. Всю правду, какой бы горькой она ни была. Но мальчик выдавил из горла какой-то невнятный звук, показывая на свои уши и рот. Он оказался глухонемым…
Я махнул ему рукой, он с опаской приблизился, сел рядом и вопросительно посмотрел мне в глаза. Я порылся в нагрудном кармане, вынул помятую фотографию, расправил ее на колене и показал мальчику. Он низко склонился над ней, выражения его лица я не видел.
Потом быстро вскочил. „Сейчас сбежит“, — решил я. Он и правда отпрянул от меня на несколько метров и вдруг… О, это было настоящее представление! Он начал странно двигаться, изображая чью-то походку, — покачивался, прихрамывая, слегка перекосив стопу, тянул носок, как неумелый танцор. Все это выглядело смешно, но при этом грациозно. Потом он замер и с вопросительной растерянностью посмотрел на меня. „Что?“ — кивком головы спросил я.
Тогда мальчик сделал странный жест: будто расчесывает длинные волосы, хотя сам был почти лысым. Видимо, таким образом он хотел развлечь меня. „Хватит! Молодец!“ — жестом похвалил я его, все еще морщась от боли.
Но он не унимался. Судорожно помахал в воздухе своими худыми ручонками, будто стирая предыдущие картины. А потом сделал еще более странное движение: откинул с лица воображаемую прядь волос и провел пятерней по голове спереди назад, будто отбрасывая невидимую гриву волос себе за спину. Я замер. Я увидел ЕЕ. Так отчетливо, что у меня заныло сердце. Как я мог забыть эти жесты?! Мальчик копировал ее так точно, будто был прирожденным актером…
Я склонился над фотографией и впервые за всю жизнь узнал, что такое слезы.
Мальчик сел рядом и уткнулся в мое плечо. Я почувствовал, что сорочка в этом месте сразу промокла…
Сколько мы так просидели, не знаю. Хорошо, что он не мог говорить. Собственно, я больше ничего и не хотел знать. Я думал о достоянии, которое когда-то принадлежало мне. О том, что ничего не знаю о жизни, никому никогда не помог, знал и умел так мало, что мне нечего было отдать другим. И потому мог бы жить вечно — пусто и равнодушно. Мог бы стать достойным обитателем Гондваны.
Когда солнце вошло в зенит, мальчик заволновался, вскочил. Я испугался: не хотел терять его и не хотел идти за ним. Наверное, его родители ничем не отличаются от тех, с кем я уже успел познакомиться. Заметив мою тревогу, мальчик сделал успокаивающий жест и помчался куда-то в лес. Я остался один. Я не мог сообразить, что делать дальше. У меня зародилась надежда: а вдруг сейчас он вернется, ведя ее за руку!
И все изменится. Я полюблю эту землю, так напугавшую меня, вспомню чудесные истории и красивые песни — ведь я знал их в детстве! Научусь радоваться простым проявлениям жизни и природы. Построю дом. Выращу сад.
Я встрепенулся, заслышав шаги, зрение напряглось настолько, что я даже на миг ослеп.
…Мальчик шел один. Рука его была стиснута в кулак. Сев возле меня, он раскрыл ладонь — на ней лежали бусы и… ржавый гвоздь.
Лицо его было серьезным и сосредоточенным. Я понял: он совершил преступление. Ради меня и того, о чем я мог только догадываться. Назад пути у него не было. Я крепко сжал его руку. Я понял, что больше никого не предам. Возможно, ради этого простого жеста — взять за руку того, кто в этом нуждается, — я и приехал сюда?! Возможно, ОНА знала, что я еще способен на это?
…Я повел мальчика к берегу. Море было спокойным. Я быстро разложил костер, сделав его как можно выше. Мальчик помогал собирать хворост, подносил дрова. Все нужно было делать быстро, пока его не начали искать. Потом мы замерли, с волнением всматриваясь в горизонт. Только бы старик-лодочник заметил наш условный знак!
Яхта пришла, когда солнце уже растворилось в темной воде. Жак и в прошлый раз, старик спешил, поднял бурю брызг и не приближался вплотную к берегу. Мы бросились в воду. Я едва успел забросить мальчика на борт и залезть сам. Яхта резко развернулась.
Обнявшись, мы смотрели на отдалявшийся остров. Вскоре его поглотил туман, он будто ушел под воду. С его моралью, реликвиями и божеством, которое я с такой легкостью упустил из рук несколько лет тому назад.
Я крепче сжал ладонь мальчика. И наконец смог улыбнуться…»
…В комнате повисла тишина. Мне даже не хотелось спрашивать, где сейчас этот мальчик. И был ли он вообще? Мужчина поднялся, вежливо поклонился: «Я могу быть свободен?»
— Вы свободны, — ответила я.
— Конечно! — улыбнулся он. — Вы — тоже.
Было ясно, что мы говорим об одних и тех же вещах.
Дверь за ним закрылась. Я осталась сидеть в тишине. Заглянула медсестра.
— Красавчик, правда?
Ей уже хотелось наладить со мной отношения, чтобы иметь возможность заглядывать в этот кабинет, чтобы выпить чашечку кофе, покурить или подтянуть колготки. А еще ей, наверное, что-то рассказали обо мне, и в ее равнодушном взгляде появился интерес.
Что я должна была ответить? О чем могут говорить две симпатичные молодые женщины, работающие в одном месте? Бр-р-р…
Я пожала плечами и стала смотреть в окно. Даже не заметила, как она вышла.
За окном был сад. Голый и босой, хотя чувствовалось, что вот-вот деревья зазеленеют. Они стояли напряженные и углубленные в свои внутренние процессы, в них двигались соки. Но нужно было дождаться тепла.
Я представила себе незнакомую женщину в полумраке кофейни на окраине какого-нибудь иностранного города — Праги, Парижа, Вены, Варшавы. О, лучше — Варшавы! (Я испытываю особые сентиментальные чувства к Польше, в которой никогда не была.) Кофейня маленькая — на семь столиков. Маленькая и пустая. За стеклянной дверью барабанит весенний дождь. Деревянные столы и стулья, отполированная тысячами локтей барная стойка, запах кофе и тишина. Откуда-то доносится музыка. На женщине синяя вязаная кофта и пурпурная юбка — два ярких пятна, она только что закончила уборку, закрыла дверь. Она никого не ждет, ее дом — далеко. Она начинает танцевать. Она танцует. Медленно движется среди перевернутых стульев, прикрыв глаза. Она счастлива. В мире есть только сизый дождь, музыка, это маленькое пространство и она. Это — правда, реальность. Остальное — не имеет никакого значения… За окном и правда начался дождь — первый дождь после долгой зимы.
— Следующего, или пойдете домой? — снова заглянула медсестра.
На ее лице нарисовалось уважение. Я заметила: если с людьми не разговаривать, не улыбаться им и выказывать пренебрежение — они начинают относиться к тебе с большим уважением, чем тогда, когда ты пытаешься им всячески угодить.
До конца так называемого рабочего дня оставалось несколько часов. Но мне уже не терпелось скорее познакомиться со всеми своими «подопечными», и я решила пригласить кого-нибудь из женской палаты.
— Это — наша «финка», — сказала медсестра. — Считает, что живет в Финляндии. Сейчас повеселитесь…
Невысокая пухленькая женщина с острым носиком имела вид игривой девчонки. Она села передо мной и сразу же стала болтать ногами в шерстяных носках.
Видимо, на моем лице отобразилось нечто, потому что женщина тут же защебетала.
— У меня нет причин жаловаться на судьбу! Нет, нет никаких причин. Никаких!
Как всегда, я потихоньку нажала кнопку магнитофона. После последнего посетителя на пленке еще осталось место.
Вечером я прослушала запись:
«…У меня нет причин жаловаться на судьбу.
После работы я иду ужинать в „Саагу“. Это недалеко от музея-библиотеки. Если погода хорошая, обхожусь без велосипеда. Просто иду, дышу свежим воздухом. Точнее, не „дышу“, а прямо ем его: мысленно разрезаю на кусочки, как прозрачное лимонное желе, и забрасываю в рот. А если это осень и со стороны Писпалы (это самый престижный район Тампере на берегу озера, где живут писатели и актеры) доносится запах сосновой хвои, грибов и синей-пресиней воды (от этого яркого цвета даже сводит зубы) — такой воздушный коктейль заменяет мне целую пачку витаминов.
Итак, я иду в „Саагу“. После воздушного коктейля у меня просыпается волчий аппетит. Обычно я выбираю два блюда, хотя хватило бы и одного, ведь порции тут — огромные. На первое — суп из белых грибов, приготовленный на сливках, на второе — стейк-филе из лосося, обернутый в бекон, к нему — картофель с ароматом дягиля, овощная запеканка по-карельски и соус из ягод можжевельника. В „Харольде“ я выпиваю рюмочку (не больше 30 граммов) фирменного морошкового шнапса. И чувствую себя бесконечно счастливой.
У меня нет причин жаловаться на судьбу…
На работе я часто слышу: „Туве, на тебя приятно посмотреть! Ты такая, такая…“ И слов не находят. Еще бы! Я же бывшая стюардесса международных авиалиний. А туда кого попало не берут — только длинноногих, стройных, проворных. Если бы не небо — сидела бы я в деревне под Немировым и вязала варежки на продажу, как это делает моя сестра. И, ясное дело, никогда не узнала бы, что такое „тартар из белой куропатки“… А это очень-очень вкусно, по-фински — „херкуллиста“.
С Арто Ваатаном я познакомилась в самолете. Мужчина, сидевший на месте „17С“, заказал виски раньше положенного времени. Я могла бы и отказать, но у него в руках была книга о Мумми-Троллях. Такой солидный господин. Немного похож на пекинеса — короткий нос, большие, широко посаженные глаза — и детская книжка! Я принесла виски и попросила разрешения посмотреть картинки. Так началось знакомство. Потом он всегда брал билет на мой рейс из Хельсинки до Киева и обратно. Летал часто. Имел вид солидного бизнесмена. Как выяснилось позже, бизнес у него был ма-а-а-ленький (что-то связанное с поставкой консервированной морошки). Но у него был свой дом с сауной на околице Тампере, двое взрослых детей, живших отдельно, и свобода выбора. И он выбрал меня.
А через полтора года после свадьбы оказалось, что Арто Ваатан — романтик. Таких я встречала и у себя на родине в большом количестве. Муж сначала прилично выпивал, потом бросил свой бизнес и подался к родителям в Лапландию, пояснив свой поступок старой финской пословицей: „Хочешь быть богатым — работай в городе, хочешь быть счастливым и свободным — стань оленеводом!“ Он выбрал второе.
Больше я его не видела. И все бы ничего, но дом он завещал детям…
Но мне было все равно. Ведь замуж я выходила не по большой любви. Просто примерно в то же время, когда он мне подвернулся на месте „17С“, как раз пошли слухи, что меня спишут на землю. И я ужасно волновалась. Не знаю, чем я так насолила команде! Наверное, бортинженер решил взять на мое место свою приятельницу. Но ведь небо для меня — это все! Некоторые боятся летать, а я могла бы распахнуть люк и легко пробежаться по небесам. Уверена: никогда бы не упала! Однажды я попыталась это сделать. Вот после этого случая, когда милый Арто помогал моей напарнице отпаивать меня водой, и начались репрессии, поползли слухи. Представляю, как шипели мои завистники, когда Арто забрал меня к себе!
А уже потом был этот музей…
— Не знаю. Просто не знаю, что делать… — услышала я, как говорит директор роува Саатаннен. — Какой тут может быть выход?..
Она не догадывалась, что перегородка между ее кабинетом и подсобным помещением тоненькая, как картон. Или, скорее, у меня тонкий слух. Ведь если у человека тонкий вкус, наверное, и все остальное у него тонкое, деликатное…
— Какой может быть выход? — продолжает роува Саатанне, разговаривая с администратором роува Пайве. — Что с ней делать? Какая несчастная судьба! Совсем одна, в чужой стране… Сколько же ее тут держать? На это место давно претендует Ярмо. У него замечательная научная монография по детской литературе.
— Да она, корова, всем тут поперек горла! — говорит роува Пайве и даже зубами щелкает (она недобрая, эта администраторша!). — Неужели сама не понимает? Зачем вы ее подобрали?!
— Вы слишком суровы, — прерывает ее директриса.
— Это вы слишком мягки, роува! — не унимается администраторша. — Ей место в приюте для одиноких.
Роува Саатенне что-то отвечает своим тихим голосом, а я погружаюсь в фантазии. Я представляю себе несчастную толстую и одинокую корову, которая носится по снежной пустыне в поисках травы…
Я хорошенько умываюсь в туалете музея. Тут так красиво! Всюду пластик, стекло, разноцветный кафель и очень хорошо пахнет (когда летала, следила за тем, чтобы в туалете нашего самолета всегда был освежитель воздуха с клубничным запахом). Надеваю роскошное платье — я сшила его сама, еще когда жила с Арто. Оно черное, с кружевом и рюшами, талия — низкая, на груди — большой бархатный бант, снизу — широкая оборка. Ресницы и губы я всегда старательно подчеркиваю — осталась привычка от бывшей профессии. Мне же работать на людях!
Собираюсь я быстро. И выхожу в холл. Сажусь на краешек стула за стойкой, где царит роува Пайве, и складываю руки на коленях.
Вскоре придут первые посетители. Я так жду их, что не могу усидеть на месте. Волнуюсь, не помялся ли бант или оборка, поглядываю на себя в зеркальце, поправляю прическу. От волнения у меня пересыхают губы.
Я работаю экскурсоводом в музее Мумми-Троллей. Вот и не верь после этого в судьбу! Из-за этой книги я познакомилась с Арто. Потом я перечитала все девять книг. И поняла, что они написаны обо мне. Точнее, написаны так, как могла бы написать их я. Когда в музей приходят дети и я вожу их от стенда к стенду, от экспозиции к экспозиции, я рассказываю им новые сказки — продолжение историй о семье забавных лесных существ. Я рассказываю их очень тихо, чтобы — не приведи Бог! — не услышала роува Пайве!
Только однажды какой-то паренек стал спорить со мной. Он был уже довольно взрослый и наглый. „Вы же не Туве Янсон!“ — сказал он.
С той поры мое имя — Туве. Туве Янсон. И с тех пор я боюсь и не люблю детей. Они дотошные. У них потные ладошки и влажные носы. Они все время жуют жвачки и выдувают из них большие разноцветные пузыри именно тогда, когда я рассказываю им удивительные истории. О том, как я поселилась на острове со своей подругой-художницей и мы круглосуточно создавали живые иллюстрации к моим сказкам из дерева, камня, стекла, папье-маше и других подручных средств. Завывал ветер, мела метелица… Мы разводили огонь в камине и клеили фигурки Мумми-Троллей и их друзей.
Обычно дети выдувают пузыри, хихикают. А я щелкаю выключателем — экспозиционный зал погружается в темноту. Только загадочно светятся большие стеклянные кубы со сказочными персонажами. В темноте они оживают, их стеклянные глазенки поблескивают, носы морщатся, они начинают двигаться и смеяться… Мне нравится наблюдать за тем, как пугается детвора. Как они замирают и перестают жевать. Я рассказываю о том, как жуткие маленькие существа с цепкими лапками нападают врасплох, приклеиваются ладошками к телу озорника и уносят его далеко-далеко от дома, Могут бросить в море. Или еще куда подальше… Я рассказываю о ненасытном празднике — Рождестве, для которого люди готовят горы салатов, пирогов, убивают целое стадо коров и стаи индюшек…
Краем глаза слежу за коридором и если замечаю директрису или роува Пайве, быстро включаю свет…
— Вот какая замечательная писательница жила в нашей стране! Вот какие чудесные сказки она писала для вас, дорогие дети! — бодро заканчиваю экскурсию.
…О, я знаю: когда они вернутся к себе домой и лягут в теплые постельки, им приснятся Цепкие Лапки. И они — те, кто бросает в меня камешки летом и острые ледышки зимой, — долго будут ворочаться и всхлипывать во сне.
А я ночую в музее. Закрываю его за роува Саатаннен, которая уходит последней. И остаюсь наедине со своими маленькими друзьями. Пусть роува Пайве и роува Саатаннен считают, что я сплю в своем уголке. Дудки!
Я иду в зал, где голубым светом сияют стеклянные кубы с экспозициями. В них — моя семья.
— Туве, тебе тепло? Тебе весело? — спрашивает Мумми-мама.
— Туве, сегодня прохладно. Ты надела теплые носки? — спрашивает Мумми-папа.
Я плачу. Я рассказываю им о небе, о своем городе, который никогда не увижу, и о том, что мне некому приготовить индейку на Рождество.
И тогда все они выходят из своих прозрачных кубов — семья Мумми-Троллей, фрекен Снорк, Снифф, Снусмумрик, — берут меня в веселый круг, поют и танцуют. И я пою и танцую вместе с ними. Они ведут меня к кукольному домику, в котором столько красивых комнат, пропахших запахом трав, кружевные занавески на окнах, теплые одеяла, мягкие подушки и даже крохотные свечечки на лакированном черном рояле.
Мумми-мама укладывает меня в кровать, завешенную розовой занавеской, заботливо укутывает мне ноги своим шерстяным платком…
— Спи, моя родная, — говорит Мумми-мама. — Завтра наступит новый день. Я тебя никому не отдам. Ты всегда будешь с нами…
Я засыпаю счастливой.
У меня нет причин жаловаться на судьбу…»
6
…Я пишу быстро и неразборчиво. Пытаюсь успеть записать все, ничего не объясняя. Тороплюсь, пока черная дыра не затянула меня в свою пасть, чтобы чувство стыда и безысходности не поглотило меня. Пока что мне это плохо удается. Хотя держусь я довольно хорошо. И потом — имя… Великая магия инерции.
Я честно отдаю кассеты директору. Но перед этим прослушиваю их и — с промежутками в несколько минут — нажимаю на кнопку «Record», при этом на них получается какое-то непонятное кваканье.
— Понимаете, — объясняет мне главврач (он думает, что мне это интересно, что я тут только для того, чтобы написать нечто эпохальное о его сраной больнице), — чаще всего симптоматичные психозы наблюдаются на фоне картинной депрессии, депрессивно-бредового, галлюцинарно-параноидального состояний, апатичного ступора, маниакальных расстройств, конфабулеза, псевдопаралитического и транзиторного корсаковского синдромов.
В его речи нет никаких подозрительных вкраплений. Даже если бы я записала все это на кассету — речь четкая и маниакальная. Он даже хватает меня за пуговицу джинсовой куртки и нервно пытается открутить ее.
— Депрессивные состояния в одном случае сопровождаются идеаторной и моторной заторможенностью и напоминают фазу маниакально-депрессивного психоза. Различие только в перманентной астении, которая усиливается к вечеру. В других случаях картина депрессии очень напоминает симптомы инволюционной меланхолии: больные возбуждены, взволнованы, все время повторяют одни и те же фразы…
У меня нет причин жаловаться на судьбу…
У меня нет причин жаловаться на судьбу…
У меня…
…Теперь у меня точно их нет!
— Может, кофе? — говорит наконец врач. У него густая черная борода, в которой застряли крошки хлеба — наверное, только что съел бутерброд. Его рука все еще крутит мою пуговицу и начинает потеть прямо на глазах, ладонь красная, как задница павиана.
Порой я думаю, что на теле человека есть более срамные места, чем те, которые он привык скрывать под одеждой. Например, внутренняя сторона ладони или стопа, или мочка уха. Ухо — это вообще… Наверное, Ван Гог почувствовал этот стыд первым.
Дома я отыскиваю на полках монографию профессора Б. А. Целибеева с историей болезни Ван Гога:
«Ночью он несколько раз подходил к постели Гогена и пристально на него смотрел, когда последний спрашивал Винсента, в чем дело, тот молча ложился.
На следующее утро в кафе Винсент внезапно бросил стакан с абсентом в голову Гогена, который после этого увел Винсента домой, где он сразу уснул.
Вечером он пытался напасть на Гогена с открытой бритвой».
Гоген: «Я уже почти прошел площадь Виктора Гюго, как услышал за собой хорошо мне знакомый нервный и торопливый шаг. Я обернулся как раз в тот момент, когда Винсент бросился на меня с бритвой в руке. Взгляд мой в эту минуту, должно быть, был очень могуч, так как он остановился и, склонив голову, бегом бросился домой».
В тот же вечер, придя домой, Ван-Гог отрезал у себя часть уха, долго останавливал кровотечение, а затем вымыл отрезанное ухо, аккуратно его завернул в салфетку и отнес в ранее им посещаемый публичный дом. Там он отдал его одной из его обитательниц, сказав: «Вот сувенир от меня»…
Вернувшись домой, Винсент крепко уснул, на следующее утро полиция явилась к нему с обвинениями в покушении на Гогена…
Винсента забрали в больницу, где он какое-то время пребывал в возбужденном состоянии…
Периодически он умолкал и замирал в одной и той же позе…
Потом сделал рисунок с изображением толпы со свечами на шляпах и подписал его:
«Человечество — это хлеб, который предстоит сжать…»
…Я дотрагиваюсь до своего уха. Оно розовое и не мясистое. Его трудно ненавидеть, ведь на первый взгляд оно — беззащитное и доверчивое. В него можно вдеть сережку, нашептывать брутальные слова, сливать «дезу», влить яд, им можно любоваться и описывать в любовном романе, его можно дергать, когда врешь, сворачивать в трогательную трубочку, оно поддерживает солнцезащитные очки и порой живет своей жизнью. Ухо слышит только то, что хочет слышать. И поэтому оно — опасное. От того, какую информацию оно доносит до всего организма, зависит жизнь этого организма.
Порой я уже ничего не понимаю. Мое ухо завяло и свисает на плечо, как прошлогодний лист…
Утром я с нетерпением ждала следующей встречи. Это была девушка с шикарными рыжими волосами и бледным плоским лицом, халат на ней смотрелся как средневековая накидка. Казалось, стоит ей шевельнуть плечами — и она спадет, как лягушачья кожа, а под ней окажется нечто необычное — серебряная чешуя, фосфоресцирующее удлиненное тело инопланетянки или — ничего вовсе…
— Сирота… — прошептала мне медсестра, — считает, что она Жанна д'Арк.
Она многозначительно хмыкнула и закрыла за собой дверь.
Девушка молчала, опустив глаза.
— Жанна, — произнесла я очень тихо, — Жанна, не бойся… Я тебе верю…
Она быстро подняла голову, взглянула синими-пресиними глазами. Мне даже показалось, что они отбросили два отблеска на белые больничные стены моего кабинета. Я очень хотела услышать ее историю…
«Много раз мне хотелось произнести эту фразу: „Кто верит в меня — за мной!“ В детстве я любила сидеть у окна, ощущать на щеках и пальцах трепетное прикосновение солнечных зайчиков и вышивать шелковыми нитками, зашифровывая слова в узоре, на котором переплетались стебли пурпурной розы, белых лилий и кувшинок.
„Кто верит в меня…“
Но мне не верили. И не любили меня. Ни в Обители Младенцев, ни тут, в Приюте. Помню, когда мне было пять лет, я отчаянно старалась влиться в шумный детский коллектив, стать его частью, кирпичиком в монолите, чтобы в случае опасности иметь возможность укрыться среди себе подобных или погибнуть — вмести со всеми.
Но я почему-то никак не могла встроить себя в этот монолит!
Вот первое воспоминание об этом чувстве своей „треугольности“.
…Девчонки-ровесницы о чем-то оживленно разговаривали. Я напряженно прислушивалась, пытаясь уловить смысл их разговора по обрывочным фразам.
— Оно такое черное-черное, — говорила одна, — черное-черное-пречерное! Даже светится чернотой!
— И на нем — звезды! — с восторгом подхватила другая. — Такие золотые-золотые, аж серебряные!
У меня дух захватило от красоты этих слов. Я осторожно подошла поближе и сказала как можно громче:
— А у меня есть такое платье!
Девочки на мгновение умолкли, вопросительно переглянулись, будто эту реплику отпустила одна из них. А потом вернулись к своему разговору. Вот и все.
Так же было и с остальным. И позже, спустя годы. Меня не замечали. Обо мне не говорили. Даже нянечки и учителя не смотрели на меня. Обычно их взгляды скользили поверх моей головы или останавливались на носках моих деревянных башмаков. Из-за этого я и боялась поднять глаза. Стыдилась и всегда, сколько себя помню, смотрела вниз, в пол. От этого глаза постоянно уставали.
Однажды я случайно услышала, как Верховная Настоятельница давала указания сестре-хозяйке:
— Эту (то есть меня) отселить в отдельную комнату. И… И вот что… — снимите зеркало. Оно ей ни к чему.
С тех пор я жила отдельно от других в тесной неуютной комнатушке с узким, как бойница, окном. Именно около него я просиживала долгими летними вечерами и вышивала розу, лилии и кувшинки.
…Голоса я начала слышать давно. Может быть, именно из-за них меня так не любили.
Но я не хотела, чтобы эти голоса исчезли, ушли от меня. Потому что они рассказывали мне о множестве интересных вещей. Например, о далеких странах и бескрайних морях, о рыцарях в серебряных доспехах, о цветах, в которых живут маленькие крылатые человечки…
Иногда я задавала вопросы (довольно громко, их, наверное, могли слышать другие), и голоса отвечали. Но отвечали только для меня. Это было обидным! Ведь ровесники из-за этого шарахались от меня, а учителя раздраженно покашливали и переглядывались с ними. Я пыталась рассказать о том, что услышала, но всегда оставалась в одиночестве — в полной тишине, не замечая, что говорю сама с собой. О, какие же они неразумные, думала я, пересказывая историю Войны Алой и Белой розы.
— Почему они бегут от меня? — спрашивала я, размазывая по щекам соленую воду, текущую из-под моих ресниц.
„Потому что мало знают, — отвечали голоса, — много едят, много спят… Потому что они круглые и толстые…“
— А я? Какая я? — спрашивала у них (у меня же не было зеркала).
„Ты — разная…“
— А я могу стать круглой и гладкой? — с надеждой спрашивала я.
„Можешь, — слышала в ответ. — Конечно, можешь. По тогда мы уйдем…“
А ведь я так боялась остаться без их историй! Хотя играть с другими детьми мне тоже ужасно хотелось! Противоречия терзали меня. Я мечтала быть такой, как все. Чтобы не опускать глаз, чтобы принимать участие в общих разговорах, быть равной среди равных. В то же время мне нужно было знать ответы на тысячи вопросов. А их могли дать только голоса, которые почему-то выбрали своим пристанищем мою бедную, всегда склоненную голову. Из-за них я чувствовала себя изгоем.
Но не только из-за них! Было, скорее всего, еще что-то, чего я не могла постичь своим детским умом.
— Ты должна стыдиться! — часто слышала я от учителей и воспитателей. Я старалась как можно скорее укрыться в своей комнатушке, сесть у окна и приняться вышивать зашифрованную фразу. „Кто верит в меня…“
Я вышивала и думала, думала. Видела свои руки, проворные пальцы с иголкой — они казались мне слишком тонкими. Может быть, их я должна стыдиться?
Рассматривала свои ноги и перебрасывала косу за плечо — она была необычного цвета… Может быть, это причина для стыда?
А когда уши мои уже пылали, а из-под ресниц снова текли соленые ручейки, я слышала колыбельную:
Дин-дон!
Будет сон…
Трень-брень!
Будет день…
Тик-так!
Будет знак…
Тонь-тонь!
Будет конь…
Бом-бом!
Будет дом…
Я засыпала, много раз повторяя магические слова: „Сон-день-знак-конь-дом“. И понимала их так: я усну, а когда проснусь, получу какой-то знак. И тогда я сяду на коня и поеду туда, где мне верят. Поеду домой…
Шли годы. Я научилась многим вещам. В Приюте работала в саду, пряла и ткала, носила воду из колодца. Когда мне исполнилось шестнадцать, по традиции мне подарили пирог с шестнадцатью свечами. Но поставили его не в общем зале, как это делалось для других, а просто занесли в мою комнату, чтобы я съела его сама. Я попыталась позвать к себе тех, с кем прожила тут все годы. По голос мой был слишком тихим и дрожал, я, как всегда, не поднимала глаз — меня никто не услышал. А если и услышали, то сделали вид, что не слышат…
Пирог был кислым и соленым. Я бросала крошки за окно, и их даже птички не клевали… Я смотрела на высокий каменный забор Приюта, на пятачок двора с желтой травой, куда никогда не проникали лучи солнца. И сама чувствовала себя травой — увядшей и скошенной.
Жизнь в Приюте шла по установленному распорядку: утром — молитва и завтрак в большом зале за длинными деревянными столами, днем — уроки, работа, потом — обед и получасовой сон. Потом — заучивание новых молитв и вечерняя служба в каменной часовне.
Только раз в году ворота открывались и звучала музыка. Это означало, что все, кому исполнилось шестнадцать лет, отправляются в Большую Жизнь.
Но для того чтобы так вот оставить Приют, нужно иметь на себя спрос, то есть письменное подтверждение того, что там-то и там-то нужны рабочие руки. С каким нетерпением я ждала этого момента! Но… На меня спроса не было, не было и заявки. И я снова слышала:
— Ты должна стыдиться! Видишь, ты никому не нужна!
И это было правдой.
Только однажды на несколько минут я почувствовала это удивительное состояние нужности кому-то. Но это меня лишь напугало…
…Обычно на вечернюю молитву ходили только старшие воспитанники, младшие молились в классах под присмотром воспитателей. Я же всегда молилась отдельно — в своей комнате. И хотя слова молитвы висели у меня на стене в большой железной рамке, признаюсь, я грешила и никогда не поглядывала на нее — ведь за мной никто не следил. Я поднимала взгляд, смотрела на верхний витраж: своего окошка и всякий раз произносила что-то свое или то, что подсказывали голоса.
Так было, пока я не повзрослела. А уже тогда начала ходить в часовню вместе со всеми. Мы шли долгой чередой, всегда босые (даже в лютый мороз!) и несли свечи. Овальный зев часовни поочередно заглатывал огоньки. Я всегда отставала и не спешила: очень не хотелось отдавать свечу голодной черной прорве.
В часовне стояли узкие каменные скамьи. Мы усаживались, тесно прижимаясь друг к другу, и дрожали от холода. Воспитатели прикрывали наши замерзшие колени потертыми одеялами, пахнувшими воском. Это было очень милостиво с их стороны.
Свечи, которые мы прилепляли к стенам, тускло поблескивали. Жак всегда, к кафедре выходил Лучший Воспитанник и произносил слова нашей приютской молитвы. Остальные только повторяли концовки фраз. Вот тогда я наконец узнала, что написано на желтой бумаге в железной рамке.
— Мы хотим, чтобы всегда было много воды и мыла! — говорил отличник. — Мы хотим мяса, хлеба и теплой одежды! Мы хотим много работать, чтобы заслужить сытость и уважение в обществе! Мыла и воды! Мыла и воды! Мыла и воды!
Я повторяла концовки фраз тише других, почти неслышно. Эти слова были намного хуже тех, которые сочиняла я. Или мне это только казалось?
Размышляя об этом, я вдруг почувствовала, что одеяло, под скупым теплом которого согревались мои замерзшие колени, будто зашевелилось, сдвинулось с места и чуть приподнялось, образовав над коленями прохладную воздушную подушку. В тот же миг что-то влажное, дрожащее и теплое медленно поползло по ноге, поднимаясь все выше и выше… Скользкий жар остановился на уровне колена. Казалось, что мне в подол положили теплую гнилую рыбу, которая сейчас растечется по ногам, распространяя мерзкий удушливый смрад.
Ко мне еще никто не прикасался — в Приюте это считалось плохим тоном. (Иногда сквозь щит опущенных ресниц до меня доходили истории, которые происходили с моими одногодками. Они сталкивались, разбивались на пары, похлопывали друг друга по плечу, дергали друг друга за волосы…
В результате подобных манипуляций из самого дальнего уголка Приюта порой доносился детский плач, а утром приезжала карета с гербом Обители Младенцев и Верховная Настоятельница вносила в нее что-то маленькое, завернутое в серую простыню…)
…Скользкая рыба превратилась в рака, который больно впился в мои колени. Я боялась шелохнуться, не знала, что делать. И голоса затаились. Я поняла: кто-то сидевший рядом заинтересовался мною. Значит, я была нужна? Значит, так ЭТО начинается? Одеяло на моих коленях вздымалось, как море в бурную погоду. Я мечтала о том миге, когда закончится молитва.
— Хотим! Хотим! Хотим! — в один голос прокричали все. И воспитатели стали сбрасывать одеяла с наших ног.
Я взглянула на свои колени и икры — на них остались синяки.
Вернувшись в свою комнату, я забаррикадировала дверь стулом и упала на колени перед окном. В нем висела одинокая звезда…
Ночью мне приснился жуткий сон. Мне даже показалось, что все это было наяву…
…Дверь неслышно отворяется… Входят двое — Верховная Настоятельница и воспитатель. В руках у Верховной — тонкая длинная игла, воспитатель держит в руках стеклянный лекарский лоток с куском протухшего мяса.
— Сейчас… сейчас… — шепчет Верховная и втыкает кончик иголки в посиневший кусок.
— Давай… давай… — шепчет Верховная, и воспитатель садится на мои ноги. Настоятельница наваливается на грудь (я даже не могу шелохнуться!) и подносит иглу к моему виску. Я чувствую укол…
— Вот и все, — довольно говорит она, — вживление состоялось. Через несколько дней она начнет гнить с головы. Скажем, что это — бубонная чума…
Они отпускают меня. Я лежу недвижимая и распластанная, понимая, что у меня нет выхода.
Дин-дон!
Будет сон…
…Утро вливается в окно сквозь щели в деревянных рамах, как кислый лимонный сок. Утро и прохладный воздух приводят меня в чувство. Я смотрю на дверь — она все так же подперта стулом, притрагиваюсь к лицу — не болит. Но что там, у виска? О, если бы я могла увидеть свое лицо! Я смотрю в стекло окна и вижу, как далеко-далеко на горизонте всходит розовое солнце.
Трень-брень!
Будет день…
Днем меня вызвала к себе Верховная Настоятельница. Неужели и на меня пришла заявка?!
— Садись, Жанна, — сказала Настоятельница, указывая на высокое кресло напротив своего стола.
Я покраснела, ноги мои вмиг ослабели, и я почти упала в это глубокое, мягкое ложе, пахнувшее зверем. Оно поглотило меня с головой.
— Итак, Жанна, — она говорила, как всегда, глядя только на носки моих башмаков (я смотрела туда же), — сегодня ты покинешь наш славный Приют.
Я взволнованно сжала пальцы. Наконец торжественный момент наступил и для меня! Я напрягла слух. Даже голоса не мешали мне.
— Жак ты уже, наверное, догадываешься, твои способности и коэффициент полезности нашему обществу — минимальны. Мы сделали все, что могли. И ты должна быть благодарной…
(О, я была, была благодарной!)
— Так вот… — Она не спешила, а я изнемогала от любопытства. — Так вот, Жанна… В нашей стране есть все, о чем мы так страстно молились. Ты же молилась вместе со всеми, Жанна?
(О, конечно же, я молилась! Молилась вместе со всеми!)
— Но, — после паузы сказала Настоятельница, — все рабочие места заняты. Все занимаются делом. Делом, которое не может быть твоим. Разве эти руки могут шлифовать камень или варить мыло?
Я посмотрела на свои пальцы. И мне стало стыдно, как в детстве.
— Так вот, Жанна, наша страна, благодаря таким Приютам, как наш, — процветает. У нас много мыла, воды и хлеба. Скажу откровенно: в ней не хватает бродяг, — тут она слегка закашлялась.
Я не знала, кто такие эти бродяги, но была готова стать кем угодно.
— Нет людей, которые были бы раздражителями общества и катализатором прогресса. Ты меня понимаешь, Жанна?
Я понимала одно: я буду полезной, нужной и свободной. И сегодня я покину Приют.
Поэтому уверенно кивнула головой. Где-то далеко начал звонить церковный колокол.
Тик-так!
Будет знак…
К высоким железным воротам меня провожал только сторож. И музыка не играла.
С собой мне дали лишь маленькое шерстяное одеяло и котомку с мылом. Больше ничего.
Сторож: распахнул ворота и прикрыл глаза рукой от света.
Я тоже зажмурилась: по ту сторону наших стен было слишком ярко и красочно. Я испугалась. За мной со скрежетом закрылись ворота, щелкнул замок… И наступила тишина.
Я ждала, что в голове раздадутся голоса, но их не было. Неужели я стала круглой и гладкой? Но, если это так, почему же тогда для меня не нашлось лучшей вакансии?
Не знаю, сколько я так простояла, прижимаясь спиной к холодной каменной стене. Неуверенность и страх терзали меня. Был даже момент, когда я едва сдержалась, чтобы в отчаянии не заколотить в ворота, умоляя впустить меня назад.
— Что мне делать? — шептала я. — Почему вы оставили меня?..
Тишина.
А потом в этой тишине я услышала легкий шорох и звон. Он доносился из-под земли. Исходил из травы, доносился откуда-то издалека. Потом настал черед запаха… Сладкий, медовый, горьковатый, пряный — он был разным! Я почувствовала, как из меня постепенно испаряется холод. Раскрыла глаза. И захлебнулась красками, запахами и звуками. Увидела, что стою на краю большого луга, вдали зеленой полосой вырисовывается лес, за ним струится синяя река. И небо надо мной было голубым, а не серо-зеленым, как в витражах моего оконца.
Я сбросила деревянные башмаки и боязливо сделала первый шаг по траве. А потом пошла быстрее, потом — побежала.
Бежать по лугу было очень приятно, но я не знала — куда я бегу?
Обычно воспитанников Приюта забирал зеленый экипаж: с надписью „Биржа“, но за мной его не прислали.
И вот на поляне я увидела… коня!
Тонь-тонь!
Будет конь…
Я никогда еще не видела этих удивительных животных вблизи. Конь был белым. Он красиво выгибал шею, наклоняясь к траве. Заметив меня, он весело заржал и направился в мою сторону. Я не испугалась. Я погладила его по круглой щеке. Конь закивал головой, и я поняла, что он приглашает меня покататься. Я оглянулась. Я еще боялась Настоятельницы. Боялась, что все это — сон…
Но вокруг не было ни души.
Я отважилась залезть на круглую спину белого коня и крепко затиснула ногами его пружинистые бока. Еще никогда, никогда в жизни я не ощущала такого живого и доброго тепла! Оно не было похожим на те крепкие и влажные прикосновения во время молитвы. Конь пошел. И меня снова охватил страх. Что я должна делать? Куда ехать? Кого спросить? Как отыскать дорогу?
Как и прежде, я осталась в одиночестве. Мой лоб покрылся холодным потом. Я достала платок. Мой детский платок, мое сокровище. Роза, лилии, кувшинки…
Моя закодированная мечта. Сколько раз мне не терпелось прокричать эту фразу:
— Кто верит в меня — за мной!
Конь выпрямился и понес меня вперед. А за спиной послышались странные, волнующие звуки — колокола, скрежет, топот, трепетанье знамен, свист. Казалось, все звуки, существующие в мире, слились воедино за моей спиной.
Я мчала вперед и боялась оглянуться. В какой-то момент мне показалось, что это — погоня, высланная за мной из Приюта. И если я сейчас оглянусь — придется снова опустить голову и чувствовать страх и стыд до конца своих дней. Поэтому я летела вперед без оглядки. Только слышала, как позади нарастает странный звук. Из волос — предмета моего стыда — выпали шпильки, котомку с мылом я выбросила сама. Наверное, сейчас мой вид был сгустком сплошного стыда и позора!
У самой воды конь оторвал копыта от земли и взвился вверх, ветер засвистел в ушах. Мне нравилась его бешеная песня!
Пусть умру от стыда, решила я, — теперь все равно!
И — оглянулась.
…И захлебнулась от восторга. За мной, на уважительном расстоянии, мчалось невероятное количество красивых всадников, одетых в серебристые рыцарские доспехи. Их руки, ноги и волосы были похожи на мои. Их глаза светились любовью.
Такие глаза я видела впервые в жизни. Один из рыцарей скакал ближе других, в его зеркальном щите я увидела то, чего никогда прежде не видела. Я увидела себя… С распущенными волосами, в таких же серебряных доспехах, с белым знаменем в руке, на котором переплелись роза, лилии и кувшинки. Сколько же лет в них спала вера и любовь! И сколько же их могло промелькнуть еще — скучных, бесцветных и пустых!
Щеки мои пылали. Сила и уверенность переполняли грудь.
Перед тем как окончательно раствориться в небесном просторе, открывшемся передо мной, я решила сделать круг над Приютом, над окном своей комнаты, в которой вышивала магические слова. Последний круг, чтобы больше никогда не вернуться.
Белой и серебристой метелицей промчались мы над Приютом. Я увидела, как все его обитатели во главе с Верховной Настоятельницей высыпали во двор. Серые, маслянистые мыльные пузыри заполнили все пространство от стены до стены… Они показывали вверх, раздувались от злобы и лопались, образуя во дворе грязную пену.
Мы кружили над приютом моего стыда и страха, пока пена не накрыла Приют большой шапкой из пузырей…»
7
Вселенский стыд вселился в меня с того времени, как я почувствовала, что мир перевернулся. Хотя, может быть, он всегда был перевернутым? Или это я перевернулась в воздухе, как самолет, выполняющий фигуры высшего пилотажа? И теперь лечу, животом вверх, ощущая спиной тяжелый зов асфальта, острые колья заборов, церковных шпилей и… зонтиков? Что-то со мной было решительно не так… «Он носил в себе с детства скрытую великую тайну. Он будто чувствовал, что что-то с ним, как с представителем рода человеческого, не совсем так, как нужно… Все это было похоже на легкий голод, который, как боль, сворачивается клубочком под сердцем, или на легкую боль, которая пробуждается в душе, будто голод…» «Мы, дьяволы, можем сделать свой шаг только после того, как его сделаете вы, люди. Каждый наш шаг должен ступать в ваш след. Но ты пока еще не сделал ни одного шага, который заставил бы нас преследовать тебя…» Когда я впервые прочла эти строки, долго не могла прийти в себя. На какой-то миг все в мире стало на свои места. Все суррогатное нашло свое имя, а все настоящее оказалось настолько настоящим, что его можно было почувствовать на вкус, как кусок мяса с кровью.
А после этого стало еще труднее: чем больше я сталкивалась с тем, что было выставлено напоказ, тем больнее жгло настоящее. Пока от него не пришлось отказаться в пользу своей собственной жизни. Настоящее — душило, пугало бессонницей, суррогатное — имело вкус двойного чизбургера в «Макдональдсе»…
Но теперь мне явно стало легче… Я превратилась в гигантское ухо. Хотя понимала, что «психоспикер» из меня никакой. Бедный главврач! Он получал от меня не то, что хотел. Но я уже не могла не нажимать «Record», чувствуя тайность общества, которое вовсе не казалось мне сумасшедшим. Но я не собиралась никому это доказывать!
…Следующим я вызвала представителя мужской палаты.
— Случай сложный, — сказала медсестра (она взяла на себя роль конферансье, и ей, кажется, это очень нравилось), — возможна симуляция. Вы же знаете, какие нынче времена! Раньше в такие заведения, как наше, это всем известно, запихивали насильно вполне нормальных людей. Теперь они могут попасть сюда по собственному желанию, добровольно. Хотя черт его знает! Смотрите сами.
Вошел высокий седой мужчина. И мне сразу показалось, что я его где-то уже видела. Позже поняла, что ошиблась. Конечно же, ошиблась…
Вот его запись:
«Со всех сторон меня окружал лес. Кто-то, наверное, побоялся бы жить в такой глуши. Только не я! Домишко у меня на первый взгляд маленький, но надежный: одноэтажный, с треугольной мансардой. На этом этаже — запущенная кухня, смежная с передней, и бутафорская спальня, в которой стоит всегда не застеленная кровать. В углу — черно-белый телевизор „Экран“ выпуска начала 80-х, посредине — круглый стол с потертой бархатной скатертью, у окна — комод с чашечками в белый горошек. Почти у всех — отбиты ручки. Окна заклеены длинными пожелтевшими бумажными лентами. Я не снимаю их даже летом. Мне лень это делать. В некоторых местах ленты уже отклеились и временами шуршат на сквозняке. Зимой я затыкаю щели тряпьем и растапливаю печь старыми газетами. Топлю не часто, только по праздникам, когда съезжаются погостить к родственникам их бывшие односельчане. Хотя мой дом находится на большом расстоянии от других, все равно дым можно увидеть издалека!
Летом я насаживаю на частокол старые валенки, стеклянные банки и другой хлам, ставлю удочки. Втыкаю в недокопанную грядку лопату.
Пару раз в неделю мне приходится выходить в магазин — он тут единственный и напоминает кладовку: все в нем валяется в полном беспорядке. Кирзовые сапоги и байковые халаты вперемешку с мешками пшена, консервами и трехлитровками с томатным соком. Обычное сельпо. Очередь бывает только тогда, когда привозят свежий хлеб. Я специально выбираю время, когда тут людно, и становлюсь „в хвост“ своим нынешним землякам, вдыхая запах их резиновых сапог, перегара и дешевых духов. Тут не очень любят болтать. Поэтому приходится говорить самому. То спрошу, ловится ли нынче пескарь, то сделаю комплимент местной красавице постбальзаковского возраста (других здесь нет) в адрес ее аляповатого платка. Пошучу с продавщицей. Три больших каравая, пара банок консервных банок с бычками, бутылка водки — мой привычный джентльменский набор. А что еще нужно отшельнику, чтобы радоваться жизни?
Я и радуюсь. Трудно поверить! Летом иногда сплю в своей убогой спальне. И, бывает, просыпаюсь в слезах. В противных мутных старческих слезах, хотя я еще полон сил. Мне снится детство. Юность. Я все помню. И ничего не могу вернуть — разве что во снах. И именно тут, когда вижу в окне деревья и небо, слышу звуки северного леса, шелест листьев, отдаленный шум горной реки. Вспоминаю, как провалился в геологический… Как еще лет пять после этого собирал камни, надкалывал их специальным молоточком, полировал и рассматривал удивительные узоры на срезе.
Видел на нем леса, моря и неведомые страны. Иногда мне казалось, что в этих витиеватых узорах вижу свою судьбу, которая несет меня по такой же спирали все ближе и ближе к центру. Туда, где обычно было самое красивое пятно — будь то желтое или серебристое с яркими черными пятнышками. К нему нужно было пробираться по сложным лабиринтам, натыкаясь на поперечные сосудики, чужеродные вкрапления. Порой эти лабиринты вели в тупик, и тогда я, держа камень на ладони, искал другие выходы. Это была увлекательная игра! Я видел на срезе карты городов, в которых мечтал побывать, фантазии поглощали меня. Я представлял, что в моих руках — тайное послание марсиан, в котором они зашифровали месторасположение города Абсолютного счастья. И я с самозабвенно бродил по каменному срезу, пытаясь отыскать на этой „карте“ свой дом. Один такой осколок до сих пор хранится у меня в городской квартире. Нужно отыскать его! И проверить — правильно ли выбрано направление.
Вообще-то многое сбылось… Мой центр жизни оказался не просто желтым или серебряным в черную крапинку. Дудки! Ветра крутили меня, несли, разбивали вдребезги о плоские рыла тупиков и наконец вынесли на середину. Золотую середину! Ту, к которой я стремился. Сидеть в глухом углу, дышать свежим воздухом, пить свежее молоко и время от времени дергать за ус мироздание. Кто еще может позволить себе нечто подобное? Шейх Брунея? Президент Америки? Английская королева?
А босиком по траве? А по грибы с лукошком? А рано утром в одних трусах (или без них — даже лучше!) по тропинке — и в реку? Да еще без папарацци?! Слабо!..
Вот какие мысли посещают меня. На природе мозг отдыхает, есть время подумать. И даже, как в былые времена, пофантазировать…
У меня были друзья, враги. Потом я слепил их в один пластилиновый ком, перемешал. Вышла некая биомасса. Она тоже где-то там, за границами моего леса. Там и семья — жена, дочь. У них все хорошо. У жены есть муж, у дочери — отец. Это я. А у меня есть правило: звоню им в двенадцать дня и в семь вечера. В двенадцать я говорю жене:
„Дорогая, как дела? Какие у тебя планы на вечер?.. У меня сегодня семь заседаний. Да-да, милая. Такая сумасшедшая жизнь! Не скучай! Целую…“ В семь перезваниваю: „К ужину не успеваю! Не ждите. Ложитесь. Я открою своим ключом, не волнуйтесь!“ Уверен, она мной довольна. А эти звонки для меня — повод проверить, что все идет так, как нужно. Что у семьи ко мне — никаких претензий.
…Этот дом я приметил давно. Когда и не предполагал, что буду жить тут. Просто выпал случай купить у знакомого алкоголика-диссидента отцовский дом с участком в деревне. Не с десятью гектарами, как у других, — с лугами или искусственными озерами, — а маленькие шесть соток. Хатка-развалюха. Отстраивал ее десять лет. Норой соседи шутили:
— Что ж ты, Петрович, никак свою фазенду не достроишь? Денег нет?
— Нет! — отвечал. — Вот печь ставлю. А на кирпич пока что не хватает…
Сочувствовали. Кивали головами: у самих не хватает, нам это знакомо, мы не богачи какие-нибудь, не депутаты, не правители — наше дело маленькое: хлеб и свеклу выращивать. Так и привыкли ко мне…
Иногда спросят:
— На что живешь, Петрович?
— Да, — говорю, — дочка из города присылает на хлебушек. Мне же много не надо.
Они и без этого видели, что я много не беру. Хлеб, консервы, сигареты „Прима“ без фильтра. И конечно, бутылочка. Без бутылки ты здесь — чужак. Хоть вылей, но купить должен, иначе — не поймут.
Вечером часа два у меня горит свет и на полную громкость работает телевизор. Он зловеще шипит. Звук вырывается наружу, разносится по лесу. В деревне лают собаки. Я закрываю глаза. В убогой комнатушке пахнет яблоками и сливами. Мне кажется, что я плыву по густым волнам меда. Вечер тоже — медвяной. Закатное солнце щедро расстелило свою скатерть на дощатом полу, на столе. Еще пару часов, и оно затащит край этой скатерти за горизонт. На столе лежат яблоки, сигареты, жестянка с бычками в томатном соусе, черствый хлеб. Мне хорошо. Кажется, что сейчас войдет со двора бабушка с ведром свежего молока. На ней будет красная юбка. Бусы. И — она будет босая. Обязательно — босая, естественная. Но тут такие не водятся.
Это — чужая жизнь. Мне нужно из нее уйти. Я встаю, выключаю свою „шипучку“, свет.
В комнате есть дверь. Когда я купил этот дом, за ней была маленькая каморка, в которой валялись старые грабли, опутанные паутиной. Дверь и сейчас убогая, обшарпанная, с грубой металлической ручкой. Я открываю ее.
Это не так уж и легко — внутри она бронированная, довольна тяжелая, как дверца сейфа.
Я делаю шаг в темноту, и в кабине зеркального лифта автоматически включается мягкий свет. Я нажимаю кнопку и спускаюсь в прихожую.
Очень хочется глотнуть холодного-прехолодного пива. Прежде всего открываю холодильник. Там пива — десяток сортов. Сегодня я выбираю „EKU-28“. Падаю в кресло. Перед тем как пойти в душ, мне нужно адаптироваться, привыкнуть, прокашляться и, как говорят японцы, найти свое лицо. Впереди — много работы.
Я нажимаю кнопку пульта. Что там в мире творится? На экране „плазмы“ возникает знакомое лицо тележурналистки. „Похорошела, — замечаю я. — Подстриглась. Глазки блестят. Интересно, понравился ли мой вчерашний презент? То ли я купил, что нужно?“ Вчера я обстоятельно объяснил, что нужно: сережки. И не золотые, а в платине. И не с бриллиантами, а модные — с розовыми жемчужинами. Я такие давно обещал.
Всматриваюсь в экран. Все точно. Розовые в платине!
Переключаю канал. Журналисточка меня больше не интересует. Эта скажет, как нужно. Как МНЕ нужно. А вот другие…
Я щелкаю пультом. Потом бросаю его на кожаный диван. Все ясно.
Теперь в душ — и за работу.
Работаю обычно в зеленом кабинете второго нижнего этажа. Тут куча техники, такая же „плазма“, настроенная на все каналы мира, компьютер, несколько десятков сотовых телефонов. Каждый предназначен для отдельного клиента. Каждый — своего цвета. „Семейный“ — красный. Беру его и делаю первый обязательный звонок. „Дорогая, какие у тебя планы на вечер?..“
А потом начинается самое главное. Кому — дать, у кого — забрать.
— Вячеслав Петрович! — вопит одна трубка. — Этого — мало! Нужно не меньше трех! Чистыми! Горим!
— Наличными? — нервно шепчет другая. — Я не успею собрать… Вы меня убиваете…
Да, иногда я убиваю. Но по-другому не намотать этот проклятый ус на руку — выскользнет, только его и видели. А поэтому рука должна быть железной…
— Это ваше окончательное условие? — гордо спрашивает зеленая трубка. — Мы должны договориться, иначе…
Я усмехаюсь. Мне не стоит угрожать. У меня — там, за спиной, в библиотеке — все они разложены по полочкам. Для каждого есть папка с надписью „Совершенно секретно“. И правые, и левые, и центристы… Они об этом знают.
— Вячеслав Петрович, завтра прямой эфир. Кого приглашаем?
— Вячеслав Петрович, номер первый — в разработке. Завтра начинаем действовать. Пусть всякая срань знает свое место!
— Вячеслав Петрович, кому отгружать? Алло! Алло!
Суета сует…
Предпоследний звонок — самый приятный.
— Ты? Видел — я их сегодня надела! На работе все просто с ума сошли. Но мне так трудно… Сплетни, намеки… Давай сегодня ночью на нашем месте — в „Национале“. Да? Я должна отблагодарить папочку!
И последний. В трубке до боли, до ужаса знакомый голос. Никак не могу привыкнуть к этому сходству!
— Да, да. Все замечательно. Все подписал. Семь заседаний. Три личных встречи — на высшем… В „Национале“? Хорошо. Буду. Буду обязательно. Что купить домой? Сто роз? На длинных ножках? Сделаю. Что на завтра?
Разговаривая, я расставляю на мраморной доске шахматные фигурки. Из нефрита. Они такие приятные — прозрачно-зеленые, поначалу прохладные, а потом — теплые. Быстро нагреваются от прикосновения. И так же быстро остывают.
— Все, — говорю я в трубку. — Спокойной ночи. Завидую. Но ничем помочь не могу.
На том конце слышится короткий смешок. Вот мерзавец! Я ударяю по нефритовому солдатику. Тот с грохотом падает на пол.
Перебираюсь в столовую. Там — большой длинный дубовый стол. На нем — канделябры со свечами. Безупречная сервировка. Ребята стараются. Мои замечательные духи-невидимки. Я представляю себе, как они едут по шоссе в стареньких „Жигулях“ с прицепом, выезжают на поляну в трех-четырех километрах от деревни, спускаются в люк бункера и пробираются со своим грузом по скользкому туннелю.
Я не прихотливый. Мне важно, чтобы сигары были настоящие — гаванские (я к таким привык, когда работал в дипкорпусе на Кубе) и пиво — высшего качества. Мясо, морепродукты, овощи — какие угодно, лишь бы свежие… Газеты тоже — свежие. Их у меня штук по пятьдесят в день. В том числе „Дейли…“, „Ньюс-уик“, „Тайме“. Деловых бумаг и почты — хоть печку топи! Работы на всю ночь. И так — каждый день.
Я ужинаю под музыку Вивальди. Зажигаю свечи. Вставляю в ворот атласного халата нарцисс. Я люблю все изысканное, элегантное. Мои нынешние маленькие радости — бокал „Шато Марго“ урожая 1900 года, пять рисунков-оригиналов, среди которых Пикассо и Гоген, и хорошая сигара, которую выкуриваю у экрана во всю стену. На экране шумит Ниагара. Стереоэффект такой, что я даже ощущаю прохладные брызги на своем лице.
Я перевариваю информацию. И улыбаюсь. Мне забавно читать о пешках, мнящих себя королями. Забавные статейки в газетах с фотографиями „сильных мира сего“ в саунах, с побасенками об их презентации, „королевской охоте“, их прибылях, их женах и отпрысках-наркоманах. Скучно, скучно, господа! Это — вершина айсберга, несвежая, засиженная чайками и хорошенько подтаявшая. Яркой она кажется только издали. Постылые узнаваемые лица… Виртуальные персонажи большой игры…
А я не игра. Я живу. На моем столе — чистые салфетки ручной работы, у меня спортивная фигура и отвращение к дешевому спиртному. К саунам. К презентациям.
Я думаю, что все на свете — фуфло. Особенно то, что происходит сейчас в любом уголке земного шара. Только непостижимое имеет право на вечность. В литературе — Шекспир, в музыке — Моцарт, в живописи — Леонардо, в науке — Паскаль. Остальное, если хорошо подумать, можно разгадать. Ноу-хау! Когда я „знаю как“ — мне становится неинтересно. Как теперь. Непостижим восход солнца за этими стенами. Поэтому я тут…
Незапланированный звонок прерывает мои раздумья. Белая трубка! САМ!
— Слушаю тебя, — лениво говорю я.
— Петрович, все пропало. Ты смотрел новости? Капец! Мы в диком минусе.
— Какие, к черту, новости? Пару часов назад все было нормально.
Я включаю телевизор. Время уже позднее. Моя девочка сейчас утешает меня в „Национале“, и на экране — другое лицо. Что-то я его не узнаю. Новенький, что ли? Что он мелет?
— Перезвоню! — говорю я САМОМУ и бросаю сотовый, вслушиваюсь.
Новые лица мелькают на экране, глотают слова, захлебываются своей правдой. Щелкаю пультом. Повсюду — вакханалия.
„Подонки! — в сердцах думаю я о своей биомассе. — Вы этого добивались — вы это получили. Сто раз повторял: лучший способ удержать — дать свободу! А что теперь? Вот она, прорвалась! Взмывает над вашими головами, как цунами. Я хорошо знаю, что будет дальше. Я готов. Давно готов. А вы?..“
Я снова беру белую трубку.
— Что ты предлагаешь? — спрашиваю строго.
— Вариант седьмой, — чуть слышно выдавливает из себя САМ.
— А почему не третий? — ехидно спрашиваю я.
— Петрович… Я не могу. Я боюсь. Я хочу жить. Я уеду. Ты же знаешь, у меня дети, внуки… И… И мы так не договаривались.
— То есть ты не хочешь отдавать долги? Понимаю. А за тобой их так много…
— Я знаю, знаю… Но пойми, я — чист. Я кристально чист. А если уйдешь ты — половина вопросов снимется. А вторую половину я закрою своими людьми. Ну как?
Ну конечно… За то, что дергаешь мироздание за усы и усики, тоже нужно платить, думаю я. И высшая плата — к сожалению, не жизнь, как считает этот плебей. Как считают все они. Самое дорогое — имя.
— Хорошо, — говорю я, — когда это должно произойти?
— Завтра вечером, — оживляется трубка. — Сценарий: утром отправляешь семью за границу… Куда хочешь? Называй любое место… Дальше так: охрану отпускаешь, одного оставляешь на лестнице. В полночь заходишь в ванную… перед тем, как сделать это — включишь воду. Все. Извини, что такое говорю. Но сам понимаешь, кто же это скажет, если не я…
— Хорошо, — повторяю я, — прощай!
— Да господь с тобой! — гудит трубка. — Как будто и правда прощаешься…
— Да пошел ты! — Я отключаю телефон. Кажется, навсегда.
Теперь можно выпить что-то покрепче. Например, рюмку „Мартеля“. Я поглядываю на часы: два ночи. Свидание закончено (обычно оно длится не больше часа). Сто роз, как положено, уже стоят в супружеской спальне. Дочь, ясное дело, в ночном клубе, ее мать — спит после очередной презентации. Ох, как обидно нарушать эту идиллию звонком!
И жутковато… Все же я не железный. Хотя контракт есть контракт. А дело — прежде всего. В конце концов, три года роскошной жизни, любое желание — неплохая цена. Припоминаю, он мечтал хотя бы об одном годе…
Я беру синюю трубку. Нажимаю кнопку вызова. С каждым гудком на сердце становится все тяжелее. Вот поговорю и выпью валерьянки… Впервые в жизни.
— Слушаю… — шепчет трубка.
Понятно, уже прилег под теплый бочок жены. Моей, кстати, жены.
— Иди в ванную и включи воду, — приказываю я. От этой фразы мне становится дурно: завтра в это же время должно быть точно так же…
В трубке забулькало и зашипело.
— Я готов, Вячеслав Петрович! — угодливо произносит мой голос. — Говорите, что нужно? Свидание прошло замечательно! Она вас обожает. Послушная девочка. Подарила вам запонки со стразами. Я при случае передам.
Я немного помолчал. Не думал, что это так трудно…
— Значит, так… ЭТО должно произойти завтра!
В трубке — шипение воды. Минуты две.
Я представил его лицо и снова пережил тот миг полнейшего ступора, когда впервые увидел… себя, спящего на скамейке в городском сквере на подстеленной под голову газете. В тот день я решил подышать воздухом. Вышел из своего „мерса“, вокруг меня было полно охранников… Это меня жутко раздражало. Наверное, уже тогда я подсознательно искал выход. И неожиданно нашел его — в лице бомжа, спокойно дремавшего на скамейке. Его мне подбросила судьба. Позже ребята отыскали его и привели ко мне. Он был поражен не меньше моего. Правда, пришлось сделать небольшую корректирующую пластику, поставить голос — тембр был похож, но интонации неуверенные…
Я уже тогда знал, что рано или поздно мне придется уйти. По собственному желанию или по воле спецслужб, безразлично. Все равно — уйти, исчезнуть. И тогда я предложил ему райскую жизнь — свою. Со всеми условиями. И этим последним — тоже. Он согласился. Теперь время пришло.
— Это — серьезно? — наконец проговорила трубка.
— Да.
— А если я…
— …тогда это сделают другие, — прервал я. — Лучше сам.
Он снова надолго замолчал. Представляю, что происходило в его голове. Наконец он произнес:
— Какие будут инструкции?
Я подробно пересказал ему то, что услышал полчаса тому назад.
— Хорошо, — прошептала трубка, — я это сделаю.
— Просьбы есть? — деловым тоном спросил я.
Он закашлялся.
— Наверное, да… — произнес он, и я напрягся: сейчас окажется, что он завел новую любовницу, или разыскал старенькую мать, или заделал на стороне ребенка…
Этого только не хватало! Но он продолжил так: — Утром я закажу не два билета до Лондона, а три. Нет, нет, не волнуйтесь, я все сделаю, как обещал. Третий билет — для парня. Для Надюшиного жениха. Он хороший, толковый. Но совсем не вашего круга. Надюша беременна. У меня… — он смутился, — то есть у вас будет внук…
— Согласен, — отрезал я, отключая и этот телефон.
Похороны прошли замечательно! Лица на экране были растерянные. В выпуске новостей глазки моей журналисточки все так же блестели. Кажется, у нее гора с плеч свалилась. Как, кстати, и у других. У многих-многих других.
Теперь я всегда буду спать наверху, чтобы слышать шум сосен, шум реки, пение птиц, стук падающих в моем саду яблок. Я буду наслаждаться всем этим, будто услышал все это впервые. Как при рождении…»
8
…Ночи Кабирии! Как оказалось, сегодня суббота. Я вышла раньше своей остановки. Теперь мне не хочется сразу же бежать в свою норку. Решила пройтись по центральной улице. В выходные здесь останавливается движение, и люди гуляют по проезжей части. На каждом шагу — разноцветные шарики, клоуны, оркестры. Когда-то, много лет тому назад, я наблюдала такое в Марбурге — шарики, клоуны, уличные музыканты. Все танцуют. Клоун может незаметно идти за тобой, повторяя все твои движения, и толпа умирает со смеху. Теперь это докатилось и сюда…
«Ночи Кабирии», последние кадры — гениальная вещь на все времена. Маленькая и некрасивая Джульетта Мазина идет среди карнавала. По щекам текут чернильные слезы, а потом, постепенно, увлеченная общим настроением, она начинает улыбаться. Улыбка — единственное, что мы можем противопоставить всем черным слезам. Улыбка — это геройство. Всякий раз, идя в такой вот толпе, я пытаюсь отыскать такую Кабирию. Ведь даже среди сплошного веселья должна быть такая вот маленькая женщина с глазами, полными чернил. Нужно улыбнуться ей, подудеть в ухо клоунской дудкой, бросить на плечо ленту серпантина. На ее пальце нет кольца Соломона, на котором написано «Все проходит. И это пройдет». И поэтому она думает, что эта карнавальная ночь — последняя в ее жизни.
Но такой в сегодняшней толпе нет. Лица, встречающиеся на пути, гладкие и одинаковые, как яйца. Одно большое лицо с гримасой смеха.
Спустившись по этой пешеходной улице, сажусь в троллейбус, который едет к моему дому самым длинным маршрутом. И на одной из остановок, наконец, вижу ЕЕ. На этот раз она — в образе маленькой девочки лет семи-восьми… Но до того, как заметить ее, обращаю внимание на симптом массового психоза: кто-то поворачивается к окну и вздыхает: «О, господи!..», остальные тоже прилипают к окнам и смотрят, смотрят. А там, на улице, — трое. Он, Она и девочка рядом с ними. Он ведет Ее под руку, Она прямо выгибается спиной назад, упирается. Пытается сесть на асфальт. Ее зеленая блузка задралась до груди, оголив круглый живот, выпирающий из-под тугого ремня белых брюк. Он в длинном модном плаще и шляпе, вид у него чуть лучше, хотя сразу понятно: семья возвращается из гостей. Две красные рожи, два бессознательных взгляда. Это можно было бы понять и даже посочувствовать им, если бы не девочка рядом с ними.
Весь троллейбус смотрит на эту троицу. Женщины вздыхают, мужчины смеются.
Девочка в белых гольфах, черной юбке в складку, белом свитере. У нее длинная русая коса, волосы зачесаны назад, и от этого лицо кажется круглым и нежным. Всей кожей я ощущаю ее состояние, будто эта девочка — я сама. Она улыбается. Ее стеснительная застывшая улыбка обращена к окружающим — ко всей улице, к этому троллейбусу. Эта улыбка — просто рисунок на бледном лице. А еще — большой, ни с чем несравнимый детский подвиг. Я знаю: под ней, под этой улыбкой, под нежной бледной кожей дрожит каждый лицевой нерв, и глаза точно так же полны чернил. Но это — взрослое состояние, его нужно скрыть, она лишь маленькая девочка, она делает вид, что с ней — все в порядке. Ей не нужна жалость. Я знаю: если сейчас кто-нибудь погладит ее по головке — чернил не сдержать, скрытая пляска нервов искривит лицо, и наступит… конец света. Маленький конец света внутри одного, отдельно взятого человека… Поэтому сейчас ей нужно сконцентрировать всю свою волю, вынести этот путь стыда и добраться до дома, до своей кровати, закрыть дверь, с головой залезть под одеяло.
Или… Или встретить на своем пути добрую фею, о которой она читала в книгах. Фея возьмет ее за руку и посадит в карету, увезет высоко и далеко от этого стыда.
Троллейбус стоит слишком долго. Наверное, женщина-водитель тоже с интересом прильнула к окну. Я больше не могу ждать. Расталкивая людей, вырываюсь наружу. Это движение будто отрезвляет всех, выводит из ступора — троллейбус трогается с места, лица отлипают от стекол.
Я ловлю момент, когда Он пытается перевернуть Ее вывернутое «коленками назад» тело, оба сосредоточены на этом сложном процессе.
— Привет! — говорю я девочке как можно естественнее. — Слушай, пусть они сами разбираются, а мы с тобой пока погуляем пару часиков. А потом я отвезу тебя домой. Ты же знаешь свой адрес.
Девочка внимательно и недоверчиво смотрит на меня. На моем лице нет того, чего она так боится, — сочувствия и жалости. Просто одна подруга подошла к другой. Девочка пожимает плечами, она не знает, как реагировать, но ей понятно — вот подоспела помощь в лице взрослой тети. И она теперь не одна. Вижу, что она не против. Поглядываю на парочку. Вблизи хорошо заметно, что такой «выход» в свет для них не первый и не последний.
Нужно действовать уверенно.
— Вы не против, если я заберу вашу девочку на пару часов? — говорю я отцу. Он поднимает на меня мутные глаза и едва не роняет жену на землю. Он плохо понимает, о чем идет речь.
— Я заберу вашу девочку на пару часов, а потом привезу домой! — уверенно говорю я, думая, что, наверное, не добьюсь никакого ответа. Но его лицо напрягается от усилия понять человеческую речь, а поняв, он бормочет:
— Пятьдесят!
Я быстро достаю купюру. Хорошо, что все любопытные уже утолили свою жажду и за нами никто не наблюдает. Он сминает деньги в ладони, прячет в карман плаща, снова поворачивает жену лицом к себе (за это время она почти сползла на асфальт по его спине).
— Родители не против! — улыбаюсь я девочке как можно естественнее. — Идем есть мороженое. Не бойся меня, хорошо? Давай руку.
Я чувствую, как теплая дрожащая ладонь — чуть липкая — неуверенно ложится в мою…
Я начинаю вспоминать город. Где-то тут, поблизости, должна быть кондитерская. Именно сейчас я становлюсь настоящим «психоспикером» — говорю без остановки, хочу поскорее направить ее мысли в другое русло, стереть из-под кожи нервный тик, вдохнуть жизнь в настоящую улыбку.
— Знаешь, — говорю я, — так бывает. Это ничего. Мы сейчас с тобой поедим мороженого, поболтаем, а когда ты вернешься домой, все уже закончится. Ляжешь спать. А завтра будет новый день. У тебя красивая юбочка и свитер. А главное — замечательная коса. Сейчас таких кос нет ни у кого.
— Это — бабушка, — поясняет девочка. И я понимаю, что за ней есть кому присмотреть. Значит, не все потеряно.
В кондитерской девочка смотрит на меня большими глазами, и они уже не блестят, как там, на улице. Я рассказываю, как однажды зимой меня забыли в ночном сквере, и я сидела сама на саночках и представляла себя настоящей Снегурочкой. «Такое трудно забыть, — говорю я веселым голосом, — но потом, со временем, ты понимаешь, что каждое огорчение превращается в жесткий, прочный камешек. А складываясь один к одному внутри тебя (это что-то вроде хребта, только крепче, ведь хребет — только кость, которую можно сломать), они делают тебя непобедимой. При любых обстоятельствах!»
— Ты кто? — спрашивает девочка.
Говорю ей, что я — фея. Та самая. Только в современной одежде. Не могу же я отличаться от других! Девочка ест мороженое. Мне хочется сказать ей нечто более важное, то, что она будет вспоминать позже. Но я боюсь, что она меня не поймет. Я боюсь рассказывать ей глупости, хотя мне этого очень хочется. Но — боюсь. Представляю себе, что случилось бы с Ассоль, если бы она не встретила корабль с алыми парусами. Была бы деревенской сумасшедшей — с длинными седыми косами, которые бы не остригла до старости. Собственно, о том, что сталось с ней лет через десять-пятнадцать после счастливой встречи, я тоже не хочу думать…
Я поглядываю на часы — скорее всего, они уже добрались до своего дома, улеглись.
— Наверное, пора идти, — говорю я. Девочка совсем успокоилась. — Бабушка будет волноваться…
— Да, — говорит девочка. Аккуратно вытирает ротик салфеткой, складывает руки на коленях. — А ты еще придешь ко мне?
— Не знаю, — говорю я. Говорю так потому, что не могу врать, не могу давать надежду, не хочу, чтобы меня кто-то ждал. — На свете много детей, которых иногда нужно водить в кондитерские. Их так много по всему свету! И поэтому для меня главное то, чтобы ты знала, что я — есть. А когда будет грустно — просто представь, что я с тобой. Тебе станет намного легче. Поверь мне. Договорились?
— Да! — Девочка встает со стула и осторожно ставит его на место.
Такая вот фигня, думаю я: природа порой бывает несправедлива. Эта девочка совсем не похожа на своих родителей. И понятно, получая такие уроки, никогда не будет похожа на женщину с задравшейся до груди блузкой. И у нее будут хорошие дети. Должна признать, что некоторые родители рождаются на свет сразу взрослыми негодяями лишь для того, чтобы мучить своих детей. Им неведомы потаенные движения детской души, они кричат на них и отпускают пощечины, дергают за руку и запрещают плакать…
— Когда вырастешь — у тебя будут хорошие дети! — говорю я. — Потому что ты никогда не будешь их обижать. Никогда не будешь забывать в зимних скверах. Это я тебе точно говорю.
— А что еще со мной будет? — спрашивает девочка, когда мы уже едем в такси по ее адресу.
— О! Столько хорошего, что и не перечесть! — говорю я. — Но не могу рассказывать, чтобы не сглазить.
— Хорошо! — вздыхает девочка. — Вот мой подъезд. Спасибо.
Я провожаю ее до двери, нажимаю кнопку звонка. Мне нужно убедиться, что там все в порядке. Открывает бабушка — на ее лице такая же маска: зацементированная улыбка. Она целует девочку, кивает мне и быстро закрывает дверь… Такие вот дела.
…Троллейбус тронулся с места, и комично-трагичная троица осталась за его окнами.
Я осталась на месте. Я будто приросла к нему. Я могла бы стать для незнакомой маленькой девочки доброй феей, которую она запомнила бы на всю жизнь. Но она осталась там, посреди улицы, посреди стыда со своей упрямой приклеенной улыбкой. Я не могла вмешаться в ход событий, разве что — вот так, выстраивая их в ноосфере…
Дома я стала записывать в тетрадь очередную беседу. На сей раз сестра-конферансье объявила номер так: «Это — наша русалка! Если за ней не уследить — идет в душевую и стоит под водой часами. Всегда мокрая…»
У молодой женщины и правда белая кожа с мелкими рыхлыми складочками (такие остаются на кончиках пальцев, если долго сидишь в воде) и влажные длинные волосы. Как только за медсестрой закрылась дверь, женщина подошла к умывальнику, быстрым движением открыла кран и обильно окропила себя водой. Это взбодрило ее. И она начала говорить:
«Плыть вдоль коралловых рифов — все равно что читать книгу. Хорошую книгу. Или — как читать молитву…
От вида подводного мира хочется плакать. От счастья. От прикосновения к тому, что у людей называется раем. Только рая никто не видел. Может быть, он находится где-то у коралловых рифов?
Почему я сравниваю такое плавание с чтением книги? Точнее, с тем наслаждением, которое получаешь от созерцания букв на бумаге, слов, словосочетаний и предложений, которых раньше не слышал. Наверное, потому, что коралловый мир так же неповторим, как и слова, возникающие на страницах. С каждым движением он изменяется, становится новым, другим, неизведанным, а разноцветные окаменелости — красные, зеленые, сиреневые, ярко-желтые — остаются позади, будто только что прочитанные слова…
Каждый раз я беззвучно плачу, когда проплываю вдоль этой каменной саги, — слышу ее мелодию, хотя и не могу сказать определенно, о чем она.
Рыбы — это отдельная история. Когда я их вижу, удивляюсь совершенству природы и фантазии Бога.
Только представьте себе: ровный диск, будто вырезанный из синего бархата с лимонно-желтой каймой, с длинным красным носиком, который неустанно что-то склевывает с подводного цветка. Или вот: зеленый „огуречик“, в мелкую черную крапинку… Или: пурпурное чудовище, усеянное белыми бородавками, — настоящий мухомор! Узенькие серебристые рыбешки с плоскими телами подрагивают в полоске света, как ленточки в косичках первоклассниц, а рядом множество „живых лимонов“ — будто их сбросили с борта торгового судна, медленно кружат, все глубже погружаясь в бирюзовую бездну. Двухметровая рыба-игла с глазами навыкат и тупым рыльцем наискось прошивает синий шелк. Стаи серебристо-черных барракуд, будто острые лезвия, неподвижно и угрожающе висят под самым краем воды.
Эти рыбы не боятся людей. Их яркие краски свидетельствуют о том, что они — несъедобные. Значит, им ничего не угрожает. Наоборот! Они сами готовы подплыть и полоснуть по ноге ядовитыми плавниками. Это их мир, их рай. Они ревностно охраняют его от непрошеных гостей в ластах и масках.
И поэтому — не нужно суетиться.
Я всегда лежу над этим раем тихо-тихо, распростерши руки. Мое дыхание, как душа, медленно выходит из трубки.
…Слова — те же рыбы. Они выпархивают из меня неуловимыми стайками и уплывают куда-то в глубь бездны. Иногда это легкие, яркие стайки мелких полупрозрачных рыбешек с красными или желтыми плавниками. Но случается, дав им жизнь, я вижу, что они — гигантские, объемные. Они хищно раздувают жабры, будто им мало места в собственном теле. Они не знают, что порождены мною. Они отправляются в свое путешествие, в далекие страны, которые мне никогда не увидеть. Ведь я не могу плыть за ними вслед!
Я должна раскачиваться на поверхности и плакать от счастья или мысленно читать молитву.
Меня мучает только один страх: а что если утром следующего дня, когда я снова вернусь к этому берегу, — не увижу ни единого рифа, ни единой рыбы. Вдруг все изменится?! Поднимется буря, ураган, цунами, и вместо морского рая я увижу барханы, будто пустынный пейзаж: с самолета? За что тогда зацепится мой взгляд? Какую молитву прочту?
Все может быть… все может быть…
Дважды, а может трижды, во время ныряния я должна отрывать лицо от воды, смотреть, где я, не занесло ли меня слишком далеко. Наконец — промыть маску и вылить из трубки воду. И что же я вижу?
Я вижу, что не одна. И мой рай — достояние многих. Их спины и трубки, торчащие над поверхностью, — яркое тому доказательство.
Тогда я думаю, что море — как жизнь. Сначала плывешь носом вниз, жадно загребаешь руками все, что в них попадает, озираешься вокруг, прикидываешь, где теплее течение, прозрачнее вода, следишь за тем, куда плывут остальные. Пытаешься не сбиться с пути, не отстать, не потеряться, не прослыть неудачником… А стоит лишь какому-нибудь стихийному бедствию разрушить тихую заводь — и все как один трепыхаются к верху брюшком. И уже не важно, кто плыл первым, а кто плелся в хвосте. Разница лишь в том, что ты видел перед собой в последний миг и что чувствовал…
Меня сносит на край коралловой пропасти — крутой склон, усеянный желтыми и синими наростами. Его очертания теряются в бездне. Взмах руки — и я лечу над ней. Только не падаю, а зависаю. Это лишь репетиция падения. Если когда-нибудь мне придется побывать в горах — не перепутать бы тверди и вот так не оттолкнуться ногами от горной вершины. Уверена, первое впечатление будет подобным…
Я всматриваюсь вниз и различаю в сине-лазурной глубине песчаную площадку, окруженную подводными пещерами. Посредине что-то трепещет, дышит, медленно колышется, как батистовый платок на ветру. Его края вздымаются над песком, и я вижу, что это — огромный скат. Он похож: на гигантскую жабу, которую прогладили, — бледно-зеленый с ультрамариновыми пятнами на плоском теле, из которого, как перископы, торчат круглые глаза. От его движений на дне вздымается песчаная буря. А из черного зева ближней пещеры выплывает новое существо.
На первый взгляд, это большой кальмар с двумя щупальцами. Они раскинуты и слегка колышутся. Будто кальмар танцует. Течение выносит существо из его убежища. Я вижу продолговатое белое тело. Расплывчатое, далеко от меня. Поэтому я не могу сразу понять, что это такое.
В маску затекает вода. Мне приходится перевернуться на спину, поправить ее.
Когда я снова распластываюсь над поверхностью — уже отчетливо вижу то, что издалека казалось гигантским кальмаром.
Это — девушка.
Она — будто мое отражение на дне моря. Лежит, распластанная, глубоко подо мной. Ее руки ритмично колышутся, длинные прямые пряди волос обрамляют белое лицо — так дети рисуют солнце, а взрослые — медузу Горгону.
Длинное тело… Пляшущие руки… Я пытаюсь рассмотреть лицо. Но его нет. Лишь несколько глубоких теней. Такие лица возникают под кистью китайских мастеров — чистые, овальные и плоские.
Девушка машет руками, зовет к себе, уговаривает потанцевать вместе с ней. Ее длинное, гибкое серебристое тело усеяно кристалликами соли. Серебряная… Молчаливая. Она знает о море все. Не то что я… Она — внутри него, я — снаружи. Я — созерцаю, она — понимает. Я — беспомощна, она — всесильна. Она посвящена в самую большую из тайн — тайну молчания, из которой рождаются слова…
Сколько раз я представляла себе эту встречу, еще в детстве, когда заплывала слишком далеко! Бывало, плывешь и пугаешь себя жуткими картинками из жизни утопленников: вот они хватают за ноги, тянут на дно, щекочут, играют твоим бездыханным телом, как тряпичной куклой, опутывают водорослями, надевают на шею гирлянду из ракушек… И тогда я начинают отчаянно грести, сопротивляться, задыхаться, пока жуткие фантазии не исчезнут. Но с ними было тревожней и веселее.
Тогда у меня еще не было настолько размытых границ между мирами и измерениями. И слова слагались не так легко, и плавала я не так хорошо, как теперь.
…Подводный ветер всколыхнул меня. Я не мечтала выплыть из своего уютного убежища, но тело стало таким легким, почти невесомым — поневоле пришлось покориться течению. Невесомой волной все всколыхнулось и во мне. Течение подхватило, закружило, заставило двигаться, танцевать… Высоко над собой я заметила тень, которая плыла, освещенная голубыми лучами солнца.
Сколько раз я представляла себе эту встречу! Я слишком долго была одна. Слишком долго ни о чем не думала, не помнила, что это за чувство — двигаться, бороться с волнами, ощущать их прохладное прикосновение и сопротивление. Я забыла, каким горячим и сладким может быть глоток воздуха. А гомон на берегу! Наверное, он напомнил бы мне давно забытую мелодию какого-нибудь уличного скрипача — в ней немного сложных пассажей, как, скажем, в брачном пении касатки, но сколько души и потаенных желаний! Даже ракушки не способны повторить таких звуков. В мелодии старой скрипки, которую я слышала в детстве и вспомнила лишь теперь, для меня сконцентрировалось все: шуршание целлофановой обертки от красных карамельных петушков, шипение молока на плите, скрежет точильного круга, всхлипы велосипедных звонков и долгий-долгий звук большого церковного колокола. У каждого звука есть своя история…
И она, та, что вверху, надо мной, имеет возможность слышать все это! У нее длинное гибкое тело, и волосы расплываются по поверхности воды, как черные лучи.
Мне нужен лишь один глоток ее дыхания. Один-единственный глоток. Чтобы вернуться — к скрипке, к молоку на плите, к велосипедным звонкам и церковному звону. Мне нужно заполучить этот глоток, слиться с ним, почувствовать, как он заполняет мои влажные легкие…
…Я вышла на берег после долгого плавания неуверенным шагом. Подошвы тут же обожгло горячим песком. Воздух втекал в ноздри, будто меня пытали расплавленным свинцом. Но понемногу я привыкла. Села под зонтик, и улыбчивый официант принес мне стакан апельсинового сока. Я осторожно глотнула. Мне понравилось…
— Дорогая, нельзя так долго находиться в воде, — услышала от высокого мужнины, который подошел, сел напротив и накинул на мои плечи белый махровый халат. — Посмотри, ты вся дрожишь, даже кожа посинела…
Я отдернула руку… Не все сразу!
На запястье остался едва заметный голубоватый отпечаток. Ничего, со временем это пройдет…»
9
Я думала, что еще стоит зима…
Оказалось, что мои ежедневные «включения автопилота»: утро, кофе, маршрутка, «желтый дом», рассказы, дорога домой, прослушивание и расшифровка записей — все это затянулось настолько, что я не заметила, как деревья покрылись листьями. По их размеру и насыщенному цвету я констатировала — зима закончилась довольно давно. Она просто засела в моей голове. А сегодня — Пасха. Выходной. Праздник.
Я не люблю праздников. Никогда не любила. Разве что в детстве. Но тогда не праздновали Пасху. По крайне мере так нарочито, как это делается сейчас. То, что приближается Пасха, я почувствовала, как зверь чувствует приближение стихии. Обычно мне бывает плохо всю неделю. То, чего другие ждут с неофитским восторгом, я словно ощущаю на собственной шкуре. Молитву в ночном саду, измену, допрос, путь на гору. Стук молотка… Понедельник-вторник-среда-четверг-пятница-суббота… Шесть суток. После которых жарят мясо, пьют вино… Супермаркеты ломятся от толп с тележками — толп, которые будут есть тело Его и пить кровь Его. А потом снова станут обижать друг друга.
Ничего не изменилось за тысячи лет.
Я прекрасно осознаю, что мое отношение к Богу обыденное, низкое, грешное. Я думаю о том, что у Него могли болеть зубы… А еще о том, что он не писал писем своей матери… Почему-то я чаще обращаюсь к ней и, если мне что-то нужно, произношу: «Скажи сыну своему…» Это вошло в привычку давно. С тех пор, как я стала читать Библию — так, как умела, как позволял мне разум, — чувствовала, что она — неадекватная, написана многими разными людьми и они, как и все обычные люди, не могли избежать собственной сущности. Начало с перечислением родословной меня раздражало больше всего. В нем было что-то искусственное. А то, что я видела между строками, заставляло затаить дыхание и часами думать о женщине из Магдалы и женщине из Назарета. Что легче: страдать или видеть страдания?..
Неожиданно я вспомнила рассказ того, кто назвался «технологом». И… расплакалась. Стояла у окна, смотрела на рынок, что находился напротив моего дома, и ощущала на щеках «соленую воду, выходящую из-под век». Я не плакала сто лет…
Люди шли довольные, по радио рассказывали о Туринской плащанице, на улице играла музыка. Мне хотелось позвонить на прямой эфир с вопросом: «Болели ли у Иисуса зубы?» Но это восприняли бы как кощунство. И я просто прокрутила вопрос в голове раз двести, пока слезы не высохли.
Меня всегда волновали «низменные» вопросы. Например, что случилось с женщиной из Магдалы, когда Его не стало? Куда отправился Варавва? Может быть, они закончили свою жизнь, сидя за одним столом в грязной забегаловке…
Нужно спросить у Технолога…
…Но у меня оставалось еще несколько пациентов. Что они делают в выходные дни, разговаривают ли друг с другом?
Три безразмерных выходных дня я просидела у окна, ломая спички. Наломала целую гору.
В среду лица тех, кто ехал со мной в маршрутке, светились сытостью и удовольствием. Многие женщины везли в пакетах недоеденные куличи и яйца — угостить коллег по работе, попробовать, чей кулич вкуснее, обменяться рецептами.
Я зашла в свой маленький кабинет, когда там еще хозяйничала уборщица, возившая тряпкой по полу. Заметив меня, она молча вытащила из кармана два яйца — синее и красное — и протянула их на раскрытой ладони, будто я была маленькой девочкой. Я спрятала их в свою сумку, мне безумно хотелось, чтобы эта милая женщина поскорее ушла.
Мне не терпелось увидеть последнего мужчину, моего подопечного. Потом я должна буду изложить свои впечатления главврачу. Просто впечатления. Почему-то он считал, что проводником в закрытый мир его пациентов могу быть только я. Почему — мне еще предстояло выяснить…
Итак, медсестра завела ко мне следующего. Как всегда, она сообщила, что этот считает себя наследником американского миллионера…
«Наследник» оказался приятным молодым человеком. Я щелкнула кнопкой записи…
«Семья у нас большая, настоящий клан: мои родители, двое дядьев с женами. Их дочери, мои сестры. Так уж случилось, что единственным мальчиком на весь род был я. И меня любили. Я мог делать все, что взбредет в голову, — меня никогда не наказывали.
Многого совсем не помню. Осталось чувство безмерного всемогущества, будто я был маленьким богом. Особенно в отношениях с девочками, ангелоподобными мотыльками в розовых кружевцах.
Обычно (лет до пяти) со мной гулял отец. Помню, сижу я в песке, а рядом копается это созданьице — волосы белые-белые, как борода у Деда Мороза, юбочка в горошек, трусики с кружевцем, красные новенькие туфельки — такие блестящие, что так и хочется их лизнуть, как леденец. Папа протягивает мне камешек, шепчет ласково: „Ну-ка, брось в нее! Не бойся — брось!“
Я и бросил. Попал в плечо. Созданьице посмотрело на меня, и глаза ее будто стали вдвое больше, потом — вчетверо и растеклись огромными прозрачными ручьями. Так интересно! Я ведь никогда не плакал. Меня оберегали. Тогда у меня еще не было никаких глубоких переживаний. Правда, остался неприятный осадок, будто случайно раздавил бабочку.
Следующий эпизод помню отчетливей. Велосипед! Мне купили новенький велосипед — почти такой же, как у папы, только немного меньше и легче. Вышли во двор, как два настоящих мужчины. Пока папа ходил за сигаретами, я хвастался великом перед соседской девочкой. Тоже ничего себе: шустрая, как мышка, а глаза, как у куклы, — большие и бархатные, в обрамлении длинных черных ресниц. Я разрешил ей подержаться за руль, она смеялась. Противно так, будто велосипедный звонок заклинило. Папа вернулся, погладил девочку по головке, дал конфетку. И мы поехали. По кругу объехали двор. Девочка бежит вслед за мной, звенит своим смехом-звоночком. Папа ее нахваливает, тоже смеется. А потом шепчет мне: „Ну-ка, поддай газку!“ Я сильнее налег на педали — девочка не отстает, смеется, даже в ушах звенит. „Ишь, какая веселая, — морщится папа и мне так тихонечко: — Еще поддай!“ А сам оборачивается к девочке, улыбается, подбадривает. А та бежит. Но уже не смеется, щеки красные, как помидор, пыхтит, старается не отставать — игра все-таки! „Быстрее!“ — приказывает сквозь зубы отец. Выехали на шоссе. Упрямая девчонка бежит! Дышит, как паровоз. В глазах, опять-таки, — вода. Наконец отстала, плюхнулась прямо в пылищу, колени поразбивала. Я еще разок оглянулся: бредет назад, хромает, спина согнута, платье в пыли… Папа мне подмигивает, я в ответ, конечно же, улыбаюсь. А сам чувствую, будто внутри меня кошачья лапка: мягкая, но с коготками и — царапает. Неприятное чувство…
Таких случаев было много, пока я не понял то, что должен был понять, то, к чему меня готовили: женщины не для этого мира. Он создан для мужчин. Сильных и бессмертных.
В школе я всегда сидел за партой один. Меня считали „злым“. Но я не был злым. Я просто не знал, как нужно себя вести, особенно в старших классах. И поэтому всегда держал оборону. Ни друзей, ни девушки у меня не было. Что за невезение, почему?
— Почему, — спросил как-то у матери, — вы считаете, что все зло — от женщин? Ведь ты — тоже женщина. И папа тебя не презирает.
— Понимаешь, сынок… — забегали глаза у матери, — времена изменились. Сейчас порядочных женщин нет — каждая если не наркоманка, то шлюха или охотница за чужим добром. Мы просто хотим уберечь тебя. Не хотим, чтобы ты страдал, когда женишься, если вдруг…
Она замолчала и отвернулась к плите — там что-то шипело. Мама засуетилась и не закончила фразу.
Тогда я впервые задумался о серьезности этого взрослого мира. Стыдливо и тайно, будто вор или разбойник, стал перебирать в голове женские имена. Каждое было будто кусочек сахара, который таял во рту. Анна… У нее рыжий завиток на затылке и сережка-капелька поблескивает в розовом ухе. Когда она стоит у доски — вызывающе выставляет вперед ногу в ажурном чулке. Как она их надевает — через голову? Марина… Все время ест сладости, и от этого ее губы всегда блестят, как леденец. Она, наверное, глупенькая. Но как об этом узнать? Анастасия… Просит списать. За поцелуй. И смеется. Вера… Нет, хватит! Я ненавижу их всех. Но почему мне так больно?.. Не могу уснуть, включаю ночник.
Родители еще не спят, сидят на кухне, чаевничают. Им хорошо вдвоем. Я прислушиваюсь: оказывается, у нас гости — слышатся голоса дядьев, теток…
— Что будем делать? — тихо говорит папа. — Он подрастает… У него появляются вопросы…
— Да-да, сегодня он спрашивал… — подтверждает мама.
— Это вполне естественно… — басит дядя Петя.
— И что ты ответила? — перебивает его жена, тетя Люся.
— Думаю, ему пора знать правду, — говорит папа, и зависает недолгое молчание. — Он уже достаточно взрослый. Мы сделали все, что могли. Пора получить дивиденды.
— И я так думаю! — поддерживает разговор второй брат отца, дядя Володя. — Сколько нам еще тянуть кота за хвост, горбатиться с утра до ночи? Мне еще дочерей замуж выдавать! За какие шиши?
— Да, а у меня шуба давно потерлась, — капризным голоском попискивает его жена тетя Света. — И нигде я не была-а-а, ничего не видела-а-а…
— Хватит! — обрывает ее папа. — В конце концов, он — наш. А вы так — с боку припеку!
— Не ссорьтесь, — говорит мама. — Ведь все давно решено.
— А если он завтра женится? И вам не сообщит? Молодые сейчас шустрые, с родителями не очень считаются! — Это они уже хором говорят, как в театре.
— Хорошо, — подводит черту папа, — через месяц он заканчивает школу. А после поступления в институт я ему все объясню.
— А я, — с гордостью добавляет мама, — подыщу подходящую кандидатуру. Не сомневайтесь, работа ведется…
Я понимаю, что все это — обо мне. О ком же еще? Они постоянно говорили обо мне. Жак на воду дули…
А потом, примерно через полгода, состоялся тот разговор.
Мне трудно пересказать его подробно. И если уж рассказывать — то с самого начала…
С того начала, о котором я не знал. То есть — с деда.
Раньше я считал, что мой дед давно умер. О нем никогда не говорили. Сохранилась одна фотография, на которой он совсем молодой. „Ты — вылитый дед!“ — как-то сказал папа, и в его голосе не было ни грусти, ни умиления. Я не понял, хорошо это или плохо. Рассматривал себя в зеркале, приложив к его поверхности фотографию деда, переводил глаза с фотографии — на свое отражение. И мне не верилось, что я похож: на этого красивого парня в военной форме, с правильными чертами чуть продолговатого лица, с красиво очерченными губами и прямым взглядом больших, с опущенными вниз уголками, глаз. Здорово, если бы это на самом деле было так! Жаль, что я его никогда не увижу! Мне казалось, что мы поняли бы друг друга.
И вот выясняется, что этот „старикан-проходимец“ (так высказался папа) жив-здоров. И не в какой-то глухомани живет, а в замечательной стране. И не неудачник в приюте для одиноких, а миллионер!
У меня даже дух захватило от такой новости. А отец продолжает рассказывать очень любопытную историю…
Оказывается, много лет тому назад бросил дед нашу дорогую бабушку (царство ей небесное!) и сбежал на заработки в Канаду. И заработал так хорошо, что стал магнатом в отрасли бытовой техники. („Он, — заметил папа, — после войны из обычных чайников делал электрические для всего города!“) И все бы ничего, но почему-то возненавидел дед весь свой род, а сыновей практически проклял. Поэтому сейчас от него ни слуху, ни духу, ни копейки… Разве можно любить такого подлого человека?!
— Сейчас старому хрену, — сказал папа, — пошел девятый десяток. А лет семнадцать тому назад приехал от него гонец и привез странное письмо, над которым мы только потешались…
— А что было в том письме? — навострил уши я.
— Сначала показалось, что полная чушь! — усмехнулся отец. — Тогда же какие были времена: не дай Бог иметь родственников за границей. Да еще таких, как твой дед!
— И все же, что? — Я чувствовал, что сейчас все прояснится, окажется, что я — королевский наследник. И учиться мне не нужно, и работать тоже. Только чемодан собрать в сказочную страну!
— Короче говоря, написал твой сумасшедший дедушка что-то вроде завещания. Правда, не на случай своей смерти, а на случай твоей женитьбы, то есть на случай женитьбы его внука. А смысл завещания заключается в том, что получит все наше семейство пять миллионное долларов только в том случае, если…
Папа замолчал, закурил, закашлялся, загасил почти целую сигарету в пепельнице и устало взглянул на меня. Мне очень хотелось поторопить его, но слова прилипли к зубам, как жевательная резинка, и как я ни старался произнести хотя бы что-нибудь — лишь выдувал невидимые пузыри.
— …если, — продолжал папа, — твоя жена умрет на следующее утро после свадьбы…
— Ха… — весело выдохнул я, — так не видать нам этого наследства никогда! Во-первых, я пока не собираюсь жениться, во-вторых, вероятность один к миллиону, что моя невеста умрет после первой брачной ночи. А в-третьих…
— А в-третьих — ты законченный идиот, — заорал отец, — если считаешь, что наша семья может упустить из рук такой шанс!!!
…Я понял, что он не шутит. И никто не шутил. Шутки закончились. Родные действительно смотрели на меня, как на бога. Но сейчас я улавливал в их взглядах вполне конкретную, предназначенную мне миссию. И растерялся. Но меня не оставили в беде! Дядья и тетки наведывались каждый день. Показывали чертежи своих будущих загородных владений, зачитывали списки самых необходимых покупок, напоминали, сколько хорошего они сделали для меня, лишая своих дочерей всего самого лучшего. Говорили, что настало время послужить на благо всей семьи.
Конечно же, я был не против. Нерешенным оставался вопрос: как выполнить условия завещания? Это немного меня беспокоило.
— Не волнуйся, — успокоила мама, — мы думали об этом семнадцать лет! Все будет замечательно!
И на семейном совете она огласила план, который тщательно разрабатывался на протяжении всей моей беззаботной жизни. Оказывается, все давно уже было решено: хороший сын из добропорядочной семьи влюбляется в девушку-наркоманку и женится на ней. В первую же ночь горемычная жена гибнет от передозировки.
— Сейчас таким никого не удивишь, — мягко говорила мама, — тебе будут сочувствовать. А потом мы уедем отсюда или откроем свой бизнес. Купим тебе автомобиль, дом, яхту… В общем, все, что захочешь! Жизнь будет прекрасной.
— А где я возьму эту наркоманку?
— Пусть это тебя не волнует, — улыбнулась мама, — скоро ты ее увидишь!
И она с гордостью рассказала о том, что месяц тому назад в очереди познакомилась с замечательной кандидатурой.
— Девушка из многодетной семьи, лишний рот, — доложила мама, — отца нет, мать постоянно болеет, живет на уколах — это то, что нам нужно. Друзей нет — девушка все время занята на нескольких работах. Короче говоря, неудачница. Отработанный человеческий материал без перспектив на будущее. Завтра она придет к нам на ужин.
— А если она мне не понравится? — начал было я, не понимая нелогичности своего вопроса.
— Вот и хорошо! — рассмеялся папа. — Разве я тебя не учил, что все они…
Да, этих ангелоподобных букашек в кружевах и ленточках меня учили ненавидеть с детства. Мои милые, заботливые родители! Они не хотели, чтобы я страдал…
„Замечательная кандидатура“ оказалась неприметной и стеснительной. За столом она не знала, куда девать руки, какой вилкой есть салат, а какой — рыбу, говорить не умела, все время запиналась. Мама всячески ее нахваливала, отец даже поцеловал руку. Вообще, они вели себя так, будто нас посетила принцесса.
— Видишь, как все хорошо? — шепотом сказал мне отец. — Разве это женщина? Недоразумение какое-то…
— „Брось в нее камешек!“ — так же шепотом пошутил я, но папа меня не понял. Он хвалил кружевной воротничок „недоразумения“, который она сделала своими руками.
Короче говоря, девушка оказалась такой простой и наивной, что в тот же вечер я сделал ей предложение. Мать с отцом мастерски изобразили неподдельное изумление, дуреха расплакалась и согласилась. Дело было сделано. Отец тут же собрал родню. Это был настоящий праздник, которого они ждали много лет! Дядья похлопывали меня по плечу, подмигивали, тетки чуть не задушили в объятиях, перезревшие кузины смотрели с обожанием. Отец и мать даже благословили нас маленькой открыткой с изображением Божьей Матери. Дуреха растерянно улыбалась, не веря своему нежданному счастью, и поглядывала на меня круглыми влюбленными глазами. Она не понимала, что ей выпала редкостная возможность — присутствовать на собственных похоронах.
Я подумал об этом и расхохотался…
Дуреху звали Ася. Имя мне нравилось. Все же остальное в ней для меня было уже тленом. Имя, в конце концов, останется хотя бы на могильной плите.
Свадьба была назначена через месяц. До этого я должен был встречаться с невестой, входить в роль несчастного спасителя „заблудшей в наркотических дебрях души“. Родители, в свою очередь, энергично распускали слухи о моем неудачном выборе среди всех, кого считали нужным пригласить на торжество.
Я так же энергично взялся за дело. Прежде всего нужно было посетить дом невесты.
Он меня поразил. В доме было бедно, но чисто. Голодно, но весело. Две девочки и два мальчика-близнеца повисли на мне, как гроздья винограда. Я раздал им конфеты и игрушки. Матери подарил духи. Она разрыдалась и трижды меня поцеловала.
Лотом мы ели печеную картошку с селедкой. Это было для меня непривычно и очень вкусно!
Я водил Асю в театр, в кафе, в цирк. Ее глаза почти всегда были полны слез. Я даже не представлял себе, что такое маленькое лицо может вместить столько воды! Она вышила для меня платочек с нашими именами.
Потом повел ее в музей. Час два она неподвижно стояла перед полотном Нестерова, а потом еще столько же перед иконой Божьей Матери XII века. А потом в знак благодарности поцеловала меня в щеку. До этого мы ни разу не прикасались друг к другу. Так велел отец. Он знал толк в делах, которые могли бы помешать достижению нашей общей цели. Я ему доверял. Поэтому пытался замечать только „нужные“ детали, чтобы „не размякнуть“: как она ест (не умеет пользоваться вилкой и ножом одновременно!), как говорит (произношение простолюдинки!), как ходит (походка постоянно уставшего человека!), как смотрит (животный преданный взгляд!)…
— Правда, противно? — подмигивал мне отец.
— Конечно, папа! — соглашался я.
— Вот и молодец! — говорила мама. — Потерпи еще немножко, уже скоро…
Когда Ася бывала у нас, ее окружали заботой и любовью. Поили чаем, угощали пирогами.
— Ты такая худенькая, — вздыхала мать, — ну ничего, — вот поженитесь, поедем на море, откормим тебя…
— Да, — подхватывал отец, — и, пожалуйста, брось ты свою работу! Жена моего сына должна жить достойно!
— А осенью поживете у нас на даче! — вступал в разговор дядя Петя (хотя дачи у него пока еще не было).
— А потом к нам, на Мальдивы! — приглашали дядя Володя и тетя Света (видимо, решили эмигрировать и уже выбрали то, что хотели).
И все весело смеялись своим шуткам. Ася смеялась вместе со всеми. И ее смех звенел, как тот велосипедный звонок из моего детства…
За две недели до свадьбы я начал плохо спать…
А потом написал письмо…
…День был солнечный, весенний. Я надел новый серый костюм-тройку в тонкую белую полоску. Как сказала мама, такой на все случаи жизни! Когда я стоял у зеркала и старательно причесывал волосы, засовывал в петлицу маленькую белую розочку, мама торжественно вошла в мою комнату и плотно прикрыла за собой дверь. Вынула из кармана две коробочки — одну плоскую, другую — круглую.
— Тут кольца, — сказала, протягивая мне круглую. — Для нее — с фианитом, но ты скажи, что это бриллиант. Она же не разбирается в драгоценностях! А потом будет уже все равно. А тут, — мама протянула плоскую коробочку, — то, что тебе понадобится утром: шприц и доза. И не забудь надеть перчатки! Потом шприц вложишь ей в ладонь. Все, как договаривались. Ты знаешь. И помни: мы гордимся тобой, сынок!
Мы отправились домой к невесте. Пока она собиралась, я ждал во дворе у машины, а ее братья-сестры снова повисли на мне и тыкались в лицо своими мокрыми носиками, как веселые щенки. Такие забавные!
Она выплыла из темного подъезда, как белая ладья. И ноги у нее были очень красивые. И открытое платье подчеркивало неожиданно длинную шею. А что произошло с глазами? Наверное, постоянные слезы их промыли, как промывают зимние окна, и засияли, как окна весенние… Я улыбнулся ей.
Мы торжественно расписались. Наши матери, как и все матери на белом свете в таких случаях, плакали. Дядья с тетками излучали радость и, поздравляя меня, шептали на ухо: „Мы в тебя верим! Ты наша надежда!“
„Помни о перчатках!“ — наставлял отец.
Для брачной ночи нам заказали номер в лучшем отеле города. У порога Дома Счастья нас ждал белый лимузин, чтобы с шиком промчать нас по улицам города. Города, который она увидит в последний раз…
Перед тем, как сесть в автомобиль, Ася бросила букет флердоранжа через плечо, и его поймала моя кузина. И покраснела от удовольствия. Ведь скоро, очень скоро — уже утром! — она станет богатой невестой!
Лимузин тронулся с места, мы весело замахали руками гостям и родственникам…
…За углом я велел водителю остановиться. Мы быстро вышли и пересели в вишневый „фиат“, стоявший на обочине.
— Ну как все прошло? — спросил нас мужнина, сидевший за рулем.
— Замечательно! — ответил я и посмотрел на свою жену. Она улыбалась. Теперь она всегда будет улыбаться! Потому что… Потому что я любил ее. С того самого первого дня, когда она так смешно запиналась за столом. Просто тогда я еще об этом не догадывался…
— Все хорошо, — повторил я и добавил: — Ну-ка, поддай газку, дедушка!..»
Он замолчал. Я не знала, верить всему этому или нет. Наверное, они просто подшучивают надо мной. Сговорились и подшучивают в свое удовольствие!
— Почему же вы тут? — спросила я. — И почему ваш дед так поступил со своей семьей?
— Можно начать с последнего вопроса? — вежливо спросил мужчина. Я кивнула и снова включила запись.
«В том письме, которое я написал перед свадьбой, я тоже проклял его. Он казался мне монстром или безумцем, которому захотелось стать богом для отдельно взятой семьи. И получил ответ. Почти сразу. Я помню его дословно…
Дед писал, что женился он очень рано, ему едва исполнилось восемнадцать. Или точнее — его женили, как это было принято в аристократических семьях. Правда, уже тогда родовые корни тщательно скрывались. Он не хотел жениться, но отец невесты занимал высокий пост — и это могло уберечь членов его семьи от гибели. Ему пришлось покориться. Жена была старше него, и у нее было двое маленьких сыновей от первого брака. Вскоре, перед войной, появился третий — общий. „Что я могу сказать о той жизни, — писал дед, — наверное, это звучит ужасно, но я был рад, что иду на фронт…“
Вернулся он совсем другим человеком. Родной дом, на удивление, выглядел довольно благополучным (видимо, благодаря положению тестя) — жена в шелковом кимоно с драконами, в папильотках, с трофейной сигаретой в зубах, упитанные мальчики, которые отвыкли от отца и поэтому всегда насторожены. Клетка захлопнулась навсегда. Он не знал, что делать, как жить дальше. Он видел смерть, знал мир, был свидетелем настоящих человеческих страстей. И начал задыхаться. Пока не появилась ОНА. Та, что стала ему настоящей женой, радостью и смыслом его жизни. Они встречались тайком. Иначе и быть не могло! И они не ждали лучших времен — для них они уж наступили.
Для семьи он старался делать все, что мог. Но, наверное, что-то чувствуя, жена делала все возможное, чтобы отдалить от него детей. Он не знал, как развязать этот узел. Пока он не развязался сам…
…Только намного позже, когда прошло немало времени, он вспомнил три склоненные головки над клочком школьной бумаги. Но это было позже, когда он снова смог думать, ощущать, анализировать. А тогда он был полностью раздавлен. ЕЕ арестовали! Дома он не мог выказать своих настоящих эмоций. Сначала — до и после работы — он бегал от одного чиновника к другому, стоял под воротами тюрьмы, носил передачи. А когда решился рассказать обо всем тестю, тот спокойно сказал: „Она — враг народа. Это доказано. Если ты не перестанешь дергаться, я не смогу помочь даже тебе!“
А потом, очень скоро, она умерла. Умерла при родах в тюремном лазарете.
Ему удалось выехать после 53-го. Это решение пришло после очередной ссоры с женой. Точнее, это была даже не ссора. Просто с улыбочкой она сказала, что вырастила порядочных сыновей, и если бы не они, он бы до сих пор отрывал последний кусок от семьи ради какой-то предательницы! „Мальчики спасли тебя!“ — сказала она. И он вспомнил три склоненные головки над клочком школьной бумаги…
Он вычеркнул их из своей жизни.
А потом придумал это завещание.
Придумал, глядя на мою фотографию, присланную отцом, которой тот пытался его растрогать. „Признаюсь, — писал дед, — сомнения терзали меня. Я прикладывал фотографию к зеркалу и рассматривал нас обоих. В кудрявом мальчике я видел себя — таким, как я был в детстве… Неужели и этот будет способен на убийство, думал я…“
Получив мое письмо, он обрадовался. Мой отказ от наследства, каким бы он ни был, мои проклятия звучали для него как небесная музыка».
— Остальное я вам уже рассказал… — закончил мужчина.
— Вы не ответили, как оказались тут… — напомнила я.
Неожиданно он рассмеялся.
— Вы мне поверили! Вы мне поверили!
Я молча ждала, пока он не перестал повторять одно и то же. Потом продолжил рассказ:
«Все просто, несколько лет мы беззаботно прожили там, куда нас забрал дед. У нас родился мальчик — дедов наследник. Дед еще успел подержать его на руках. А потом меня вызвали сюда, на похороны отца. Пока я был тут — жена и сын погибли в автокатастрофе. Я чувствовал, что так и случится, — нам нельзя было расставаться ни на минуту… Теперь мне все равно, где и как быть…»
Мужчина замолчал, а спустя минуту произнес:
— И… И знаете что, — он поморщился, — выключите эту вашу машинку. Обо мне тут и так давно всё знают…
…Спустя мгновение после того, как за ним закрылась дверь, он просунул голову в кабинет и прошептал:
— А вы все же поверили мне…
Медсестра оторвала его цепкую руку от дверной ручки и, в свою очередь, улыбнулась мне в щелочку:
— Не переживайте, мы тут все сначала навзрыд плакали. А потом — ничего. Даже смешно. Плетут, как помелом метут…
10
…Я начала есть. Точнее — покупать что-то, кроме молока и хлеба. Молоко и хлеб — это память детства. Хотя сейчас мне абсолютно ничего не нравится. А сегодня увидела черешни! Красно-черные, такие крупные, как сливы. В следующий раз я куплю огромную корзину черешен и решусь пойти к ТЕМ. Но это — позже.
Сейчас мне уже не больно и не страшно. Все будто входит в свою колею, но еще немного покачивает, как трамвай на скользких рельсах. И эта скользанка откликается внутренней вибрацией, поэтому порой я держусь за сердце…
Мимо чего я проехала, кто там стоит на перекрестке и машет белым флажком? Наверное, это и называется: пережить собственную смерть. Довольно странное чувство — пережить себя! Это значит, что ты уже ничем не отличаешься от других, что система приняла тебя и начинает методично поглощать, затягивать в свое жерло, как любой другой человеческий материал. И все НОРМАЛЬНО. Нет ничего страшнее этой нормальности. Потому что начинаешь следить за собой, чтобы не сорваться, не покатиться против общего движения — все быстрее и быстрее. Мимо того белого флажка. Туда, где внутри вещей притаилась их настоящая сущность.
Лед, который вспоминает полковник в ожидании расстрела.
Вкус китайского чая, заваренного на иероглифах.
Скрипки, выросшие на старом дубе и теперь поющие на ветру.
Овчина, в которой свернулось калачиком начало мира.
Белая церковь внутри яйца.
Небесная пенка, которую можно лизнуть языком и ощутить вкус клубничных сливок…
Утром я бегу на маршрутку, все вокруг кажется мне несущественным.
Весь белый свет летит мне навстречу. Такой обманутый, такой любимый и ненавистный, такой одинокий. Летит, чтобы расшибить лоб о мое горячее чело. Дорога течет под ногами, как кинопленка или резиновая лента тренажера. Перебирай быстрее ногами! Люби этот дождь, этот город, эти телефонные будки, этих людей, которые, возможно, замолвят за тебя словечко… там, когда-нибудь… А может, и нет.
«И сказал: кто хочет идти за мной, пусть отречется от всего». И ВСЁ, испугавшись этого отречения, начало цепче хватать тебя за руки, расставлять сладкие тенета, сыпать под ноги медяки — чтобы пойманные не сбежали. Я срываю с себя тысячи крючков, но их так много. Некоторые — вырываются с кровью… И я бегу.
Бегу в свою комнатку на новую встречу. Я боюсь, что они могут закончиться… Я хочу понять, кто я. Кто я? Кто я… Кто я…
…Я стою у окна. Вглядываюсь в садик. Слышу, как осторожно открывается дверь. Не хочу и не могу оглядываться, меня будто пригвоздило к месту. Перед моими глазами приятная картина: за окном цветет сирень. Густые цветочные заросли напоминают взъерошенные тучи грозового неба. Синяя, бледно-голубая и чернильная пена невесомой массой вздымается над насыщенно-зеленой, едва заметной листвой. В воздухе висит дождевая морось — это не дождь, но что-то похожее — легкая, прохладная пелена, наэлектризованная и влажная, которая усиливает запах цветов и прибивает раскаленную пыль.
Я смотрю в окно, и мое отражение в стекле обрамлено цветами и листьями, как на «съедобных» полотнах Арчимбольдо.
— Чудесный пейзаж, не так ли? — послышался за спиной баритон.
Я не оглянулась. Интерес к баритонам угас во мне давно.
— Может быть… — нехотя ответила я.
Только что тут побывал десяток человек — медсестра, санитар, нянечка, главврач…
Это был еще один. Кто-то из любопытных — хотел пообщаться. Но я этого не хотела. Придется постоять у окна, понаблюдать за тем, как начинается дождь…
— Это ваша любимая погода? — снова спросил голос.
— Не знаю… — Я больше ничего не могла из себя выдавить.
— А общаться вы не хотите, — продолжал надоедать неизвестный собеседник, — потому что вы всех видите насквозь…
— Не всех, — поправила я, — но многих. Для этого мне даже не нужно оборачиваться.
— Неужели? — удивился голос. — Значит, я вам неинтересен?
— Абсолютно!
— Вы всегда так относитесь к людям?
— Не всегда! — Я разозлилась на себя из-за того, что непонятно почему продолжаю разговаривать. — Но, как сказала перед самоубийством Вирджиния Вулф: «Бог отнял у меня способность любить живых людей». И… — неожиданно добавила я, — плакать…
— А можно продолжить этот разговор где-нибудь в кафе? Идемте, пока не пошел дождь.
О, я догадывалась, что будет именно так!
— Нет, спасибо. У вас приятный голос. Мне этого достаточно. Боюсь, что в следующие пять минут я заскучаю. И поставлю вас в неловкое положение — просто встану и уйду. К тому же я бы не хотела дорисовывать к вашему приятному голосу розовые щеки, безвольный рот и мясистые уши.
Он рассмеялся.
— Ничего смешного! — сказала я. — В лице самого серьезного мужчины всегда просматриваются черты мальчика — того, каким он был в школе. Трусость, жадность, зависть, лень откладываются в мельчайших морщинках, а потом — в самый неподходящий момент — лезут наружу.
— А с женщинами разве не то же самое?
— Нет. Уже первый незначительный опыт изменяет лицо. А второй, третий, десятый — делает неузнаваемой.
— И поэтому лучше смотреться в стекло?
— Возможно… — наконец улыбнулась я. — В стекле я вижу только сирень. А это так красиво.
— Неужели вам так надоело собственное лицо?
— А разве с вами такого не бывает?
— Не бывает…
— Ну вот видите! Это потому, что мужчины любят себя больше, чем женщины! Им в себе нравится все.
— Вы себе надоели. Вы себе не нравитесь, — констатировал голос. — Но ведь вы ничего о себе не знаете… Если бы знали…
Я принципиально решила не оборачиваться. Я на это не клюну!
Голос у меня за спиной потеплел:
— Ты родилась в Италии в 1525 году в семье Алессандро Тутти — хранителя библиотеки Палаццо Дукале — Дворца венецианских дожей. У тебя было две старших сестры — Лаура и Вероника. Твое имя — Лукреция. Лукреция Тутти… Вы жили неподалеку от Моста Вздохов, соединяющего Дворец со зданием городской тюрьмы, в квартале Кастелло. В детстве ты часто смотрела в окно, наблюдая, как по Мосту ведут заключенных из зала Управления Законов. Они тяжело вздыхали, направляясь в казематы, и ты без пояснений старших поняла, почему Мост назван именно так. Больше всего тебе нравилось, когда отец брал тебя с собой в библиотеку. Вы пересекали площадь Святого Марка, поднимались по Лестнице Гигантов, шли под прохладными сводами галереи второго этажа и спускались в книгохранилище. Лучшего развлечения для тебя не существовало! Пока сестры вышивали у окна, наблюдая за красавцами-гондольерами, ты поглаживала пергаментные страницы древних книг и пыталась понять, что в них написано.
Однажды, когда отец был очень занят своими делами, ты незаметно вышла за пределы книгохранилища и, тихо ступая, направилась в южное крыло, в Зал Большого Совета. И зачарованно замерла посередине, впервые рассматривая полотна Тициана, Тинторетто и молодого мастера — Паоло Веронезе. Кстати, тогда ты еще не могла знать, как тебе повезло, ведь все шедевры были уничтожены пожаром, который случился несколькими годами позже.
В углу зала, расписывая колонну, работал художник. Ему было лет двадцать, но тебе он показался очень взрослым, даже старым. Ведь тебе было всего девять… Ты стояла тихо-тихо, но он ощутил твое присутствие и оглянулся.
«Приветствую вас, рыжая синьорина!» — произнес он. — «Я — не рыжая!» — обиделась ты. «О, прошу прощения, я не разглядел: вы — золотая!» — рассмеялся он и снова отвернулся к колонне. На ней тут же появился яркий штрих. Такой яркий, как цвет твоих волос…
…Ну да! Конечно, я помню запах влажного ветра, который бродит в самых потаенных уголках моего старого города. Сколько раз он срывал с моей шеи шелковый платок и швырял его на середину Гранд-Канала! Во рту у меня всегда горько — я люблю разгрызать стебелек какого-нибудь растения, которое встречается на моем пути. А растений тут немного. Да и те чаще всего растут в больших вазонах у лестниц и зданий. Серая дождевая дымка почти всегда висит над мостами и каналами. Из-за этого путешественникам наш город кажется хмурым, влажным и неприветливым. Тут мало простора, и улицы такие узкие, буквально на ширину раскинутых рук.
Но стоит лишь наступить ночи, как все преображается! Золотое с черным — это необычайно красиво! Черные рукава каналов, овальные мосты. Глубокие колодцы улиц и купола дворцов опутаны золотыми неводами лунного света. На воде тоже дрожит золотистая сетка.
Венецианская луна — сущая проказница! Она невзначай высвечивает детали, которые были незаметны днем. Засыпая, я смотрю на стену противоположного дома — на нем вырисовывается филигранный узор. Будто закопченный чайник поцарапали золотой иглой…
Вот почему я так полюбила черный цвет! Это цвет моего города. Лакированные черные гондолы, черные плащи-домино, черные шелковые мантильи на плечах аристократок. На этом фоне выгодно отличаются простолюдинки, на них — розовое с белым! Вот она, настоящая демократия — указ сената о борьбе с роскошью. Богатство тщательно скрывается. И только под крышами палаццо царит красное с золотым — цвета славы, свободы и страсти!
О, моя Венеция! Гениальное безумие зодчих Джорджо Массари, Антонио да Понте, Виченцо Скамоцци, Флиппо Календарио, Пьетро Базейо, Альфонсо Альбергетти — каждый в свое время уронил жемчужину в эти воды…
…Мне двадцать. Я люблю стоять на мосту Академии, смотреть на палаццо Фальер. Это изящное здание с двумя боковыми лоджиями. Оно сохранилось неизменным с тех времен, когда в нем жил дож Марино Фальер. Стоя на мосту, я представляю себе, как его вели на казнь… Бабушка моей бабушки рассказывала, что даже на плахе он слал проклятья горожанам, и все они едва сдерживались, чтобы не пасть на колени перед узурпатором. А потом еще долго не доверяли каждому следующему правителю…
…Сестры насмехаются надо мной: я отказываю десятому ухажеру. После книг, которые я перечитала в Палаццо Дукале, все они кажутся мне одинаковыми…
…После поездки в Верону сестры утверждают, что Святая Екатерина на полотне нашего земляка синьора Веронезе очень похожа на меня… Я молчу. Я стискиваю зубы. Вспоминаю прошлогодний карнавал…
«Приветствую вас, золотая синьора!» — окликает меня незнакомец в лиловом плаще. Я не сразу узнаю его. Он снова кажется мне слишком старым. «А я вас помню! Вы были маленькой любопытной девчонкой и обиделись на то, что я назвал вас рыжей…»
У женщин нашего города — легкий характер. Я не исключение, хотя и решила посвятить себя книгам. Мы садимся в гондолу. И гондольер Фабио — в нашем уютном городе почти все знают друг друга! — даже не спрашивая о маршруте, живо берется за весло. Опустив бархатный занавес, мы с Паоло пьем виноградное вино. И…
И затеваем нескончаемый спор о преимуществах и недостатках венецианской школы живописи. Я настаиваю на том, что полотна Паоло и Лоренцо Венециано слишком декоративны, более живые — болонцы. В них есть экспрессия, естественность, выразительность образов и лиц. Он доказывает, что болонская школа — порождение догмы, единственное ее преимущество в том, что она систематизировала художественное образование. И не более! А естественность и живость — находки раннего периода.
Я соглашаюсь. Мне все равно, ведь по-настоящему я восторгаюсь только Джотто…
О, зачем я это сказала! Будто забыла, что рядом — сам Веронезе. Глаза его сияют. Но пламя страсти медленно сменяется огнем гнева. Мы отчаянно боремся. Я пытаюсь укусить его за руку.
Бедняга Фабио уверен, что мы страстно занимаемся любовью…
С берегов-улиц с шипением падают в канал разноцветные звезды праздничного фейерверка. Я выпрыгиваю из гондолы неподалеку от своего дома.
— Ты — лучшая из всех женщин, которых я встречал! — кричит Паоло. — Никогда тебя не забуду!
На следующий день он должен ехать в Верону выполнять срочный заказ. Там и появится картина «Обручение Святой Екатерины» с моими глазами…
Я не вышла замуж. Я осталась со своими книгами, сменив отца на его должности. А когда Венеция пришла в упадок, ушла в монастырь. Там написала несколько работ о венецианской школе живописи. Всякий раз, когда выводила на бумаге имя Паоло Веронезе, с пера падала чернильная слеза.
…Дождь уже отчаянно хлестал сиреневые кусты своим прозрачным батогом. Они пенились, как морские волны.
Я люблю дождь. Я всю жизнь люблю хмурую погоду. Теперь понятно почему…
— Ну что ж… — сказала я, — идем, посидим где-нибудь. Я согласна.
И оглянулась.
В комнате никого не было…
Я поняла, что разговаривая видела в стекле лишь собственный силуэт…

— Аутизм — это погружение в мир собственных переживаний, во время которого больной теряет контакт с реальностью и интерес к действительности. У таких больных обычно отсутствует потребность в общении с людьми, а чувства не имеют эмоциональной окраски.
— Но простите, доктор, насколько я знаю, — это врожденная болезнь и проявляется она еще в детстве. К тому же ее лечат. Кажется, ею страдал Дастин Хофман… А она — взрослая девочка… Кроме того, я бы не хотел, чтобы вы сделали ее подопытным кроликом. У вас таких хватает. Как по мне, здесь требуется незначительное терапевтическое вмешательство. Иногда я думаю, что она просто хитрит. Поэтому и обратился к вам. Это может быть затяжным кризисом, причем — творческим, но при чем здесь аутизм?
— Вы меня перебили, — заметил врач. — Мне бы хотелось обрисовать общую картину. По крайней мере, ту, которую я могу наблюдать сейчас. Если бы вы, Витольд, согласились на мое предложение, результаты были бы ощутимее…
— Речь не об этом! — Посетитель достал из серебристого портсигара коричневую сигарету «Black Captain», пододвинул к себе тяжелую мраморную пепельницу, доверху набитую окурками. — Она совершенно здорова. Я лишь хочу разобраться, в чем заключается хитрость…
— Тут нельзя спешить. Это случай интересный… — главврач задумался, с уважением поглядывая на массивный серебряный перстень своего визави. — И на симуляцию это не похоже. Продолжим разговор?
Тот, кого он назвал Витольдом, покорно кивнул, затягиваясь и выпуская изо рта темную струйку ароматного дыма.
— Итак, что мы видим? Есть шесть признаков проявления аутизма. Вспомним их. Во-первых, погруженность в собственные переживания… — Он вопросительно посмотрел на мужчину, и тот пожал плечами, а потом кивнул головой. — Во-вторых, никаких удовольствий от окружающего мира — получение их изнутри. Да? Хорошо. В-третьих — собственно, это касается детей, — невозможность наладить контакт с ровесниками, в-четвертых, неумение разделить удовольствие и успех с другими людьми, то есть отсутствие эмоционального контакта.
— Это — последние два года… — заметил посетитель. Но врач, увлеченный собственным монологом, махнул рукой и продолжал:
— Дальше: задержка развития или речи. М-м-м… Тут — особый случай, возможно — переизбыток этого… И последнее: стереотипное и повторяющееся использование речевых оборотов и регрессивных движений…
— Вы считаете, что все это может случиться со взрослым человеком?
— Честно говоря, таких случаев я не знаю. Поэтому и предлагаю оставить ее здесь.
— Вы не представляете, о чем говорите, — грустно улыбнулся собеседник. — Эта женщина… — Он запнулся и замолчал.
— Эта женщина, — охотно подхватил врач, — довольно интересная личность. Вам можно позавидовать. — Он увидел, как собеседника передернуло. — Но продолжим. Итак, я не до конца убежден, что это — классический случай аутизма. И не хотел бы вас пугать. Определенные признаки этой болезни были у великих мыслителей — Ньютона, Эйнштейна, Планка, Дарвина, Менделеева. Думаю, что этим страдал и Паскаль. Ньютон, кстати, вообще говорил с большим трудом. По сути, признаки аутизма — это набор случайностей, которые отражают особенности развития мозга. Не все, кто вплотную приближается к границе аутизма и патологии, получают от этого только негатив. История знает примеры, когда так называемые странные люди достигали значительных успехов в науке. А о психологии творчества вообще говорить не приходится! Об этом написаны целые тома. Что касается нашего случая… — Врач задумался и впился взглядом в блестящий перстень своего визави. — Я бы предпочел знать о Хелене побольше, чтобы сделать адекватные выводы.
— Неужели не достаточно того, что знают все остальные? — раздраженно сказал почтенный собеседник.
— О, конечно же, мы все, весь персонал, зачитываемся ее книгами, всегда следили за ее авторскими программами на телевидении. Кстати, в нашей библиотеке собраны все тридцать два ее романа и куча переводов на иностранные языки! Все книги — затерты до дыр! Поэтому все, что о ней писали в прессе, мы знаем. Именно так, как вы и сказали: все то, что знают другие. Но, — он снова впился глазами в перстень, который, видимо, привораживал его своим блеском, — мне этого мало.
Врач заметил, что на лице посетителя отразилась борьба эмоций.
— Анамнез. Я должен знать анамнез. Мне нужно знать все. — Глаза врача блеснули, и он заговорил горячо, как следователь на допросе. — Вас беспокоит нечто большее, чем симптомы, о которых я говорил, не так ли? Кем вам приходится эта женщина, ведь я знаю, что она не замужем! Вы могли бы быть ей отцом… Из какой она семьи? Как вы познакомились? Чем она болела? Итак, давайте начнем с самого начала.
— Это начало отбросит нас лет на двадцать назад, — вздохнул посетитель. — Вряд ли у нас будет столько времени. К тому же я бы не хотел, чтобы она вдруг вошла сюда. Мы давно не видимся. Она не должна знать, что я проявляю к ней участие.
— Мы запрем дверь, — ответил врач. — А что касается времени… Времени у меня достаточно, я не спешу…
Витольд снова глубоко вздохнул.
— Смотрите, как бы нам не пришлось здесь ночевать… — заметил он.
Врач профессиональным жестом незаметно включил диктофон.
* * *
— Двадцать лет назад, летом, мне исполнилось тридцать. Надеюсь, о себе мне не нужно рассказывать? Могу сказать лишь одно: тогда я жил один, имел по тем временам хороший заработок, неплохое жилье с видом на реку, рядом с которой находилась школа. После лет студенческой нищеты, штудирования всяких наук, поисков работы, неудачных браков, подъема по длинной и довольно крутой карьерной лестнице — я наконец наслаждался покоем, достатком, знаниями, приобретенными в многочисленных зарубежных поездках и разнообразном общении.
У меня всегда был интерес к экспериментам. Особенно к тем, которые касались человеческой психики. Помню, в юности я отчаянно спорил с сокурсниками, пребывая в безосновательной уверенности в том, что из любого человека можно вырастить если не гения, то хотя бы развить его способности до высочайшей степени. Мне возражали, мол — «кесарю кесарево», а «пролы» (мы тогда все увлекались Оруэллом) останутся на своем уровне, даже если обрядятся в золотые одежды. Я же доказывал, что всевозможные мистические обращения, или (по Эвелин Андерхилл) пробуждение трансцендентного сознания, чаще всего происходят с людьми темными и менее всего достойными такого дара. Их сознание не затуманено мутными потоками всякой информации, не обременено знаниями и открыто для голоса природы.
Словом, обычный юношеский бред, болтовня в стиле Кортасара. Потом все это отошло на второй или даже сто второй план.
И только отмечая свой тридцатый год рождения перед широко распахнутым окном, за стаканом хорошего белого вина, наслаждаясь одиночеством, я мог спокойно пересмотреть свое прошлое, улыбнуться ему — или, скорее, самому себе — и подумать над тем, чего мне еще не хватает…
Было чудесное июньское утро и первый день моего отпуска.
Я сидел и смотрел в окно на школьный двор — там отрабатывали «летнюю практику» школьники. Я тоже когда-то делал это и ужасно ненавидел эти летние отработки, считая их бессмыслицей и пустой тратой золотого времени. Несчастные дети — пяти— или шестиклассники — разбрелись по школьному приусадебному участку и копались на грядках, вырывая сорняки. Я мысленно улыбался, глядя на это действо. Мальчики бездельничали, осыпая друг друга землей, девочки присели поближе друг к другу и были поглощены разговорами. Мой взгляд выхватил одну из них — она присела у самого края грядки, ближе к дороге, и что-то все-таки делала. Я узнал в ней девочку, которая жила двумя этажами ниже. На ней было синее платьице в оранжевый горошек, такое коротенькое, что из-под него выглядывали трогательные белые трусики. Хорошая добыча для какого-нибудь педофила, невольно подумал я. И как в воду глядел! Заметил, как из-за угла дома к школьному двору направляется какой-то типчик в спортивных штанах. Он вертел головой и поглядывал на стайку девочек. Наконец заметил ту, что сидела поближе к тротуару на некотором расстоянии от своих подружек. Я с интересом стал наблюдать, что же будет дальше, мысленно сочувствуя малышке, к которой подходил этот мерзавец. Такие болваны в общем-то безопасны, хотя, конечно, могут сильно напугать этих бедняжек в коротких юбочках. Внутренне я напрягся, ведь собирался проконтролировать эту неприятную ситуацию: в случае чего, решил я, смогу быстро выскочить, оббежать дом и через минуту быть рядом с «жертвой», отогнать слизняка.
Он подошел совсем близко и остановился над девочкой. На нее упала его тень. Она пока его не замечала. Но мне стало неловко, показалось, что он видит не только ее белые трусики, но и то, что виднеется сквозь широкую пройму рукавов платья, когда девочка тянется за новым стебельком.
«Вот падла!» — выругался я про себя, но с места не сдвинулся. Во мне проснулся созерцатель и экспериментатор.
Наконец увидел, что девочка замерла. Очевидно, он что-то сказал ей. Что-то грубое, мерзкое. То, что не даст ей сегодня заснуть. То, о чем она еще ничего не знает. Девочка напряглась, склонила голову. Если бы она была страусом, эта несчастная голова была бы глубоко в песке, подумал я. Одной рукой она потянула свое задравшееся платье вниз и вся съежилась, сжалась, как ракушка. А он все стоял над ней и что-то говорил… Я не выдержал и выскочил за порог.
Пока я оббегал дом, там, во дворе, видимо, произошло следующее: девчушка вскочила и стремглав помчалась домой. Словом, она буквально врезалась в меня на углу — так быстро бежала. Мне пришлось обхватить ее, чтобы самому не упасть от ее напора. Это было похоже на столкновение в воздухе самолета с птичкой. Девочка дико вскрикнула и сразу как-то обмякла, стала сползать вниз, я едва успел подхватить ее. Огляделся: еще не хватало, чтобы за маньяка приняли меня! Но во дворе в будний летний день было пусто. Я взял ее на руки, внес в темный подъезд, кое-как протиснулся в лифт и нажал кнопку своего этажа. А что мне было делать? Номера ее квартиры я не знал. Кроме того, я заметил, что у малышки на веревочке на шее болтается ключ. Значит, скорее всего, никого нет дома…
Так состоялась наша первая встреча…
* * *
Я положил ее на кровать, побрызгал в лицо водой. И не на шутку испугался: девочка лежала, как мертвая. Прислушался — дышит. Я успокоился и начал рассматривать ее. Хотя замечу сразу — я не Гумберт Гумберт! И извращенных наклонностей за собой не замечал. Просто давно не видел вблизи маленьких девочек, не обращал на них внимания. Эта была действительно хорошенькая, и платье действительно было коротковатым. Но, скорее всего, потому, что девочка из него выросла. Длинная растрепанная коса пшеничного цвета, длинные ровные и загорелые (или просто — смуглые?) ножки в белых гольфах, стоптанные сандалии, которые, как мне показалось, слишком детские для девочки десяти или одиннадцати лет, изящное худощавое лицо с выразительными скулами. Я подумал, что со временем она станет настоящей красавицей. Спустя несколько минут заметил, что ее веки дрогнули и под ними зашевелились глаза, хотя веки оставались опущенными.
— Не бойся! — поспешил сказать я. — Все хорошо. Я твой сосед. Ты бежала и потеряла сознание. Я не сделаю тебе ничего плохого. Уже все позади…
Я боялся, что она придет в себя и начнет кричать. Но этого не случилось. Я еще немного постоял над ней. Был уверен, что девочка пришла в себя, но затаилась, ожидая чего-то страшного. Довольно странное поведение, подумал я, и снова стал успокаивать ее:
— Все позади. Полежи немного, если хочешь. А потом можешь идти домой. Ты свободна. С тобой все в порядке…
Никакой реакции! Но я был уверен: она меня слышит! И даже видит сквозь свои пушистые дрожащие ресницы. Хорошо, решил я, пусть притворяется и дальше, если ей так нравится. Время у меня есть. Пусть придет в себя. И сел за свой стол, повернувшись к ней спиной. Хоть и не собирался сегодня работать, но время все равно было потеряно, поэтому раскрыл папку с научной работой своего коллеги, которую должен был отредактировать. Постепенно увлекся работой и даже испугался, когда в полной тишине раздался голос:
— Ты прочитал все эти книги?
Оглянулся: она сидела на краю кровати — ручки на коленях — и разглядывала мои книжные полки.
— Слава богу! Я уже думал, что ты проспишь тут до вечера! — как можно приветливее сказал я.
— Я давно не сплю, — ответила девочка. — Я вообще не люблю спать. И ничего не боюсь, — после паузы неожиданно сказала она.
— Это хорошо, что ты такая храбрая.
— Я не храбрая, — возразила она, — просто у меня куча всяких проблем…
Мне стало смешно.
— Наверное, с мальчиками? — пошутил я.
— А вот и нет. Для дураков у меня вот что есть!
И она показала мне кулак — маленький, трогательный и жалкий.
— А-а-а… Это — серьезный аргумент! — Я с ироничным пониманием закивал головой.
— А тот дядька… — она нервно повела одним плечом и заколебалась.
— Не вспоминай о нем! — перебил я. — О таком лучше сразу забывать. На свете много дураков и просто больных людей. Ты еще не раз их повстречаешь. Поэтому не надо брать в голову.
— Это трудно, — вздохнула она.
Я согласился. Чтобы сменить тему, спросил, как ее зовут, и услышал в ответ не совсем обычное имя — Хелена.
— Так звали мою прабабушку, — пояснила девочка. — Я ее даже помню…
Она задумалась и добавила:
— Она курила трубку и гадала на картах… И ее за это ругали. А она прятала карты и табак под клеенку на кухне, а мне показывала вот так, — девочка приложила палец к губам. — И… и так интересно обо всем рассказывала.
Не буду пересказывать всего разговора, но я удивился, когда заметил, что соседка задержалась у меня почти на полдня.
Что-то я смог о ней узнать из ее ответов на мои вопросы, что-то додумал сам. Я понял, что семья ее довольно простая — родители работают на заводе. Она не говорила прямо, но я хорошо представил себе эту семью: пьянка в выходные, закатывание огурцов на зиму — по пятьдесят банок, которые потом стоят под кроватями и на балконе (меня всегда удивлял этот женский фанатизм в отношении консервации, ведь все можно купить в магазине), ритуальные ссоры как образ жизни и мышления, «рупь до получки», картошка со шкварками, гости по праздникам, желтые от сигаретного дыма занавески. Что в таком случае остается детям? Бегать по улицам, стучать в дверь, за которой в однокомнатной квартире «гуляют» взрослые, выпрашивать мелочь на мороженое у хмельных гостей, таскать со стола что-то вкусненькое, получать подзатыльники. И… носить коротенькие платьица, пока их уже и на нос не натянешь.
Вопреки всему, что нарисовало мое воображение (думаю, я не ошибался), девочка казалась довольно развитой. Я заметил ее тягу к книгам и то, с каким интересом она слушала мои ответы на свои вопросы.
Когда она прощалась (мол, ей еще нужно сварить для родителей картошку), я предложил приходить ко мне в гости. Сказал это совершенно искренне. И по ее реакции понял, что эта наша встреча не последняя: ей явно не хватало взрослого общения. Она, как губка, впитывала в себя любую информацию. Уже стоя на пороге, девочка попросила у меня какую-нибудь книгу. Детских у меня не было, я задумался и дал ей «Мысли» Блеза Паскаля с коварной уверенностью, что она этого не прочитает.
Вечером, вспоминая утреннее происшествие, я подумал, что невольно выступил для соседской девочки в роли «доброй феи» и что сегодня она заснет спокойно.
* * *
— Прервемся! — вдруг резко оборвал свой рассказ посетитель и выбил из пачки новую сигарету.
В кабинете надолго повисла тишина. За окном шумел первый майский дождь. Врач с удивлением, будто видел впервые, рассматривал седого импозантного мужчину и не знал, что сказать. Подошел к окну, распахнул форточку. Частый дождь безжалостно сшибал треугольные шапки сирени. Смеркалось.
— Она пришла? — наконец произнес врач. Выражение его лица уже не было таким самоуверенным — в глазах засветилось обычное человеческое любопытство.
— Да, — устало ответил Витольд.
— И о чем вы разговаривали? Вы — взрослый человек — и пятиклассница из неблагополучной семьи?
— Вы заставили меня разворошить то, чего не стоило трогать. Но раз уж так случилось — я готов продолжить разговор завтра. Не останавливаться же на полпути! — сказал он после длинной затяжки.
— Хорошо. Я с нетерпением буду ждать в любое удобное для вас время, — быстро ответил врач. Казалось, у него отобрали недочитанной книгу. — Когда это примерно может быть?
— Я человек занятой. Смогу только вечером, если это вас устраивает.
— Иногда я остаюсь ночевать в отделении, — сказал врач, — а ради вас буду ночевать столько раз, сколько понадобится.
— О'кей!
Витольд поднялся.
— Скажите, могу ли я тайком взглянуть на нее? — вдруг спросил он совсем другим тоном. — Она, наверное, еще здесь?
— Не знаю, — сказал врач, — но это можно проверить. Я провожу вас к кабинету. Надеюсь, вы будете осторожны…
— Да, конечно, — кивнул посетитель. — Я не хочу волновать ее. Только посмотрю.
Они прошли по длинному коридору мимо закрытых дверей палат с окошками посередине, спустились двумя этажами ниже и снова пошли по длинному коридору. Мимо поста медсестры, мимо палат…
Наконец врач остановился у последней, чуть приоткрытой двери. Сначала заглянул в щелку сам, а затем жестом пригласил своего спутника. Тот припал щекой к грубо окрашенной поверхности и затаил дыхание.
Вот она, Хелена…
Женщина стояла у окна и смотрела на дождь. На проливной железный дождь, уничтожающий сирень.
Взрослая и чужая.
Плод его трудов.
Или это — лишь самонадеянная выдумка?..
Витольд пожал плечами, отстранился.
— Не представляю себе, как она добирается домой, — прошептал он врачу. — Она ненавидит общественный транспорт…
* * *
Следующим вечером врач пребывал в приподнятом настроении, время от времени профессиональным жестом он довольно потирал руки и сравнивал свое состояние с далеким детским воспоминанием об ожидании мультфильмов по первому в их семье цветному телевизору. Еще бы! Его вчерашний посетитель занимал высокий пост, был влиятельным человеком, и общение с таким человеком уже само по себе можно было считать удачей. Врач удивился и обрадовался уже тогда, когда через какую-то давнюю приятельницу ему передали просьбу этого высокопоставленного чиновника взять на работу в свое заведение одну его знакомую. Просьба показалось ему довольно странной. Но и любопытной. Женщину, о которой шла речь, он знал. Конечно же, не лично, но знал. Только не мог представить себе, что связывает ее с таким влиятельным человеком… Но все оказалось гораздо интереснее. Он с нетерпением ждал назначенного часа и сразу вскочил с места, когда в кабинет, как и вчера, уверенной походкой вошел Витольд. Врачу было приятно пожать ему руку, как старому знакомому.
— Кофе? Чай? Может — коньяк?
Витольд кивнул головой:
— Чай. Лучше зеленый, если есть.
Пока секретарша вносила поднос, расставляла чашки и заварочный чайник, оба молчали.
— Честно говоря, после нашей вчерашней беседы я решил, что не приду сегодня, — наконец нарушил тишину Витольд, — а потом мне пришло в голову, что… Что никому и никогда в жизни я не мог и не имел желания рассказывать то, что услышали вы. Вчера, разговаривая с вами, я будто упорядочивал свои мысли. И это может пойти мне на пользу. Всю жизнь я любил проводить экспериментировать. Над другими. Только не над собой. Пусть моя откровенность станет этим первым экспериментом над собственным сознанием. Я впервые чувствую себя археологом на раскопках. Вчера я снимал лопатой слои нанесенного временем хлама — отбрасывал мусор и камни. Возможно, сегодня надо поработать кисточкой…
Витольд задумался. Врач понял, что тот нуждается в помощи.
— Вы остановились на том, что дали ей книгу Паскаля… — сказал он. — Не думаю, что это было уместно в таком раннем возрасте. Она ее прочитала?
— Вы хотите спросить, как скоро мы встретились снова? По вашему взгляду я вижу, что вы не верите в нормальное общение зрелого мужчины и маленькой девочки. Согласен, это действительно может показаться странным. Андерсена и Льюиса Кэрролла уже подозревают в извращенном отношении к детям… Порой мне кажется, что мир перевернулся… — он закурил и после паузы продолжил: — Если тогда у меня и было какое-то влечение — это лишь тяга к экспериментам. Книга была его малой частицей…
…Она сама позвонила в дверь через несколько недель. В руках держала книгу, будто она служила пропуском в мою квартиру или каким-то отличительным знаком, паролем. Ее косы были так же растрепаны, как и обычно, когда я видел ее из окна. Она вошла и протянула мне книгу. Я улыбнулся.
— Прочитала?
— Да… — сказала она и покраснела.
— И о чем же эта книга? — продолжал я посмеиваясь.
— О… — она напряглась, — наверное, о… любви.
Ничего другого я и не ждал! Я взял у нее книгу и заметил, что некоторые страницы были загнуты — как свидетельство того, что ее читали. Она заметила мой хитрый взгляд и неожиданно для меня продолжила уже смелее:
— Все книги написаны о любви. Разве это так сложно понять?
Собственно, подумал я, в этом есть некий смысл. И открыл наугад одну из загнутых страниц: «Тело любит руку; и рука, если бы имела волю, должна была бы любить себя так, как любит ее душа: всякая любовь, к себе, большая такой любви, — несправедлива».
— Действительно о любви, — слегка иронично подтвердил я. — Но о любви к Богу.
— Он есть?
Я колебался, стоит ли развивать эту тему. Девочка учится в школе и, наверное, не слышала даже о существовании Библии. Это было вполне естественно. Я схитрил:
— А что тебе об этом говорила твоя тезка-прабабушка?
— Говорила, что есть…
— Ну вот видишь, прабабушка знала, что говорит.
Она задумалась. А потом сказала нечто для меня неожиданное. Неожиданное потому, что я сам часто задумывался над этим.
— Если Паскаль верил в Бога, как он мог творить науку?
Потом она вообще запутала меня своими инсинуациями.
Тогда я усадил ее за свой стол и начал рассказывать о Блезе Паскале все, что знал. Начертил на бумаге его так называемый арифметический треугольник, в котором любое число равно сумме двух расположенных над ним чисел. Я был уверен, что она заскучает. Но она продолжала задавать вопросы. Я объяснил принцип действия вычислительной машины, которую Паскаль изобрел, когда ему было восемнадцать лет. Говорил о других открытиях, совсем не беспокоясь о том, понимает ли она меня. Главное, она слушала — в прямом смысле — с разинутым ртом. Потом (после того как она ушла) я понял, что давно не говорил ничего подобного. Мои любовницы не нуждались в таких разговорах, друзья или коллеги, как все нормальные люди, были заняты собой и вряд ли вынесли бы мои лекции. Удивительно: я, как стареющий болван, нашел благодарного слушателя в этом соседском «гадком утенке» и не замечал, насколько смешным был в этой ситуации.
Переходя к моим любимым страницам из биографии великого ученого, я стоял к ней спиной, смотрел в окно и говорил примерно следующее: «Занимаясь наукой, Блез Паскаль пришел к выводу, что человек принадлежит бесконечности. То есть его дух и интеллект способен пережить бренное тело. Жизнь Иисуса казалось ему подтверждением этой мысли. И он хотел проверить ее на себе! Тогда ему исполнилось всего 24 года… Но он уже успел сделать много великих открытий, и здоровье его было подорвано. Блез не мог есть — употреблял пишу только в жидком подогретом виде — почти по каплям, а головная боль уже не отпускала его ни на минуту. Вот тогда он и вспомнил о муках Христа. Наука больше не интересовала его. Он решил усугубить свои страдания тем, что отказался от малейших радостей жизни, которые были ему еще доступны. Сократил общение с людьми, которые стали ему совсем не интересны. А чтобы избежать излишеств в быту, даже снял обивку со своей мебели и бархатные шторы с окон, обходился без помощи слуг и ел только из грубой металлической посуды. В своих духовных и философских исканиях он достиг немалых вершин, выведя свою аксиому о существовании Бога. В упрощенном варианте она получила название „пари Паскаля“. В легкой форме, принятой тогда в салонном парижском общении, Паскаль предложил атеистам решить задачу, пользуясь популярной тогда теорией вероятности: если Бога нет — даже самые ярые атеисты ничего не потеряют, веря в него, а после смерти так же, как и другие, превратятся в тлен. Если же Бог существует — все живое получит жизнь вечную… Так почему же не сделать свой выбор в пользу вечности?»
Я говорил будто сам с собой, а обернувшись, увидел, что она слушает! И перешел к самому интересному. Рассказал о Мемориале, или Амулете, Паскаля…
Я так ярко обрисовал ночь в жизни ученого с понедельника на вторник 23 ноября 1654-го, что заметил, как она дрожит. Так увлекся рассказом, что даже нашел в шкафу свой старый дневник, в котором дословно вслед за моим старым преподавателем математики записал тот текст, который получил название «Амулет Паскаля». Когда я читал вслух непонятные обрывочные слова, она начала так дышать, что я испугался, как бы она снова не потеряла сознание…
Не знаю, зачем я делал все это. Мне нравилось, как она слушает. У меня возникло чувство, что я лью воду на губку — и она впитывает ее, впитывает до бесконечности. Удивительное чувство… В заключение я сказал, что Паскаль записал этот текст на клочке бумаги и зашил в свой камзол. Этот клочок случайно нашел слуга уже после смерти хозяина, оригинал записки не сохранился…
Я видел, что она была поражена. Не только историей. Она была поражена почти так же, как я: впервые с ней говорили! Когда она ушла — пообещав прийти снова, — я почувствовал какое-то странное облегчение.
Даже не знаю, с чем его можно сравнить… Я всю сознательную жизнь нес на своих плечах груз всяких знаний, мыслей, сомнений, и — так сложилось — мне до сих пор не было на кого взвалить хотя бы половину этого бремени. Окружение мое было обыкновенным. В принципе, таким же обывательским, как и сейчас. А еще (и это скорее всего) я просто боялся быть смешным — с другими.
В ту ночь я долго не мог заснуть. Тогда и возник (пока на уровне подсознания и под маркой благотворительности — это уж точно!) мой план: попытаться утвердить свою давнюю мысль о том, что при благоприятных условиях можно развить талант и интеллект любого человека. Тем более если начать делать это с детства. Я думал о том, что этой девочке здорово повезло, ведь в моем лице она встретила доброго волшебника, фею, творца, скульптора. И что отныне я смогу круто изменить ее путь. А место продавщицы овощной палатки, жены алкоголика, издерганной злыднями мамаши, пергидрольной блондинки, местной мессалины с грязью под ногтями, языкатой дворовой скандалистки в халате с цветами достанется кому-нибудь другому…
* * *
Он замолчал.
— Странно… — произнес врач, — все это довольно странно. Хотя, с другой стороны, понятно… Ей повезло, что она встретила вас. Книгу Хелены «Амулет Паскаля» лично я перечитал раз пять. Интересно было услышать, как все начиналось. Кто бы мог подумать… Вот вам и анамнез. Надо же… И что дальше?
— А дальше… Я начал постепенно осуществлять пункты своего плана. И, поверьте, это было приятно: ломать и строить что-то новое. Я увлекся этим зодчеством. Это не было мне в тягость. Кроме того, этот процесс пошел на пользу и мне. Тогда я преподавал в университете, и все новые лекции сначала проверял на ней.
— И вы не боялись ранить психику ребенка?
— О, я же говорил, она была как губка. И чем больше знаний я давал — тем больше становилась поверхность этой губки. Маленькая обжора всякий раз приходила ко мне с новыми вопросами. К окончанию школы я подготовил ее так, что она могла бы поступить в любое учебное заведение.
— То есть вы «вели» ее много лет. Не казалось ли это странным, скажем, ее родителям, соседям? Не испортили вы ей жизнь слухами? Ведь если дружбу взрослого с ребенком еще можно как-то объяснить, то вряд ли можно объяснить духовное общение шестнадцатилетней девушки с далеко не старым человеком. Вы чего-то не договариваете…
Витольд поморщился, будто у него вдруг разболелись зубы.
— Я решил говорить только то, что было на самом деле. Не торопите меня. И, пожалуйста, вы, кажется, предлагали коньяк…
Врач охотно достал из шкафчика новую (купленную сегодня специально для этой встречи) бутылку, быстро нарезал лимон, разлил напиток в пузатые рюмочки. Витольд повертел свою рюмку в руке. Врач беспокойно проследил за тем, как прозрачные коричневые капли медленно сползают по стенкам рюмки — значит, коньяк, слава богу, «не паленый», хоть и куплен в местном магазинчике. Оба выпили молча.
— Итак… — продолжал посетитель, — что касается родителей… Они были счастливы от такого бесплатного репетиторства. Только и всего! А через два-три года у них появилось еще двое детей — близнецов, и, конечно, им было не до старшей. С соседями я не общался вообще. А насчет наших встреч…
…Она была для меня лишь объектом — куском глины на гончарном круге. И если я, выражаясь метафорически, водил по нему руками, как положено умелому гончару, — в этом не было ни намека на телесную чувственность. У меня были любовницы, хотя жениться еще раз я не собирался. Не подумайте, что я был каким-то скучным сухарем. Кроме научных, я проводил кучу других экспериментов, которые, несомненно, также шли ей на пользу. Она очень плохо одевалась — всегда донашивала что-то после матери или перешитое из материного своими руками. Выручало то, что в то время девочки носили школьную форму, к которой можно было пришивать разные воротнички, — в форме у нее был замечательный вид. Остальная же одежда — сплошная безвкусица. Прическа тоже нуждалась в большем внимании. К тому же мне нужно было научить ее общению и тому, что называется «социальным поведением». Это тоже было довольно интересно.
Я с удовольствием платил за платье, которое уговаривал ее примерить в магазине. Собственно, я делал это не ради нее — это тоже было частью моей жажды экспериментов. Я часто проделывал такое с другими женщинами. Не знаю, как это лучше объяснить… Это приятное чувство, когда ты невзначай заводишь женщину в магазин, так же невзначай снимаешь с кронштейна какую-то вещь и говоришь: «Тебе это будет к лицу!» Женщина краснеет, смущается. Тем более если вы знакомы меньше двух-трех дней. На ее лице отражается множество эмоций — она вся перед тобой как на ладони! Сначала она воспринимает этот жест как комплимент (ведь я всегда выбирал самое лучшее платье), потом она напрягается, мысленно пересчитывая деньги в своем кошельке — хватит ли на то, чтобы удовлетворить мое желание видеть ее в этом платье. Это мгновение для меня — самое яркое и самое неприятное. Потом она отчаянно заходит в примерочную… Любая женщина в такой ситуации обязательно заходит в примерочную. А когда выходит… Вот тут начинается самое приятное: она видит, что я направляюсь к кассе… Честно говоря, я проделывал все это ради себя самого. Я и сейчас иногда могу делать это. Если вы меня не понимаете — просто поступите когда-нибудь так, и, клянусь, в этот момент вы почувствуете себя творцом мира!
Короче говоря, время от времени я покупал ей одежду, переплачивал цыганам за польскую косметику. У нее первой в классе появились большие солнцезащитные очки-хамелеоны и джинсы…
Стригли тогда в парикмахерских плохо, и я предложил ей собирать густые волосы в аккуратный пучок на затылке. Вот так мне пришлось стать еще и стилистом…
Теперь, отвечая на ваш второй вопрос, попробую объяснить самое сложное…
* * *
Порой случалось так, что я выставлял ее за порог: ко мне приходили женщины. Тогда она превращалась в маленькую фурию — упрямо колотила ногой в закрытую дверь, дышала в замочную скважину или, в знак протеста, заклеивала глазок жевательной резинкой. Мы ссорились.
— Зачем тебе эта рыжая? — восклицала она. — Тебе с ней интереснее, чем со мной? Чем ты с ней занимаешься?
— Это тебя не касается, — сердился я, — каждый человек должен иметь свою личную жизнь.
— А я, я не могу быть твоей личной жизнью?
Я смеялся:
— Не волнуйся, ты — намного больше, чем все это.
— Тогда почему ты меня прогоняешь?
— Потому что всему свое время. Эта, как ты сказала, «рыжая» — женщина, которую я люблю. Это тебе понятно? Я хочу быть с ней наедине. Время от времени мне это нужно.
— Зачем? Зачем?! — в отчаянии переспрашивала она. — О чем ты ей рассказываешь? Тебе с ней интереснее?
Это была обыкновенная детская ревность.
Через пару лет, превратившись в довольно хорошенькую девушку, она уже не спрашивала, что я делаю с женщинами. Наоборот. Здесь уже мне пришлось сдерживать ее чувственность, ведь, как любая девочка из неблагополучной семьи, живущая в однокомнатной квартирке, она была довольно осведомлена в отношениях между полами. Я думаю, что она задумывалась и о наших встречах, отыскивая в них какой-то подвох. Иногда мне трудно было вернуть ее мысли в русло занятий. Она могла сесть на стол, вызывающе закинув ногу на ногу. И я начинал опасаться, что моя теория разобьется вдребезги, потому что гены все же возьмут свое. Поэтому старался быть как можно больше суровым, холодным, отсылал ее в ванную — смыть краску с губ и глаз. Она сердилась, капризничала, донимала меня подробностями своих взаимоотношений со старшими ребятами. Остановить ее могло только то, что я, притворно вздыхая, выпроваживал ее домой. Тогда она снова превращалась в послушную ученицу и покорно садилась за стол. И клянусь, я видел, что это ей было интереснее женских уловок, с помощью которых она пыталась манипулировать мной. Вот так, вместе, мы пережили переходный возраст, не избежав ссор и недоразумений. До последнего, выпускного класса их было немало. Она начала как бы соревноваться со мной, испытывая мое терпение и, я бы сказал, дружбу или нечто большее, что сложилось между нами за эти годы, — некую духовную близость, почти родство.
— В классе я сказала кое-кому, что у меня есть старый любовник, — однажды заявила она.
— Ты — банальная маленькая дуреха, — ответил я. — Обидно, что твои золотые мозги заняты такими глупостями!
— А если мне ни с кем не интересно, кроме тебя! — выкрикнула она.
— Разве обязательно записывать меня в любовники? Ты для этого слишком мала и… и глупа! Если хочешь, чтобы меня посадили в тюрьму, — то, пожалуйста, распространяй эти слухи по всему городу!
В другой раз она выдумала еще большую чушь:
— Если я не найду лучшего мужа, ты женишься на мне? Не сейчас — потом… когда-нибудь?..
— Наверное, я ошибся, — вздохнул я. — Думал, что на свете есть девочки, из которых вырастают сильные, независимые и умные женщины. Оказывается, ошибся: все они мечтают выйти замуж, стать квочками…
Я знал, что говорить и на что давить! Больше она меня никогда не провоцировала, и наши занятия продолжались без проблем. К тому же пришло время, когда надо было серьезно подумать о дальнейшем обучении.
Она делала значительные успехи, и я был очень доволен. Но ее увлечения ежегодно менялись, она не знала, на чем сосредоточиться. Сначала это были точные науки, потом — литература и языки. Наконец мы выбрали факультет иностранных языков. Это был рациональный выбор, ведь я планировал, что она не удовлетворится одним образованием, а знание языков всегда пригодится.
Конечно, она поступила в университет. И наши разговоры утратили свой академический характер.
* * *
— Не понимаю… — сказал врач, — зачем вам это было нужно?
— Сейчас и я не могу найти ответ на этот вопрос, — задумчиво ответил Витольд. — Мне нравилось быть богом. Тем более что мне это ничего не стоило — в нематериальном смысле. Я уже говорил, что проверял на ней разные свои мысли и гипотезы. Времена были скучные, тягучие, как резина, и неинтересные. Мой предмет — один из предметов, которые я преподавал в университете, — «История христианства», был популярным только среди студентов, общение было ограниченным. К тому же я терпеть не мог невежества в тех вещах, в которых разбирался в совершенстве. Хелена же была замечательным тренажером для моих нереализованных амбиций.
— Она об этом догадывалась?
Собеседник надолго умолк. Когда он заговорил, голос его потерял уверенность.
— Она об этом сказала, когда ей уже исполнилось двадцать лет. Тогда она впервые отдалилась от меня. Не только потому, что была загружена учебой (хотя это действительно было так), я оттолкнул ее по-настоящему. А потом уже ничего нельзя было вернуть.
Но лучше по порядку…
…Я никогда не смотрел на нее как на женщину. Она была и оставалась для меня девочкой с вечно растрепанной косой, в коротком платьице в горошек, с разбитыми коленками и раскрытым ртом — иногда въедливой, порой трогательной, а зачастую — ненасытной губкой, в которую я вливал информацию. Так было, когда ей исполнилось шестнадцать, и потом, когда она уже стала совсем взрослой. Все это время у меня была довольно насыщенная личная жизнь (однажды я даже всерьез подумывал о женитьбе).
В двадцать она уже начала спорить со мной, выражать свои порой довольно толковые мысли. И это меня раздражало. Кроме того, я заметил, что ее мышление стало метафорическим, и то, до чего я доходил долгим путем логики — при помощи этого сугубо мужского инструмента мышления, она выдавала за каких-то полминуты, применяя свое воображение. Мы лезли в книги, чтобы проверить, кто из нас прав, и все чаще она радостно хлопала в ладоши и кружилась на одной ножке от удовольствия: ведь она выигрывала. То, чему я должен радоваться, злило меня не на шутку! Я искал любой повод сохранить позиции, переходил к менторству. Основания для этого были: она начала писать. Я категорически возражал. Это мешало учебе и могло хорошенько испортить ей жизнь. Я пытался убедить в этом. Говорил, что почти все писатели — несчастные люди, отравленные словом и алкоголем, что у нее нет никаких перспектив зарабатывать этим на жизнь, что ее никто не поймет и не услышит, потому что, как известно, нет пророков в своем отечестве. А тем более тут, у нас, где ценят только в двух случаях: после смерти или признания за рубежом.
— Что ж, — улыбаясь, говорила она, — придется писать на английском!
— Там ты тоже не нужна. Ты не понимаешь, что говоришь. Лучше займись чем-то действительно полезным.
— Это ты не понимаешь, — возражала она, — слова падают на меня, как снег, ливень или камни, — мне нужно их записать.
Сначала это были стихи. Какие-то странные. Я не мог их оценить. Был напуган тем, что она начала бегать в разные редакции, пытаясь их напечатать. Напрасно! Я радовался этому. Не мог представить, что все так серьезно. Потом она перестала мучить меня своими литературными изысками, и эта тема незаметно стала для нас табу.
Но все равно что-то нарушилось. Я больше не мог быть для нее учителем. Мне было обидно, а она, похоже, радовалось этому.
Иногда, когда она стояла под моей дверью, я делал вид, что меня нет дома, и не открывал. Мучился, но — не открывал. У меня было оправдание: времена менялись с бешеной скоростью, мне стало интересно жить, карьера моя пошла в гору. Я оставил преподавание, занялся бизнесом, впоследствии такой интересной областью, как политтехнологии… У меня больше не было для нее времени. Думал, что нечто такое же происходит и с ней. Пока не настал тот день, когда она просто заночевала под моим порогом. Это было с субботы на воскресенье. Вечером она долго не отходила от дверей, звонила и звонила. А потом, как я решил, ушла.
Как же я удивился и даже испугался, когда утром не смог открыть дверь: что-то мешало снаружи. Оказывается, она, свернувшись калачиком, спала у порога, как кошка или собака. Сначала я разозлился: терпеть не мог таких проверок! Если какая-то из моих любовниц прибегала к слежке или еще каким-то женским штучкам, я сводил отношения на нет.
Она отодвинулась, встала, вид у нее был испуганный и болезненный. У меня даже заныло сердце: вспомнил тот первый день нашего знакомства, когда видел такие же испуганные глаза. Бедная девочка! Я взял ее за плечи, ничего не говоря завел в квартиру. Она замерзла и дрожала.
— Ты что, с ума сошла? — сказал я. — Неужели просидела так всю ночь? Зачем? Немедленно — в постель! Хорошенько укройся, а я сейчас сделаю тебе что-нибудь горяченькое!
Но она стояла неподвижно и молча смотрела на меня. Смотрела так, что я — черт возьми! — просто не знал, что должен делать. Передо мной стояла моя маленькая Галатея — неподатливый кусочек глины, который я уже не мог просто так смять. Она сказала, что любит меня…
— Неужели вы ожидали чего-то другого? — удивился врач. — Вы столько лет были для нее идолом, другом, учителем — и не догадывались, чем это все может закончиться для такой впечатлительной девушки? Вы меня удивляете!
— Я уже говорил, что у меня была своя жизнь… Клянусь, я никогда не воспринимал ее как женщину!
— Но она действительно довольно красивая женщина… — задумчиво произнес доктор. — Даже сейчас. Представляю…
— «Представляю, какая она была в двадцать»? — с улыбкой продолжил его мысль Витольд. — Да. Именно тогда я пристальней присмотрелся к ней.
…Придирчивым мужским взглядом (от которого, откровенно говоря, в тот момент мне самому стало неловко) я рассматривал ее стройную, изящную, я бы сказал — продолговатую, как на полотнах Модильяни, фигуру, большие, какого-то неестественно голубого цвета глаза, четкие скулы. Кожа на лице была такой светлой, будто подсвеченной изнутри. Я наконец увидел, какая у нее хорошая фигура, стройные и упругие ноги, нежные руки с тонкими запястьями. Добавьте сюда длинные пшеничные волосы и горящие щеки — и портрет получится безупречным. Вот такая женщина стояла передо мной и говорила, что любит меня…
И знаете, что я почувствовал в тот момент? Я почувствовал… злорадство. Понял, что мои позиции по отношению к ней сохранены, что я был, есть и остаюсь для нее непререкаемым авторитетом и мой авторитет даже укрепился.
Врач всплеснул руками, встал, прошелся по кабинету из угла в угол, снова сел напротив посетителя, не переставая удивленно качать головой. Казалось, что у него просто не было слов, чтобы выразить недоумение, отчаяние, негодование и еще массу разных чувств, овладевших им.
— И это — все? — наконец выдохнул он.
Витольд неуверенно кивнул.
— А как могло быть иначе? — спросил он. — История приобретала банальный, даже пошлый оборот! А я никогда не был банальным! Оказывалось, что я, как последний мерзавец, воспитал ее для себя? Это — невозможно! Это — подлость, на которую я не способен. Она будто предала меня своим поступком. Как она могла? Что она себе возомнила?
Я так и сказал ей. Помню, она заплакала. Впервые я видел ее слезы, ведь она была довольно сдержанной девочкой — жизнь научила ее не плакать, не выказывать своих эмоций (собственно, этим она мне и нравилась раньше). Я поморщился: терпеть не мог, когда женщины начинали плакать при мне, особенно если причиной их слез был я сам.
— Значит, я была для тебя лишь грушей, которую колотят боксеры, чтобы не потерять форму? — наконец спросила она.
— Примерно так, — безжалостно ответил я.
Она качнулась, как от удара.
Затем прошло еще несколько жутких долгих минут. Наконец она сказала:
— Я больше не приду.
— Это почему же? — пытаясь взять себя в руки, сказал я. — Мы всегда были и остаемся друзьями!
Она посмотрела почти презрительно и направилась к выходу.
— Прощай, добрая фея! — услышал я уже с порога. — Ты выполнил свою работу на «отлично»!
И дверь со стуком захлопнулась.
* * *
Я стал много путешествовать. Даже лет пять работал за границей. Она сдержала свое обещание — мы больше не виделись. Прекрасно зная мое расписание, она изменила свое, и мы не сталкивались даже в лифте.
Вернувшись, я купил квартиру в центре города. Знал, что она уехала от родителей и неизвестно где жила. Безусловно, в эти годы я часто вспоминал ее и наш последний разговор. Гордился собой, тем, что смог удержаться. Хотя порой, когда путешествовал или решал что-то важное для себя, жалел, что ее нет рядом, что мне не с кем посоветоваться. Все чаще на меня накатывалось чувство опустошенности, одиночества, но я не связывал это с нашей разлукой.
Конечно, мне было интересно, кем она стала, как живет, где работает. Я был уверен, что такая яркая личность должна обязательно выплыть на поверхность. Но — где?
И я не ошибся.
Однажды, включив телевизор, я увидел ее на экране. Узнал не сразу и не сразу сообразил, о чем идет речь. Просто не мог поверить! Это было ее короткое интервью на… Каннском фестивале. Она стояла перед камерой в блестящем узком платье на тонких бретельках и о чем-то оживленно говорила (конечно же, на английском, ведь это был информационный канал ВВС). Я прислушался, все еще не веря собственным глазам. Она рассказывала о нашем городе, в котором теперь бывает нечасто, потому что приходится много разъезжать, о своей новой книге, по которой снят фильм, о планах на будущее… Глазок камеры скользил по ее фигуре, вместе с ним я жадно разглядывал ее босоножки на высоких каблуках, сделанные из тоненьких серебристых жгутиков, сумочку в виде жемчужины тоже на серебристой цепочке, декольте, почти полностью обнажающее грудь, браслеты на обоих запястьях, высокую прическу а-ля Одри Хепберн и бриллиантовые сережки. «Собираетесь ли вы вернуться на родину? И если да, то объясните зачем? — спросили ее. — Ведь у вас здесь огромный успех!»
Она на мгновение задумалась.
— Еще в юности один мой друг сказал: в нашей стране можно иметь признание в двух случаях: после смерти или после успеха за рубежом. — Она вздохнула и тут же улыбнулась слишком белозубой улыбкой: — Думаю, пора возвращаться…
Камера долго следила за тем, как она идет вдоль набережной, а голос за кадром сообщал о некоторых фактах ее биографии — приезд в Лос-Анджелес с мужем-американцем, всяческие мытарства, первые книги об «экзотической» родине, первые сценарии и первый фильм, Гонкуровская премия, развод…
На экране замелькали другие лица. А меня охватило сильное возбуждение, я даже захлопал в ладоши: браво! Браво, Хелен! Маленькая сопливая девчонка, легкая добыча для педофилов, дитя алкоголиков, взъерошенный гадкий утенок, гениальное подтверждение моей теории! Но я даже не представлял себе, что ты пойдешь так далеко. Браво, браво!
Я достал из шкафа коньяк и напился…
Собственно, я приближаюсь к развязке.
Она вернулась. И, как положено, сразу же попала в тиски «светской жизни». Помните, года два тому назад ее фотографии не сходили со страниц разношерстных изданий, у нее была передача на лучшем телевизионном канале, книга «Амулет Паскаля» получила очередную премию, по ее книгам сняли несколько довольно успешных фильмов. Кажется, ей даже предлагали баллотироваться в депутаты…
Я мог наблюдать за ней вблизи. Перед тем как рассказать о нашей встрече — много лет спустя после того последнего разговора, хочу кое-что пояснить…
Хотя все это выглядит довольно предсказуемо…
* * *
— Кажется, я догадываюсь… — сказал врач, воспользовавшись очередной длинной паузой. Но побоялся закончить фразу.
— Да, вы правы. Я влюбился. Теперь это казалось мне естественным — ведь я не видел ее десять лет, отвык, уже мог воспринимать ее по-новому, сторонним взглядом. Кроме того, женщина, которую я видел на экране, мало напоминала ту, которая спала под моим порогом. Она стала для меня интересной, неизведанной, новой.
Сначала я ужасно обрадовался этому чувству! Я устал быть один. Кроме того, я все чаще вспоминал наши разговоры, встречи и понимал, что единственная женщина, которая меня не раздражает и с которой я мог бы жить, — это она. Был уверен, что она — даже сейчас — считает так же.
Я довольно легко раздобыл ее адрес (нетрудно догадаться, что мы живем в одном — самом престижном — районе города). Приехал без предупреждения и без особого волнения. Немножко, правда, меня перетрусило, когда раздались шаги за дверью. А вообще — ничего, кроме радости, я не чувствовал. Знал, что она тоже обрадуется.
Она действительно обрадовалась. Сразу засуетилась, заказала в ресторане ужин, который принесли минут через тридцать.
Пока она переодевалась (открыла мне в домашней одежде — кажется, в джинсах), я сидел в просторной гостиной и переваривал свое впечатление от встречи. Да, это была совсем другая женщина. Изменился голос (стал чуточку глуше), глаза (в них стало больше грусти), движения обрели уверенность, а в улыбке чувствовалась какая-то неестественность, наигранность, как у актрис, привыкших быть на публике. Но она была красива, а главное, от нее так и веяло силой и энергией.
— Ну, вот и я, — сказала она, прерывая мои мысли. На ней было великолепное платье от модельера, которого я хорошо знал и у которого сам иногда одевался. «Моя школа!» — с удовольствием отметил про себя я. — Теперь будем говорить, все вспоминать, есть и пить! Хотя, собственно, о чем говорить — я же все о тебе знаю, а ты, наверное, все знаешь обо мне! От славы не сбежишь!
Я улыбнулся. Это было правдой.
— Тогда рассказывай то, о чем ты не говоришь в своих интервью, — предложил я.
— Ты имеешь в виду — о тебе? — засмеялась она.
— Давай обо мне! — махнул рукой я.
— Хорошо… — И ее глаза стали холодными, как у кошки. — Ну вот, например, можно начать так. Жил-был один мужчина. Он был молод, умен и красив. Он скучал, потому что ему не к чему было применить свой талант. Он так заскучал, что подобрал на улице котенка и от нечего делать начал воспитывать из него льва.
— Львицу… — подсказал я.
— Да, львицу, ведь котенок, как на грех, оказался женского пола. И это очень обидно… Дальше?
— Нет, хватит. А если обойтись без аллегорий?
— Без аллегорий неинтересно. Ты же не знаешь, чем все закончилось…
— Догадываюсь: котенок действительно стал львицей!
— Нет! — снова рассмеялась она. — Все гораздо интереснее: это был не котенок. Он ошибся! Это был тигренок, который заблудился в городе у помойки! Он учил его прыгать через горящее кольцо, сидеть на тумбе, делать стойку на задних лапах. Готовил для большой арены. А тот мечтал о прериях и джунглях.
— Какое неблагодарное создание! — пошутил я. Но мне стало не по себе. Она таки здорово изменилась.
— Хорошо, — сказала она серьезно, — давай без аллегорий. Зачем ты меня разыскал?
Мне было трудно произнести то, что я планировал сказать. Но я привык говорить прямо. Я предложил ей выйти за меня замуж.
— О господи! — всплеснула она руками, и в этом жесте было столько театральности, что я поморщился. Но она тут же сменила интонацию и заговорила серьезно и спокойно:
— Не смеши. Ты, помнится, никогда не любил быть банальным. А сейчас как раз складывается классический — и поэтому очень простой — сюжет. Собственно, в жизни, как и в литературе, существует не более пяти затасканных сюжетов. Можно позавидовать разве что Шекспиру — он был почти первым в их разработке. А этот напоминает мне «Евгения Онегина»: она любила его, он ее не любил. А когда он все же полюбил ее — она уже была женой генерала.
— Но ты не жена генерала.
— Да, мне некому хранить верность… — задумчиво сказала она. — Я слишком сильно тебя любила. А теперь все перегорело. У меня куча дел. Я больше не думаю о любви.
Ты можешь быть спокоен: я не курица. Ты боялся, что я буду квочкой, помнишь?
— Значит, у меня совсем нет шансов? — Я пытался быть веселым, шутливым, но, глядя на нее, любуясь ее силой, не мог не впасть в отчаяние.
— У нас есть все шансы быть друзьями! Это я тебе обещаю. Только теперь ты приходи ко мне.
* * *
Врач не мог удержаться от короткого смешка. И Витольд невесело рассмеялся вместе с ним:
— Да, история повторилась, только на этот раз — все было с точностью до наоборот. Более того, я смирился. В конце концов успокоился и действительно стал частым гостем в ее доме. Мы снова общались, как старые приятели. Только теперь у меня было гораздо больше нежности, внимания, какого-то трепета. Я знал, что порой она не успевает нормально поесть, и всегда приносил с собой что-то вкусненькое, не ресторанное, а то, что готовила моя домработница. Помогал ей делать покупки, чинить домашнюю технику, вместе мы встречали Новый год, Рождество, другие праздники, которые она не так уж часто проводила в одиночестве. Я был первым читателем и критиком всего, что она писала, и теперь относился к этому гораздо серьезнее. Чтобы рассмешить вас еще больше, скажу, что иногда она знакомила меня со своими приятелями, которые, подозреваю, были ее любовниками или просто такими же неудачниками, как я.
— Не грусти, — шептала она мне в таких случаях, — ты для меня — гораздо больше! Ты же знаешь, как это бывает…
Что я мог ответить? Все было ясно без слов.
Ну вот, я почти все вам рассказал. Остается последнее — то, почему она здесь…
…Год назад я пришел к ней и не застал дома. Приходил еще раз, и еще. Потом стал приходить утром и вечером ежедневно. Мне никто не открывал. Я испугался, представлял себе самое страшное: она лежит там без сознания или мертвая. Ломать дверь я не имел права, поэтому побежал в ЖЭК. Новость, которую мне сообщил начальник, была ошеломляющей: квартира продана, со всем, что в ней есть, а жилица куда-то переехала. Теперь ему каждый день надоедают разные люди, спрашивают, куда она могла деться.
Слава богу, что я, пожалуй, единственный из всех ее знакомых, знал ее родителей. Но от них пользы было мало: они знали номер ее телефона, и то только потому, что он сохранился в памяти автоответчика. Судя по цифрам, это была некая окраина. Все это ужасно удивляло и волновало меня. Я использовал свое служебное положение, и соответствующие органы добыли адрес, который вычислили по этому номеру.
Я поехал туда. Это действительно было бог знает где, в районе пятиэтажных «хрущевок».
Я долго кружил по грязными улицами, пока не отыскал нужный мне дом. Позвонил в дверь. Никто не открыл. Но я не собирался так просто развернуться и уйти. Предвидя такую ситуацию, прихватил с собой инструменты и минут через пять смог отпереть несложный замок.
Меня ждала удручающая картина: она лежала на полу посреди маленькой темной комнаты и, кажется, совсем не дышала. Странным было и то, что она изменила внешность — коротко подстриглась и выкрасилась в черный цвет, лицо стало таким худым, что узнать ее было довольно трудно.
Я отнес ее на кровать, растер руки и ноги, бросился на кухню в поисках чего-нибудь съестного и с ужасом обнаружил, что холодильник совершенно пустой. Перед тем как выскочить в ближайший магазин и аптеку, насильно влил сквозь стиснутые губы несколько ложек теплой воды. Вызвал «скорую»…
Через несколько часов она немного пришла в себя, и я предложил ей выпить бульон, который успел сварить, пока она спала после медицинских процедур.
Она была абсолютно отсутствующая и не отвечала ни на один мой вопрос.
Когда я подносил воду, зубы ее стучали о край стакана.
— Зачем, зачем ты это со мной сделал? — вдруг сказала она.
— Что именно, солнышко? — спросил я, понимая, что она не в себе. — Успокойся, девочка, все будет хорошо.
Она прижалась к моей груди, вцепилась в воротник.
— Это не могло быть моей жизнью! — шептала она. — Я устала. Я больше не могу… Я — бездарь, я — ноль, я — ничто! Мне больше нечего сказать. Я — курица! Курица!
— Ты ошибаешься. У тебя есть все условия, чтобы жить дальше. Зачем же все рушить?
Она посмотрела на меня взглядом, от которого мне стало грустно и страшно.
— Запомни, — сказала глухим голосом, — все УСЛОВИЯ, которые выставляют извне, не пригодны для жизни! Я ненавижу условия!
— Чего же ты хочешь? — пытался понять я.
— Я хочу… на необитаемый остров. Ты можешь устроить это для меня? Нет? Тогда пошел вон! Вон! Вон! — закричала она.
— Ты действительно устала. — Я пытался успокоить ее, гладил по стриженой голове, как ребенка. — Это обычный кризис. Так бывает. Позволь мне забрать тебя отсюда! Что ты надумала, зачем тебе эта убогая халупа?! Ты сильная и умная. Ты не курица, ты моя львица, мой любимый котеночек…
Но она будто не слышала меня.
— Вечная Радость за малое испытание на Земле.
Это были последние слова, которые я слышал от нее. Потом она уснула.
То, что она сказала, было последней строкой из «Мемориала» Блеза Паскаля.
* * *
— Это все, — закончил свой рассказ Витольд. — Остальное вы знаете.
Был уже второй час ночи. Но оба собеседника не заметили, как пролетело время. Они даже не включили свет — так и сидели, окутанные уютной темнотой. Только через щель внизу двери проникал в кабинет тонкий и острый меч света из больничного коридора.
— Я уже понял, что вы человек неординарных действий, — сказал врач, — но почему вы решили устроить ее именно сюда? Почему просто не положили на обследование в лучшую, возможно, зарубежную клинику? Каких результатов вы ждете?
Витольд пожал плечами:
— Понимаете… У нее всегда был какой-то непостижимый для меня интерес ко всякого рода отклонениям от нормы. Мы много об этом говорили. А когда она так сильно изменилась, я подумал, что ей нужны новые впечатления. Такие, каких у нее еще не было. Но выбрать что-то казалось мне невозможным — она не была разве что на Луне. К тому же я догадался, о чем она думает, ведь знал ее довольно хорошо. Ей казалось, что она все эти годы жила не своей жизнью. В том была толика правды, ведь если бы мы не встретились… Как знать… Порой этот вопрос смущал меня тоже. Тогда я и подумал о больнице. Здесь она могла бы начать все с нуля, попробовать себя в новом качестве и наконец понять, где настоящая жизнь: перед камерой на Каннском фестивале или в убогих стенах приюта для больных… Я надеялся, что она придет в себя.
Но окончательный замысел был более сложным: я думал, что необычная работа и общение с людьми, чья психика нарушена и которые всегда интересовали ее, выведут ее из творческого кризиса, дадут новые темы и она снова начнет писать.
— А вам не кажется, что это — ваш очередной эксперимент? — вдруг спросил врач, и Витольд дернулся, как от удара.
— О господи, — тихо сказал он, — неужели я обречен на такие поступки по отношению к ней? Что будет, если она об этом узнает?
Вид у него впервые стал несчастный, беспомощный.
— Не узнает. Вас здесь видела разве что моя секретарша, — успокоил его врач. — Сейчас вы уйдете отсюда, а в случае необходимости мы можем встретиться в другом месте. Хорошо?
— Хорошо, — послушно сказал Витольд и вопросительно посмотрел в темноту на силуэт своего собеседника. — Но ведь вы не сделали никаких заключений. После того, что вы услышали, мне хотелось бы знать…
— Мне нужно поразмыслить, — задумчиво сказал доктор. — Теперь я не уверен, что речь идет об аутическом состоянии. И вообще не уверен, что речь идет о болезни. А еще я думаю, что вы преувеличиваете вашу роль в ее жизни. Она бы всего добилась сама. Поверьте: кесарю — кесарево.

«С тех пор как я начала видеть внутреннюю сущность вещей, все внешнее вызывало у меня только грусть или смех. Я даже не знала, какому из этих двух состояний отдать предпочтение. Особенно эта сущность обнажалась на крупных мероприятиях, на которых я провела первую (считаю ее бессмысленной) часть жизни.
Во время таких мероприятий — презентаций, фуршетов, party, приемов, фестивалей и т. п. — я выходила из себя, и мне приходило в голову, что толпа — это быдло, биомасса. Потная, краснорожая, бесстыжая, не способная взглянуть на себя со стороны. Если бы вдруг все присутствующие подчинились игре под названием „Замри!“, то, пожалуй, ужаснулись бы.
Перезревшая тетка с нездоровым румянцем и пушистым боа на шее, толстый парень с выпученными во время танца глазами, девушка с задранной юбочкой, богатенький старичок, хватающий ее за ягодицы, дама-вамп, раскуривающая сигаретку, вставив ее в претенциозно длинный мундштук, и выпивающая очередную порцию коктейля „Манхэттен“ (Господи, это же — я!)… Любая уличная сука имеет более выразительный взгляд, бегая в поисках хлеба насущного!
Быдло ржет, быдло вожделенно наблюдает стриптиз, быдло играет в дурацкие застольные игры, отгадывает пошлые загадки и получает призы от другого, более состоятельного быдла. И все это веселье ради… ради того, чтобы какое-то существо мужского или женского пола приобрело стиральную машину, холодильник, автомобиль, мебель или купило за 900 баксов билет на попсовый концерт в первый ряд.
Как вырваться из этого круга, как разорвать его? А точнее — как не быть быдлом? Самый простой способ: почувствовать под собой землю, за собой нацию или хотя бы сообщество единомышленников, а над собой — Бога… Но этот миг прозрения наступает для веселого сообщества потребителей в последнюю минуту существования на Земле. Часто при виде всей этой карусели мне хотелось, чтобы этот миг настал сейчас же. Чтобы все, кто веселится, задирает ноги и вертит бедрами, вдруг оказались на плоской серой равнине, в длинной непонятной очереди, на нездешнем ветру, который задирал бы их белые тоги… Чтобы они удивленно замерли, разглядывая друг друга, а потом — каждый себя самого. Возможно, тогда, после первого мига удивления и осознания чего-то непостижимого и величественного, их лица приобрели бы то выражение, которым наделила их природа. Хотя, боюсь, процесс перевоплощения — необратим. Обезьяне уже никогда не стать человеком, даже если она наденет пиджак и галстук.
Новая формация, с которой я успела соприкоснуться, формация так называемых „деловых людей“, — инопланетяне. Ориентируясь на своих европейских сородичей, они постепенно превращаются в роботов. Они не пьют, не курят, посещают фитнес-клубы, курсы иностранных языков, у них заученные, запрограммированные движения и выражения лиц на все случаи жизни и за столом они обычно сыплют банальностями. Они, эта новейшая формация, обречены контролировать себя — всегда и везде. Программа их жизни работает в режиме „middle“: рычаг или кнопка, зафиксированная между „on“ и „of“, как в телефоне.
Такие люди вызывают у меня настороженность. Они не знают, что такое жить по полной программе. Она изъята из их персонального компьютера. А тех, кто пытается остаться собой, они считают в лучшем случае „белыми воронами“, в худшем — просто сумасшедшими…»
Хелена наконец оторвалась от созерцания дождя за окном и тряхнула головой, отгоняя эти мысли. «Я стала злой, — подумала она, — а это плохо, неправильно…»
Она собрала в сумку свои вещи — диктофон, тетрадь, ручку, очки, плеер — и посмотрела на часы. Ого! Она простояла у окна два часа. Следующая маршрутка будет часа через полтора. За дверью кабинета было слишком тихо. Значит, на этажах остались только дежурные медсестры, которые уже, наверное, уснули на узких койках в ординаторских.
Хелена выглянула в коридор. Он был темный, как туннель. Лишь где-то далеко, в конце, светилась настольная лампа на столике, где должна сидеть дежурная. Но ее не было. Хелена никогда не ходила по этому коридору, всегда проскальзывала в свои двери, как мышка, и сидела тихо, не выходя даже в обеденный перерыв в больничный буфет. Днем по коридору всегда бродили то пациенты, то санитары. Теперь здесь было тихо и пусто. Хелена осторожно сделала несколько шагов, словно входила в неизвестную воду. Тихо и пусто… Ночь поднималась за мутным стеклом больничных окон, будто черная вода, на поверхности которой медленно покачивались золотые осколки разбитой луны. Их мерцающие блики рисовали на стенах странный немой синематограф — беззвучную битву теней. Было слышно лишь дыхание. Хелена прижала руку к груди и поняла, что это дыхание принадлежит ей.
Потом где-то в конце коридора тихонько скрипнула дверь. Странно. Ведь на ночь палаты закрывались. Хелена вжалась в стену, вглядываясь в темноту. Она заметила, что самая дальняя дверь отворилась. Сначала появилась женская нога в тапочке, будто человек так же, как и она минуту назад, на ощупь пробует прохладную воду ночи. Женщина медленно пробиралась сквозь узкую щель приоткрытой двери, не раскрывая ее полностью. Хелена догадалась: она делает так потому, что знает — дверь скрипит.
Наконец женщина выпрямилась, сделала шаг в сторону стены и замерла почти в такой же позе, как и Хелена, притаившаяся в другом конце длинного коридора. Женщина не видела ее. Хелена узнала ту, которую про себя назвала Сомнамбулой, — женщину, застрявшую на грани сна и пробуждения в песках собственного сознания. Итак, это была женская палата. Та самая, откуда были все ее собеседницы.
Постояв с минуту неподвижно, Сомнамбула двинулась вперед. Хелена еще больше вжалась в стену. Что будет, если женщина заметит ее? Поднимет шум? Испугается и начнет кричать?
Она не успела решить, что предпринять, как из двери снова робко выплыла чья-то тень. Длинные волосы в лунном свете светились тусклой медью. Хелена узнала Жанну, девушку из приюта мыльных пузырей!
Хелена уже не думала о ночной маршрутке, просто ждала, что будет дальше. Обе тени неподвижно замерли у стены, свет очерчивал их контуры. На третий раз дверь все же заскрипела — в нее протискивалась полненькая сказочница-стюардесса Тувеянсон. Она суетливо поправила прическу (волосы ее были аккуратно собраны в загогулистую высокую «ракушку») и присоединилась к этим двум. Так постепенно из дверей палаты вышли все ее обитательницы. Двух последних Хелена окрестила для себя так: Русалочка (та, что любит стоять под душем) и Галеристка (женщина, пострадавшая от картин).
Галеристка, вышедшая последней, осторожно прикрыла дверь палаты. Хелена с интересом ожидала, что они будут делать в темном коридоре, пять выстроившихся у стены теней казались ей фантомами. Наконец женщины, отделившись от стены, двинулись вперед. Это было фантасмагорическое зрелище!
Они медленно шли друг за другом, след в след, их длинные серые халаты напоминали древнеримские тоги, а замедленные движения делали похожими на спящих в ночном море рыб. Куда они плывут?
Хелена с тревогой посмотрела на уголок дежурной медсестры. Несмотря на здравый смысл, ей не хотелось, чтобы та вдруг вернулась и нарушила это видение, подняв шум и вызывая санитаров.
Странная процессия остановилась у двери другой палаты в нескольких метрах от того места, где притаилась Хелена.
Сомнамбула протянула руку и согнутым пальцем чуть слышно простучала по дереву три-четыре такта. Нетрудно было догадаться, что это был условный сигнал! Из-за двери послышался легкий скрежет металла по металлу, и она приоткрылась ровно настолько, чтобы в нее могла протиснуться самая дородная из женщин. Все это явно происходило не в первый раз!
Пять теней быстро проскользнули внутрь комнаты.
Черная вода ночи, уже затопившая коридор до краев, снова стала незыблемой. Хелена оторвалась от стены и направилась к той двери. Она была уверена, что знает, кто именно обитает за нею!
К счастью, дверь осталась чуть приоткрытой. Щель была размером в два-три пальца. Хелена снова прижалась к стене, пытаясь превратиться в ухо. В огромное ухо. Собственно, то УХО, которым она и была в последнее время…
* * *
То, что произошло дальше, показалось Хелене сном…
— Приветствую вас, уважаемые. Садитесь… Устраивайтесь поудобнее.
Хелена узнала голос того, кого назвала Технологом. Из-за двери послышался характерный шорох.
— Итак, сегодня мы поделимся последними впечатлениями. Собственно, я еще не вполне уверен, но, думаю, мы на правильном пути.
— В чем, позвольте спросить, вы не уверены? — слышит Хелена голос Жанны. — Помню, вы так же сомневались в отношении меня.
— Было дело, — подтверждает Технолог, — но вы вернулись оттуда. А она продолжает жить там. И, похоже, ей это нравится.
— Не согласен. Категорически не согласен!
У Хелены колотится сердце, ведь это голос ее последнего собеседника — того, кто привиделся ей в пустой комнате и которого она назвала «Веронезе».
— Она — наша, — говорит Веронезе. — Она — наша, хотя и боится признаться в этом даже себе.
— Не забывайте, что мы должны быть осторожными, — предупреждает Технолог. — Любое вмешательство внешних сил может все испортить. Как считают остальные присутствующие?
Зависает пауза.
— Я согласна. Она — наша, — голос принадлежит Сомнамбуле.
— Наша… — эхом отзывается Русалочка.
— Не знаю. (Этого мужчину Хелена назвала Наследником).
— Не знаю… — голос Галеристки.
— Наша! — бархатный баритон Олигарха.
— Она такая милая! — подхватывает Тувеянсон.
— Я не знаю. — Это произносит Странник. — Слишком мало времени, чтобы определить…
— Итак, — продолжает Технолог, — шесть против двух, двое — воздержались.
Кто-то аплодирует. Хелена уверена, что это — Тувеянсон.
— Но как знать наверняка, что пробуждение состоялось? — спрашивает Сомнамбула.
Технолог прокашливается, настраиваясь на долгую речь.
— Обращение, — говорит он, — прошу заметить: обращение! С психологической точки зрения, пробуждение души — это и есть обращение. Мы все знаем, что это такое, но не каждый из нас может выразить то, что он или она чувствовали во время этих метаморфоз. Итак, пробуждение души на первой стадии характеризуется утратой душевного равновесия. Со временем происходит переход сознания с низкого уровня на более высокий и, как награда за все душевные муки, — трансцендирование.
— Вы говорите, как безумный! — прерывает его Веронезе. — Вредная привычка — прикидываться.
— Я говорю то, что знаю, — строго произносит Технолог, — но если вы хотите попроще, могу объяснить. Это, кстати, касается вас всех — не зря же мы сейчас вместе. Итак, человек, а точнее, его личность, рождается и вращается в кругу узкого собственного мира. На протяжении всей жизни мы существуем в нем и руководствуемся несколькими инстинктами — теми, что унаследовали от своих предков. Их названия вы знаете — есть, пить, защищаться, продолжать род… Инстинкт есть инстинкт. Большинство из нас живет так, будто является центром вселенной. Это — счастливчики, они живут, как трава. Но есть другие. Те, кто в результате какого-то события выходит за рамки индивидуального сознания и присоединяется к всемирному разуму. Из маленького узкого круга они внезапно попадают в бескрайний мир бытия. И эта бескрайность поглощает их скудное индивидуальное существование! Практически незаметно для себя человек проскальзывает из старой вселенной в новую. Такое случилось с каждым из нас. Теперь вы понимаете, почему мы вместе? Нас не так уж много, и мы должны беречь друг друга. И… и жалеть тех, кто…
— Кто живет, как трава… — подсказывает Тувеянсон.
— Да, — подхватывает Веронезе, — это то же самое, что стоять рядом с огромным полотном работы Микеланджело или Леонардо, и видеть только цветные пятна и борозды от волосков кисти, и не знать, что представляет собой вся картина.
— Да. Есть, спать и продолжать род — этого не достаточно, чтобы иметь право называться человеком. Видеть мир в целом — вот главный результат обращения.
— И вы считаете, что она может быть с нами? — подает голос Галеристка. Хелена представляет себе ее утонченный аристократический профиль и немного отстраненный взгляд иронически прищуренных глаз.
— Конечно, да, — говорит Технолог, — у нее сильная воля, отличная интуиция и насыщенная эмоциональная жизнь. Это — три условия для человека, способного ощутить обращение. В конце концов… в конце концов, мы все говорили с ней. Ни один не отказался. И, прошу заметить, она не задавала глупых вопросов!
— В конце концов… — эхом подхватывает Олигарх, — признайтесь откровенно: мы все — ее поклонники.
— Это правда, — отзывается Галеристка.
— Да, — говорит Странник.
— Согласен, — тихо произносит Наследник.
— Итак, — заключает Технолог, — десять из десяти! Она — наша.
Слышно, как кто-то (конечно же — Тувеянсон!) хлопает в ладоши.
— Но нужно, чтобы она об этом узнала! — говорит Русалочка.
— Она уже знает, — говорит Технолог. — Она придет к нам сама… Она заберет нас отсюда…
* * *
Хелена отстраняется от стены, она настолько срослась с ней за эти полчаса или час, что ей кажется, будто она едва отлипает от нее, сопротивляясь, барахтаясь под давлением влажной ночной темноты. Она подносит к глазам руку с часами — половина двенадцатого. Минут через десять-пятнадцать по трассе мимо больницы проедет последняя маршрутка. Значит, нужно идти. Обдумывать все это — позже.
Она тихо направляется к лестнице. На сегодня с нее хватит, решает она. Но теперь она уверена, что рядом существует жизнь. Даже здесь. Хотя почему «даже»? Именно здесь, где рушатся надежды.
Спустившись на первый этаж, она будит санитара, и тот, недовольно сопя и зевая, долго звенит ключами, отпирая дверь.
Хелена быстро идет по темной сиреневой аллее. Голова ее раскалывается, ноги дрожат. Она едва успевает добежать до полупустой маршрутки, и водитель настороженно поглядывает на нее в зеркало, висящее над его головой, — кто его знает, что за люди садятся на этой остановке…
Дома она перерывает книги — просто вытряхивает их на пол из ящиков, которые так и не удосужилась разобрать за целый год. Их так много! Наконец она находит первое издание своего «Амулета Паскаля», написанного по-английски — без сокращений и пояснений, которые были внесены потом при переводе по настоятельным советам издателя и редактора. У нее никогда не было времени и привычки перечитывать написанное, а тем более — изданное и вытесненное новыми сюжетами. Но она все помнит и поэтому, почти с отвращением пролистав страницы с диалогами и сюжетной коллизией, наталкивается на «проходные абзацы» — те, что были написаны «для себя»:
«…В кругу герцога Роанеза, во время очередного светского приема, кавалер де Мере познакомился с удивительным человеком, который показался ему „человеком преклонного возраста“ — известным математиком Блезом Паскалем. Для аристократа Мере тот был лишь чудаком, без хороших манер, слишком замкнутым и застенчивым. Позднее, благодаря записям самого де Мере, современники решили, что дерзкий кавалер перевоспитал Паскаля. Вот выдержки из этих записей: „Этот господин был сильным математиком, который, надо заметить, не знал ничего, кроме этой науки, не имеющей для мира никакого значения. Этот человек, у которого не было никакого вкуса и такта, постоянно вмешивался в разговоры, всегда удивлял и заставлял смеяться над ним. Но впоследствии он становился все менее уверенным в себе, начал только слушать и задавать вопросы и все, что слышал, записывал в свой блокнот, который постоянно носил с собой. После наших совместных путешествий этот человек перестал думать о математике…“ В это время Блез Паскаль сделал запись в своем записной книжке: „Надо держать свои мысли под замком. Буду осторожным во время подобных путешествий!“
Снисходительно похлопать гения по плечу — вот единственная отрада „сильных мира сего“. Они аплодируют — гений стыдливо и благодарно улыбается. Они мягко намекают ему на то, что нынче в моде фламандское кружево, а не дешевые плетеные изделия, приобретенные на углу своего дома, — гений краснеет.
Ему мягко говорят, что все, чем он занимается, все, на что положена жизни, — ерунда. О, он может кивнуть в ответ. Но это будет механический жест. Дань вежливости. Страх вызвать дополнительные разговоры. Гений ждет обращения, как кавалер де Мере — свою очередную любовницу…»
Вот оно, это слово! Хелена напрягается, чтобы вспомнить… А что вспоминать — она все знала сама. Она перелистывает еще несколько страниц:
«В один из праздничных дней Блез ехал в повозке, запряженной четверкой лошадей. Лошади понесли, и повозка оказалась на краю моста, не огражденного парапетом. В одно мгновение вся четверка оказалась в воде, а повозка каким-то чудом застряла на самом краю обрыва. После этого случая Паскаль начал страдать бессонницей, во время которой его посещали видения. Свидетельство аббата Буало: „Этот великий ум всегда представлял, что видит по левую от себя сторону бездну. Он всегда ставил с левой стороны стул, чтобы успокоить себя. Друзья и духовные наставники убеждали его, что нечего бояться, что видения — лишь порождение его больного воображения. Он соглашался, а спустя четверть часа снова видел слева пропасть, которая затягивала его…“ Ученого объявили сумасшедшим. Его сторонники и завистники долго спорили по этому поводу. Но ему было все равно.
В ночь с понедельника на 23 ноября 1654 года от „десяти с половиной часов до полуночи с половиной“ произошло то, что перевернуло всю его насыщенную и недолгую жизнь: встреча с Реальностью, самая загадочная мистическая встреча, получившая название обращение, или озарение. Под воздействием постоянной бессонницы и длительной внутренней борьбы Блез Паскаль пережил состояние, близкое экстатическому приступу, во время которого вся красота и сущность мира открылись перед ним. В этот момент он не молился — как истинный приверженец точных наук, он делал отрывочные записи на небольшом клочке пергамента:
„Год 1654. Понедельник, 23 ноября, День Святого Климента, папы и мученика. Накануне Дня Св. Хрисогона мученика. С 10.30 вечера до 12.30 ночи. Огонь. Бог Авраама, Исаака и Иакова, а не философов и ученых. Веруй, веруй, почувствуй Радость и Мир. Бога Иисуса Христа. Мой Бог и твой. Ваш Бог будет моим Богом — забудьте обо всем в мире, кроме Бога. Лишь Евангелие приведёт к Нему. Величие человеческой души. Праведный Отче, мир не знает Тебя, но я знаю. Слёзы радости. Я не с ними. Меня, источник воды живой, оставили. Боже, Боже мой, почему ты меня оставил? Позволь мне быть с Тобою на веки. Ибо Он жизнь вечная, истинный Бог наш, Иисус Христос. Иисус Христос. Иисус Христос. Я бежал и отверг Его, распятого. Могу ли я жить без Тебя? Он открывается через Евангелие. Отвергаю себя. Отдаюсь в руки Христовы. Вечная Радость за малое испытание на Земле. Не дай мне забыть сие. Аминь“.
Этот клочок пергамента нашел слуга Блеза Паскаля спустя несколько (по одной из версий — восемь) лет после смерти ученого и философа. Клочок был зашит в полу его камзола… Один из исследователей жизни ученого месье Бремен доказывает, что именно в эту ночь произошло обращение Блеза Паскаля и оно положило конец долговременным душевным мукам. Вселенная предстала перед ним как единая трансцендентная реальность. Жуткие галлюциногенные видения сменились видениями Света, Жизни и Любви…»
* * *
…Она так и уснула на полу, положив голову на груду книг, в неудобной позе. Уснула сразу, будто проглотив снотворное. Только в голове промелькнул короткий вопрос: «Неужели?» — И сразу невидимая завеса надвинулась на уставший мозг.
Это был не сон… Хелена почувствовала, как ее тело стало плоским, будто вырезанным из бумаги. Руки и ноги чуть разведены, как у картонных кукол, которых печатают в журналах для девочек вместе с рисунками одежек. На самом деле, поняла во сне Хелена, это поза полета, поза приближения. Только дети в своих снах способны парить в воздухе, как птицы, — играть, переворачиваться, взмахивать руками. Только ведьмы в сказках или фильмах летают на метлах или в ступах, выделывая в воздухе невероятные пируэты. Тот, кто хочет оторваться от земли — левитировать, — выбирает позу приближения. Спокойную и отстраненную, как на иконах, изображающих Вознесение.
Хелена видит себя посреди темной и незнакомой комнаты перед большим зеркалом. Внутри него, где, казалось бы, должна отразиться ее фигура, темная пустота, похожая на длинный тоннель в горном гроте. Однако два ее отражения — повернутые в профиль, стоят вдоль амальгамы. В левом верхнем углу в темных грозовых облаках вырисовывается вершина горы, на которой что-то мерцает неровным рыжеватым светом. Сохраняя позу приближения, Хелена отрывается от пола. Испытывает мощный зов зеркала, которое медленно начинает втягивать ее в себя. Она не в силах сопротивляться. Страх и любопытство охватывают ее. Неужели она сможет войти в амальгаму? Что там, за ней? Кто ждет на вершине? Хелена всматривается пристальнее и видит на этой горе силуэт обнаженной рыжеволосой женщины. А мерцающий свет излучают ее длинные распущенные волосы. Она узнает себя и с удивлением смотрит на тех двух, стоящих неподвижно, как стражи. Кто из них — настоящая она? Чтобы проверить, Хелена додумывается сделать определенные движения: подносит руку к своим волосам и начинает прочесывать их растопыренной пятерней. Волосы клоками вылезают из-под ее пальцев, устилают пол… Женщина на горе́ улыбается и подносит тонкий белый палец к своим губам. Зеркало продолжает втягивать Хелену, она уже совсем близко от его поверхности, она понимает, что через миг окажется там, откуда уже никогда не вернется… Хелена стонет во сне и не может проснуться. В конце черного тоннеля возникает новое видение: вокруг свечи сидят десять теней. Когда они одновременно поворачивают лица на ее стон, Хелена узнает их. Страх проходит. Зеркало останавливает ее приближение. Хелена плачет. Это они, те, для кого она писала свои книги! Их десять. Десять безумных людей, которые почувствовали обращение, десять единомышленников, которых она не распознала сразу, их глаза излучают любовь, свет и жизнь. Они сидят в дружеском кругу в конце черного тоннеля — за их спинами вырисовывается море, золотисто-голубой горизонт, сочная зелень экзотических деревьев, терракотовый берег.
Зеркало тускнеет, словно экран телевизора… Хелена просыпается.
* * *
Суббота, выходной день. Что-то меняется. Почти незаметно и неощутимо, но Хелена просыпается с улыбкой. Пьет кофе и смотрит в окно. Люди идут на базар и с базара. Они несут в корзинах ягоды, фрукты, овощи — малину, землянику, помидоры, огурцы… В этом рабочем квартале все женщины — полные, все мужчины — в одинаковых клетчатых рубашках и спортивных штанах. Все они знают друг друга, здороваются, останавливаются поболтать. Пока женщины ходят по базару, мужчины собираются у киосков, покупают водку в белых пластиковых стаканах, становятся плотным кольцом, прячась за спины друзей от придирчивых глаз жен, и уже с утра приходят в свое обычное состояние. Состояния травы…
Слышно, как за стеной, в соседней квартире разгорается обычная для выходного дня ссора. Хелена знает: если соседи начинают кричать — это надолго. Заводит высокий женский голос. Хелену всегда удивляет, о чем можно кричать часами, в чем проблема, требующая такого безумного крика — на одной ноте, непрерывно. Женщина ругает дочь. Наконец вступает дочь. Она кричит еще громче, но повторяет единственную фразу — ее хорошо слышно: «Хватит! Достали!» Повторяет раз десять, после чего настает черед мужчины. Потом они кричат все разом. Это такая субботняя разминка перед тем, как глава семейства начнет сверлить стены…
Теперь Хелене совершенно невдомек, зачем она здесь? Могла бы она жить так, как эти люди за стеной? Она решает сходить на базар, пока улягутся страсти. Сначала она ходит между рядами бездумно, но со временем общая суматоха поглощает ее. Удивительно — ей впервые хочется… готовить еду. И дело не в том, станет ли она ее есть, смысл в том, чтобы вспомнить, как это делается. Начинается все с того, что она видит на базаре горы сладкого болгарского перца. Перец огромный, светло-зеленый, толстокожий и замечательно пахнет. Хелена берет два килограмма. Она не знает, сколько ей нужно, — просто не может отказаться от того, что накладывает на весы продавщица. Еще — этот! И тот — с красным брюшком! Она вспоминает, что с ним нужно делать! Она покупает фарш, лук, рис. Она не знает, будет ли есть то, что приготовит. Но это не имеет никакого значения. Главное — начать действовать, что-то делать.
Перед тем как начать готовить, она убирает квартиру. Страсти за стеной уже улеглись. Даже слышен смех. Значит, выходной начался хорошо.
Хелена выкладывает перец на стол, моет его, срезает шляпки, вытряхивает белые семена. Начиняет зеленые ларчики смесью из мяса, вареного риса и поджаренного лука, закрывает ларчики шляпками, плотно укладывает их в кастрюлю, заливает водой, смешанной с томатом и специями, ставит на плиту…
Она делает все так, будто занималась эти изо дня в день. Кастрюля огромная, она даже не помнит, откуда у нее появилась такая. Она пересчитывает перцы — их двадцать четыре. Можно собрать пресс-конференцию, улыбается Хелена.
* * *
…С этого момента для нее история начинает раскручиваться с самого начала. С того дня, когда маленькая девчушка в слишком коротеньком платьице сидела на школьном дворе и вырывала своими маленькими ручонками колючие сорняки. Она вырывала и думала о том…
Сделаем остановку, чтобы объяснить ход ее мыслей. Остановка достаточно проста: у книги, прочитанной девочкой недавно. Это были «Алые паруса». Итак, девочка старалась думать о том, что этот сорняк — колючий и выгоревший — зацветет в ее руках, что он, как любое другое растение, имеет право на существование, раз уж он есть в природе. Не только цветы и овощи заслуживают внимания. Она расчищала заросли с таким видом, будто под ними должно было быть нечто очень важное — золотой ключик, волшебная палочка, записка с ее именем… Перед тем как сорвать новый стебелек, она мысленно произносила примерно следующее: «Я знаю, что тебе больно. Прости. Но ты оставишь здесь свои семена — и твои детки снова прорастут, поверь мне».
Потом она начала думать о том, что нужно бросить все и убежать, ничего никому не объясняя. Но тогда «летняя практика» не будет засчитана. И она не исправит свою «двойку» по поведению.
Она не заметила тень, нависшую над ней.
Потом услышала то, о чем ничего не знала. Она много чего видела, наблюдая за взрослыми, но никогда, никогда не представляла себе, что все грубое и неприличное можно так просто произнести, да еще и по отношению к ней. Ей стало страшно. Ощущение было такое, будто ее затягивает в гнилое и вонючее болото. Чтобы не задохнуться, она побежала…
Не знала и даже не могла догадываться, что мчится навстречу своей настоящей судьбе, а та, другая — убогая и более простая, смотрит ей вслед с кривой усмешкой, а потом обращает свой взор на кого-то нового — того, кто не убежит. Ведь она ленивая и руки у нее короткие…
Как дитя, выросшее на улице, девочка почти сразу пришла в себя. Сначала напряглась, а потом успокоилась и приняла правила игры. Сквозь неплотно сжатые веки разглядывала прохладную уютную комнату незнакомца, со всех сторон почти до потолка уставленную полками с книгами. Столько книг она видела впервые, и это море ярких, разнообразных обложек вызвало у нее огромное отчаяние: неужели кто-то (кто-то — а не она!) смог прочитать столько? Именно это чувство, которое называлось «кто-то — а не она!», уже тогда было маленькой движущей силой, которая заставляла ее действовать. В школе и во дворе, среди ровесников такого «кого-то» не было. Этот взрослый незнакомец — она это чувствовала — беспокоился за нее. И она хотела, чтобы эта тревога и забота о ней длились как можно дольше. Поэтому она продолжала лежать с закрытыми глазами и с удовольствием ощущала его волнение.
О, он еще не знал, какая она хитрющая! Когда они поговорили, девочка твердо решила, что должна стать достойной его внимания. Он говорил с ней, как со взрослой. Поэтому она должна была прочитать книгу, которую взяла у него. Прочла ее трижды, и текст, сложный и сначала совсем непонятный, запечатлелся в памяти надолго. Книга была довольно странной, но то, что в ней речь шла о любви, она поняла сразу. Наверное, потому, что порой и ее маленькое сердце разрывалось от любви. Это была любовь непредметная, она не имела лица и телесной оболочки. Она существовала внутри нее, как дар. До сих пор она не могла найти название этому дару.
Позже она убедилась: любовь — дар. Его получают от рождения вместе с другими чувствами, такими как слух или зрение. Порой этот дар превращается в тяжелый камень, крест, в воздушный шарик. Но от него уже не избавиться: он не твой собственный выбор. Так случилось при рождении. Любовь все время трепетала над ее головой, как шуршащие крылья ангелов. И если безумный художник или просто — сумасшедший способен отрубить себе руку, выколоть глаз или отсечь ухо, — то от этого дара можно освободиться, только остановив собственное сердце…
Она приходила к нему каждый день, садилась на подоконник и слушала, слушала. Иногда он говорил с ней на английском, иногда — на французском. Пока она не научилась понимать его, просто наслаждалась голосом, похожим на… растопленный черный шоколад. До этого она ела только «молочный» — светло-коричневый и сладкий, а настоящий, черный, казался ей горьким. Но это был настоящий шоколад, без примесей. И она подсознательно потянулась ко всему настоящему — пусть и горькому…
…Между десятью и тридцатью годами нет пропасти. Пропасть она ощутила, когда ей исполнилось пятнадцать.
Его Тридцать Пять выстроили эту пропасть весьма старательно, хотя она была тщательно закамуфлирована под ровную лесную тропинку. Девушка же в свои пятнадцать способна чувствовать себя гораздо старше, возраста для нее не существует. Она руководствуется инстинктом, близким к материнскому. К тому же эти Тридцать Пять совсем отбили у нее вкус к общению с ровесниками. Ровесники — это запах изо рта, влажные ладони, перхоть и полный рот слюны при поцелуе, нетерпение и грубость, не имеющие ничего общего с запахом хороших духов и шоколадным баритоном, рассказывающим об исчезнувшей культуре племени майя. Это племя — его. Она даже называет его странным именем Вит Тольд и считает, что именно так звали вождя этого исчезнувшего племени.
В ней просыпается желание кокетничать и соблазнять. Просто — соблазнять, без дальнейших последствий, которых она пока боится. Прежде всего, боится напугать его своей взрослостью. Поэтому идут в ход только мелкие уловки: жесты, движения, которые приобретают все большую женственность, коротенькие юбочки, собственноручно окаймленные прошвой, тоненькие ремешки босоножек на высокой деревянной платформе, звонкие браслеты на запястьях, огромные яркие серьги из пластмассы, за которыми выстояна сумасшедшая очередь в ближайшей «галантерейке».
Но все это — не действует. У вождя племени майя — свои наложницы, которых она ненавидит. Они — как протухшие рыбьи туши с большими красными ртами. Ее тошнит от его слепоты. Рыбы раскрывают свои хищные рты, громко смеются (над ней?), от них пахнет крепкими духами, они пожирают ЕЕ время. Утешает лишь то, что она знает наверняка: с ними он никогда не будет говорить об исчезнувшей культуре древних цивилизаций.
Значит, надо еще подождать. И она ждет. Но это ожидание унизительно для нее! Поэтому порой она позволяет слюнявить себя созревшим соплякам. И все ради того, чтобы потом рассказать ему. Напрасно! Он унижает ее еще больше, гонит от себя, и она должна смириться с таким положением вещей, снова превращается в послушную ученицу. Она понимает, что ему нужно УХО, что больше всего он любит самого себя — свой нерастраченный интеллект. Остальное он уже растратил. На этих дурацких напыщенных рыб! Она должна быть послушной ученицей. Она мягкая, как воск, и если ему нужно играть с кусочком расплавленного воска, пусть играет.
На самом деле у нее есть старательно охраняемый секрет: она не воск! У нее нежная, почти прозрачная кожа, гладенькая, как шелк, но под ней — стальной каркас. Для нее не существует полутонов — только «да» или «нет». Дар, который она носит в себе, может существовать только в таких условиях. Она еще не знает, как это плохо для жизни!
…Двадцать и сорок — это уже серьезно! Между двадцатью женскими годами и сорока мужскими уже вырисовывается знак равенства — две взаимодействующие черточки с противоположными стрелками на концах. Она рисует этот знак, она лелеет его. Этот знак — мост через пропасть, которой уже почти не существует. Да и она изменилась! У нее — гладко зачесанные волосы, простое и элегантное платье, изящные серьги-капельки. От нее хорошо пахнет. Почти так же, как от его развратных пассий-рыб. Но она уже уверена, что намного лучше их! Она сильная и умная, у нее уже есть собственный (а не книжный!) опыт. И этот опыт нашептывает, что они, как пишут в романах, «созданы друг для друга». Это так же очевидно, как и две параллельные черточки в знаке уравнения в математической аксиоме. Это очевидно — для нее. Он остается слепым. Он ничего не замечает.
Его карьера идет в гору. Времена меняются, и он наконец становится нужным — причем всем и везде. У него неограниченный выбор, и в этот список отнюдь не входит его старательная ученица. Они встречаются все реже. «Теперь — сама!» — говорит он, будто не понимает, что она всегда — сама. Она — одна-одинешенька стоит посреди пустыни и смотрит в сторону маленькой точки, движущейся за горизонт. Точка — это он. Она была нужна ему лишь для опытов. Теперь он — сильный и крепкий, идет вперед, не оглядываясь. А она стоит и смотрит ему вслед… А потом разворачивается и идет в обратном направлении. Она — сильная и крепкая. Она выдержит…
* * *
…Вот такая получилась пресс-конференция, маленькие перчики! На этот раз я рассказала вам чистую правду. Хелена улыбается.
— Они больше никогда не встретились?
— Как сложились их судьбы?
— Всегда мелодрама должна иметь хеппи-энд?
— Какое влияние оказывают на творчество детские травмы?
— Не кажется ли вам, что эта история довольно банальна?
— Если бы вам пришлось дописать ее, как бы она закончилась?
Заинтригованные слушатели хотят знать все — их не устраивает незавершенность.
Что ж, придется пропустить десять, даже больше — пятнадцать — лет и продолжить так…
…На медленных волнах времени и жары качался брюшком кверху полуживой август. Лето — мертвый сезон.
Она только что вернулась с кинофестиваля, развезла подарки близким и друзьям. Прочитала очередной список дел на сентябрь. Опять намечалась какая-то поездка — в шум, суету, на ярмарку тщеславия. Никто не мог разорвать этот круг. Никто.
Но вот однажды вечером раздался этот звонок в дверь.
«Привет, малышка…» Вождь племени майя, пожилой плейбой с джентльменским набором: цветы, шампанское, торт. Запах от Кензо, очки от Дольче энд Габана, костюм от Гапчука… Благородная седина на висках, шоколадный голос: «Привет, малышка!» Наигранность, за которой кроется страх потерпеть поражение. Предложение руки и сердца.
— Банальность!
— Мыло!
— Сериал для обывателей!
Да-да, успокойтесь, уважаемые коллеги! Конечно, «мыло»! Жизнь — вообще мыло. Сначала душистое, «Земляничное», а потом — жалкий обмылок чаяний, утраченных возможностей, надежд, сил, ума, здравого смысла, памяти. Потом остается только пена, мыльные пузыри…
Хелене впервые захотелось посмотреть на себя в зеркало. Раньше, в той квартире, откуда она сбежала, у нее было много зеркал. Но это было в другой жизни, в жизни, которая смылилась до пены. Здесь не было ни одного! Она открыла окно и посмотрелась в стекло. То, что увидела, поразило не меньше, чем само стекло — такое грязное, как в заведении общественного пользования. Как она могла так опуститься? В мутном стекле она видела коротко стриженную брюнетку с отросшими светлыми корнями, запавшими глазами, заостренными скулами. «Не удивляйся, это — ты! — ехидно улыбаясь, говорила брюнетка. — Королева светских раутов, „девушка с обложки“, модная писательница, телезвезда, лауреат престижных премий, кумир молодежи, автор сорока романов и десяти кинолент, путешественница, роковая блондинка, добыча для репортеров, скандалистка, призрак, пыль, вода, пепел, тлен… Ты сломалась! Ты думала, что этого никогда не произойдет. Собственно, почему? Кто дал тебе право на такую самонадеянность? Ты считала себя сильной. Но силы рано или поздно заканчиваются. Теперь ты — пародия на саму себя. Люди часто превращаются в такую пародию… И вид у тебя, как у наркоманки или алкоголички! Собственно, в этом нет ничего удивительного. Ты закончилась. Как мыло».
Хелена изо всех сил бьет кулаком в самое сердце стеклянного призрака и с радостью чувствует боль.
«Это уже по-нашему! — говорит ей кусочек отражения на остром стеклянном треугольнике. — Опомнись! Жизнь — прекрасна. У тебя есть все, о чем только можно мечтать: ты — настоящая. Даже в своих дурацких сомнениях. И то, что ты так ненавидишь себя, говорит о том, что ты еще способна двигаться вперед. Почему ты остановилась? Останавливаться на полпути — это удел слабых, кроме того, это банальная психологическая ловушка. Мало кто выдерживает напряжение, когда достигает своей мечты. Кто-то — останавливается и поворачивает назад, кто-то считает, что схватил Бога за бороду, и деградирует, не замечая этого, кто-то просто спивается, кто-то превращается в шута… Не суетись. Просто живи своей жизнью и не примеряй чужую. Понимаешь, каждый должен прожить СВОЮ жизнь. Неправильно, когда женщина жертвует собой ради семьи — мужа, детей. Хотя в традиционном понимании это считается „великим женским подвигом“. Поступая так, она не только грешит тем, что пренебрегает своей дорогой, своим призванием и своей, пусть и крошечной, миссией на земле — она подсознательно, под маской этой жертвенности разрушает жизнь тех, в ком растворяется. Это все равно, что бросить кусочек сахара в спирт или рассол. Сахаром можно улучшить только определенный напиток. И то — в разумных дозах.
Каждый на этой земле испивает свою чашу. И никто из посторонних не знает — не может знать! — что в нее налил Господь.
Тысячи и миллионы людей никогда не задумываются о своем предназначении. Разве может быть предназначением должность, статус или амбиции? Является ли миссией, скажем, телевизионных боссов оболванивать людей идиотскими сериалами? И при этом с гордостью говорить о рейтингах? Это — рейтинги человеческой глупости, которую они умножают. Это не предназначение, а преступление сродни преступлению наркомана со стажем, подсаживающего на иглу новичков. Чем сложнее человек, тем путанее и непонятнее становится для него его предназначения. Самые понятные миссии — выращивать хлеб, рожать детей. Остальные требуют огромного напряжения ума…»
— Зачем мне это напряжение? — вслух произносит Хелена. — Я хотела совсем другого — готовить обеды, устраивать детские праздники, вязать мужу носки, подбирать занавески под цвет обоев, ходить на работу и возвращаться с корзинами продуктов, покупать елку зимой и консервировать огурцы — осенью… Я хотела жить, как все…
«Врешь! Бессовестно врешь, девочка! От рождения ты — планета, которая не нуждается во вмешательстве извне. На этой планете есть глубокие синие реки, дремучие леса, неведомые природе звери, диковинные бабочки, прерии, горы, пропасти. И если на эту планету придет бригада строителей и начнет корчевать твои сады, уничтожать твою экологию, у тебя будет лишь один путь: сдохнуть под своими вымершими деревьями!»
— Но я там — совсем одна…
«Опять врешь. Ведь еще вчера ты убедилась, что у тебя есть, по крайней мере, десять очень надежных сторонников. Они живут на этой планете вместе с тобой. Возможно, их гораздо больше, чем ты видела и представляешь себе. Но сколько именно — уже неважно. Важно иметь этих десятерых…»
— Где-то я уже такое слышала… — бормочет Хелена.
Из ее порезанной руки течет красный ручеек. Кровь.
Теплая и настоящая. Как все, что она так любила раньше…
* * *
«Для того чтобы иметь успех, не нужны миллионы, достаточно иметь десятерых, но верных сторонников…»
Как она могла забыть? Так говорил один старый и усталый писатель-эмигрант, кумир ее юности, которого она встретила в кафе «Closerie des Lilas» на Монмартре.
Тогда она была в Париже впервые. Утром почетный эскорт — издатель и менеджер таскали ее по книжным магазинам, где она презентовала свою книгу, днем она дала несколько интервью, а потом, на минутку заскочив в гостиницу, чтобы переодеться, помчалась в Латинский квартал на рю дель Ансьен-Комеди в ресторан «Le Procope», где в ее честь была устроена вечеринка. И вместо вечернего города, сияющего за окном, ей пришлось рассматривать портреты знаменитых посетителей этого старинного заведения XVII века — Робеспьера, Линкольна, Вольтера, Дантона, Марата, Дидро и Бомарше… Ужин среди великих покойников, смотревших на нее со стен, и оживленные деловые разговоры, которые ей приходилось поддерживать, мучали ее мозг жестоким диссонансом. И первый день прошел под знаком головной боли и отчаяния. Но утро следующего дня принадлежало ей.
Было начало осени — время, когда Париж освобождается от нашествия туристов. Утром она вышла из гостиницы и отправилась бродить по улицам, о которых мечтала с детства. У парижской осени был запах кофе и круассанов. Она спустилась в метро и без проблем добралась до станции Abesses, потом пересела на фуникулер. Париж сам вел ее, куда нужно. Ее не удивляло то, что она не оглядывается, не расспрашивает, не разворачивает карту, как это делают туристы, — мысленно она прожила здесь большую часть жизни, и теперь работала память ног, которые несли ее в нужном направлении. От базилики Сакре-Кер она зашагала по Монмартру. Отсюда город имел уютный вид, не казался суетным или похожим на тот гигантский муравейник, о котором ее предупреждали на родине.
…На набережной Жемапп прямо на парапете сидит группа девочек-студенток в вылинявших футболках. Они сбежали с занятий бизнес-школы, пьют пиво из банок и весело переговариваются, золотые блики воды мерцают в их растрепанных волосах. Рыбаки забросили удочки в мутную воду Сены и, как все рыбаки мира, с надеждой уставились на поплавки; под платанами на скамейках дремлют пенсионеры; кое-где на газонах лениво разлеглись чернокожие потомки «детей цветов», они покуривают сигареты и наблюдают за тем, как от Арсенальской гавани отчаливают катера и яхты. Такое же затишье в Люксембургском саду, Пале-Рояле и Тюильри. Небо медовое и синее, в воздухе висит золотистая паутина, сотканная из солнечных лучей, легкий ветерок гоняет по тротуару первые опавшие листья. Время аперитива, так как для коньяка еще не достаточно прохладно, а для пива — не так уж жарко…
Вчера собеседники сказали, что осенью «под асфальтом Парижа кроется пляжный песок» и все темпы замедляются. Особенно это ощущалось здесь, на Монмартре, где, блуждая по многочисленным улочкам, она заметила вывеску «Le Rotonde». Современный роскошный ресторан…
Она подумала, что еще один день в компании покойников она не выдержит, и поэтому, побродив еще немного, наконец нашла уютное место — «Closerie des Lilas» («Сиреневый хутор») — кафе, в котором Хемингуэй писал «Фиесту».
Она заказала кофе. Она старалась, чтобы ее вид не выдавал восторженную неофитку. Но, как это с ней случалось не раз — не только здесь, но и в самых неподходящих для этого местах, — мощная волна фантазий и слов накрыла ее. Слова роились в воздухе, образуя вокруг такое плотное пространство, что, казалось, она могла хватать их из воздуха прямо руками, как фокусник, который вытаскивает кролика из пустой шляпы. Так было всегда и везде, но в воздухе Парижа это казалось еще более естественным. Она достала блокнот, не задумываясь о том, как выглядит в глазах немногих посетителей этого довольно дорогого заведения.
— После Хемингуэя ехать сюда, чтобы сидеть в кафе и писать, — нельзя, а после Генри Миллера — невозможно. Кажется, так говорил издатель в фильме Полански «Горькая луна»…
Она подняла глаза. И не удивилась. Перед ее столиком стоял тот, чьими книгами она зачитывалась, — известный писатель, давно живший в Париже, эмигрировав сюда из страны посткоммунистического пространства. Она знала, что вот уже десять лет, как он прячется от журналистов и отказывается от общения со своими коллегами. Она, конечно же, видела его впервые. Но в последнее время события жизни вели ее по тому пути, на котором подобные совпадения уже не казались чем-то фантастическим или нереальным. И поэтому она лишь с интересом отметила, что выглядит он гораздо старше и печальнее, чем на обложках собственных книг.
— Я видел ваше фото во вчерашней «Le Figaro», — продолжал он, — и был приятно удивлен. Оказывается, железный занавес поднят и для литературы таких стран, как ваша. Разрешите?
Перед тем как воспользоваться ее приглашающим жестом, он протянул руку и назвал себя.
— Я вас знаю, — ответила она. Ей хотелось добавить, что он долгое время был ее кумиром. Но она сдержалась.
— Значит, вы — очередная жертва сублимаций, — улыбнулся он. — Для писательницы вы слишком хороши. О чем же сейчас пишут в вашей стране, чтобы покорить эти просторы?
Он был ироничен и суров.
— Я не ставила перед собой такой цели, — ответила она. — Я знаю: двери в литературу давно закрыты. Последним в них вошли разве что вы. И… — она задумалась, — и Фаулз…
«Фаулз» прозвучало из ее уст как «Фауст», и они неожиданно оба рассмеялись, понимая друг друга.
— А покорить нынешнюю публику не так уж и сложно, — продолжала она. — На пятой странице должно быть совокупление с собакой, на десятой — изнасилование сыном собственной матери. Это увлекает. Вообще, множить зло гораздо легче и проще, чем прорастить хотя бы один росток надежды, формула любви сложнее формулы ЛСД, а механизм чувств эфемернее механизма совокупления. Однако второе подвластно и ученическому перу…
Он смотрел на нее так, как энтомолог смотрит на только что пойманный экземпляр бабочки.
— Я еще раз убеждаюсь, что наша беда — имею в виду славян — в том, что мы слишком серьезно и трагически воспринимаем мир, ставим превыше всего стилистику, а слово «Слово» пишем с большой буквы, — наконец произнес он. — Над нами довлеют воспоминания, и «пепел предков» до сих пор «стучит в наше сердце». Даю руку на отсечение: ваша книга о геноциде! Кажется, эта тема очень популярна и в моей, и в вашей стране.
Она засмеялась: «Давайте руку!», и в шутку схватила его за запястье:
— Это — лучшее, что я вывезу из Парижа!
— Дайте шанс еще на одну попытку! — попросил он. — Подростковый секс в школьной уборной… Учительница насилует любимого ученика.
Она молчала.
— Тогда — не представляю, чем вы собираетесь покорять миллионы! Ведь, судя по вашему многозначительному молчанию, на меньшее вы не согласны?
— А ничем! Просто я делаю то, что мне нравится! Вы же сами говорили, что графомания приобретает размеры массовой эпидемии, — улыбнулась она.
— Как самокритично! Вы следите за тем, что и где я говорю? — удивился он. — И что же я еще сказал?
Она напряглась, как школьница на экзамене:
— То, что вы считаете симптоматичным, что во Франции — стране, где ничего не происходит, — процентное число писателей в двадцать один раз больше, чем в Израиле. Потому что навязчивая тяга к написанию книг появляется при трех условиях. Когда уровень общего благосостояния достаточно высок для того, чтобы люди начали заниматься бесполезной деятельностью. Когда общество находится в состоянии разобщенности, в результате которой каждый чувствует свою изолированность. И последнее — когда не существует заметных общественных изменений во внутреннем развитии нации!
— Все точно. К какой же категории вы относите себя?
— Несмотря на эти глобальные наблюдения, есть куча других личных субъективных причин. Например, бегство от одиночества, желание, чтобы тебя все любили, жажда славы, денег, признания, страх смерти… Возможно, мне больше всего подходит последнее. Меня всегда ужасало, что жизнь коротка. Я хотела продлить ее. Книга дает мне надежду на существование, пусть и мифическое, после смерти.
— В начале пути я думал так же… Это — рассуждение молодости, — сказал он и добавил после долгой паузы: — А теперь мне все равно…
…Вот так все и происходит. И это вовсе не сон. Происходит там, в городе ее мечты, где на одной из нецентральных, но не таких уж и невзрачных «рю» в большой книжной лавке на витрине за стеклом, будто близнецы, стоят сорок восемь «Амулетов Паскаля». Тогда ее еще не душил стыд. Наоборот…
Она слушает его голос. И решается отвечать. Они курят. Он достает трубку, она — длинную дамскую сигарету. Они пьют коньяк.
Она не боится сказать то, что думает.
Она говорит, что после прочтения новой книги одной австрийской писательницы (когда она называет имя, он иронично улыбается, и она продолжает) родина Моцарта показалась ей… унитазом в студенческой «общаге», в которой испорчен сливной бачок и все нечистоты плавают на поверхности в желтой мути.
Он смеется. Она радуется, что смогла погасить печаль в его глазах. Он смеется и говорит:
— Вы же сами сказали, что дверь закрыта… Пожалуй, так оно и есть.
Она рискует продолжить.
Она говорит, что как в средневековье, когда в городах Европы выплескивали помои в окно, крикнув трижды:
«Берегись!» — так сейчас на головы потребителей печатной продукции модные европейские писатели, пользуясь своим преимуществом перед странами, которым меньше повезло, выплескивают свои комплексы и болезненные фантазии. А представители других самобытных (и, заметьте, не худших!) культур с радостью перенимают образцы безвкусицы, а главное — интерпретируют под свое общество — самое худшее и брутальное. Но этого никто не замечает. Ведь в этих странах генетически уничтожена интеллигенция, и взяться ей неоткуда. Апологеты этой «унитазной» литературы с восторгом ревностного ученичества пытаются переплюнуть учителей в описании мочеиспускания, совокуплений, слюноотделения, ковыряния в носу, геморроя, удаления половых органов, варки «ширки», расчленения животных, поедания фекалий. А критики с милыми чертами лиц и авторитетными именами увлеченно препарируют эти «нетленки» и раздают места в рейтингах тем, у кого физиологические извращения выглядят «прикольнее».
Задумавшись на минуту, она продолжила:
— Для меня не будут иметь ценности произведения, которые пишутся «о себе», — кроме, конечно, явно автобиографических. Даже если эти произведения в глазах общества имеют определенный вес. Описывать себя и свое окружение — не признак литературного мастерства. Это скорее публицистика, граничащая с духовным стриптизом. Сбросить одежду перед толпой проще, чем выстроить для этой толпы новую, еще неизведанную реальность…
…Они сидят в «Сиреневом хуторе» почти до вечера. Старый усталый человек рассказывает ей кучу интересных историй, а потом говорит:
— Для того чтобы тебя понимали, не обязательно иметь тысячи сторонников или бродить по миру, рекламируя свои произведения. Продвижение на рынке не всегда соответствует таланту. Это может быть счастливым стечением обстоятельств, довольно случайным, или же силой натиска менеджерских служб. Надо иметь хотя бы десять, но преданных людей. Они могут не знать друг друга, даже жить в разных странах, быть злодеями и ангелами, быть бедными и богатыми — это не имеет никакого значения. Главное, что среди них должен быть:
один Власть Предержащий, который будет служить тебе «крышей» и не даст погибнуть голодной смертью, пока ты не набрался сил;
один Мудрец, который расскажет о тебе другим;
один Экзальтированный поклонник, который априори верит каждому твоему движению;
один Скептик, который знает не меньше тебя;
один Близкий по духу;
один Странник, который ищет того же, что и ты;
один Преступник, которого ты перевоспитал;
один Мечтатель, который слышит то, чего не слышат другие;
один Лунатик, который строит собственную реальность;
один Художник, который знает даже то, кем ты был в позапрошлой жизни…
Эти десять сильнее тысячи, ибо они — твоя паства, твое серебряное войско, твоя сила. Ты можешь врать тысячам, но им — никогда! Они видят тебя насквозь потому, что сами чувствуют так же, как ты.
Через минуту он продолжает:
— Чтобы достичь своей цели, есть одно важное условие: перестать бояться самого себя. Раз и навсегда принять себя как индивидуума и не поддаваться общему психозу. Нужно иметь силы идти против течения. А чтобы иметь эти силы — нужно перестать бояться собственных мыслей, не совпадающих с мыслями остальных. Иметь смелость встать и сказать. Иногда это довольно трудно. Неуверенность сдерживает это побуждение: встать. Волнение сдавливает гортань: сказать. Но сделав это, ты неожиданно увидишь — тебя слушают. И не просто слушают! С тобой соглашаются, ведь они думали так же, только не решались идти против течения. И страх уходит. Страх уходит на удивление быстро, когда ты преодолеваешь его. Хотя… Хотя потом он возвращается снова — когда почувствуешь, что за тобой — те десять. Но ты станешь называть его иначе — ответственностью. Настанет время, когда ты захочешь сбросить ее со своих плеч. Но будет поздно. Они уже будут идти за тобой и дышать тебе в затылок… У тебя еще есть время подумать над этим и остановиться.
* * *
Это было давно. Тогда, когда она еще могла остановиться. Когда ни ее город, ни страна, ни мир еще не были для нее слишком тесными, а стыд за все происходящее вокруг еще не отравил организм. Теперь она видела картину в целом — отступив настолько далеко, что даже ее второе «я», которое существовало отдельно, на этой картине выглядело мизерной точкой. Раньше ей казалось, что так же, как и она, такую полную картину должны видеть и другие. И только хорошее воспитание, вежливость и необходимость соблюдать правила игры удерживают их от возмущения. Но чем дальше отходила она от полотна, тем четче представала перед ней фальшивость едва ли не всего, что существовало, двигалось, прыгало, хихикало, шевелилось, пробивалось, рвалось, гребло под себя, ерзало повсюду. Мир мелькал, как на экране телевизора. Она с отчаянием водила глазами по этому Брейгелевскому холсту, пытаясь отыскать на нем хоть какую-то неподвижную и настоящую деталь. Но спокойное величие было только у гор на заднем плане. Кто, размышляла Хелена, дал ей право отходить так далеко? Она чувствовала, что должна быть там, внутри, в толпе. Возможно, тогда она могла бы чувствовать себя счастливой. Наблюдатель и участник не могли ужиться под одной оболочкой. Наблюдатель спасался возведением «воздушных замков», участник — боялся одиночества, жаждал любви, смеха, слез, боли, живых прикосновений — того же самого движения, которое вызывало отвращение. Но последний не мог видеть картины в целом…
Это была борьба противоречий, которая всегда мучила ее. Но сначала ей нравилось наблюдать эту борьбу, становиться на сторону то одной, то другой половинки своего естества. Эта игра продолжалась до тех пор, пока ей не захотелось остановиться, а все слова, которые она писала или произносила, приобрели неестественный металлический привкус.
И тогда она начала думать об огромном одиночестве, которое время от времени испытывает каждый человек, даже если живет в окружении близких ему людей. Каждый стремится быть услышанным, каждый имеет свою собственную, никем не выслушанную историю. Было время, когда ей казалось, что она способна высказаться за всех, кто обречен на молчание, но очередь желающих говорить росла с каждым годом. И она оказалась бессильной, прекрасно понимая, что когда человек выражает себя так, как хочет, а не так, как от него требует окружение, воспитание, свод правил, — только тогда он становится настоящим.
В самом начале — она чувствовала это каждой клеточкой — у нее был этот дар, второй важнейший после дара любить. Чувствовала это на уровне подсознания — когда сидела на столе в кабинете своего соседа и болтала ногами, когда набрасывалась на пирожные, которые он покупал для нее, и всем лицом окуналась во взбитые сливки. Чувствовала позже, когда начала спорить, отчаянно защищая все то, что в ней было и что он пытался переделать. И тогда, когда ночевала под его дверью и когда ему первому и впервые сказала то, что потом (хотя случаев представлялось немало) не смогла сказать никому. Даже тогда, когда он ушел своей дорогой, оставив ее одну посреди пустыни жизни, она чувствовала эту подлинность с особенно болезненной остротой. А уже потом, барахтаясь посреди песка, она превратила этот дар в слова. В поток слов, в реки, которые неожиданно полились из нее и, на удивление, нашли отклик. Впоследствии отклик превратился в неразборчивое шипение экрана испорченного телевизора. И она уже не могла расслышать, является ли этот шум шумом восторга или это только эхо тысяч возмущенных голосов. Но теперь они не имели для нее никакого значения!
…Она все еще стояла перед разбитым стеклом, чувствуя боль в руке. В треугольном осколке отражался один ее глаз и кусочек виска. Она была похожа на профиль птицы. Ей не впервой разбивать себя вдребезги! Хелена обернула руку первым, что попало ей на глаза — кухонным полотенцем, — и улыбнулась. Вновь испытывать боль было приятно. Она поняла, чего хотят от нее те десять человек — говорить ее устами. Это единственное, что она может им предложить. Разве это так уж мало?
…В дверь позвонили. Все еще улыбаясь, она вышла в прихожую. В нерешительности замерла перед дверью. Казалось, что за ней стояла сама жизнь.
Это был он. Но сейчас у него был слишком простой вид — в джинсах и свитере, а волосы — чуть посеребренные — взъерошенные, как у мальчика.
— Я все бросил, — скороговоркой произнес он. — Я купил остров. Маленький остров в Средиземном море. Я давно планировал это — для тебя. Там ты будешь одна, только позволь быть где-то поблизости. Если ты согласна, я сегодня же куплю два билета…
— Двенадцать, — сказала она, и улыбка, которой он давно не видел на ее лице, осветила его и мгновенно наполнила теплом, будто рядом зажглись сотни ярких лампочек. — Билетов должно быть двенадцать.
