Книга: Хазары
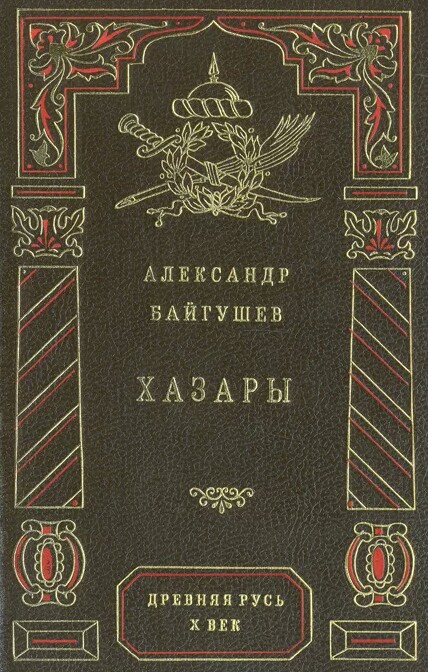
Александр Иннокентьевич Байгушев (Прохоров)
ХАЗАРЫ
СОДЕРЖАНИЕ
Книга первая. «Каббалисты»
День первый «Гер Фанхас в Испании»
День второй. «Лось-старший на Алтае»
День третий. «Серах — чёрное пламя»
День четвёртый. «Принц Волчонок»
День пятый. «Легенда о Ляле — Весне священной»
День шестой. «Серах — колдунья»
День седьмой. «Памфамир — всего лишённый»
День восьмой. «Вениамин — сын десницы»
День девятый. «Епископ Хазаропрозопос»
День десятый. «Арс Тархан — начальник стражи»
День одиннадцатый. «Гер Фанхас у блудницы»
День двенадцатый. «Иша Иосиф — управитель Богатством Кагана»
День тринадцатый. «Полководец Мерген Добун»
Книга вторая. «Стрела Иудея»
День четырнадцатый. «Принц Волчонок поёт любовную песню»
День пятнадцатый. «Легенда о Золотоволосой»
День шестнадцатый. «Лосёнок в степи»
День семнадцатый. «Лосёнок против волков»
День восемнадцатый. «Вениамин — воин»
День девятнадцатый. «Воислава — жемчужина Итиля»
День двадцатый. «Гер Фанхас опять у блудницы»
День двадцать первый. «Волчонок оскорбляет богов»
День двадцать второй. «Арс Тархан — убийца»
День двадцать третий. «Бек Алп Эр Тонг — двойник»
День двадцать четвёртый. «Волчонок на жертвенном столе»
Книга третья. «Жертва»
День двадцать пятый. «Иосиф на царском престоле»
День двадцать шестой. «Рус Буд на кресте»
День двадцать седьмой. «Воислава варит любовный напиток»
День двадцать восьмой. «Серах на пороге Соломонова храма»
День двадцать девятый. «Легенда об обращении хазар в иудейство»
День тридцатый. «Последняя жертва Воиславы»
День тридцать первый. «Мерген Добун вступает на “Зелёный мост”»
Книга четвёртая. «Искупление»
День тридцать второй. «Запах тления»
День тридцать третий. «Страшная месть епископа Памфалона»
День тридцать четвёртый. «Запоздалое раскаяние гера Фанхаса»
День тридцать пятый. «Главнокомандующий Песах — несчастный павлин»
День тридцать шестой. «Святые муки Вениамина»
День тридцать седьмой. «Прозрение Арс Тархана»
День тридцать восьмой. «Прощальный подвиг Волчонка»
День тридцать девятый. «Пожар в Соломоновом храме»
День сороковой. «Мерген Добун над гробами»
День первый «Гер Фанхас в Испании»
«Они считают жизнь нашу забавою и житие прибыльною торговлею, ибо говорят, что должно же откуда-либо извлекать прибыль, хотя бы и из зла».
Книга премудрости Царя Соломона (15, 12)
Канун Барс-ил — года Барса у восточноевропейских и сибирских кочевых народов.
354 год хиджры — по исчислению от святой перекачевки пророка Мухаммада
965 год от рождества Христова — по нашему календарю
Тайный мастер общины «детей вдовы» Хасдай думал о скорбной доле разбросанных по всему миру таких же, как он, сирот. Сколько уж было каббалических пророчеств о том, что «кончаются сроки». Но ждали, надеялись, и снова обманывал срок.
День был вполне подходящим для тяжких дум: ненастный, ветреный. Над Кордовой — столицей недавно образованного самостоятельного Зелёного Халифата, отколовшегося от исконного багдадского Чёрного Халифата, — с утра висели свинцовые тучи. Даже для весны необычные тучи здесь, на самом западном краю Европы, в солнечной Испании.
Хасдай сморщил лицо и выглянул в окно — по тесной дворцовой площади от него уходил придворный поэт Менахем бен Сарук. Вместо зонта поэт держал над головой плащ цвета мёда, плащ яростно рвал у поэта из рук колючий ветер. Дождь клубился водяным месивом. А откуда-то с реки, со стороны Средиземного моря ещё и ещё наползали злые тучи.
Поэт был длинен и тощ, как кол, а торчавшие всклокоченные волосы делали его ещё длиннее. Этот кол норовило переломить ненастьем. Оставленная солнцем вдова-природа сама била своё дитя.
Внезапно, однако, поэта, будто лавиной, снесло с площади. Хасдай схватился за сердце. Площадь заполнилась Русами. Хасдай понимал, что надо бежать. Русы только недавно, неожиданно налетев на многих лодиях» пограбили город. Но ноги Хасдая прилипли к полу. Тогда, чтобы хоть что-то взять, чем-то занять себя, чтобы оттянуть время, Хасдай протянул руку за медным зеркалом. Пусть врываются к нему, пусть убивают, а он в последний раз посмотрит на себя.
Ему есть с чем предстать богу. Жаль, конечно, что об этом не успел написать знаменитый поэт Менахем бен Сарук. Ведь они только что так понимающе поговорили. Конечно, бен Сарук слишком затуманивает свои поэмы сложными намёками и каббалическими символами, но знатоки древнего языка сохранились даже в самых далёких общинах, и они любят, проявляя свою учёность, разгадывать поэтические намёки. Особенно именующие себя детьми вдовы-природы…
Ах, как надеялся Хасдай вскоре прочитать про самого себя в стихах Менахема! И вроде бы это понял поэт. Но сейчас Русы убьют его — кордовского везира Абу Юсуфа Хасдая ибн Шафрута. Со служителями власти Русы никогда не церемонились. Хотя, может быть, от такой смерти будет для него, Хасдая, своя польза. Теперь знаменитый бен Сарук, оплакивая Хасдая, сможет эффективнее прославить его в своих стихах. Вот так! Самое плохое часто бывает даже к лучшему, если смотреть на свою жизнь по Каббале.
Отнявшиеся от Страха ноги по-прежнему не подчинялись Хасдаю, но руки зашевелились, и он гордо поправил поддельные длинные виски, которые щедро высовывалась из-под его чёрной шапочки (Хасдай был давно уже совершенно лыс).
Он был готов умереть за громкую посмертную славу. Он вспомнил, как только что перед ним, сухоньким стариком страшно маленького роста, буквально распластывался, стараясь подобострастно взглянуть в глаза, прогремевший на всю Испанию и по общинам рассеяния поэт. И самодовольно (а самодовольство даже в страхе не покинуло его) улыбнулся.
Хасдай сам понимает, что заглядывать ему в глаза есть за что. Сайарифа1 Абу Юсуф Хасдай ибн Шафрут, став одновременно везиром кордовского правителя Абд ар-Рахмана, четыре года назад добился невозможного — именно под защитой его денег Абд ар-Рахман объявил себя самостоятельным зелёным Халифом. Теперь здесь, в Испании, на самом краю Средиземноморья, и уже не в Азии, а в Европе, вторая мусульманская столица.
Кордовские рахданиты — купцы, ведущие заморскую торговлю, надулись от спеси, видя в возвышении торговой Кордовы начало торжества золота над миром. Но они не поняли главной победы. Отныне разбита единая чаша ислама. Повержена сама изначальная идея, определившая его восхождение, — совмещение в одном лице главы огромного государства и единственного полномочного представителя самого бога на земле. Ислам сейчас ведёт изнурительную священную религиозную войну с христианской Византией. Ислам уже почти свалил своего предшественника, тоже претендовавшего на титул мировой религии. Но, расколовшись, ислам отныне и сам обречён. Поле битвы с гниющими костями достанется Третьему. Но кому?
Был грех. Они только что всласть наобольщались тут с поэтом.
— А тебе не кажется, Менахем, что то, что именно на субботу пал канун нового 354 года хиджры, есть знак всем нам, «детям вдовы»?
Поэт испуганно вздрогнул:
— Ты намекаешь, Мастер, что теперь истинно «кончаются сроки» и пора субботу сделать праздником для всех? Тайне Ремесла перестать таиться за спинами других, сбросить покровы и открыто взять власть?
Хасдай будто небрежно опустил голову, спрятал блестевшие глаза:
— Нет, я просто говорю, не пора ли нам щедрее поделиться с другими народами нашей верой? Не написал бы на святом языке поэму о таким «эвфемизмом» внутри?..
Он делал страшное предложение. Гнусная ересь иудеев-караимов, предлагающих уравнять в почитания Моисея, Христа и Мухаммада (мол, они — всего лишь три пророка, пришедшие от одного общего для всех людей бога), покажется многим единоверцам — это предвидел Хасдай — детской забавой развольничавшихся иудейских ремесленников-ткачей по сравнению со святотатским предложением поделиться о другими своим богом. Столько столетий окружали своего бога мистической тайной! Обрекали себя на гонение, на презрение, открыли алхимию Ремесла и познали, как растить золото из золота, а теперь — поделиться?
Хасдай понимал, что, даже если этот путь предложит знаменитый поэт, его не примут спесивые. Они тут же тупо забудут о всех собственных унижениях и о том, что у Неизречённого господа давно уже нет собственного государства. Храма-то своего у иудеев и то нет, ибо давно утеряны где-то в пещерах Кавказа (куда бежали священники после разрушения собственного государства) скиния и святой ковчег; да и ставить храм негде… Нет своей земли… Однако, что доводы против спеси?! Особо для тех из спесивцев, кто уже записал себя в «детей вдовы»?! Ох, эта спесь горя!
Скорее всего, бен Сарука убили бы за поэму на предложенную Хасдаем тему. Но что делать? Кто-то должен так написать.
Поэт долго молчал в ответ, не решался ослушаться совета Мастера. Но и изъявлять раболепное согласие не поторопился. Потом как-то с трудом выдавил из себя:
— Ты, Мастер, говоришь, что мы без храма. Но ходят святые слухи, что временный Третий храм уже возведён. Говорят, на востоке Европы, за Кавказом еретики-караимы уже начали делиться с другими народами нашим богом и целый великий народ хазар соблазнили в иудейство? Однако, Мастер, — Мена кем многозначительно запнулся, — на то они и еретики… Или тебе открыто то, чего я не знаю, и сейчас пробил час поддержать еретиков?..
После такого ответа Хасдай сразу же отпустил поэта. Продолжать запретную тему даже наедине с другом стало опасно.
А теперь, не успел ещё уйти прочь бен Сарук, во дворе — страшные Руса. Хасдай сопоставил факты, и его бросало а жар. Бог вездесущ. Что, если это сам Неумолимый и Беспощадный успел услышать святотатственный разговор Хасдая с поэтом и тот незамедлительно насылает возмездие, решив наложить на Хасдая заклятие руками Русов?
Хасдай чувствовал, как разрывается пополам его сердце. Если Русы сейчас его убьют, то куда же, отторгаемая за кощунство, пойдёт его душа? Святотатная душа, как у Агасфера, оставляется без пристанища.
Всесильного везира Абу Юсуфа Хасдая ибн Шафрута трясло. Он уже не страшился за тело, он плакал по своей душе — вечной страннице.
Важно вошёл мусульманин-дворецкий. Поклонился до земли, как самому Халифу. Доложил, что во дворец прибыли странные какие-то послы. Их сопровождает много Русов. Они приплыли на лодиях Русов. Но сами не Русы, а обличьем коренасты и низкорослы, с лицами, будто тарелки, обтянутые мелкой жёлтой сеткой, а глаза узкие, раскосые, совсем как щёлки.
Хасдай медленно приходил в себя. Чтобы выиграть время и получше скрыть свой проходивший страх, старательно поморщился. Он уже сообразил, что случилось. Для безопасности многие посольства, особенно направляющиеся в дальние страны по морю, предпочитали нанимать охрану из Русов и плыть на их лодиях. Да что говорить! У Чёрного багдадского Халифа и у византийского Императора — у обоих сейчас гвардия из отважных Русов.
— Почему ты не объяснил послам, что у меня суббота? Разве я не имею права на собственный праздник?! Я в субботу общаюсь только с единоверцами. Такой порядок моей веры…
— Великий везир! Послы сказали, что они… твои единоверцы!
Хасдай выронил медное зеркало, которое, прибирая себя, вертел в руке. Хотел ударить дворецкого. Сдержался — напомнил себе, что дворецкий — мусульманин. Правящей веры. Успокоил себя тем, что, наверное, дворецкий получил от послов-дикарей хороший бакшиш, вот и старается им угодить, и не придумал ничего лучше, чем уравнять дикарей с единоверцами Хасдая.
Всё же, собравшись с духом, Абу Юсуф Хасдай ибн Шафрут приказал впустить неурочных послов.
Послов оказалось трое. На всех были очень богатые халаты. Но на головах не чалмы, а расшитые золотом высокие, как кувшины, шапки верующих в Неизречённого бога и поверх халатов — плащи цвета мёда.
Вслед за послами слуги внесли обильные дары — меха, драгоценности, солёную красную рыбу. На общей верёвке вволокли несколько молодых рабов и рабынь, бросили их к ногам Хасдая.
— Кун ишларта — кече из тушларга. День для дел — ночь для снов, Мастер! Мы — рахданиты из Великого Хазарского Каганата. Прибыли к Халифу послами, а к тебе пришли братьями в боге, о почтенный Хасдай! — представился старший из послов, толстый, как огромная бочка сала. — Да благословит тебя Шехина! Прими подарки и разреши нам, дабы оправдать наши расходы на дальний путь от моря Каспия, кое-что продать и купить на твоём рынке. Мы же, со своей стороны, приглашаем кордовских купцов к нам на Каспий в город Итиль, что стоит на великой реке, истекающей из земель Рус. Путь до нас опасный и дальний — по Средиземному морю и Понту Эвксинскому, а дальше по Дону и волоком к нашей реке или караваном по Кавказу. Также можно добираться к нам через Немцев и Русов. И этот путь труден. Однако: избит масеи, артыины тумас — не замочив задницы, рыбы не поймаешь, кхе-кхе! — жирно засмеялся старший посол. — Зато рынок наш столь богат, что даёт купцу тысячекратный барыш, который оправдает все опасности. Тебя же, Мастер, лично приглашает наш правитель Иосиф. Он у нас носит титул Иша. Считается он Управителем при Кагане, но власть у Иши поистине царская, ибо Каган мало выходит к народу и служит больше богу, чем нам, грешным. Так что, если ты захочешь послать письмо, то можешь поименовать нашего Ишу царём — ему это будет приятно, а нам лестно. Аитыльян шож, атылъян ок. Сказанное слово — что выпущенная стрела. Не так ли, Мастер? Кхе-кхе! — и тут же, как бы подтверждая некую сделку, понизив голос, добавил: — Если же ты, как умный сайарифа у Халифа, захочешь вложить в наш рынок кое-какие свои деньги в расчёте на хороший барыш, то лучше тебе иметь дело со мной. Зовут меня Гер Фанхас. Я староста всех базаров в нашем городе, сайарифа у нашего Кагана, и сам владею доходной работорговлей по всей Европе. Мою добропорядочность и честность в торговых делах подтвердит тебе каждый рахданит, торговавший на рынке рабов в Праге или Константинополе. Знают меня также в Багдаде и Киеве… Я надёжный сайарифа… Ак-часы тыбулду, тьерга олтурду — нашлись денежки, сел в почётном углу, кхе-кхе!..
Гер Фанхас ещё что-то продолжал говорить о торговых делах. Но Хасдай не слышал его. Премудрый и всесильный везир Абу Юсуф Хасдай ибн Шафрут во все глаза смотрел и не мог поверить в сотворённое для него Шехиной по случаю праздничной субботы сакральное чудо. Наверное, если бы пророк Моисей прислал к нему архангела Гавриила с двумя ангелами, он не был бы удивлён и растроган больше, чем от внезапного появления этого толстого, как бочка сала, туземца Фанхаса с гордо, как аристократический титул, произносимым «Гер» (прозелит) перед именем. Вот он — Третий. Вот кто уже идёт, чтобы изменить всё в этом мире, сроки которого кончаются. Что секта манихеев — «сыновья вдовы», отравляющие христианство?! Поблудят да сникнут. Вот истинные дети природы, овдовевшей после захода солнца. Уж такие-то не пропадут… Вот из кузнечиков саранча!..
До сих пор Хасдай слушал слухи о Великом Хазарском Каганате, — якобы великой державе Неизречённого, возникшей где-то, на самом восточном краю Европы, в прикаспийских и придонских степях, — как манящие сказки. Свои люди в Византии извещали Хасдая, что дипломатические письма хазарский Каган скрепляет печатью весом в два золотых солида — по рангу великих держав и что византийский император настолько заискивает перед славой хазар, что взял в жёны хазарскую царевну, по имени Чичак, и теперь в Византии у модниц нарасхват чичакионы — шапки, как у царевны. Свои люди в Багдаде смущающе доносили Хасдаю, что там в чести полководец Тонг ал-Хазари — по происхождению хазарский принц, человек к тому же ещё и зело учёный, пожертвовавший всю свою воинскую добычу в монастырь суфиев на книги. Хасдай видел не раз и товары — рабов, красную рыбу, солёные арбузы, рыбий клей, дошедшие из Хазар. Но добавляемые шёпотом слова о принятой хазарами «необычной вере» всегда казались Хасдаю всё-таки розыгрышем, безумной шуткой, чем-то совершенно невозможным. И вот они стоят перед ним — кочевники и его единоверцы.
— Чего вы хотите от меня? — спросил Хасдай. — Вашему правителю Иосифу нужна помощь деньгами? товарами? войском? мудрыми советами единоверцев?
Хасдай понимал, что надо бы ему назвать послов «братьями в вере», но язык у него всё никак не поворачивался так назвать пришельцев. Он смотрел на их лица как тарелки, обтянутые жёлтой сетью мелких переплётшихся морщин, на раскосые глаза — пылающие чёрным огнём хитрые щёлки, и он никак не находил в себе нужного к ним обращения. Они были совсем другие, чем он.
— Почтенный Хасдай, распространяемое слово поможет нам, — послы вежливо раскланивались. Хасдай понял, что они были достаточно мудры, чтобы не произносить лишних тирад.
Затем Хасдай долго смотрел в окно вслед уходившим послам, плотно окружённым рослой охраной из Русов. Дождь прошёл. Но с востока набегали новые чёрные тучи.
Когда необычные послы скрылись из виду, кордовский всесильный везир почему-то упорно протирал себе глаза. Ему всё казалось, что ничего не было, что это его, уставшего от субботнего праздничного одиночества (вынужденного тем, что во дворце ему нельзя было оскверниться общением в святой день с иноверцами), во сне посетило праздничное видение. Видение, которым сам господь показал ему, что ве надо больше бояться караимской ереси. Что ныне её час!
Потом, уже совсем смутно, он вдруг припомнил, что толстый, как бочка сала, Гер Фанхас что-то ещё пытался ему говорить про сына королевы Русов Ольги полководца Барса Святослава. Святослав-де окреп в опасно ходит уже совсем рядом с владениями хазар. И что, по кочевому календарю, год будет годом Барса. Но зачем, осторожно косясь на свою охрану из Русов, как бы ненароком сообщил об этом хитрый кочевник мудрому везиру Хасдаю, это ещё предстояло вычислить.
Может быть, из-за Барса в поднялся ветер, что погнал хазарских послов на запад вплоть до дальнего моря — до Кордовы.
Когда пришёл срочно вызванный им для совета Менахем бея Сару к, Хасдай нервно ходил по освещённой пятисвечиями зале.
— Мой друг! Хазарам поможет распространяемое слово! — закричал навстречу недоумевающему от такого парада поэту всесильный везир: — Пробил час! Сказанное слово что выпущенная стрела! НАМ поможет распространяемое слово!.. Торопись, Менахем. Весь мир, вся диаспора должна узнать через твою поэму о рождающемся Третьем храме. «Дети вдовы» должны все вложить в этот храм свои камни. После сорокадневного собеседования с семью первобытными духами был открыт древними Мастерами золотой пятиугольник — пентаграмма «детей вдовы», обещающая нам будущую власть над всем миром. Пришло время торжества пентаграммы. Я чувствую, я вычислил: начался отсчёт заветных сорока дней, после которых сбудутся сроки… Пиши шифрованную поэму, бея Сарук, разошлём её по общинам. И готовься в долгий опасный путь. Мы сами, своими глазами должны увидеть иудейских хазар. И помочь им и себе!
Примечания
1. ростовщик и «банкир».
День второй. «Лось-старший на Алтае»
Луны нарождались и умирали, а старик Булан1-старший всё шёл от Каспия на восток. Неделю назад пал его конь. Крепкий, приземистый, Гнедой оказался самым сильным из всего каравана. Люди погибли раньше: ещё на полпути в пустыне за Арал-морем ушли от Булана-старшего один за одним на Небо сто молодых воинов, выбранных народом хазар сопровождать своего чрезвычайного посла на прародину тюрок Алтун-Иши (Алтай). Как радовались молодые, когда их выбрали в охрану Булану, что увидят землю исхода. Однако голод и жажда жестоко расправились с не приученными к дальним походам, молодыми воинами.
Старик Булан-старший исхудал, харкал кровью. Дорогие посольские одежды его обветшали. На жухлую тыкву стало похожим его лицо. Но он упрямо продолжал брести на восток. Дух Неба вёл его. Наверное, он давно бы освободил тело от мучений и умер. Но в синей посольской котомке за спиной Булана-старшего лежало письмо к Добуну Баяну из рода Ашины-Волчицы со слёзным поклоном и просьбой о помощи от Всей Массы Народа Хазар. Булан-старший знал, что участь его народа зависит от того, дойдёт ли до Добуна народный поклон. И Булан шёл на восток.
Был полдень, когда старик Булан-старший почувствовал, будто прикосновение живой воды, светящийся, умиротворяющий, возносящий к небесам душу Синий цвет. Он почувствовал синий цвет сперва губами — облегчившимся, лечащим дыханием, а потом и увидел его сияние. Крутые сопки как крепкие спины коней, склонившихся над синими чашами озёр. Высокие, стройные сосны, уходящие вершинами в небо. Под ногами расстелен свежий мягкий зелёный ковёр, будто расшитый синими ирисами, золотыми палочками желтоголова, белоснежной геранью и красными тюльпанами. А над зелёным ковром — пьянящая, как парной кумыс, магическая синь. Та синь, из которой рождается бог Кек Тенгри — Синее Небо.
— Кьокбя йер бирлашкьян — небо слилось с землёй, — остановившись, как заклинание, громко сказал старец Лось. Он понял, что Большая юрта великого Кагана Алтая Добуна Баяна должна быть где-то здесь.
Затем старец Лось пошёл по хрустальному ручью и вышел к Большой юрте. Он и нашёл её удивительно легко, словно само провидение помогало ему. Она стояла одиноко на краю соснового бора.
Булан-старший подошёл к юрте и опустился на колени. Собак возле юрты не было — они днём охотились за полевыми мышами. Булан-старший довольно долго стоял так на коленях, пока домочадцы Добуна Баяна наконец не заметили гостя и не вызвали хозяина.
Не поднимаясь с колен, Булан-старший, удостоверясь, кто перед ним, пальцами ревниво пересчитал, сколько клоков бороды тот носит.
Насчитав девять, повалился Добуну Баяну в ноги и девять раз поцеловал прах у его подошв:
— Йол турар, булутларны тарар — дорога встанет, тучи прочешет!
Добун Баян, услышав посольское приветствие, самолично поднял гостя. Ответил, согласно обычаю, тоже со значением:
— Йол кьокларжа башланат йердан — дорога к небу начинается о земли.
Теперь гость мог вынуть из посольской синей котомки свёрнутую в свиток, скреплённую золотой печатью в два солида и железным амулетом, изображавшим волчицу между двух сопок, грамоту.
Увидев золотую печать в два солида, Добун явно обрадовался чести, заулыбался во весь рот:
— Кимни сыйлейдлар, аны тынлейдлар — кого уважают, того и слушают! Я готов дать тебе хороший совет, посол!..
Но, разглядев рядом с золотой печатью ещё и железный амулет, Добун Баян вздрогнул и сразу сник. Горькая усмешка искривила его лицо:
— Яшларба ишии килмас — слезами работу не выполнишь! Ты припоздал, гонец, — сказал со вздохом Добун Баян. — Пославший тебя почтенный Дом, видно, живёт старыми вестями. Иначе бы твой повелитель не прикрепил к ней железный амулет. Ты не обратил внимания на то, что моя Большая юрта раскинута одиноко на краю соснового бора? Я теперь не имею права разговаривать от имени железной Волчицы Ашины.
Сказав так, Добун сам поклонился в пояс пришедшему к нему послу и ушёл, ещё раз вздохнув, назад в юрту.
А старик Булан-старший заплакал.
Ещё в дороге сведущие люди объясняли ему, что с великим Добуном Баяном произошло после его подвигов неприятное. Как всякий достойный муж, думающий о вечности и неиссякаемости своего Эля, Добун Баян, отходя от войны на покой, захотел исполнить свои мужские обязанности перед Элем и продолжить род. Он думал о преемнике Кагана и поэтому взял в жёны иноплеменницу, необычную своей красотой — золотоволосую. Ещё со времён прародительницы Ашины-волчицы все колена Дома Ашины впитали вместе с молоком матерей страсть к золотоволосым женщинам. Иначе как бы рождались в Доме Ашины от солнечного света небу подобные Каганы для всей Великой Степи? Вот и Добун Баян выбрал себе в жёны дочь не пустого рода, а из самих Русов. Однако с Добуном Баяном случилось, что племя не одобрило его выбора. Нашлись крикуны, которые утверждали, что жена не ханского рода. Не желая бросить жену с детьми, Добун Баян поставил свою юрту одиноко на краю соснового бора и в обиде отошёл от власти.
Что было теперь делать гонцу от хазарского народа? Старец лёг в пыль перед Большой юртой Добуна и лежал так. отказываясь принимать пишу и расцарапав в кровь себе ногтями лицо, несколько дней. Его кусали собаки, пинали ногами слуги, мочил дождь и бил ветер.
И вот тут сам алтайский народ возроптал на чёрствость своего отошедшего от власти повелителя. Добуну Баяну не осталось ничего другого, как пригласить старца с почестями в Большую юрту и принять от него от имени алтайского народа посольскую запись.
Прочитав письмо, Добун Баян нахмурился:
— Из записи следует, что хазарский народ совсем разбрёлся, даже потерял древние таботаи — гробы предков? Да что ж у вас там, в вашем Эле, творится?! Как возможно такое кощунство и небрежение?.. Тут также утверждается, что ваш Каган ослабел: утратил свою божественную силу, Яда Медекун — способность вызывать дождь, и в стране вашей участились засухи, падёж скота и голод. Но почему же тогда до сих пор не отправили своего Кагана на небо, как повелевает в случаях ослабления силы Кагана наш Тере — обычаи? Или что — вы уж там, разбредшись, и все обычаи Степи позабыли?! Отвечай, как случилось такое небрежение?!
Старец вздохнул и потупил глаза:
— Великий Добун Баян, обычаи мы, хазары, помним и почитаем свято. Знаем, что в случае ослабления божественной силы Кагана надлежит народу без промедления, дабы не передалась всему Элю — народу-государству слабость правителя, наложить Кагану на шею шёлковый шнур и, удавив, отправить с надлежащими почестями в иной мир. Однако вот беда, из-за которой Вся Масса Народа Хазар, выразив свою волю на Собрании Сильных, послала меня гонцом обратиться к тебе. Видишь ли: у нас оказалось, что на стол Кагана нет достойного преемника. Измельчал, засорился хазарский народ.
Добун Баян почесал лоб, раздумывая:
— А тегины? Неужели ваш нынешний Каган настолько бесплоден, что многочисленные его жёны не родили Элю ни одного наследника? Похоже, ваш народ не собирает своему правителю достойного гарема?! Говори правду! Или там, на западном краю нашей Великой Степи, вы совсем захудали и никто из соседей не хочет отдать за вашего Кагана золотоволосую дочь?..
Старец обиделся. Поднял гордо голову:
— Почтенный Добун Боян, мы в несчастье, но мы не какой-нибудь пустой осколок от дошедшей до дальнего западного моря кочевой орды. Когда триста вёсен тому назад мы, подняв сияющее медное знамя, пошли отсюда, с Алтая, вслед закатывающемуся солнцу на Каспий, то было нас девять родов. Теперь нашему Кагану положено двадцать пять жён и шестьдесят наложниц по числу больших и малых народов, которые входят в Великий Хазарский Каганат и поставляют нашему Кагану воинов. А что до тегинов-принцев, то до последнего времени у нас их было два. И росли они достойными наследниками.
— Что же? Погибли в бою оба ваших принца?
— Нет!.. Старший, Алп Тегин, — храбрый воин. Скачет на белом коне, потому что не боится показывать врагам пролитую кровь. Младший, Тонг Тегин, учён и мудр, а воинские доблести его таковы, что сам Халиф нанял его главнокомандующим своими войсками на Кавказе. Полагаю, что его слава полководца Ал Хазари докатилась и до ваших мест, великий Добун!
Добун Баян развёл руками:
— Ничего не понимаю! В таком случае, чего же ваш народ прислал ко мне тебя — своего слёзного гонца?.. Зачем моя помощь? Позовите одного из своих принцев в отдайте ему власть!
Старец опустился на колени:
— Почтенный! Яви к нам божескую милость… Я не всё рассказал тебе про тегинов. Дело в том, что принцы не сошлись с управляющим богатством при Кагане. Оттого Алп Тегин взял и откочевал со своим полком прочь от Великого Двора, далеко в степь: держится на отдалении и во всеуслышание поносит за то, что он, мол, променял воинские доблести хазар на торговлю. Впрочем, про старшего принца можно было даже особо и не говорить, так как ты знаешь сам, что по нашему обычаю Одтегином — хранителем очага и наследным принцем — является младший сын. Он считается Железным Волчонком. Но Волчонок Тонг Тегин поступил ещё хуже, чем его брат Али Тегин. Железный Волчонок хранитель очага — остался в Багдаде. Пожертвовал всю свою военную добычу в учёный монастырь, принял мусульманскую веру в объявил себя суфием — облачённым во власяницу. Он теперь мусульманский философ-монах. Он плюнул, как и его старший брат, на свои права на престол.
— Ну, и над вами, хазарами, сейчас кто же сидит?
— Не поверишь, великий. Сидит над нами меняла — Иша-везир! Он Кагана держит в Куббе — золотой юрте и народу Кагана слабоумного даже вовсе не показывает. Войско не собирает. Полагает, что достаточно наёмной стражи из семисот арсиев. Народу даёт разбредаться. Мы живём в низовьях великой реки, истекающей из земель Рус. А в её верховьях давно уже охотится страшный Барс Святослав. Мы все дрожим. Как бы он к нам не спустился…
— Да, плохи ваши дела. Но что же вы, хазары, от меня хотите?
— Умоляю тебя, великий Добун! Нам стало известно, что у тебя подросли сыновья от золотоволосой женщины. Согласно Тере, только рождённый от золотого солнечного света может вернуть сок в засохшую ветвь. Возьми нас под себя, почтенный Добун, пока к нам не нагрянул сын правительницы Росского Каганата Ольги страшный Барс Святослав, и пошли нами править своего сына от золотоволосой женщины. Пусть твой сын привезёт святые древние гробы — таботаи взамен тех, что у нас, несчастных, пропали. Это поднимет дух народа. И пусть садится над нами. Достаточно одного храброго полка со знаменем, чтобы Вся Масса Народа нашей местности поверила в твоего сына, приободрилась, и дела наши пойдут к лучшему, — закончил свою мольбу старец и упал к ногам великого Добуна Баяна.
Добун Баян долго молчал. Потом поднял старца и, не объявляя своего решения, спросил:
— А как тебя зовут, слёзный посол хазар? И почему именно тебя послал ко мне Курилтай хазар — собрание Сильных?..
— Я — Булан-старший. А выбрали меня, потому что я из того же рода Лося — Булана, из которого происходит у нас Иша-везир Иосиф — ненавистный народу Управляющий Богатством при Кагане. Люди сказали: «Это из вашего рода Лосей произошёл человек, который сделался сайарифой — менялой, сошёлся с торговцами, перекинулся в их веру и теперь, вместо того чтобы думать о доблести Зля и благе всего народа, служит одним торговцам. Вот вы, Лоси, и исправляйте беду, иначе молоко ваших матерей не будет вам впрок…»
Когда собрались сыновья, Добун Баян пересказал им речи старца.
— Да, что-то совсем не ладно в Хазарском Эле, — были единодушны сыновья Добуна, — и, верно, не всё открыл тебе, отец, этот старец. Что это вдруг за Иша-управитель, которого народ не может прогнать?
Каган есть Каган, а Иша — это Иша. Как они могли у вас перепутаться?2 Где бы это было видно, чтобы Иша, которому положено считать деньги, получаемые от налогов, держал взаперти в Куббе своего божественного, небом рождённого и небу подобного Кагана?.. Нет, уж неспроста оба тегина-принца, оба священных Волчонка — наследника от хазарского престола отбежали!.. Доходили и до нас сюда, на Алтай, слухи, что давно смута в Хазарском Эле. Рассказывали люди, что развелось у них возле Еле Ордос — Великого Двора в Городе-на-реке много всяких разных вер, а в верах этих — тайных сект и тайных обществ. Каждый у них тянет своё, а все вместе подпиливают опорный столб, на котором держится престольная юрта. Вот они уже даже и гробы предков — таботаи потеряли. Срам-то какой!..3 И что же нам ты теперь посоветуешь, отец? Идти одному из нас туда со своим полком, чтобы вместе с этими разбредшимися людьми погибнуть?..
Великий Добун Баян повернулся к сыновьям спиной, вышел из юрты. Долго глядел на небо. Синие чаши озёр отражались в белых облаках, плывших по небу, и жёлтое солнце наполняло эти чаши струящимся светом.
— Сыновья! — сказал, вернувшись к ним, Добун Баян. — Само Кек Тенгри — Синее Небо поручило нашему роду железной Ашины-волчицы обустраивать людей в Великой Степи. Если бы не принял слёзного письма я от народа хазар, то незнание о беде осколка нашего дома было бы нам каким-то оправданием. Теперь же очень смущает меня то обстоятельство, что среди больших и малых народов, которые подчиняются тому Кагану, не нашлось у них своего достойного домогателя на престол. Но придётся скакать туда старшему из вас. Иди, Мерген, и разыщи старца Булана, чтобы взять его с собой в верные проводники.
Мерген ушёл, но почти тут же вернулся:
— Отец! Дурное предзнаменование! Старец, измотанный долгой дорогой, уже решил, что выполнил своё поручение, и позволил своей душе отлететь в другой мир. Умер уже старец.
Великий Добун Боян заказал шаманам камлание, отвращающее дурное знамение. Три дня бил чёрный бубен и чёрные птицы взлетали к небу, но не улетали — возвращались обратно.
Через три дня чёрный шаман предрёк Мергену Добуну самые тяжкие несчастья в предстоящем дальнем походе.
Всё же не умерло и одной луны, как старший сын Добуна Баяна опытный и доблестный полководец Мерген Добун выслал вперёд себя во все стороны вестников-глашатаев собирать каткулдукчи — смелых воинов, готовых идти за счастьем на закат солнца. Снял юрты. Погрузил на синюю арбу прах предков, как полагается, когда люди переселяются навсегда на новые земли. Поднял высоко к солнцу сияющее звонкой медью знамя и походом двинулся со своим бесстрашным полком в сторону туманного, ненастного заката.
Впереди полка бежала весть о дурном знамении и тревожном камлании. Бежали всякие дурные слухи об оставленной богом земле хазар, в которую направляется полк. Звучало страшное имя: «Барс Святослав», про которого знали, что он растерзал конников на реке Рус.
Но полк Мергена Добуна тем не менее, как камень в болоте мхом, всё больше и больше обрастал добровольцами. Сорвиголов уже мало беспокоило дурное знамение. Ничего не значило для них и тревожное камлание. Сорвиголовы считали, что коли посланный хазарами гонец добрался до Большой юрты на краю соскового бора на Алтае и оттуда отошёл полк, то предзнаменование и камлание уже мало что могли значить — теперь всё значил вышедший в доблестный поход добрый полк со сверкающим медью звонким знаменем.
Великая Степь шелохнулась, напряглась, сдвинулась. За сорвиголовами снялись с места разумные люди. Свёртывали юрты, готовили к дальнему пути надёжные повозки, подкармливали к перегонам скот. Когда полк Мергена вышел с Алтая, на закат солнца за ним уже катилась орда. Она катилась, как саранча, съедая всю траву, сметая всё на своём пути. А впереди неё шли дожди.
Высланные вперёд в сторону Арал-озера дозорные, вернувшись, сообщили, что травы впереди хорошие и зелёный мост этим летом, кажется, перекинулся через всю пустыню до Урала.
Нахлёстывая коня, Мерген крикнул:
— Надо успеть, пока идут дожди! Вон сколько за нами поднялось народу. Если так дело пойдёт, как бы мы не смели и самих этих хазар, — и, довольный шуткой, удало засмеялся.
Примечания
1. Булан — Лось (хазарск.)
2. У древних тюрок существовало разделение власти: духовную и «законодательную» осуществлял с помощью «биликов» — изречений обожествляемый на земле вождь — Каган; исполнительную — «Управляющий богатством» народа, назначаемый Каганом за подвиги, — Иша (Шад).
3. У древних тюрок был обычай, согласно которому при переселении народа или смертном сражении с врагами Каган вместе со знаменем вёз таботаи — гробы предков. Этот ритуал перекликается с древним арабским. Ещё в X веке очевидцы продолжали наблюдать характерную картину: полководец Халифата вступает в город с гробами предков.
День третий. «Серах — чёрное пламя»
О Ляля-Весна! Нет и не будет никого властнее тебя в Хазаране и слаще тебя нет! В первый месяц года — нисан с первым тёплым терпким хорасанским ветром приходишь Ты — целомудренная и смелая: мусульманка, христианка, иудейка, язычница, — богиня над богами, единственная для каждого и принадлежащая всем. Ты являешь себя людям с первым лучом солнца, когда огромная, нетерпеливая толпа, запрудившая высокий берег, уже ждёт тебя.
О тебе нет, не объявляют ни священники, ни жрецы, ни волхвы. Никогда не поднимались на крышу Белого храма с факелами иудейские хакамы1, чтобы заранее предупредить о тебе. И не выкликали заранее имя твоё муэдзины с минаретов. И не пророчил твоего прихода зеленоризный христианский епископ. Просто накануне глубже и бездонней становится небо и звёзды высоко встают, и вот уже все в городе знают, что ты придёшь. Слух проносится внезапно, как счастливый смерч, и никто не удивляется его внезапности, а только все спешат надеть праздничные одежды, потому что одежды эти, конечно, уже вычищены и ждут.
Бывает, ещё студены ночи и лежит ещё в лощинах буро-красный грязный снег; перемешивается снег за зиму с песком, приносимым ветрами из Рын-песков, и без прямого солнца не растаять такому снегу. Бывает, ещё не прилетели и птицы или только самые первые, и купеческие караваны ещё не сплывают е верховьев реки, потому что по реке идут льдины. Но вдруг становятся неспокойны люди. Кажется всем, что уже словно чьи-то неслышные шаги вот всколыхивают воздух совсем рядом, вот напоили воздух бальзамом, вот оставили запах истомлённого, зовущего тела.
В Хазаране это дни для разлучённых влюблённых. Пять законных вероисповеданий здесь, пять строгих, не смешивающихся каст. Язычники, слушающиеся магов; язычники, опекаемые волхвами; христиане, мусульмане и иудеи. И под страхом побитья камнями, костра, утопления, сдирания кожи не смеют дочери одной веры сочетаться браком с сыновьями другой. Но в дни Весны безумно рискуют влюблённые, надеясь на помилование. Ибо, когда Весна приближается, уже нет в городе иной, кроме чем в Лялю-Весну, веры. Забывают мусульмане, христиане, иудеи и язычники, что вчера веровали и будут завтра веровать в разных богов. На один день Весна становится хозяйкой в городе. И уже не смутить ничьей совести ни пламени на зороастрийских капищах, ни жертвенным кускам мяса, протянутым к Небу-богу на длинных шестах кочевничьими волхвами, ни остерегающим надписям по фризам мусульманского минарета, ни кресту на христианской церкви, ни золотым шипам, набитым на крыше Белого храма. И вот будто исчезают» пропадают на один день весны все ревнители только своих всевышних. Смотри: вон было высунулся с крестом на улицу и мигом убрался восвояси, не сладив с весною, зеленоризный христианский священник. Послушай: запнувшись на полуслове, прекратил свою длинную предутреннюю молитву крикливый имам. Старики жрецы из Белого храма всё-таки тащат белоснежного жертвенного агнца своему богу. Но что? Что это и с ними вдруг сталось? Отчего это вдруг вовсе не степенны, а суетливы их шаги?! Где благочинная отрешённость и куда пропала возвышенная пустота из их глаз?! О, как гибельно заблестели теперь их чёрные, ещё не выцветшие очи! Ах, даже и иудейских стариков, видно, взбередили эти полупрозрачные вечера приблизившегося нисана, эта пришедшая ароматно-душная ночь, погружающая в волнительно горячечный сон даже человека с увядшей мышцей! Ай старики, старики! Что вы шепчете? «Песню песней»?! Но разве это молитва, хотя и из книги бога повторяете вы строки?!
Весна как девушка на выданье. Поучали Гепоники — наставления, писанные ромеями, новыми «византийскими римлянами», — о великой силе первой девичьей стыдливой тряпки: будто, ежели бросить её среди поля, то ни лоза, ни семена не будут повреждены градом. Вот будто как: даже град девичьим стыдом усмиряем!
Усмирила иудейка Серах язычника Булана-младшего. Понадеялась на силу первой девичьей тряпки. Стала ему без свадьбы женою. И не может которую ночь Булан с ней расстаться.
Близится уже третий рассвет, а Серах всё лежит с Буланом в его юрте, на тёплой кошме, и руки её всего его обвивают, и губы её в его губы дышат. И забывает Серах всё то страшное, что её у молитвенной кенасы ожидает, уже не думает про косые, осуждающие взгляды, про стыд в отчем доме. И только всё крепче она к любимому прижимается, и глядит в карие очи его, и старается думать только о Весне, новом годе, что с рассветом, с солнцем придёт, Лялю-Весну приведёт.
Что ей думать теперь об отце? Уронило дерево свои плоды — оставлено плодом дерево. И третий день боится Серах выйти наружу из юрты — вдруг узнает об отце Бениамине, как за дочь его пытают позором. Лучше спрятаться и надеяться. Шёл, шагал по дороге жизни ремесленник Вениамин, дочерей растил — больше всех любил младшую, Серах. Однако, йемши йетилат тьеркакт ан южулат — фрукты поспевают, от дерева отрываются. Серах прижимается к Булану. Прости, отец! Теперь злословят люда, что не уследил он за своей младшей.
Серах думает о Весне. Серах нагнулась над Буланом. Жарка её первая брачная постель, но прохладны её обвившие шею возлюбленного руки. И сыта любовью младшая дочь Вениамина, и ненасытна; и красны, как вишни, её губы, и больны, и в боли утоленья ищут; и уходит из тела Серах то, что плотью на земле зовётся, и летит, парит, как птица, её тело, все законы земные нарушив: душу на бренной земле оставляя, а само к небесам обращаясь, любви песню песней слагая.
— Вот, любимый, я уже знаю, будет дитя твоё в моём лоне. О желанный, я вижу: вот ты даришь, ты даришь мне колыбельку!
Блеют некормлены третий день овцы за юртой. Ржут непоенные третий день кони. Но опять не погонит до рассвета в луга Булан стадо: спит истомлённый кочевник, будто дубок, лианой обвитый. Спит и слышит:
— Любимый!
Пахнул ветер с реки, занавес в юрту отодвинув. К кошме брачной ветер пробрался, влажно дышит над сплетёнными телами.
Открывает очи Булан, и снова шепчет ему Серах:
— Любимый!
И сливаются полные губы. И скользят, ищут сладости руки. И два тела уже в невесомье.
— Вот с тобою узнала я счастье!
О рассветный ветер! Остуди припухшие губы, что напились желанною влагой, что собрали нектар упоенья. Ах, как сладко двоих утомленье: нету в мире сегодня счастливей их, — постигших своё назначенье!
Шепчут губы Серах:
— Весь свой виноградник отдала я тебе, любимый! Коснись: мои губы — теперь твои губы, моё тело — теперь твоё тело, моя кожа — теперь твоя кожа, и вся я — сам ты. Ты обласкан и опустошён мною, и не узнаешь ты никогда крепче ласк, чем мои, и не будет никогда сладостней для тебя, чем со мной, опустошенья. Вот ты наполнил меня собою до краёв. От тебя расцветает виноградник мой и принесёт тебе плоды. Господин, что тебе ещё надо другого в жизни?!
Шепчут губы Серах:
— Я — колдунья! Ах, возлюбленный! Ах, муж мой! Разве ты не чувствуешь, как всё вокруг тебя переменилось?! Это я открыла тебе цвет ночи: отныне и навсегда будет ночь для тебя, как чёрный виноград, потому что — вглядись! Как лоза, ползут, вьются мои волосы, а цвет их — чёрный виноград. А утром ты узнаешь цвет солнца и поймёшь, что солнце красное, как мои губы. И запах трав и цветов я сегодня тебе открыла: травы всегда теперь будут пахнуть для тебя моей кожей, оливками будут пахнуть, а у цветов будет запах моих губ и ноздрей. А в утренних росах — слюна моя. Хочешь узнать чудо осязанья: коснись, коснись языком моего нёба — вот я рот свой навстречу тебе раскрываю, вот язык твой легонько кусаю: что слаще? Ах, где твои пальцы? Ну, скорее погладь мою кожу. Вот сладость! Разве знал ты когда, что бывает такая сладость в этом мире?! Я, я её тебе открыла! Потому что я знаю тайну слов и чисел, я на книгу Йоциру персты возлагать умею — десять перстов, словно десять духов-зефиротов! Ну же! Слаще ко мне прижимайся! Будь мне благодарен! Ведь это я тебя над землёй подняла, и парил ты. Ведь парил? А на землю обратно спустившись, обновлённою землю увидел. Ведь правда?
Шепчут губы Булана:
— Всё правда, колдунья! Йетиз катин, эрга алтин — проворная жена мужу золото…
Шепчут снова губы Серах:
— О милый! Не забудь, что я твоя Юкеркен Узу — отчитанная заклинаниями вода! И что Дарусун — виноградное вино твоё — я тоже!
Шепчут губы Булана:
— О Абурин Эме — мною самим добытая жена! О Абурин Эме! Сув сэни сувувчуну — люби любящего тебя!
И снова полетели из мира сего двое; в звёздный мир погостить полетели, с зиферотами сладко сравнявшись; и не речи, а вскрики и стоны меж ними, как знаки внимания.
А когда они снова опустились на землю, то покрыла Серах поцелуями лицо мужа, и оба они долго лежали и тихо смотрели, как вплывает в их юрту, клубясь, предрассветный молочный туман.
И сказал Булан:
— О моя Абурин Эме! Никогда не догадывался я даже, что за счастье быть хозяином своей женщины. У ме-я ведь никогда не было даже своего пса, а теперь вот я беру в свою шершавую ладонь твои нежные длинные, тонкие пальцы и чувствую, что теперь я — это двое. Нас двое! Я прикасаюсь щекой к твоей щеке и понимаю, что хороший охотник всегда думает за свою собаку тоже. Я всегда очень хотел стать господином, но теперь я понимаю, сколько это прибавляет хлопот.
А Серах в ответ засмеялась и запела кочевничью песню:
Мои глаза — колдовские,
Моя душа — странница,
Моё лицо — полная луна.
Я разбила твоё сердце.
Спроси скорее меня: «Любимая,
Направляясь ко мне, как
Ты прошла через обширные равнины,
Высокие, большие плоскогорья?»
Я же отвечу: «На пути к тебе,
Приносящем многие мученья,
Твёрдые холмы стали мягкими,
Ибо моё сердце стремилось к тебе».
И послушал эту песню Булан, и тоже засмеялся, и положил свою руку на холмы Серах, и громко, словно был кто-то ещё в их шатре и надо было, чтобы все расслышали, закричал:
— Моё!
— Твоё! Твоё! — откликнулась Серах, а Булан почувствовал, как опять твердеют её холмы, и вот губы её его позвали.
Когда же Булан совсем обессилел, то Серах уже сама по-хозяйски, как-то скоро и очень деловито, поцеловала его, и сама засмеялась своей деловитости, и наклонилась над Буланом, и позвала шутливо:
— Ну, что? Есть у тебя ещё силы приказывать, господин мой, хозяин?
А густые вьющиеся волосы Серах гроздьями чёрного винограда упали Булану на лицо, нежными ягодами покатились по его щекам, его вспухшие губы лизнули.
И сказала Серах:
— Слушай, Булан! Давай сделаем тебе полезное! Ну, будь смелым — решайся же! Слышишь: потянуло костровым дымком от реки, с острова. Это костёр во дворе белого храма. Обрядовый костёр уже догорает — решайся: ты пропустишь свой час, милый!
Но взбунтовался Булан, нашёл в себе силы, не слушает любимую, нежной н крепкой рукой поднимает её он с жаркой постели, смуглую выкосит на ветер: под Кёк Тенгри — Синее Небо, навстречу Оду — восходящему Солнцу.
— Вот мои боги, жена, насильно взятая мною! Видишь их ты, моя Абурин Эме! Как же я им изменю?! С богами моими дух мой — как же я покину свой дух?!
Скривила Серах лукавые губы:
— Оставайся со своими богами, мой милый! Оставайся!
Не понимает Булан:
— Возлюбленная моя, но мы теперь с тобою одно. Ты теперь стала мною. Разве уживутся в одной семье разике боги? Разве возможно, чтобы две разные души были у одного человека?
Не ответила Серах. Смуглая, на руках у мужа сильнее к нему прижалась:
— Милый, а я уж малышек наших себе представляла! Двух торексенов — наследников, сыновей законных! Представляла, как священники к нам с тобою во двор заходят, свежие угли сжигают. В веру сильных малышек принимают. И вот уж не плачут малютка: тёплым жмыхом им позаткнуты рты, будто соской; тихо малышки сопят. А вырастут — в Белом храме рядом о самим Ишей Иосифом вдруг встанут? Ведь одной они веры с Управителем будут. А одной веры будут — благосклонность Управителя скорее заслужат?! Ведь возможно такое, Булан, для детей наших будет? Ведь возможно?! Кто сейчас ты? Только Лось-младший, из захудалого рода… Так пусть возвысятся дети!
Не сдаётся Булан: ставит Серах он на землю. Не Этукен — вечную землю тюрок!
— Женщина! Я господин твой, тебе меня слушать! Здесь моё предки — не ссорь меня с ними. Нас люди осудят.
Медлит Серах, не знает, то ль мужу вкруг шеи обвиться, то ль с ним строгою быть: потом говорят улыбаясь:
— Двое с тобой нас теперь. Зачем же нам прочие люди?!
Отшатнулся Булан?
— Акылы башына кьелди — разум девушки в красоте её. Зачем ты, женщина, рассуждаешь, если это тебе не положено от природы! Женщина! Ты говоришь с полным ртом, — зловредные слова говоришь ты. Разве можно подумать такое? Или я не человек свободного состояния? Разве ты не знаешь, что раб живёт для себя, а человек свободного состояния живёт для своего рода. Если вечен твой род, то и в бою не страшно: боец, принимая смерть, остаётся бессмертным в своём роде: в своих сыновьях — торексенах, в сородичах многих. Домом называет свой род кочевник. Род, как река, велик и бесконечен. Человек умирает только здесь, а в том мире все приходят к своим Екес — предкам. В дом свой в том мире люди приходят… А рабы, — они исчезают с прахом.
Скривила губы Серах:
— Милый мой, где твои мне в любви клятвы! Я-то ведь теперь только для тебя существую?!
Но не понимает Булан:
— О, моя любимая Серах! Почему ты считаешь меня недостойным сыном моего отца?! Ведь это моего отца, Булана-старшего, из великого уважения к нему Вся Масса Народа выбрала гонцом на восток?! Мой отец ушёл, чтобы привести к нам сюда с Алтая полк со знаменем. Полк со знаменем вернёт всем нам — свободным воинам — мужество и общую доблесть. И возвысится сразу наш Эль. Вернётся гордость в наш народ, и мы перестанем бояться Барса Святослава. Он сейчас рыскает в верховьях Реки, взял под себя уже многие племена. Люди дрожат при одном имени Барса. У нас выживший из ума Каган. Но если нам умного Кагана… Вернётся величие к хазарам, если придёт полк со знаменем.
Засмеялась Серах звонко. Серебром ледяным засмеялась:
— Милый мой воин, про принца Алпа Эр Тонга забыл ты, старшего сына Кагана. Был уже ведь полк его в городе нашем, — все о полку том помнят. С медным знаменем, с трубами длинными, серебряными, был полк. И не болтун был принц Алп Эр Тонг, не оратор на базаре, а воин, что на белой лошади скачет, не боясь испачкать её кровью. И породой не чета нам с тобою он был — не Лось, старший или младший, а из рода Волчицы Ашины — священной крови Степи. Но увёл свой полк прочь из города храбрый принц Али Эр Тонг. Не оттого ль, что таков промысел божий, что не надо полка никому здесь. Для здешних торговцев достаточно стражи, чтобы золото их охраняла, нас с тобою по спинам стегала. Без походов, без доблести лишней. Зато всегда с деньгами. Вот так, милый мой воин. Вот так-то!.. Ходят, правда, слухи, что младший принц, Тонг Тегин, может вернуться. Он теперь в Халифате. Но купцы его, Волчонка, не примут…
Спорит Булан:
— Волчонка купцы не примут?.. А если Барс нагрянет завтра?! Что тогда?.. Как защищаться без полководца и доблести?..
Перестала кривить губы Серах, шагнула к любимому, прижалась:
— Лучше не думать о доблести, милый! Её не оценят. И о Святославе-барсе не думай. Пусть у купцов о нём голова болит. Им от Барса откупаться. А нам что? Мы бедные люди… Пойдём, милый, в юрту скорее. Ты устал. Сомкнём вместе глаза, телами сладко друг друга касаясь.
Вот и в юрте они. Вновь за пологом тёплым.
Шепчет Булан-младший:
— Пелбья кьелди, йелбья ексилди — ветром пришло, ветром ушло. Милая, мы ещё возвысим наш Эль — народ-государство. Отец мне сказал, отправляясь послом на Алтай, что в здешней местности стало слишком много жёлтого золота и белого серебра и оттого мало доблести. Отец опасался, что, если так дальше пойдёт, то в нашей местности вовсе не останется бессмертия. Наши Эбуке — предки всегда жили Домами, больше тысячи человек в каждом Доме, самом малом роде. А теперь у нас в Городе-на-Реке стали жить отдельные люди. Они разбрелись из-за жёлтого золота и белого серебра. Не стало Домов, и не на чем стало Кагану поставить высокий престол — поднять Эль. Отец потому и пошёл за полком со знаменем, чтобы, увидев знамя, одумались люди.
Шепчет Серах: — Милый! Зачем ты повторяешь речи младшего принца Тонга Тегина — Волчонка, что он трепал на базаре. Что нам до всех? Не будь же ты наивным, мой милый. Твой отец ушёл на Алтай за полком, — и хоть все в городе об этом знают, но кто помог тебе в твоих несчастьях? Отец твой ушёл за доблестью для всех, а потерял и собственное имущество. И вернётся ли он? Скорее погибнет! Неужели со мною будет такое же худое? Я рожу тебе добрых торексенов — законных сыновей, а ты их бедняками бросишь, как бросил тебя твой отец?!
Вяло кривятся губы Булана:
— Милая, родная! Да, может, я останусь сиротою. Но ведь кто-то идти был должен. Ведь Всей Массой Народа был избран самый достойный.
Обняла Булана Серах:
— Спи, мой страдалец!
Ровно дыхание Булана, но обвила его шею Серах, целует:
— Милый, единственный мой! Нету у тебя отца, ушёл он, взяв с собою твою родовую доблесть. Но теперь я… я для тебя за доблесть буду. Я, я отныне — дух твой!
Мои очи — голубицы из-под фаты,
Мои волосы — козье стадо,
Мои зубы — как постриженные овцы,
Возвращающиеся с купанья,
А моё дыханье — доброе вино,
К милому оно течёт,
У засыпающего тает на губах!
Склонилась Серах над спящим Буланом, раскрытыми пальцами лицо себе закрыла. Что-то будет с нею завтра? Есть у неё на завтрашнее утро надежда, что спасает это утро от позора её. Только надо, чтобы завтра Булан, своей Серах ради, ко всему народу сам с покаянием обратился. Ведь завтра — особенное, новогоднее утро. Завтра в город Весна-Ляля приходит, Новый год приводит. Завтра все кочевники свадьбы играют… Завтра Ляля всесильна.
К Весне Священной завтра могут поторопившиеся молодые люди за заступничеством обратиться!.. А Весна Священная — все знают — сильнее кумушек из кенасы, сильнее шаманов и магов, волхвов, мулл, священников и раввинов. Только бы завтра было чистое небо и ясное солнце!.. Чтобы Ляля пришла!.. Только бы…
Примечания
1. Хакамы — мудрецы, главы джамат (общины) у иудеев-караимев.
День четвёртый. «Принц Волчонок»
По пустынному Хазар-морю1 плыла пятидесятивесельная лодка — сафина. Начертаны были белые полосы по бортам сафины, и чёрный флаг реял над нею о вышитыми серебром словами: «Мухаммад — посланник Аллаха».
Солнце и месяц в тот час. видно, разошлись в дороге — не передали друг дружке света, потому что быстро падали на море студенистые сумерки, словно бухарская чадра, двоившие очертания.
Пустынно было море, но и на вёслах ходко шла сафина, потому что были в её гребцах не ленивые рабы, а правоверные газии — борцы за веру, нанятые под минаретом-маяком в Баб Ал-Абваб — «Воротах Ворот»2 Аллаха.
Поход был опасным. Но гребцам представили молодого, крепкого, низкорослого, скуластого монаха с распущенными волосами, который самолично собрался плыть с ними; и монах клятвенно заверил каждого, что смерть в этом предприятии будет приравнена Аллахом к смерти в бою с неверными, при которой, как известно, Аллах забирает душу убитого прямо в рай.
Впрочем, умирать без сопротивления никто из гребцов пока не собирался: хотя многие из них вследствие жаркого труда и остались в одних чалмах, но в ногах-то у каждого рядом со скинутой одеждой лежали воинские доспехи и сабля.
Гребцы работали вёслами с утра. И к вечеру, хотя они по-прежнему поддерживали быстрый ход лодки, у многих уже не раз сводило руки и спину.
Вдруг один из гребцов бросил весло, содрал со своей головы взмокшую чалму и похоже, что перекрестился:
— Свят, свят Господь… Спаси меня от предприятия, сопротивного тебя, от ослепления моего и омрачения! Прогони от меня Сатану окаянного! — закричал этот гребец.
И стал он хватать себя за горло, будто душило его, и опять закричал:
— О Сатана! Это ты, вместо чалмы, повязал мне на голову красный платок с навозными жуками — хотел, чтобы прогрызли жуки мне мозг, как преступнику… Прочь, прочь!
Кощунствуя, гребец подцепил ногой снятую чалму и оттолкнул её от себя подальше.
Он схватил губами воздуха и вдруг будто поперхнулся им, стал выплёвывать:
— О Сатана! Ты воздух мне отравил! Полынью… Жёлтой полынью воздух пахнет! А-а-а!.. А-а-а-а!.. Что ты со мной, Сатана, делаешь?! Зачем ты меня даже воздухом отравляешь! Сгинь!..
Затем гребец как-то обмяк всем телом, поднял было двуперстие над глазами — вроде как для крёстного знаменья, но не перекрестился, а опустил глаза долу и заплакал.
Другие гребцы скосились на бросившего весло. Ждали, что сейчас раздастся крик:
— Хватай! Кяфир — неверный среди нас! Ишь как он себя обнаружил! Христианин! Кидай его в море!
Однако такого крика не раздалось. Пересохшими были у всех рты. Не раскрывались. Все гребцы выбились из сил, и сейчас каждый больше думал о том, как бы удержать собственное весло и не выпасть за борт к страшному чудовищу Тиннин, которое, по рассказам, поднималось из морских глубин за своими жертвами именно вот в такие вечерние молочные сумерки.
Поэтому все промолчали.
А к Кяфиру подошёл тот самый плывший на сафине скуластый монах — с синей повязкой на голове, во власянице и с довольно странной бородой, не обычной, а девятью отдельными клоками.
Монах вылил из кувшина воды на голову Кяфиру, подал ему чалму и громко, чтобы слушали все, пожалел его.
— Несчастный! — сказал монах: — Зачем спорил ты с судьбой? Зачем крестился, оскорбляя крестом пророка нашего Мухаммада? Мы можем принять тебя за Кяфира — неверного! Я понимаю: ты так устал, что ум твой помрачился, и ты сам захотел смерти, ибо Кяфиру полагается только смерть! Но терпи! Каждому человеку его риз к — земная судьба записана там, на небе, на специальной доске ещё задолго до того, как он появляется на свет, и невозможно самому человеку ни силой, ни хитростью изменить долю, записанную на доске. Терпи! Тяготы должны пас так же радовать, как удовольствия!
Другие гребцы под видом, что выслушивают благочестивую проповедь, отдыхая, придержали вёсла.
Но монах сказал:
— Работайте! Осталось грести немного — всего ещё на несколько часов. Пусть терпит и гребёт по-прежнему и этот провинившийся. Мы не можем сейчас терять гребца, даже если он Кяфир. Терпите все. Если за ночь не сделаем положенное дело и утро застанет корабль у берега, его увидят, и вы все погибнете!
Была уже полночь, когда сафина по знаку капитана наконец замедлила ход.
Теперь приближалось навстречу кораблю будто огромное белое дерево, густыми корешками проросшее в море.
Но когда корабль подошёл ещё ближе, то оказалось, что это не дерево, а так виделась с моря Река, истекавшая ветвистыми протоками: семьдесят жерл урча низвергали воду и с тысячу мелких ручьёв струились меж ними, будто воины при семидесяти командирах.
Только теперь корабельщики, много слышавшие легенд про это дерево-реку, догадались, куда их щедрой оплатой и заверениями про угодное Аллаху предприятие заманили.
Все сильно перепугались, побросали вёсла и возвопили:
— О души наши! Увы нам! Мы приплыли к косматым хазарам!
— Спаси, Аллах! Над хазарами сидит колдун!
— Вот она — страшная Река!3
— Всех, кто входит в эту реку, убивают!
— Как бы не содрали тут с нас кожу по заведённому у них обычаю?!
Капитан, однако, успокоил тревогу: приказал, чтобы без лишнего шума все надели кольчуги, разобрали щиты и сабли.
На вёслах капитан оставил всего несколько человек, среди них и Кяфира.
Теперь корабль осторожно скользил по одной из проток, среди зарослей высокого чакана.
Лучники стояли наготове по обоим бортам и целились в туман.
Кяфир вдруг вскочил и стал показывать рукой вперёд. Он бросил весло и испуганным криком стал пугать капитана, сам весь дрожа:
— Вон город! Остановись! Нас засыплют стрелами — нельзя подплывать… Я знаю этот город. Поверь мне!..
Стой!
Капитан долго всматривался, потом оглянулся на вставшего рядом с ним монаха — того, что спас гребца, — пробурчал:
— Какой же это город? Это — туча! Вплываем в её дождь. Поганый идёт дождь, чёрный. До нитки вымокнем.
— Йамур ибитьят, чык бьеговратьят — дождик мочит, роса поит, — туманно ответил монах.
Через некоторое время, когда с неба выглянул месяц, провиднелось то, что прежде казалось лишь чёрной тучен. Это был город. Гребец-христианин оказался прав.
Словно рыбацкая сеть с ячейками была накинута на оба берега — так переплелись сплошные заборчики-дувалы. А внутри каждой ячейки этой сети, как пойманная рыбёшка, сидели где глинобитная хижина, где едва поднимавшаяся над травой землянка, а где стояли островерхие юрты группами и порознь. И скот пасся. И видны были кое-где церкви с куполами-шлемами, плоскокрышие иудейские кенасы, мечети с минаретами.
А посреди реки был остров, от которого к обоим берегам тянулся на цепях наплавной мост. И был белый дворец с башней на острове.
Корабельщики вгляделись и вдруг различили, что на плоской крыше башни странно прыгает и обеими руками тянется к восходящему жёлтому месяцу человек в белом длинном плаще.
Человек прыгал на самом краю крыши и будто хотел схватить руками лунный луч.
И вот этого-то прыгающего на башне человека в белом длинном плаще, который похоже, запросто общался С луной, не вынесли корабельщики:
— Не хотим к народу, над которым сидит каббалист!
— Не хотим плыть в царство злого дэва!
Напрасно монах пытался им объяснить, что прыгающий человек — вовсе не властитель, а всего лишь Иша — Управляющий Богатством хазар и что у этого Иши вера такая. А сам Каган здешний и кочевники молятся Синему Небу и Солнцу. Только Иша у хазар молится Луне. Да ещё купцы. От уговоров монаха лишь ещё больше перепугались корабельщики.
— Ясно видно: колдун этот Иша! Известно, что одни колдуны-каббалисты знаются с луной. Заколдует в свиней нас этот Управляющий Богатством.
— Поворачивай назад, капитан!
— Давай гонца с подарками вперёд вышлем. На разведку.
— Вон этого, отброса, пошлём. Он и на вид какой-то неказистый, да и веслом плохо работал.
— Пошлём провинившегося Кяфира. Если сгинет, не жалко.
— Эй, капитан, не слушай неразумных. Правь прямо к пристани. Не дожидайся, пока нас расстреляют стрелами.
— Не посмеют! У нас белые полосы на бортах и флаг Аллаха реет на мачте. Всем видно, что мы — военный корабль Халифата.
— Вот потому и расстреляют сразу!
Капитан колебался, а советчики горячились, и уже каждый теперь стремился подкрепить свои доводы каким-то более надёжным средством убеждения.
Кто-то взял другого за грудки, а кто-то уж и кинжал к горлу соседа приставил. Взыграла жаркая кровь, а страх перед хазарами помог окончательно помутиться разуму.
— Не хотим умирать! — дребезжащий голос праздновавшего труса манади (окликающего) покрыл своей какой-то истошно женской нотой другие голоса. И вмиг на корабле уже все перемешались в отвратительной потасовке, в которой каждый бил каждого и уже никто не думал о своей правоте, а только о том, как бы наказать кого-то другого за собственную дрожь перед дурными обстоятельствами. Потерявшую управление сафину вовсю качало.
Корабль уже черпанул бортом, когда вдруг кто-то отшвырнул капитана с его мостика.
— Именем святейшего пророческого присутствия Повелителя правоверных Халифа Ал Мути, повелеваю вам, правоверные: «На колени!»
Голос был настолько властен, что дравшиеся приостановились.
Вроде бы это был прежний голос сопровождавшего корабль монаха. Но откуда вдруг взялась в нём властная сила?
— Повелеваю под страхом немедленной смерти: «На колени!»
Корабельщики невольно оглянулись на капитанский мостик и увидели на шее монаха золотую цепь из крупных колец, усыпанных алмазами. Даже в свете луны она блистала, как на солнце, надетая на власяницу того, кого они до сих пор считали только простым монахом.
— Эй, вы! Вы разглядели эту цепь, ею сам Халиф награждает своих почётных послов. Ну! Я не вижу повиновения послу Халифа!
Большинство корабельщиков опустились на колени, и по сафине нестройно, но сказанное всеми прошелестело:
— На голове и на глазах! — что значило: «Повинуемся!»
Порядок восстановился. Монах снял с шеи цепь, кивнул капитану:
— Приказывай опять ты! Надо замерить шестом глубину. Здесь где-то возле берега обрыв, подойдём прямо к берегу. И, пожалуй, я высажусь!
Когда сафина осторожно ткнулась кормой в берег, перекинули мостки, с кормы скатили по мосткам арбу с каким-то грузом, укрытым старым покрывалом. Потом свели по мосткам привезённого мула, запрягли его.
— Правоверные! Теперь помолимся, — сказал монах и первым опустился на колени.
Вокруг было удивительно тихо. Слышны были лишь глухие всплески воды — то играла крупная рыба, которой кишела река. Да ухал где-то байгуш (филин).
Прошло, наверное, с час, а на сафине всё молились.
Как просто и легко было бы сейчас подкрасться к кораблю и перестрелять всех.
Тот гребец, про которого решили, что он Кяфир — неверный, сошёл на берег — напросился приглядывать за мулом, но несколько раз испуганно оглянулся на шорохи в прибрежной темноте, а потом вдруг отогнул покрывало и юркнул под него на арбу.
От луны отбежали облака.
Из открытой степи за рекой пахнуло свежим ветром и сразу же пронзительно запахло полынью — горько и муторно, до кружения головы, до видений.
Монах поднялся с колен, полез рукой за пояс, вынул кожаный мешочек, в котором звякнули деньги, кинул мешочек капитану.
— Прощайте, правоверные! Я посол Халифа, но в город, раз вы боитесь, я войду один. Мир вам! Убирайте мостки и прочь от города. Мешочек с деньгами я даю капитану, чтобы он прибавил за службу каждому из вас от меня лично по динару. Мир вам! Возвращайтесь в Баб Ал-Абваб: вы все совершили угодное Аллаху дело!
Монах поклонился и легко спрыгнул на берег к арбе. Почти тут же сафину дёрнуло и на быстрых вёслах она стремительно стала уходить вниз по течению.
Монах потрепал мула по холке; поправил упряжь; проверяя крепость, стукнул ногой по колёсам арбы, потом стал вглядываться в прибрежье.
На берегу не было ни души. Только колыхались, отсвечивая серебром, островки емшана в песчаных разводьях.
Монах низко наклонился и поцеловал землю:
— Здравствуй, Этукен — земля! Йол кьокларга башланат йердан. Дорога к небу начинается с земли!
Монах ещё раз поцеловал землю, потом снял пояс, которым была перехвачена его власяница, и повесил пояс на шею, как чётки. С поясом на шее отдал девятикратно поклон реке:
— Небо четырёх жеребцов сотворило: Ветер и Дождь, Облако и Град. Четыре жеребца заставляют дождь лить, и снег идти, и источать воды, и градом бить. Здравствуй, Чёрная Река! Снова вижу я тебя в образе прекраснейшей девушки, сильной, стройной, высоко подпоясанной…
Монах повторил девятикратно поклон и поцеловал железную пряжку пояса, на которой между двух сопок была изображена волчица Ашина, прародительница династии Каганов, властвовавшей в Хазарии.
— Не скаль зубы на меня, Ашина-Волчица, а выпроси мне прощения у Этукен — моей земли. Понимаешь: был тощим конь; о месте, где ему разжиреть, думал конь, отправляясь из родных мест. Скажи, Волчица, земле Этукен: пусть простит меня, глупого коня! Вот сейчас конь отведает своей полыни!
Монах нашёл островок полыни, стал выщипывать и, как конь, жевать траву:
О Кунгаулсун — Жёлтая Полынь Высокая Трава! Как же конь мог жить без тебя?! Прости меня, моя Земля. Я искуплю вину: я вернулся, чтобы спасти тебя от Барса. Я знаю, как воевать со страшным Святославом…
Впряжённому в арбу мулу надоело стоять, и он тронул. Арбу тряхнуло, и из-под покрывала, под которым прятался сбежавший с корабля гребец, раздался вскрик: гребца придавило перекатившимся грузом.
Монах подошёл к арбе, приоткрыл покрывало.
— А, Кяфир! Вылезай!
Кяфир вылез.
— А корабль-то ушёл! — сказал монах. — Ты нарочно остался? Задумал так? Ты от испуга забрался под покрывало или подслушивал мою молитву?..
Кяфир промолчал.
— Ты что? Тоже из нашего города? Не мотай головой: я догадался об этом, когда ты первым сказал капитану, что видишь город. Тоже блудный сын, как я?
Кяфир стоял опустив голову и по-прежнему молчал.
Тогда монах примирительно сказал:
— Вот как разводит судьба людей. Были мы оба под покровительством Синего Неба; теперь я мусульманин, ты христианин. Ты ведь христианин?! Это я сразу понял… Однако вот — пожуй травы. Забыл, небось, как пахнет наша Кунгаулсун? Ты жуй, а я ещё пока помолюсь! Старым нашим богам! Я думаю, Аллах простит мне этот грех. Это я в уважение к Родине. Ох, не знаю, что с нею будет, если Барс Святослав сюда доберётся… Ты тоже помогать Родине вернулся?
Монах сел на корточки, воздел руки к небу:
— О Земля, о Синее Небо, о Огонь, о ты, Зелёная Степь…
Гребец Кяфир постоял рядом. Потом тоже опустился вз колени. Клал кресты и бил челом оземь.
Наконец мусульманский монах встал:
— Ну, что? Поедешь со мной в город? — спросил Кяфира и, не дожидаясь ответа, полез на передок арбы:
— Йайав атлыйа иолдас тьювул — пеший конному не товарищ. Так что садись сзади!
Кяфир сел.
Мул медленно потрусил по прибрежному песку.
Кяфир смотрел на монаха, кусая губы.
Луна спряталась, и стало очень темно. Кяфир неслышно подбирался поближе к монаху, ползя по арбе.
Когда до спины монаха остался всего один шаг, Кяфир привстал, согнулся, как готовая прыгнуть на жертву кошка. Он уже качнулся, начиная прыжок, чтобы задушить мусульманского монаха. Но решил перекреститься. Перекрестился мелко, торопливо, снова стал готовиться к прыжку. Но в этот миг вышла луна, и гребец начал креститься уже в страхе перед тем, что наплывало на него из темноты, как привидение.
Он увидел распятие. Не из храма, а настоящее, живое распятие: вроде бы человек на кресте и вроде ещё жив!
В жёлтом лунном луче наплывавшее на арбу распятие мерцало, как под колеблющимся пламенем свечи, к виделось, будто у человека на кресте шевелятся губы, будто трясёт он светлыми волосами. А рядом с распятым появилось ещё и женское тело, посаженное на кол. И было похоже, будто оно ещё извивалось.
Арба двигалась вперёд, и теперь по обеим сторонам от неё тянулись кресты, изредка перемежавшиеся колами.
Распятые и посаженные на кол тела выплывали из тьмы и исчезали опять во тьму. У луны теперь больше не хватало света для всей земли, и ока омывала своими лучами только умирающих.
На многих погибших телах шевелились какие-то чёрные пятна. Настолько чёрные, что в них непроницаемо погибал жёлтый лунный свет.
Вдруг арба зацепилась осью за один из крестов, тот повалился, и сразу будто ударило вокруг чёрной тучей и раздалось хлопанье множества крыльев. Чёрные пятна пропали с мёртвых тел и, роясь, воспарили в воздух. И закаркало всё вокруг.
Мул дёрнул и понёс, арба тряслась, едва не разваливаясь от быстрого хода. Кресты остались позади, мул снова пошёл медленно.
— Свят, свят, свят… О таинства страшного! О непостижимые! О, что я сделал, чтобы мне такие видения! — беспрестанно, будто причащаясь перед тем, как испустить дух, испуганно причитал Кяфир и, совсем как днём на корабле, хватал себя руками за горло, сопротивляясь удушью.
Монах как будто спиной увидел, что творилось с Кяфиром.
— Что? Страшно? — не оборачиваясь, буркнул Кяфиру монах: — А, возможно, нас с тобой уже сегодня сюда, рядом. Тебя на крест, а меня на кол. И даже имени не спросят, чтобы с родственниками не связываться и на кровную месть не нарваться. Тихо, тайно убьют. Но обязательно с уважением к твоей вере. Чтобы душу не уничтожить и ты мог на небе как мученик за свою веру предстать. Если ты христианин, так крест тебе сделают. По древнему обычаю, как римляне вас распинали. Кандаркаган Пехас, здешний главнокомандующий, — страшный поклонник всяких древних обычаев. Всё просвещённость так свою доказывает… Впрочем, нам с тобой на просвещённую казнь нечего рассчитывать. Это купчишек, норовящих без пошлины мимо города проскользнуть, с уважением уничтожают. А мы ведь ночью, незваные, в город, как воры. Нам и будет своя, хазарская, показательная казнь для воров. С нас с тобой, не спрашивая имён, кожу сдерут. Небось, помнишь, как это у нас делается? Сначала срежут большой палец правой руки, потом поведут по груди до мизинца левой руки и отрежут также и мизинец. А вот с ногами? А, вспомнил: ноги отрубят, чтобы труп не убежал… Мы, хазары, ведь верим, что трупы ходят мстить…
Кяфир затих. Потом подполз ближе к монаху, встал на коленях на передке арбы с монахом рядом, долго вглядывался в лицо монаху и вдруг протянул руку к его бороде. Оскалился:
— Ха, точно девять клоков бороды! Да ты же Волчонок! Ты принц. Девять клоков бороды могут носить только те, кто принадлежит к священному роду степных правителей Каганов. За твою пролитую кровь накажет само Синее Небо. Кто в Степи на тебя решится поднять руку?! Что ты передо мной дурака валяешь? Зачем меня разыгрываешь? Что-то я не пойму, зачем ты крадёшься в город ночью? Давай дождёмся рассвета. Утром люди смогут хорошенько посчитать число клоков твоей бороды. Тебя тогда с почётом пропустят в город. Или, оставаясь ночью неузнанным, ты хочешь испытать ризк — судьбу, записанную тебе и мне на небе на медной доске?.. Однако неужели ты так обижен на судьбу, что согласен ради моего испытания сам поиграть со смертью?
Кяфир, продолжая скалиться, заглядывал в лицо монаху.
Тот отвернулся. Не отвечал долго. Потом тихо буркнул:
— Да, я — Волчонок, принц Хазарии. Девять клоков моей бороды правильно подсказали тебе, что я принадлежу к великому Дому Ашины-Волчицы, рождающему Степи её правителей, Каганов… Однако у меня свои замыслы, Кяфир. Так случилось, что я не могу допустить, чтобы все в городе сразу узнали, что Волчонок вернулся. И потом ещё вот это, — он махнул рукой на груз, лежавший под покрывалом на арбе. — С этим мне можно возвращаться в город только ночью… Нет уж! Будем въезжать в город всё-таки ночью. И давай не трусь. Всё в воле Аллаха, и впрямь ведь невозможно изменить долю, написанную на доске.
С реки потянуло молочной дымкой. А впереди стало уже видно частокол, огораживающий город, и городские ворота. Город был тёмен, и даже на белой башне, нависшей над городом, не было ни огня. Волчонок насторожился, занервничал.
Мул было направился к воротам, н вдруг Волчонок резко потянул за вожжи, направил арбу с дороги прямо в заросли чакана. Забравшись в непролазную чащобу, соскочил с арбы, стал распрямлять руками чакан, укрывая след колёс. Обернулся:
— Помоги мне распрячь мула, Кяфир. Сегодня не поедем в город. Сегодня не та ночь. Не пришла Весна!.. Видел: совсем нет огней. А мы должны с этим подарком, — он кивнул на повозку, — въехать в город именно в новогоднюю ночь!..
Примечания
1. Каспийское море тюркские народы и сейчас зовут Хазаром.
2. Нынешний Дербент. «Воротами ворот» его называли, потому что отсюда начиналась дорога из мусульманского мира в Гог и Магог — к язычникам.
3. Волга. Хазары называли её благоговейно Итиль — Река.
День пятый. «Легенда о Ляле — Весне священной»
(который могут пропустить читатели, не интересующиеся легендами)
Сохранило сокровенное сказание тюрок древнюю легенду о силе Весны. Всякое люди говорят про легенды. Кто в них верит, кто нет. Но для Серах теперь, как сложится вся её судьба, зависело от силы Ляли-Весны, и потому мы легенду эту расскажем.
Поспорила Этукен — Мать Земля-Вода, Золотистая Поверхность, прародительница всего сущего на земле, со всеми тремя людскими пророками — Моисеем, Иисусом и Мухаммадом, пасущими каждый своё стадо людей. И сказали в том споре все три гордых пророка, обращаясь к Этукен: «Мы установили: люди будут смертны у тебя на земле, Этукен, потому что как иначе отличиться от людей нам, Пророкам бессмертным?!» Согласилась Этукен: «Воля ваша в ваших людях, бессмертные пророки Моисей, Иисус и Мухаммад!» И обрадовались пророки, и в тщеславии своём ещё пуще возгордились. Но добавила скромно. Этукен: «Воля будет ваша в ваших людях, пасущие человеческие стада пророки, раз сами люди себя к стаду приравняли, себя вам в рабство отдали. Однако посмотрите — не пропадает Вода, потому что на смену высыхающим каплям родники и ключи постоянно рождают новые. Не высыхает Степь, потому что из-под вянущих трав пробивается зелёная поросль. Так и с людьми, — которых вы пасёте, а я кормлю, — сделаю я: разрешу плодиться каждому в своём племени и народе…»
Запротестовали гордые пророки: «Ты хитра, Этукен! Ведь если люди будут плодиться, то они никогда не умрут; ловкий способ придумала ты, чтобы всё-таки сохранить бессмертие живущим на твоей Золотистой Поверхности людям и сравнять людей с богами…» Но в ответ только улыбнулась Этукен Золотистая Поверхность, Земля-Вода. Она ведь уже приняла своё решение.
А три соперника-пророка озлились: «Рано радуешься ты за людей! Пока есть мы, пророки, всё равно не поймут твоего сокровенья люди, не постигнут, в чём их бессмертие и как им с нами, пророками, сравняться. Мы сделаем так, что за спасенье души будут безжалостно истреблять люди сами своё семя. За загробный мир, ничтожные, сами свою плоть они на земле уморят. Пророков переменяя, племена свои позабудут!..»
Не понравилась злоба людских пророков вездесущей Этукен, покачала она своими чреслами грозно, так, что ветра все ковыли низко пригнули. Потом же, спор окончив, сказала: «Ладно, не буду оспаривать вашу господскую прихоть я в рабах ваших. Коли сами харан — свободные люди — вам в рабы себя отдали, в стада себя превратили, то сами они того и заслужили. Что ж! Пусть пасёт в таком случае каждый из вас, трёх людских пророков, своих людей-рабов триста шестьдесят четыре дня в году и ещё полдня. Быть посему испокон и вовеки! Но послушайте, бессмертные людские пророки, поскольку, как бы ни гневалась я на людей за то, что они сами сделали себя вашими рабами, не имею я никакого такого права утаить-сокрыть Тере — закон и обычай всей жизни ни от Скота, ни от Степи, ни от Всей Массы Народа, по каким бы пророкам-пастухам, ими самими себе избранным, — ни разбредались их стада, то оставлю-ка я одно утро, единственное, для Весны Священной. На это утро, терзающие людей пророки, отнимаю я у вас всю власть над вашими рабами. Будет а первое весеннее утро, каждый год зачиная, сам Од — Огонь Несущий пылать в крови мужчин и будет Кек Тенгри — Синее Небо увлажнять глаза женщин. И я Этукен — Золотая Поверхность, Мать Земля-Вода, буду в их манящей жемчугом коже… Так пусть вечно будет! Одно заветное утро, чтобы не могли искоренить сами себя люди — «рабы божии», чтобы род людской на земле не угас, до лучших времён сохранился».
Что до времени скрыто, то будет потомкам открыто. Хоть на полдня, хоть на утро одно, но заветный свой полог для людей не закрыла Природа. Сокровенье своё постигать всем даёт в утро первое Нового года — в час прихода на землю священной Весны. ВЕСНА всем разрешает: «НЕ БОЙТЕСЬ — ЛЮБИТЕ!..»
День шестой. «Серах — колдунья»
Всю вочь, не смыкая глаз рядом со сладко спящим Буланом, юная Серах старалась забыть о злых кумушках из кенасы и строгих иудейских Учителях — она верила, что Ляля-Весна поможет ей. Вот же Ляля, вот! Где-то рядом совсем! Серах слышит её жаркое дыхание, чувствует её волшебные шаги.
Серах приоткрыла полог, выглянула из юрты. Скинув белые туманы, Река плыла в сладкой истоме, маня людей своей зовущей, очищающейся от льдин, как сбрасывающей одежду наготой. По берегам деревья, как купальщики, стояли по колено в воде — ещё девственные, без зелёной листвы, с только набухшими почками. А поля уже обнажились и вот-вот, как в первую брачную ночь, примут в себя сладострастье струй первого грозового ливня. Прилетевшие для любви птицы пропели зорю. Сквозь очистившуюся воду было видно, как косяками поднимается вверх по течению рыба. Рыба умрёт, чтобы ожить в массе икринок. Даже хладнокровные змеи и ящерицы оттаяли, ожили и поползли по земле друг к другу.
— Чем же прогневили мы так богов, харан — свободные люди, что мы не смеем открыто устремиться друг другу в объятья? Почему я должна бояться Неизречённого бога из-за моей любви? — думает Серах. — Расплата? Почему богу нужно наказывать девушку за счастье?! Нет, пусть освободят меня Ляля-Весна и Земля-Вода хоть на сегодняшнее утро от рабства у бога. Я хочу, чтобы, как парус на горячем ветру, трепетало моё тело! Как лодка на большой волне, поднималась грудь! Пусть обожжёт моя любовь Булана. Пусть прожжёт его сердце!
Серах резко повернулась, вбежала в юрту. Она тормошит сладко спящего Булана:
— Э-эй! Пробуждайся скорее, муж мой! Разве ты не чувствуешь, что волосы мои рассыпались тебе по лицу — чёрным пламенем тебя лизнули?! Ну, открой же глаза! Что жмуришься? Или никогда не видел меня всю? Вот мон чёрные глаза-птицы — они уже летят, зовут тебя встречать солнце. Вот мои губы алые, жаркие, с тонкими устьями, — они тебя сладостью и хмелем, как кумысом, сейчас напоят.
Проснулся, смеётся Булан. Милую руками жадными обнимает:
— Ой, горячо! Ты как пламя!
— А я и есть Серах Пламя. Разве ты не знал, что «пламя» означает на моём родном языке моё имя?! — жарко ласкает мужа Серах. — Было Пламя в свите у Неизречённого бога, а потом в облике женщины на землю к людям спустилось. К тебе, мой желанный, чтобы тебя зажечь, пришло?! Ну же, загорись честолюбием, гордостью, жаждой богатства! Становись караимом!
— Йажши ат, Карайя куват — хорошая лошадь — караиму сила! — Будешь меня крепко любить, я нам огромное богатство наколдую. Зачем тебе лошадь? Лучше много золота…
Смеётся, вроде бы дурачится, громко в ответ Булан:
— Ой, Пламя любимое моё!.. А я об этом уже думал. Я парень не промах—не какой-нибудь талай — заяц! Я знал, какую чаку — девушку похитить. Слышал я от ушлых людей, что отец твой Вениамин колдовским пятиугольником обладает, в тайную общину «детей вдовы» входит и про Ремесло от самого мастера секреты знает. Скажи, а сможет мне в воинской доблести помочь пятиугольник?.. Ты видела? Какой он из себя? Из золота?..
Сделала круглые глаза Серах. Пальцем строго губы Булану прикрыла.
— Тсс! Не повторяй глупости, мой милый! Разве был бы простым ремесленником мой отец и варил бы он рыбий клей, если бы был у него заветный пятиугольник… Пятиугольник в тайном обществе «детей вдовы» имеет только сам Мастер. Обладая пятиугольником, Мастер может прожить 5557 лет, а потом в тихом сне перенестись сразу на небо. Вот, мой милый, что такое пятиугольник…
Перестал дурачиться Булан. Никого нет в юрте — только рассвет серебряной паутиной струится сквозь дымник. Но шёпотом, словно его подслушивают, пересохшими губами выдавливает слова Булан:
— А ты, Серах, знаешь, кто у нас в городе Мастер?
Кто?
Но уже опять веселится Серах. Опять милого крепко обнимает. Опять чёрным пламенем своим зажечь жарко хочет.
— Ой, смешной ты, Булан!.. Кто же непосвящённым откроет, кто Мастер. На то ведь и тайна, чтобы её не все знали… Ай, ну не сжимай же так свои губы. Приоткрой рот немного — так слаще нам будет целоваться…
Полетели на облаке в синее небо Булан и Серах, крепко-крепко друг к другу прижавшись. А столб света из дымника уже пожелтел, и вот розовый цвет в нём. Значит, солнце всходит.
Вырвалась из объятий Булана юная Серах. Медное зеркальце схватила. Смотрит на себя. Цену себе в глазах людей представляет. Вот высоко волосы пальцами раскрытыми взбила — как гроздья чёрного винограда волосы на голове укладывает. Надевает яркое платье — жёлтое, из одного цельного куска материи.
— А ты, мой резвый Булан, что, ещё всё потягиваешься? Поднимайся живее, соня! Или ты запамятовал, что сегодня — новогоднее утро?! Сегодня Ляля приходит. Её Этукен к нам, всем хазарам, приводит. Бежим скорее с тобой на остров — к Белому храму побежим, к белой башне, ко дворцу Иши-управителя. Будем встречать Лялю на острове среди самых богатых и знатных! Буду я на острове на встрече Весны всех красивее! Или ты уже стесняешься жены своей? Не хочешь похвастаться перед Всей Массой Народа такой завидной Абу-рен Эме (самим добытой женой)? Ах, какая удача, сегодня будет ясным небо. Дождь не разгонит праздник. Ну же, скорее, бежим просить прощенья за наш грех, милый!..
Шумит, плещется людской поток — через наплавной мост плещется на остров. Взявшись за руки, как дети, бегут Булан и Серах на остров. Мимо церкви с запертыми дверями пробежали. Мимо пустых мечетей. Мимо иудейских кенас — караимских домов молитвенных собраний. Вот уже на наплавном мосту Булан и Серах — дробно стучат по дереву деревянные сандалии Серах, но ещё чаще стучит её сердце.
— Нас соединила Весна! — прижимается к Булану Серах. И заглядывает милому в глаза. — Ведь правда?..
Они остановились на острове. Стоят у воды.
— Вот сейчас оно выйдет из-за леса — наше общее Солнце! — быстро шепчет Булану Серах. И тут же, словно вправду была она каббалисткой и книгу Йоциру — Творение знала, ударил сильный свет.
— Колдунья! — обнял юную Серах Булан. А свет шёл на них. Свет близился. И вокруг всё ожило, наполнялось красками и преображалось. И в оглушительном свете родившегося дня затем внезапно, тих и укромен, возник заповедник — будто в шалаше они оказались среди огромного леса толпы, качающего всеми ветвями.
Как схоронились они на глазах у всех? Почему их двоих уже не смеют толкнуть бесцеремонные локти; их двоих уже стыдятся коснуться чужие потные руки; их осторожно обтекает толчея? Или это их, юных влюблённых, разглядела и укрыла пришедшая с солнцем Ляля-Весна?!
И поверил Булан в тайну Йоциры, которой Серах колдует. Вот как: даже Весне священной с помощью каббалической книги приказать можно!..
— Ну, нам пора объявлять о свадьбе, милый!
Булан и Серах спешат ближе к Белому храму. Серах хочет пробраться поближе к священникам. Чтобы, когда глашатаи затрубят в длинные трубы и прославят Новый год и Весну, священники хорошенько бы услышали, ничего бы не пропустили из того, что Булан сейчас при всех людях про любовь с Серах объявит; Серах громко-громко назовёт женой своей, самой Лялей-Весной освящённой, от позора оберегаемой.
Вот уже подняты длинные трубы. Вот уже кричит весь народ, подняв руки и приветствуя криками праздник. «Не забудь: как меня на руки поднимешь, сразу из всех сил кричи: — Нас соединила Весна!» — шепчет Серах Булану.
— Нишит-е (будем бить палками)! — это нечто вроде объявления арсиев-стражников о собственном появлении. — Разойдись! Все по домам — сегодня Весна отменяется. Академия мудрецов при Белом храме пересчитала календарь и откладывает Весну. Праздник переносится. О Дне Весны будет объявлено особо…
Только что вокруг в весёлом настроении бушевала толпа, и вот — вытянуты все лица. Унылые люди послушно расходятся…
— Эх, нынче весна приходит голодная. В городе совсем плохо с хлебом, так хоть повеселиться надеялись. Пока смеёшься, вроде и, как урчит в желудке, не так слышно… Но вот тебе подарок!..
Ворчат. Но не бунтуют. Приучены повиноваться.
Булан растерянно смотрит на Серах. Как же их законный вечный брак? Как теперь, если Весна Священная не приходит?..
У Серах убитое лицо. Но вот она уже трудно улыбается.
Серах берёт Булана за руку:
— Пойдём гулять на торги?!
— Какие торги? Глашатаи всегда прежде всего громко трубят в длинные трубы, объявляя приход Весны, начало праздника и начало торгов. Нельзя! Амили ещё по рядам не ходили, не отделяли в свои тележки десятину.
Серах гордо выпрямилась, её голова как факел:
— Всё можно остановить. Даже Весну. Но не торговлю!.. Никому торговля не подвластна. Как ни гнали Христос и Мухаммад торгующих из храма, — смирились. Усвой, милый: ничто в мире не сможет остановить рынок, если рынок захочет торговать. В предвестии мора и падежа скота каркают в городе, перелетая от падали к падали, вороньи стаи. Маги и муллы, пугая, пророчат: за грехи скоро будет наслан демонами на город нагой убийца — голый дэв. Закрыты двери базаров, выгнали стражники оттуда торговцев. Но торги всё равно начнутся. Вот он наплывной мост — чем не место для рынка? А голодные люди — так они сговорчивее. Голод не тётка — с последним на рынок пригонит. А на мосту торговать даже лучше! Чего купцам базара ждать, коли тут покупателей пруд пруди? Тут не зевай — продавай, да с мошною от стражников ходу! Тут и цену скинешь: десятину не отдавать — всё одно в барыше!..
Наплывной мост, составленный из 1840 лодок, стонет под тысячами ног.
— Нишит-е (будем бить палками)! Иша-правитель не разрешил на мосту торговать! — беспрестанно орут на мосту стражники. Кричат, угрожают. Но трогать — никого не трогают стражники. Кого бить? В такой толпе руки и ноги за обиду повыдергают, — в такой толпе каждый противу стражников герой.
Ходит ходуном наплавной мост. Подпоясанные верёвками чёрные лапсердаки приезжих торговцев смешались с золочёными, дорогими кафтанами хазарских рахданитов, ведущих заморскую торговлю. Архалуки н шубы северных гостей трутся меж пёстрыми халатами купцов с юга. Торгуют по-разному. У кого товар поплоше, мошна победнее, те сразу заорали во всё горло; зазывают, выкликают цену. Купцы побогаче не спешат, цену наперёд не называют: мимоходом, с безразличными лицами прицениваются, к толпе исподтишка приглядываются. Метким глазом отметят покупателя — и глядь: уже скользнули в толпу их приказные, сейчас покупателя, как рыбу, выудят, будто на леске к купцу подведут, с крючка не спустят, сумеют в цену поднять и товар расхвалить.
Посреди моста груда шёлковых кусков. Желтолицый китаец расположился на шёлке, как дома: уже и пиалу с травкой заварил. Всем видом китаец показывает, что день весь на мосту просидит, а цену не скинет. Тонконогий араб затащил на мостки верблюда. Вода уже брызжет меж досок, вот-вот черпанут бортом мостовые лодки, а араб никак не может развернуть своего верблюда и сгрузить тяжёлые тюки дамасского полотна. С дубовым и берёзовым поленьями а руках расхаживает взад-вперёд русоголовый славянин. Плоты у него где-нибудь под городом. А он ищет с образцами покупателя. И найдёт! Вот араб занят своим товаром, а уже косит на поленья: кому в Халифате не нужны весло и гроб, подпорки для корабля и намогильный знак, а из чего их сработать ремесленнику, как не из надёжного дерева из Руси: хаданга — дуба! Да и воевать не будешь без колчана и стрел, не примешь гостей без резной утвари: нужен белый халандж — славянская берёза!.. И глядите: не выдержал араб, бросил поводья своего верблюда рабу, а сам ухватился за поленья, взял, вертит в руках, на зуб попробовал, знаками сомненье выказывает — весь ли товар, как образцы, а сам спешит: удача-то какая — без перекупщиков — пиявок местных обошёлся! Славянин в ответ повернулся к Хорсу — Солнцу, бьёт себя в грудь. Араб динары отсчитывает: клятва Хорсу надёжней расписки!..
Крутит водоворотами, толкается, болтает длинными языками, разглядывая товары, толпа:
— Йажи ат, карайя куват — хорошая лошадь караиму сила.
— Да где теперь у нас лошади?.. Дождёмся: летом спустится с верховьев Реки Барс — всех своей конницей перетопчет.
— Не распускай слухов! Чего пугаешь? Нету у Святослава конницы! Он бы наших всадников взял, коли мы б к нему прислонились… Эх, под таким полководцем можно хоть на ромеев, на арабов!
— Эй, а вы, нищие, прочь! Не глядите голодными глазами на рыбу. Не для тутгары — прислуги приготовлено здесь угощенье, здесь торгуют только оптом. Торговля только для тех, у кого есть да ники и тассужи, у кого в широком поясе звенят монеты, а не булькает вода в голодном брюхе!
Истинно здесь всё для пира в чуму. Но за пир надо платить не одними голодными взглядами. Вон они лежат — нежно-жёлтые, как янтарь, темно-красные, как гранат, ломти рыбы, копчёной и вяленой. А на что купить?
— Покупайте тьму бочек! Покупайте две тьмы бочек! Не беда, что в городе голод. Не для псов-попрошаек хоронились купцами запасы. Сыпьте, сыпьте монеты и берите товар. Хоть в Багдад, хоть в Кордову везите! Русским воском крепко зальют при вас бочки — не пропадёт по дороге товар, не испортится ни один кусок, не угаснут янтарный и гранатовый цвета.
— А я слышал: Барс Святослав ходит на лодках. Он уже вятичей под себя взял. Совсем рядом! К нам идёт…
— Ищите изысканного, тонкого кушанья? Купите солёного арбуза! Только здесь, в Городе-на-Реке, знают секрет, как сохранить на всю зиму свежесть арбузу. Если купите ладью с арбузами, то купец бесплатно пошлёт с вами верного приказного: можете снять с приказного голову, если в ваших северных странах втридорога не раскупят арбузы. И торопитесь: вон уже выбрал арбузы для своего хана Кури бритоголовый печенег.
— Эге, а что это у печенега под мышкой? Уж не обвязаны ли тряпкой серебряные трубы? Не разрешено Кагановым указом продавать печенегам серирские серебряные трубы с бычьими головами — для войны Служат печенегам эти трубы и для грабежа: страшными звуками их пугают мирных селян печенеги. И грабят! Так кто же это продал серирские трубы печенегу? Кто сам на себя набег накликаем? Ах, вот зачем! А может, печенег для Святослава-барса зловещие трубы покупает?
Пробираются Булан и Серах, взявшись крепко за руки, чтобы не потеряться, меж рядами торгующих. На товары глазеют, слухи в себя впитывают.
У новгородцев товар мелкий, цены высокие. Янтарём и жемчугом, серебряными кольцами, браслетами и гривнами соблазняют новгородцы. Впрочем, есть у них и другой товар — пенька и лён. Но уж тогда бери лодку-ушкуй, а из-за какой-то бочки новгородец рядиться не станет. Да и то: удобно покупать у новгородцев товар ушкуями. Ушкуй — чёлн вёрткий, на волне устойчивый: можно бы и за море на ушкуях, коли не цепи поперёк реки. Так бери, покупай товар ушкуями — звериная морда на носу ушкуя лучше стражников товар охранит: подумают охотники до грабежа, что это Русы — и со страху в бега ударятся сами! Как от Барса Святослава удирать будут…
Возле новгородцев толкутся с товарами их побратимы — буртасы и булгары. Меха на коротких буртасах как на дорогих женщинах. Свои меховые шапки буртасы обернули цветными чалмами. Прокладывая себе дороги локтями, тащат тяжёлые связки куниц бородатые булгары. В рубахах, джуббах, в белых чалмах снуют туда-сюда с корзинами, полными изюма, мардаты. Чинные, в одеждах из парчи, с оружием из серебра, глазеют на народ чернобровые мадьяры.
— Ты боишься, Булан, войны? Какая война, когда такая торговля? Зря твой отец, Булан-старший, пошёл на Алтай за полком. Ещё приведёт насильников… — вкрадчиво шепчет Серах.
На правом берегу у моста торгуют киевляне. Вывалены из лодий на берег бочки мёда и воска, кувшины хмельного берёзового сока, стоят, лежат кольчуги, панцири, ножи, мечи.
— Видишь, Булан! Зачем бы Русы продавали нам оружие, коли бы Барс Святослав войну против вас готовил?
Лежит кучами русский зелёный и красный сафьян, жёлтый русский пергамен. Нет только рогожных мешков с золотой пшеницей.
— Не пропустили пшеницу в город стражники. На дне реки кормят рыб золотые зёрна, а купцы, что дерзнули везти хлеб в город, распяты.
Нехорошие слухи ходят по наплавному мосту.
Булан и Серах жадно бродят в толпе. Слушают слухи. Вокруг них бойко шепчутся:
— Узнает Святослав про распятых русов — беда!
— А пшеницы-то нема! Нету Русов с пшеницей — быть голоду.
— Управитель Богатством Иша Иосиф спасёт. У него на крайний случай полные амбары пшеницы набиты… Вот он их, как совсем помирать начнём, сразу и откроет — облагодетельствует честной народ.
— Держи карман шире! Может, кого и облагодетельствует, но не нас с тобой. Пшеница-то воя как в цене всё поднимается.
— На то — рынок. Чего нет, то и дорожает!
— А слышал: Русов-то, говорят, не по-нашему обычаю распяли. Не на деревянных ослах… А на крестах… По-ромейскому…
— Ну? Значит, их не наши стражники, а между собой они… Христиане-еретики против своих же. Выясняют, кто православнее. Небось, павликане-манихеи с ромеями опять чего не поделили… Вот еретики такой казнью и намекают… Что, мол, с «ромеями» надо поступать по ИХ…
— А что тут можно намекать? Если Русы пошлину не хотели платить, то убиение законно. Тут и Барс Святослав смолчит. Как же ещё за сокрытие пошлины купцов проучать? Но вот коли Русы те пошлину заплатили…
— Да что ты сказал? У тебя язык — собачий хвост…
Серах хватает Булана за руку, силой оттаскивает в сторону. Её сердце стучит. Разговор, который они слушали, уж очень как-то стал похож на нарочитый: эти слухи уж не сами ли соглядатаи Управителя Богатством распространяют? Сами скажут — сами тебя тут же и схватят, и на осла деревянного или, ещё страшнее, кожу с живого сдирать начнут, чтобы ПРИЗНАВАЛСЯ. В чём угодно, когда кожу-то сдирают, признаешься.
Булан и Серах снова ныряют в толпу. Скорее. Дальше, дальше от внимательного глаза, который, им показалось, к ним начал присматриваться. Только бы успеть убежать…
Уже за мостом, на берегу среди юрт, перемешавшихся с редкими саманными домами, Серах решительно кладёт обе руки на плечи Булану:
— Милый! Вон большой толстый тополь, а под ним мой дом. Я должна идти…
Булан опускает голову:
— Ты бросаешь меня?.. Что с тобой, милая, теперь будет?
Серах долго молчит. Ждёт, смотрит Булану в глаза. Потом, не снимая своих рук с его плеч, говорит медленно и почти строго.
— Не спеши отпевать меня, Лосёнок. Я не тоюрке — юрточная юбка, не какая-нибудь пугливая кочевница, которая обесчестится и сникнет: только плачет и терпит, как её бьют, а потом продают, как самый гнилой товар, на Сук Ар Ракике — невольничьем базаре. Я сейчас пойду, а в субботу, когда мой отец Вениамин вернётся из плавней с заготовки рыбьего клея, ты должен прийти в наш дом. Я уже твоя жена. Солнце взошло сегодня при ясном небе — оно освятило нашу крепь с тобой. Ляля-Весна соединила нас. Мы оба чувствовали, как она нас в толпе укрывала. И теперь ничто уже нашу брачную крепь не разорвёт. Однако я не хочу лишнего позора для отца. Ты же знаешь про строгости в наших иудейских кенасах — Учителя караимские блюдут показную нравственность лютее раввинов, хоть и честят раввинов талмудистами, а себя именуют свободными еретиками. Я умоляю тебя: ты должен добиться, чтобы в субботу мой отец решил, что это он сам тебя для меня выбирает…
Серах трудно засмеялась, потрепала Булана по голове:
— Ну, справишься? Ты вон ведь какой каткулдукчи — воин! И видом приглядный, храбрый. И отец у тебя известный — ходатаем своим Вся Масса Народа не всякого выберет! Сыну гонца-ходатая за весь народ нельзя отказать?! Мой отец такой — он за народ в лепёшку расшибётся… Сумеешь отца покорить?! Мы должны что-то сделать, пока всё не раскрылось! Ты же не допустишь, чтоб меня побили камнями?!
Булан ободрился:
— Я хитрый! Я не какой-нибудь талай. Я не лягу на спину, подняв лапки кверху.
Серах жёстко сказала: — Помни, что с обесчестившего девушку, если он не выплатит отцу виру, сдирают кожу. Я вынуждена буду людям сказать, кто меня обесчестил.
Булан вздрогнул. Жёлтое короткое платье полыхнуло, как жёлтый солнечный зайчик, и, как зайчик, будто стёрлось на белой саманной стене.
Будан долго не уходил. Смотрел на толстый тополь над домом Серах — на ветках тополя уже проклюнулись нежные зелёные листочки.
Сдавленный крик долетел до него, как плач на плахе.
— Нас соединила Весна!
Это был крик Серах.
День седьмой. «Памфамир — всего лишённый»
Кяфир извивался, как змея, на передке арбы под парившим солнцем. Руки и ноги Кяфира были крепко связаны вожжами. В зарослях чакана было сыро, жарко и душно.
— Ну что, Кяфир, — задумался о своей судьбе? Будешь рассказывать правду? Говори: по чьему поручению ты пробрался ко мне на корабль? Кто тебя послал следить за мной — сам император Никифор Фока? Кто наставлял — Паракимомен, его спальничий?.. Говори же всё, нечестивый! Ты видишь: не только у базилевса Византии хорошая сыскная служба, но и почтовый барид всемогущего Халифата не бездействует — нанял надёжных осведомителей, и я был предупреждён о византийском лазутчике. Ты уличён и, если хочешь молить меня о снисхождении, кайся!..
Кяфир снова скрутился, как змея, всем телом. Застонал.
Волчонок подошёл к нему. Распутал Кяфиру ноги и, рывком приподняв, поставил на ноги.
— Смотри мне в глаза и отвечай. Имя твоё?
— Памфамир, — спёкшиеся губы Кяфира едва шевелились.
— Понятно. Это греки тебе такое имя дали. Всего Лишённый значит. Такое имя обычно дают крещёным рабам. Ты из рабов?
— Да. Я отсюда, из Хазарии. Отец меня продал здешнему работорговцу, толстому, как бочка. А работорговец — грекам.
— Вижу, ты искренен. Дальнейшее я могу даже рассказать за тебя сам. Тебя купил Паракимомен — спальничий; окрестил и предложил тебе на выбор: либо вольноотпущенником с обязательством выполнять его особого рода поручения, либо носить ночные горшки за какой-нибудь работающей на сыск гетерой. Ты решил попробовать и то и другое, и вот преуспел — отправлен следить за самим Волчонком, — монах гордо выпрямился, — за мной, значит. Только что же не сбежал, когда выбрался на берег? Надеялся, что я не замечу, что ты спрятался на арбе? Или хотел проследить, куда я со своим тайным грузом направляюсь? Говори.
Кяфир замотал головой:
— Почтенный Волчонок! Это верно, что я Кяфир, но я не лазутчик. Я стал, как и ты, монахом. Но был обвинён в ереси, бит плетьями и вынужден был бежать на Кавказ, где из христианских владений пробрался во владения Халифа. Что скрывать: я — «сын вдовы»!
Волчонок ближе подступил к Кяфиру, взял его недоверчиво за подбородок, притянув к себе:
— «Сын вдовы»? Ты что же — хочешь сказать, что ты из манихеев — инакомыслящих еретиков-христиан, которым Халиф даровал на Кавказе убежище от преследований со стороны своих единоверцев — православных?
Кяфир дрожал от страха, когда Ал Хазари сильной рукой притянул его к себе. Но тут он вдруг поперхнулся и, как собеседник Джибраила, сиречь припадочный, изо рта которого бьёт пена, захлебнулся в истошном словоизвержении:
— Православные? Это в Византии православные? У патриаршего престола православные?! Нет, там сидят не православные, а ромеи. Римляне пробрались к святыням христианским и — беззаконные, неблагодарные, неблаголюбивые — сами себя охально называют христианами. А нас, «сыновей вдовы» — истинных духовных людей, настоящих носителей имени Христа, нас, верных учению Павла и Мани, возвративших в Христову веру заветы семи первобытных духов и священную тайну Каббалы, эти мерзкие богоотступники хают, клеймят павликанами и манихеями, злоеретиками-мессалианами, называют скрытыми иудеями. Они издеваются над тем, что мы, сыновья вдовы-природы, стремимся постичь её сокровенные тайны и сознаём себя лишь Тенями в этом мире. А базилевс, считающий себя благочестивым и православным, заявил, что всякий, кто побуждаем рвением и заботой о боге, должен, — чтобы зараза инакомыслия, распространяясь, не охватила всех людей, — убивать еретиков. Что это, мол, про нас сказано в Евангелиях: «Тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мной!»
Волчонок отпустил Кяфира, развязал ему руки. Его отношение к Кяфиру резко переменилось:
— Так, значит, ты всё-таки действительно «сын вдовы». Да, много вас, бежавших из собственной христианской державы, теперь бродит по кавказским владениям Халифата. Восток кишит вашими «тенями». А чтобы как-то прокормиться, вы готовы наняться хоть гребцами на корабли — на самую тяжёлую и опасную работу… Выходит, ты один из обиженных судьбой. А я тебя оскорбил тяжким подозрением. Прости меня, брат мой в злосчастии! Ты свободен!..
Они обнялись под уже гаснувшим светом жёлтого хазарского солнца — два монаха: невысокий, крепкий в кости, широкоскулый, черноволосый, кареглазый мусульманский монах с громким именем Волчонок Ал Хазари (именем хазарского принца и прославленного полководца Халифа на Кавказе) и длинный, тощий, с узким лицом и какими-то выцветшими, будто сгоревшими глазами, с серыми, как пепел, волосами, похожий на баруа — тень христианский монах Памфамир (в имени которого обозначил ась его скорбная доля — Всего Лишённый).
Вышла бледная луна и встала рядом с солнцем. Круглая, она ухмылялась, турилась с неба на двоих богословов, оживлённо обменивавшихся.
— А ты знаешь, я читал «Сабуркан», и мне нравится многое в великой Печати. Я признаюсь, я сначала взял «Сабуркан» из-за роскошного переплёта. Юношей ещё здесь, в Хазарии, я отдал целое стадо овец за эту книгу. Здесь ведь всё можно было достать за хорошую плату — любую, даже самую тайную, книгу, и никто торговцев за ересь или инакомыслие не преследовал. Только плати!.. Даже в Багдаде, в библиотеке Дар Ал Илм — Храме Науки не всех подпускают к трудам тайным, а здесь… Так вот, если говорить о твоём, Кяфир, Учителе Мани, то меня увлекла его осведомлённость в Предании… Книги «Йоцира», «Разиель» и особенно «Зохар» — как без этих писаний, освещающих Каббалу — Предание, нам познать магию и тайну переселения душ?! Как понять вдову-природу?! Я знаю: вас, «сыновей вдовы», манихеев, за мистические знания избивают свои же, христиане. Нас, мусульманских суфиев, тоже, случается, что казнят за лишние знания.
— О, я читал сочинения казнённого Ал Халладжа. На рисовой бумаге! Написаны золотой краской! Книги подбиты парчой и шёлком, переплетены в синий сафьян. А какой слог! Какая мудрость! Он посвятил себя благочестивой жизни, взбирался в ней со ступени на ступень. И в конце концов уверовал он: кто в послушании очищает своё тело, занимает своё сердце добрыми делами и отстраняется от страстей, тот продвинется всё дальше и дальше по ступеням чистоты, пока его естество вовсе не очистится от всего плотского. А когда в нём не останется даже и частицы плотского, тогда дух божий, из которого был Иисус, вселится в него и тогда все его деяния будут от бога и повеление его будет повелением божьим. Ал Халладж сам возложил на себя вот эту самую высокую степень. Дух божий, из которого был Иисус, к концу жизни вселился в него…
— А ты хорошо осведомлён, христианин! Увы, шерстобит Ал Халладж, наш великий богослов-суфий, он был, подобно зверю, казнён в Багдаде сорок пять лет назад. Его книги мусульманские ортодоксы запретили так же, как христианские догматики запретили книги Мани. Во всякой вере есть свои раввины. Как в кандалы, жестоко замыкают божье слово в Талмуд. И не богу — Талмуду молятся… Это не только у иудеев… Но учение Ал Халладжа живо. Все мы, суфии, несмотря на мученический конец Ал Халладжа, изучаем его книги. И каждый год в Багдад съезжаются, презирая чрезвычайную опасность, храбрые учёные мужи, которые в день смерти Ал Халладжа выходят на берег Тигра точно там, где когда-то висело на позорном столбе тело Учителя, и высматривают его дух. Когда я был в Багдаде, я был бы с ними — не боящимися, что их тоже казнят.
— Да, мусульманин, трудно нам, докапывающимся до Знания, приходится во всяком вероисповедании. Везде нас одинаково преследуют и травят, объявляют инакомыслящими и еретиками.
— Я думаю, что это оттого, что все мы одинаково гностики — люди Знания. Знание вот наше Ремесло. И потому мы опасны для тех невежд, кто захватили в разных языках и разных верах власть. Ведь истинное Знание объединяет. Оно всеобще.
— Бог истинный — для всех един. А учение его мудрости и добрых дел приносится в мир время от времени в непрерывной последовательности через посланных Единого. Имён у посланных Единого много. Так, в один круг времени пришло общее истинное учение, основанное на Знании, через посланного, назвавшегося Буддой в земле индийской. В другое время через Зороастра — в стране персидской. Ещё в другое — через Иисуса в краях средиземноморских и европейских. А ещё в другое — через Мухаммада в странах азиатских и африканских. Теперь к нам пришёл Мани и только напомнил об общем Знании. То, что семь первобытных духов в течение сорока дней откровения открыли первым мастерам Ремесла и что закреплено в тайном учении Каббале — Предании, то теперь Мани через свою великую Печать доверяет всем истинным духовным людям…
Какие сладкие речи повели между собой два просвещённых монаха под усмехавшейся высоко в небе над ними бледной луной! Время бежало ланью, уже к полночи приближался его ход, а обладатели Знания все обменивались его дарами. Забавно устроены Единым люди, считающие себя его тенями. Только что они готовы были убить друг друга, а теперь согласно ворковали об Айн — тайном Ничто, якобы единственно управляющим всею Вселенной. Свысока именовали всю природу вдовой, оттого что, мол, природа, как женщина, несамостоятельна и вдовеет, когда уходит оплодотворяющее её солнце. Говорили с придыханием о посвящённых — «детях вдовы» у иудеев и «сыновьях вдовы» у христиан, суфиях у мусульман. О мистическом голосе первобытных духов, запечатанном в тайных книгах Востока.
Прежде обнялись, а теперь и лобызаются два монаха.
Но слово цепляется за слово, тянет новое слово — и вдруг искра высеклась от трения. Искра вспыхнула и палит. Коричневое пламя учёного раздора разогревает. В полном согласии были; как птахи божии, миловались два монаха, пока убеждали друг друга, что мир — не более чем Эманация (Истечение) божества и человек должен всю жизнь стремиться отрешиться от своей материальной личности и слиться с божеством.
Но высветилось внезапно изнутри, будто тёмным огнём, лицо Кяфира, и он, всё больше воодушевляясь, играя в пророка, заговорил о тайне тайн манихеев:
— Само «Ничто» — Айн с нами, и мы возьмём своё всюду. В Византии мы готовим очищающую купель. Будет внутренняя война, в которой брат пойдёт на брата, а сын на отца. Мы усилим опустошение призывом варваров. Вот я знаю: ты поспешил домой, потому что испугался за судьбу родной Хазарии при известиях о Барсе — катархонте Русов Сфендославосе, набравшем великую силу и уже рыскающем в среднем течении Реки. Но мы-то уже подумали о нём. Ещё ни хазарский, ни византийский властители имени Сфендославоса знать не знали, а мы уже добились, чтобы византийским послом к нему был определён наш надёжный человек — херсонский патриций Калокир. Калокир вошёл в великую дружбу и доверие к Барсу. Теперь подадим Калокиру условный знак, и он подобьёт Барса идти за добычей на Хазарию, а захотим, даже и на Византию — попугать, сделать сговорчивей базилевса! Вот как мы предусмотрительны и сильны. И не смотри на меня с изумлением. Я сейчас только для обыкновенных смертных какой-то там монах Памфамир — Всего Лишённый. Для избранных я уже тайно рукоположён во епископы. Не веришь? Но не тому ещё тебе, храбрый Волчонок и учёный муж, принц Хазарии Тонг Тегин и недавний главнокомандующий у Халифа, по имени Ал Хазари, предстоит подивиться. Ты ведь привык добывать победы на полях битв, в открытом бою. Но страшнее и величественней битвы тайные, которые изнутри раскалывают, как трещины корабли, и топят огромные державы. В этих скрытых битвах вдруг идут на дно и исчезают бесследно в пучине цари и герои и возносятся на поверхность моря к солнцу вчерашние рабы, вроде раба Багоя, убившего Артаксеркса Оха и севшего на его трон. Всего Лишённые, монахи-манихеи, становятся епископами Из Всех Родов. «Сыны вдовы» имеют уже много своих людей в Константинополе. Мы, как кокон, обвязали базилевса. И вяжем теперь патриарха. Мы ловчее, хитрее и мудрее. Наше оружие — тайна, и мы умеем надевать на себя личину.
— Да, я читал в трудах вашего Мани некое лукавое откровение: «Я не безжалостен, как Христос, который сказал: «Кто отречётся от имени перед людьми, отрекусь от того и я», а я, Учитель Мани, говорю верящим мне: «Отрёкшегося от меня перед людьми и приобретшего обманом своё спасение я считаю неотрекшимся и с радостью и без наказания принимаю и награждаю».
— Да, да! Ты правильно понял, какое оружие у нас, Волчонок. У нас развязаны руки. Мы можем целовать крест в одном, а делать другое. У нас двойная мораль и двойная совесть, а потому мы, как драконы с двумя головами, непобедимы. Мы отрекаемся перед обычными, непосвящёнными людьми и верим в кругу посвящённых. Мы презираем, как вещи, как навоз, всех, кто не являются истинно духовными людьми. С ними можно поступать, как со скотом, — они всё равно обречены. Только гностики — мы, люди Знания, достойны, чтобы с нами поступали справедливо. Нам, людям Знания, к каким бы языкам или вероисповеданиям мы ни принадлежали, всегда есть о чём поговорить. У нас есть Наур Ва Нур — цветы и блеск Знания, которыми мы можем друг друга одарить. А человеческий скот везде и всюду равно скот… Вот я общаюсь с тобой и чувствую твою духовность. А ты чувствуешь духовность мою. Остальные же — брр! Мне не хочется неразумных даже вспоминать…
Волчонок стал медленно багроветь, но вошедший в раж «сын вдовы», однако, всё бубнил и бубнил своим одноцветным голосом про избранных и посвящённых. Его понесло, как осла, которому крутанули хвост, и он, не заметив, что Ал Хазари уже брезгливо отодвинулся от него, продолжал с восторгом делить всех людей на высшие и низшие классы, согласно «Сабуркану».
— А как иначе глядеть на людей, если род людской уже по самой своей природе безусловно разделён? В первом, низшем классе материальные люди, которые погибают с Сатаною. Во втором классе, как вечно радующиеся, сумасшедшие в доме призрения, душевные праведники. Эти пребывают навеки в низменном самодовольстве, под властью слепого и ограниченного Демиурга. Они думают, что творят добро, и упиваются своей совестливостью и нравственностью. И только третий, высший класс образуют истинные — не просто душевные, а духовные люди. Отделяя от своего духа низменную плоть, они восходят в сферу абсолютного бытия.
Волчонок перебил. В голосе у него было не то снисхождение, не то насмешка.
— Но если оставаться двуличными и бессовестными, то как отделить от себя низменное?
«Сын вдовы» глянул на Волчонка свысока, уже как на ученика:
— Плоть низменную, а не низменные помыслы надо от себя отделить, чтобы сделать лёгкой, способной вознестись на небо душу. Мани учит: «Коли плоть безусловно чужда духу, то нужно или совсем от неё отрешиться, или предоставить ей полную свободу, что совершенно равнозначно отрешению. Кто идёт по первому направлению, тот соблюдает воздержание, аскетизм. Кто по второму, тот даёт плоти разгуляться хоть в самых неприличных мерзостях. Враги «сыновей вдовы» из-за этого второго направления объявили нас нравственно распущенными. Но именно второе направление наиболее отвечает истинным духовным людям, изощрённым в Знании, сиречь совершенным гностикам.
Волчонок не выдержал; съязвил:
— Ну, и какого же направления — воздержания или плотской распущенности — ты, истинно духовный человек, сам придерживаешься?
«Сын вдовы» ответил тихо, но совершенно серьёзно:
— По причине определённой природной неполноценности, которую я испытываю вследствие учинённого над сосудом для моей души здесь, в Городе-на-Реке, в детском возрасте оскорбительного насилия (чтобы потом на рынке выше взять за меня цену), не могу сам воспользоваться плотской распущенностью и вынужден придерживаться только первого, аскетичного направления.
Волчонок, уже было совершенно отвернувшийся от «сына вдовы», вздрогнул. Приблизился. Обшарил взглядом нагую, тощую, почти бестелесную, действительно будто баруа — тень, фигуру Кяфира. Смутился; скривил рот:
— Вижу.
Но «сын вдовы» по-своему истолковал смущение. Он решил, что убедил Волчонка всеми своими доводами, и дерзко отважился завлечь в свою тайную секту душу славного полководца.
— Почтенный Волчонок, — вкрадчиво начал Кяфир, — ты, порвав с язычеством, принял мусульманство, а я христианство. Однако мы с тобой в честном богословском Диспуте согласились, что между христианином-маиихеем и мусульманином-суфием различие меньше игольного ушка. А хочешь получить поддержку от всего нашего братства «сыновей вдовы»? Братство знает, что ты умелый полководец. И братству нужен ты, Волчонок Ал Хазари! Братья поднимут тебя выше русского Барса Сфендославоса и отвлекут Барса от границ Хазарии. Новый Рим хорошо заплатит тебе, и на эти деньги ты обустроишь Хазарию, а братство «сыновей вдовы», если ты пойдёшь потом походом, куда мы укажем, сделает тебе славу больше, чем имеет этот русский Барс Сфендославос, соперничающий ею с легендарным Александром Македонским. Соглашайся на нашу помощь. Это я предлагаю тебе — будущий епископ Итильский, Хорезмский, Оногурский, Терекский, Гуннский, Тьмутараканский, Хазарский; я не монах Памфамир — Всего Лишённый, а епископ Памфалон Из Всех Родов. Видишь, я верю в тебя и открываю тебе тайну, зачем я пробираюсь в Хазарию. Чтобы взять под себя в этих краях все христианские епархии! И отдать власть в Хазарии своему человеку, а славу Хазарии — своему, верному «братству» полководцу. Соглашайся: ведь мы в Константинополе тоже знаем, что Вся Масса Народа Хазар послала гонца на Алтай за полком со знаменем. С Алтая придёт полководец! Ты же тогда никому не будешь нужен, хоть ты и наследный принц.
Было багровым, теперь стало бледным, как луна, лицо Волчонка. Вот уж истинно: услышат иные об Айн — Ничто, соберутся на задворках, назовут друг друга детьми или сынами вдовы-природы, подмастерьями мастеров Ремесла или ещё каким-нибудь иным, завлеченьем соблазнятся и уже верят в себя, что они посвящённые и избранные масоны: они одни — духовные люди и души их одних не исчезнут вместе с Сатаною, а поднимутся сразу, на Арават — Седьмое Небо, к сокровищам справедливости, благоволения и росе воскресения. И в этом самомнении своём не хватает такому «сыну вдовы» часто даже простой способности трезво вокруг себя посмотреть, а с уважением отнестись к собеседнику тем более никач кой уже силы нет. Кто он, а кто ты сам, Памфамир — Всего Лишённый?
Засмеялся в ответ на завлечения «сына вдовы» Волчонок:
— Ал Халладж убедил меня, что назначение духовного человека в самосожжении: «Бабочка летит в огонь и через гибель сама становится огнём». Есть ли выше мудрость?! Чтобы узнать её, мне пришлось принять мусульманство — от родного Кек Тенгри — Синего Неба я пошёл к Аллаху. Я поступил так только потому, что искал знаний, а Дар Ал Илм — Храм Науки есть только в Багдаде. И другое имя храму знаний — Суфийский монастырь. Я знаю: ты можешь обещать мне особый пятиугольник, которым владеют Мастера «детей вдовы» при высшем посвящении. Но я не собираюсь коптить неба 5557 лет, чтобы потом в тихом сне перенестись на Арават. Ибо кому отрадно прозябанье? Разве что ползучим мелким гадам?! Мы же, Хазары, издревле поклонялись Оду — Огню. Таков наш корень. Поэтому я так думаю: нам от Айн — Ничто предназначено самосожженье. Как бабочке! Разве не самое почётное для человека власти стать огнём для других?! Откроюсь тебе: я всегда проявлял любопытство к тайным сектам и обществам, потому что в них поддерживается дух инакомыслия, а инакомыслие — острый нож, которым добывают новые знания. Однако я послушал тебя, Кяфир. и мне стало противно. Ты подтвердил, что вы себя объявляете избранным слоем, высшим классом, а прочих людей, которые пасут скот и сеют хлеб, чтобы вас кормить, спешите отнести к низшим. По рождению я — Волчонок. Принадлежу к Дому Волчицы Ашины и по самой крови своей рождён быть избранным в Великой Степи, ибо Небу подобен Каган. Однако я всегда полагал, что Каган восседает над своим народом, чтобы весь народ устроить. Завещана на древних Чёрных Дощечках мудрость моих предков: весь народ должен Каган обустроить, а не одних доблестных беков и мудрых шаманов. Народ — шатёр, а Каган — опорный столб. Рухнет шатёр без опорного столба. Разбредётся народ. Но без самого шатра загадит опорный столб первая же пролётная птица; сломает ветер; и обуглит в небесном гневе колючая молния. Я хочу стать бабочкой, которая влетит в огонь и через свою гибель сама станет огнём. Счастливо гореть, когда ты знаешь, что огонь, в который ты входишь, согреет твой народ. Я вернулся на родину, чтобы спасти Хазар от Барса Святослава. А придёт с Алтая полк, я первый не возгоржусь — встану под знамя его полководца.
Волчонок выпрямился и представительно расправил плечи, как славный бек перед воинами, хотя перед ним был только одинокий Кяфир:
— Вот в ответ моя тебе, «сын вдовы», тайна!
И тут же Ал Хазари начал собираться — запрягать мула, разворачивать арбу. Он считал, что убедил Всего Лишённого. Открыл заблудшему такую высшую истину, которая благодаря своему величию неоспорима.
Совсем стемнело. Луна в небе стояла уже высоко и, казалось, подозрительно, вся скривившись и то и дело прикрываясь облаком, глядела на арбу. Мимо зарослей чакана по дороге, ведшей к городу, прошагал запоздалый караван. Высокие спины верблюдов выплывали из темноты, как горбатые сопки, напомнив Волчонку Алтай, куда он в юности ездил учиться мудрости и доблести.
Из города, с минарета донёсся прощальный крик муэдзина, и Волчонок Багдад. Потом мерно ударили церковные колокола — христианская церковь позвала к вечерне, и Волчонок будто увидел Киев. Росский каганат ещё оставался языческим. Но Каганша Ольга, мать Барса Святослава, уже строила церкви, крестилась в Константинополе сама. Волчонок любил Киев, не раз бывал там с послами. Но данником Святослава прибыть в Киев он не хотел… За рекой на другом берегу вспыхнул огонь на капище. На родном хазарском капище. Сюда Волчонок ходил советоваться с предками — очищать душу перед битвами. Огонь на капище скрыло молочным туманом, наползавшим на реку.
Ал Хазари опустился на колени возле арбы:
— Помолимся перед дорогой! Весну не объявляли — мы услышали бы длинные серебряные трубы. Они очень громкие! Но всё-таки рискнём въехать в город. Я ведь, честно говоря, не решился ещё и из-за тебя. Побоялся, что врага сам привезу… Однако какое у тебя наше, хазарское, имя? Не за Кяфира — неверного и, тем более, христианского епископа мне, мусульманину, Аллаху молиться? Как тебя, «сын вдовы», по нашему-то звали. Меня Тонг Тегин! Но ты уж и сам, конечно, об этом догадался. А твоё родное, наше имя?
«Сын вдовы», разочарованный неудачной попыткой совращения в свою секту самого Волчонка, грубо проворчал:
— Не помню…
Волчонок взорвался:
— Не помнишь?! Так как ты с Кунгаулсун — Высокой Травой Жёлтой Полынью говорить будешь? А как поговоришь с Синим Небом, с Красным Огнём, с Зелёной Степью? Могут не откликнуться тебе! Не принять назад. Стыдно, Всего Лишённый. Как это ты так, себя забывши, на Родину возвращаешься?.. Ты чтишь вслед за твоим учителем Мани Павла из Самосат. А почему же завет другого великого самосатца, древнего Лукиана, забыл? Про нас с тобой, таких, как ты и я, блудных сынов, он писал: «Те, чьи дела на чужбине складываются неудачно, в один голос восклицают, что Родина — самое великое из благ. Но даже и преуспевающие считают, что при всём благоденствии, им не хватает главного, ибо они живут не на Родине, а на чужбине. В жизни на чужбине есть даже доля бесчестия, и часто можно наблюдать, как те, кто, живя на чужой земле, прославился, приобрёл большие богатства, снискал всеобщее уважение подлинным мужеством и обширными знаниями, всей душой стремятся на Родину, словно не находя в чужих краях достойных оценить их успех». Народная мудрость в эпистоле этого иудея. А ты имя даже своё родное забыл. На тебя плюнуть надо! Ты же конь, вплоть до холки покрытый паршой! А ещё про Айн — Ничто рассуждаешь и про Арават — Седьмое Небо… Далеко ищешь, а близкое забыл!.. Сиротой прикидываешься! «Сын вдовы»! Да что тебе отец?! Что мать?! Коли даже ты не стыдишься, что имя своё забыл…
«Сын вдовы» стоял и впрямь как оплёванный. Низко была опущена его голова, дрожали колени. Уже было за полночь. Белый молочный туман загустел и под упругим ветром летел над чаканом хлопьями. Потом воздух закрутился, потеплел. И с переменившимся, подувшим с юго-востока, откуда-то с Арал-моря, из зауральских степей ветром упал на Ал Хазари и «сына вдовы» терпкий, горький и сладкий, тяжело дурманящий дух полыни.
Кунгаулсун — Высокая Трава Жёлтая Полынь пахла свободой и раздольем, бешено скачущими табунами и обжигающей свежестью, потом и солью, солнцем и небом, лаской и любовью. В висках от духа полыни звонко стучало, печень сжималась, а сердце прыгало, как на скачках. В воздухе серебряно запело, и скинувшая облако луна вдруг начала слегка приплясывать под эту серебряную песню. Белым парусом пошла большая волна по реке и затихла так же неожиданно, как появилась. За тенями чакана натужно ухнул бедный байгуш—филин, и тонкий смертный крик растерзанной на гнездовье птицы застыл в ушах.
«Сын вдовы» упал на арбу и заплакал. Он плакал болезненно и зло, как задыхающийся лёгочный страдалец. Зубы его стучали.
— Да, я забыл своё родное хазарское имя. А почему я должен его помнить? Это тебе, человеку высокой Кагановой крови, которому Халиф предоставил военный корабль, чтобы ты мог появиться в родном городе, родное имя в почесть! А мне? Ты ещё раз посмотри на меня: я гол, как сокол, я нищ, как пёс, я незаметен, как тень. Ты ведь и не разглядел бы меня на корабле, если бы я, опьянев от проклятого родного воздуха, не сорвал с себя чалму. Видишь: родной воздух уже снова подвёл меня! Он как клеймо несчастья, А до тех пор никто меня не замечал, ибо я баруа — тень. А может быть, меня так и звали в детстве? Потому что я всё время чувствую, что я всего лишь тень всего этого, — Всего Лишённый обвёл рукой вокруг себя. — Сказано в книге Иова: «Не повинность ли несёт человек на земле и не срок ли наёмника — срок его? Как раб, что изнывает по тени ночной, и наёмник, что ждёт платы своей, так и я принял месяцы зла, и ночи скорби отсчитаны мне… В червях и язвах тело моё, и на коже моей струп и гной. Мелькают мои дни, как ткацкий челнок, и без упованья спешат к концу. Дуновение — жизнь моя; уж не видать счастья глазам моим! Видящий больше не увидит меня: воззрят Твои очи, а меня — нет. Редеет облако, уходит оно: так сошедший долу не выйдет вспять. В дом свой не вернётся он, и место его не вспомнит о нём».
Всего Лишённый перекрестился:
— Не вспомнит! Ты понял, не вспомнит!.. Тени появляются и исчезают без следа. Так и я — тень вон той травы, и тень речного берега, тень облака в небе, и тень вон той белой башни, что маячит над городом. Я сейчас и твоя тень. Ты человек высокой крови и привык, что вокруг тебя много теней, которых ты поучаешь. И отец мой, которого звали Вениамин (как видишь, зато имя отца я хорошо помню) и который варит рыбий клей здесь, в городе, а тайком, утешая себя и других, грезит Каббалой (как видишь, я всё про отца знаю!), — отец мой тоже, видно, посчитал, что сынишка у него — всего лишь безликая тень, потому что однажды взял он и продал меня, свою зелёную ветвь, работорговцу?! В нашем славном городе ведь разрешается продавать работорговцу, кого хочешь, даже своего ребёнка. Так почему бы не продать, если ты оказался в стеснённых обстоятельствах?! И вот теперь ребёнок вернётся. А зачем? Может быть, для того, чтоб вспомнили здесь моё родное имя — поймали, как беглого раба, и на законном основании опять продали?.. А что, если мой благочестивый отец и работорговец Фанхас опять ударят по рукам?
Кяфир вытянулся на арбе, потянул голову к Ал Хазари, подставил ему шею:
— На! Скорее возьми пару палок и зажми мою шею между ними, сделай на шею мне ярбигал — шейную колодку, какую надевают рабу. Считай, что моё родное хаварское имя Баруа — тень. Ну, что же ты, наследник Кагана, медлишь? Ты ведь спас мне жизнь и имеешь право взять меня в рабы. Таков Тере — Закон хазар! Бери же в рабы Баруа — тень. Тень так устроена, что всегда следует за господином, как привязанная. И мне, рабу, будет выгодно: если уж быть рабом, то у самого принца крови!
Ал Хазари брезгливо отступил от Кяфира:
— Спасая тебя, я думал: «Этот Кяфир скорее всего лазутчик. Но он попался, потому что опьянел от родного воздуха. Вот его покаяние». Я спасал покаявшегося грешника. А ты — иуда!
— Я — иуда? — Кяфир резко повернулся и, сильным движением схватив за края, сорвал синее покрывало, скрывавшее груз на арбе: — Я иуда?! А ты, священная кровь Великой Степи, Волчонок, великий принц, что ты на родину привёз?! Что решил под покровом темноты, скрывая своё имя и звание, втащить в родной город и вывалить где-нибудь на площади именно в час Весны, во время всеобщего народного праздника, под потрясённые и содрогнувшиеся взоры гуляющей радостной толпы?.. Какой страшный подарок ты привёз!
Кяфир-манихей схватился за живот и сатанински хохотал, тыча рукой в рассыпавшиеся странные фигуры из алебастра, как бы соединившие в себе скульптурное изображение и гроб-ящик.
Волчонок спрыгнул с арбы, не обращая внимания на истерично хохотавшего Кяфира-манихея, начал поднимать фигуры и бережно расставлять их на арбе. Мужчины и женщины, строгие, в типично кочевничьих позах, сидели теперь на гробах-ящиках на арбе. В таких оссуариях ещё огнепоклонники хоронили кости своих предков. То был древний обычай. Ко времени, которое мы описываем, хазары, как правило, стали хоронить мёртвых уже в могильниках — в земле. Но многие знатные роды, гордившиеся своим древним происхождением, в доказательство своего происхождения ещё хранили самые древние свои гробы.
Таботаи — так назывались эти гробы — Вся Масса Народа Хазар почитала и страшилась. Они были как сама власть, как эхо огненного пути и завета предков. Это был священный прах, который сохранял магическую силу и мог спасти или погубить.
Волчонок расставил гробы и, по-прежнему ни слова не говоря, тщательно поправил на себе мусульманскую шерстяную синюю рясу печали, такие же синие головную повязку и тонкую шапочку над ней.
Сложил руки и обратил взоры к небу. Постепенно его тело обмякло, теряло подтянутость и волчью стройность. Ушла властность. Теперь только скромный монах стоял возле костехранилищ, украшенных скульптурными изваяниями.
Кяфир-манихей, однако, всё ещё не унимался.
— Таботаи! Я так и подозревал, что ты захватил гробы. Унижаешь меня, а сам ты вернулся с таботаями — сосудами для священного праха!.. — злорадно кричал монаху Кяфир. — Ты только что обличал меня в том, что я бесчувственная, потерявшая гордость тень, а сам привёз на Родину гробы. Пусть это даже гробы твоих предков. Но это же всё равно Знак беды?! Все знают, что человек поднимает своп таботаи к ставит их на колёса, когда жизнь становится невыносимой и надо навсегда бежать из зачумлённых мест. Ты этот знак везёшь в город?.. Или ты хочешь позвать за гробами весь город, чтобы он переселился подальше от реки — от страшных лодий Святослава?..
Волчонок медленно подошёл к Кяфиру, взял у него из рук синее покрывало, снова осторожно и старательно прикрыл лежавшие на арбе оссуарии-таботаи.
— Полезай, Всего Лишённый, на арбу и не раздражай меня своими глупыми суждениями! Какое тебе дело до всего, раз ты только тень, раз ты равнодушен к Родине?! Ты не понимаешь, что Родины нет без родных святых гробов!
Кяфир влез на арбу и взял вожжи; он не унимался в злорадстве:
— Знаешь, когда мы только высадились и поехали в сторону города, я хотел тебя убить. Даже к шее твоей сзади подкрался. Я подумал, зачем пускать к хазарам опытного полководца. А что если он сможет сплотить народ против Барса Святослава?.. Зачем давать хазарам возможность стать опять сильными? Но теперь я послушал тебя и понял, что ты их скорей погубишь. Поэтому, хочешь, я помогу тебе.
Давай я ввезу эти таботаи в город. Я ведь очень похож на возницу беды — на «голого дэва». Посмотри внимательно на меня: я совсем голый и тощий, как полагается быть дэву. Хочешь, я расплачусь с тобой тем, что изображу, тебя ради, для своего города возницу беды. Уж пугать так пугать этот несчастный город!.. Предчувствую: хорошенькую смуту затеешь ты в городе с этими таботаями.
— Тебе-то что?
— Ну как же? Нам, «братству вдовы», смута в государстве всегда выгодна. Мы во всякой смуте как рыбы в воде. Глядишь, пока брат брата и сын отца убивают, мы наверх выплывем — к властям ближе станем, а то и саму власть захватим.
— Ты откровенен, «сын вдовы»!
— Не больше, чем ты, «священная кровь». Так я помогаю тебе? У нас разные конечные цели, но сейчас-то мы сошлись на одной дороге и тебе выгодно меня использовать, — Кяфир попытался тронуть арбу.
Но Волчонок задержал мула, отобрал у Кяфира вожжи, забрался на передок арбы сам:
— Садись назад: я не могу доверить тебе прах своих предков. Есть священные вещи, которыми нельзя играть в тёмные игры. Небо накажет. Я не понимаю, как ты можешь с таким небрежением относиться к гробам предков. Разве не предки завоевали эту землю, построили здесь Эль — свободное государство? Ты же должен знать, что Эль обозначает у нас, кочевников, одновременно и народ, и государство! А ты думаешь не о доблести хазарского Эля, а о «сыновьях вдовы». Ты врёшь, что сын здешнего варщика клея Вениамина. Ты не сын свободного человека. Ты сын какого-нибудь здешнего жалкого раба, а рабу всё равно, кто его бьёт — хазарин или кто пришлый. Только сын раба терпеливо относится к тому, что в нашем городе взяли власть самые нехорошие, бессовестные люди. Такие, как Управляющий Богатством Иша Иосиф и его дружки. А своё тщеславие тешит тем, что вступил в закрытое сообщество тайных детей, или сыновей, вдовы.
Не дожидаясь ответа, монах хлестнул мула.
Они проехали совсем немного, как город уже стал смотреть на них своими воротами. Тогда монах быстро расстелил на передке молитвенный коврик, встал на колени и сложил руки. Мул побрёл к воротам сам. А монах закричал громко, как мулла с минбара:
— Я остриг усы, которые раньше оставлял, и взял молитвенный коврик длинный, как день…
Несмотря на ночь, городские ворота, похоже, сами открываясь обеими створками, приветливо поползли арбе навстречу.
И вот тут Кяфир приблизился к монаху, горячим ртом задышал ему в ухо:
— А ты хитёр и ловок, храбрый принц, наследник Кагана! Ишь заорал молитву странствующих монахов. Всё учёл: и то, что в нашем городе стража набрана из мусульман арсиев, и то, что по происхождению эти арсии из Хорезма, где до самых недавних пор хоронили мёртвых, по огнепоклонническому старому обычаю, в оссуариях-таботаях. Конечно, ворота сразу откроют перед мусульманином монахом, хоть ночью их и не положено открывать. Конечно, уж кто-кто, а арсин точно переполошатся и перепугаются до смерти, как только разглядят эти гробы. Ты ведь, конечно, как-нибудь уронишь в воротах синее покрывало?!..
Волчонок дёрнул плечом, попытался отстранить от себя прильнувшего к нему Кяфира. Но Кяфир внезапно крепко схватил монаха своими тощими пальцами за горло.
— Не дёргайся. Ты хитёр, но я тебя перехитрю. Я сам ввезу в город гробы. Я расплачусь с этим проклятым городом, явившись к нему в устрашающем облике «голого дэва». И будет великая смута! Но ты и твой Халиф, которому ты старательно служишь — вон он уже алмазную цепь на шею тебе навесил! — не сумеете воспользоваться смутой. К тебе власть не перейдёт, и тебе не удастся спасти от Святослава и передать Хазарию под руку Халифа. Пусть Хазарию опустошит Святослав, тогда хазары живо окрестятся, и мы, «сыновья вдовы», создадим здесь манихейское государство.
Волчонок пытался бороться, но византиец, гибкий и ловкий, был цепок, не отпускал горла принца:
— А, Тонг Тегин! Я знаю, о чём ты думаешь. Знаю… Всё прозреваю. Ты думал, что я трус? Что я испугаюсь страха, что кочевнику нельзя поднять руку на принца, ибо принц принадлежит Дому Волчицы, а само Небо оберегает этот Дом и жестоко наказывает всякого, кто прольёт кровь человека из Дома Волчицы. Но, принц, ты разве не видишь, что я не проливаю твою кровь — я тихо придушу тебя. А Небо не разглядит этого, потому что я — ничто. Я — баруа! А, вот я до твоего дыхания всё-таки добрался. Теперь я тебя успокою. Смирись! Что дёргаешься! Делаешь только хуже себе. Я тебя уже не выпущу. Ты говорил о своей ризк — судьбе, написанной на небе на медной доске. Так там как раз сделана эта надпись. «Быть Тегину удавленным сыном варщика клея Вениамина, проданным хазарами в Византию и ставшим достойным христианином, сыном манихейского братства».
Длинные, тощие пальцы ещё сильнее сдавили горло Волчонка, и тот захрипел, обмяк. Видно было, правда, как напряглись мышцы на его шее, защищая горло, но тело его всё обвисло, и это обвисшее тело удовлетворённо окинул взглядом гребец:
— Вот, теперь поблагодари меня. Как Давид, надев броню Саула, начал хромать и затрудняться в движении, а, сняв с себя тяжёлое вооружение, облегчился и получил прежнюю свободу, так сейчас пусть радуется облегчению твоя душа. Ведь иначе она бы принесла твоему любимому Элю смуту, а людям братоубийство. А ты ведь такой щепетильный! Против братоубийства! Благодари же меня: я должен был задушить тебя давно, а задушил вот только сейчас, в самый лучший для твоей души момент: когда ты молился и, значит, в мыслях у тебя уж точно не было ничего дурного!
Кяфир отпустил горло монаха, хотел потрогать веки, чтобы проверить, насколько надёжно сделал своё чёрное дело, — не жив ли ещё Волчонок? Но соблазнился золотой цепью, вытаскивая её, поспешно сунул руку жертве за пазуху, попытался сорвать алмазную цепь с шеи, не сумел… Бросился расстёгивать пояс, не сумел, но нащупал нож и кожаный мешочек с деньгами, вынул из мешочка одну монету.
Монета у Кяфира в одной руке, нож в другой. А арба уже въезжает в ворота.
Кяфир отпихнул тело Волчонка, будто с сонным человеком, сел рядом. Хотел снять с монаха халат, чтобы набросить на свою наготу, не успел.
— Хон Карба — зиму прожил!
Кяфир быстро ответил:
— Хон Карба! — он знал, что это обычное приветствие, заменяющее по весне «Здравствуй».
— С удачей, хозяин? Но разве ты не помнишь, что нам, стражникам, не положено открывать запоздалым людям ворота, что нас за это наказывают плетьми…
Кяфир увидел протянутую к нему руку и быстро сунул в неё монету.
— О, смотрите! Не медную, а серебряную! Видать, богатый… Проезжай, дорогой хозяин! — и вот тут — вовсе не для проверки, а скорее от радости, что получил серебреник, и от какого-то подобострастного, подхалимского желания узнать, что же это привёз нагой, поразительно тощий, и длинный, и вроде даже больше на баруа-тень, чем на человека, похожий путешественник, а такой вот щедрый, как волшебник, — стражник полез заглянуть под покрывало на арбе и тут же вскрикнул испуганно:
— Таботаи! Гробы!
Снова сверкнуло серебро, но уже не монеты, а рукояти ножа, воткнутого Кяфиром в горло стражника.
— Злодей убил сына Арс Тархана!
— Сына у самого начальника стражи убили!
— Гробы в город приехали!
— Гробы!
Кяфир, что есть силы, крутанул мулу хвост так, что тот взвыл от боли и громко заревел. Затем каким-то чудом поймал поводья и, оставив в руках стражника, захлёбывающегося кровью, покрывало, направил понёсшего мула в темноту города. Вслед ему неслись крики:
— Гробы!
— Гробы!
— Злодей убил сына Арс Тархана! Голый злодей!..
У страха глаза велики, и уже кто-то крикнул:
— О Яарин — знамение! «Голый дэв» привёз в город гробы для всех нас!
Арбу с убийцей и гробами обезумевший мул, не разбирая дороги, проламывая дувалы, понёс по городу.
Но ещё быстрее летела по городу перепуганная крикливая молва про страшное знамение.
Уже к рассвету все в городе знали, что кем-то, ужасным и не поддающимся описанию, не имеющим даже имени, на город наложено заклятие. И добавляли, что недаром в полночь кричала сова, вороны каркали в полдень, а вороны летают на рассвете стаями, словно радуясь. Вороны, мол, уж точно радуются оттого, что будет много падали. Ужасная беда грядёт на город Итиль.
Дурные слухи плодились, словно дурные насекомые у кучи кала. Ждали саранчу, язву, неурожай и падёж скота. Но больше всего говорили о рыскающем в верховьях Реки Барсе Святославе.
И хотя разумный и тихий старик — варщик рыбьего клея, по имени Вениамин, у которого как раз в эту ночь были гости, не захотел омрачать весёлое застолье и высказался в таком роде, что, мол, Барсу Святославу ещё в верховьях Реки добычи много. На все приметы и вовсе нельзя обращать внимания, и стоило бы какими-то знамениями и пренебречь, потому что вот ворон, например, в городе всегда несметное множество, и они всегда и по любому поводу каркают — на то они и вороны; но, однако, не ведал, когда такое говорил, варщик клея Вениамин, что арбу с гробами одуревший мул всё ещё тащит по городским дворам, проламывая дувалы, и что управляет мулом в облике «голого дэва» его собственный сын, который уж точно, хочет того или не хочет, а дорожку в родной дом найдёт…
Тихий Вениамин, войдя в раж и изо всех сил желая успокоить своих гостей, даже похвастался им, что поскольку сам он — один-единственный среди всех них — верует в иудейского Неизречённого бога, который потому называется Неизречённым, что вслух даже не разрешается называть его по имени, — то известна ему, тихому Вениамину, где лежит тайная книга Йоцира с толкованиями разных чисел и слов. И что, на худой конец, он возложит персты в соответствующем месте на эту книгу, и уже не страшны будут никому из сидящих рядом с ним, Вениамином, сейчас за столом ни заклятия, ни знамения, ни прочие беды.
Вениамин куражился. Успокаивал себя. Он знал, что Йоцира ещё никому не помогла, что на неё все только всё надеются.
А дурной мул тем временем уже втаскивал арбу с гробами и «голым дэвом» на соседний с Вениамином двор. И там все тоже закричали про наложенное на город богом заклятие.
Ах, как легко поверить в «голого дэва» с гробами, привёзшего городу заклятие, когда в городе давно не всё в порядке и народ от непорядка устал и отчаялся. Как охотно тут поверит каждый в гнев богов, и даже сам для себя выдумает этот гнев, если таким путём можно закричать о непорядке!
День восьмой. «Вениамин — сын десницы»
У ремесленника Вениамина за полночь задержались гости.
Длинный и поразительно тощий, с продолговатым лицом и узкой седой бородой, торчавшей одним-единственным клоком, Вениамин не походил на хлебосольного хозяина. Да и какая могла быть этой весной в городе хлеб-соль, когда осенью не спустились по реке лодки о пшеницей из Киева, не пришли русские купцы? Вениамин с трудом наскрёб гостям муки на тоненькие опресноки. Пришлось покупать зерно у Иши, Каганова Управляющего, а тот, благо у него одного осталась мука, драл три шкуры.
И тем не менее на субботнее застолье к Вениамину собрались едва ли не все обитатели его квартала — ремесленники, рыбаки, виноградари, скотоводы. Сами пришли и, зная бедность Вениамина, с собой, что могли из съестного, принесли — на стол общий. И стол, хоть и из последнего, получился даже обильным.
Теперь сидели — о своём за медком говорили. Все к Вениамину с уважением — ведь когда надо было ходатая к Ише-управителю или к рахданитам — купцам по делам каким для общества посылать, то ходатаем ото всех избирали Вениамина — ради возраста его почтенного и его справедливости к людям ради. Да и книги древние Вениамин знал — мог умело на Закон Божий опереться.
Был Вениамин самым работящим и бескорыстным и — наверное, поэтому — самым бедным из тех жителей Итиля, что прибились сюда не из азиатской Великой Степи и не с речных верховьев, из Руси, а из-за гор кавказских, с тёплого Средиземного моря.
Однако, несмотря на бедность, был он избран от ремесленников в духовную Академию при Белом храме, подобно Анану — основателю ереси караимской. Хотели его даже в гаоны-председатели за начитанность избрать, но богатые купцы не дали. Своего посадили гаоном. Другой бы на месте Вениамина обиделся. Но Вениамин разве что о покое задумался. Однако большая семья и бедность не оставляли ему надежд на покой. Да и младшая дочь Серах ещё замуж не пристроена.
Конечно, сходить бы ему пешком в Вавилонию. За год бы дошёл. В Пумбадитской духовной академии на писания великого Анана самолично бы посмотрел. Из мудрого источника испил… Но Вениамин продолжал трудиться — варить рыбий клей. А чтобы в грехе не испустить дух, усилил свою набожность. Он не прикасался к курице, а всякую иную птицу ощипывал только с затылка, как велят правила. Уже с пятницы не разрешал готовить в своём доме горячую пищу, а по субботам из дома не выходил.
Конечно, будь он богат, то поселился бы, как его единоверцы рахданиты, ведущие заморскую торговлю, на острове посреди Реки — рядом с белым дворцом и белой башней. И тогда ходил бы Вениамин даже во временный Белый храм, построенный для того, чтобы достойно беречь до святого времени истечения сроков и возвращения в Землю Обетованную заветные скинию и ковчег. Сколько было ложных слухов, что пропали святыни Второго храма Соломона! Но совершил Господь чудо. Каган пошёл в поход в Дагестан и возвратил для верующих в Неизречённого бога реликвии. Оказалось, восемь веков сохраняли там тайно левиты в горной пещере сокровища Второго храма. А Каган разрешил построить для святынь временный храм. Чтобы была своя гордость у иудеев.
Правда, простому смертному всё равно святыни не разрешается видеть. Скиния и ковчег в храме хранятся, как положено, за запретной занавесью. Но важно во время молитвы рядом со святынями побыть!.. Однако это мечты. Вениамин пробовал ходить по субботам в храм на остров. Но, хоть и состоит в духовной Академии Вениамин, всё равно устроили ему в храме обструкцию рахданиты — сторонились его, как чумазого. Не захотели с ним говорить.
Вот и сидит теперь по субботам Вениамин дома. На левом берегу — с бедняками кочевниками. Такие же бедные, как он сам, соседи вроде и не замечают ни верёвки, которой он самоуничижительно подпоясывает свой халат, ни его высокой караимской шапки — тузурке, похожей на кувшин. Шапку-кувшин он ведь упрямо носит — не снимает никогда с головы (даже и сейчас не снял, во время застолья!).
А если соседи и кликают его часто «кувшином», то Вениамин понимает, что это они делают вовсе не для того, чтобы обидеть, а просто так для них выходит сподручнее.
Соседи помогают Вениамину и по субботам себя не обидеть.
Ведь это только в глазах священников из Белого храма, которым до бедного Вениамина далеко, сидит он добровольным изгнанником у себя дома.
Нет, нет, он хоть обычно и не ходит по субботам в молитвенное заведение, но тоже, как предписывается правилами, по субботам показывает себя: устраивает дома себе маленький праздник. А если при этом, нарушая другое правило, часто приглашал нечестивых соседей, то видит бог, кого же ему приглашать?! Что к нему, бедняку, единоверцы рахданиты, что ли, пожалуют?!
В ту ночь, когда в воротах был убит стражник и гробы ворвались в город, соседи задержались у Вениамина далеко за полночь.
Темнокожие, раскосые, с распущенными до плеч волосами, с серьгой в одном ухе, сидели у его очага скотоводы, глядели на Огонь — они его почитали своим богом — и в который раз слушали рассказ Вениамина про его чудную «кувшинную» веру, в которой бога даже нельзя вслух никому называть по имени, настолько он свиреп и гневен. Рядом со скотоводами, за тем же столом сидели виноградари. Очень смуглые, стройные, они перебрались на Реку с Кавказа, и в их движениях и осанке сохранилось что-то мягкое, кошачье, от словно крадущейся походки горцев.
А под старым тополем — гордостью Вениаминова двора: не было ни у кого из соседей такого! — за медком, в обнимку с Вениаминовыми дочерьми сидели рыбаки, его, Вениаминовы, зятья. Они приносили Вениамину рыбьи кости на клей, а уводили его дочерей.
Рыбаки были крепки в кости и бритоголовы (это очень смешило Вениамина, потому что в его народе не мужчины, а женщины обривали себе голову — когда выходили замуж). Рыбаки — в белых рубахах и холщовых штанах, как море разливанное. Они были из приплывших в Город-на-Реке через Дон с берегов Десны славян — сакалабов.
Гости за столом Вениамина уважали его зятьёв:
— Хон Карба! Зиму прожил, Вениамин! Пусть высоким будет для тебя Небо! Вон возьми барашка с вертела да кумыса — отнеси своим зятьям-то!
Вениамин улыбнулся, торопливо поднялся от очага, отнёс подарки от скотоводов рыбакам.
— Мир дому твоему, Вениамин! — кричат со всех сторон: — Это хорошо, что ты дочерей за работящих парней выдал! Сакалабы — хорошие рыбаки.
Вениамин ёжится, поглядывает в темноту за дувал: не услышали бы те соглядатаи, что в Белом храме доносами на отступления от соблюдения правил кормятся.
Вениамин ведь которую дочь за сакалабов пристраивает. А такое священниками не одобряется.
Но где, где взять Вениамину зятя-единоверца?! Кто захочет с бедняком родниться! Ох, сколько Вениамин из-за бедности своей терпит…
Было такое, что когда приплыли они с женой Миррой с Кавказа сюда в город и надо было им обустраиваться — купить участок для дома и обзавестись кое-каким для ремесла хозяйством, то не оказалось у них с Миррой никакого иного ходкого на рынке товару, кроме двенадцатилетнего сына. Подумали-порядили, поплакали, но решили они тогда, что народит Вениамину Мирра ещё сыновей, и отвели мальчика на Сук Ар Ракик — невольничий рынок. К торговцу Фанхасу, который занимался скупкой детей у родителей. Ненавидит Вениамин толстого Фанхаса, помнит: почувствовал тогда его сыночек, что сделают с ним недоброе, что для пенья на клиросе его готовят. И сумел убежать сыночек от жестоких врачей Фанхаса. Однако Фанхас потребовал, чтобы Вениамин позвал сына по имени, сыночек услышал своё имя, остановился, и его схватили… С того дня, наверное, не было для мальчика ничего страшнее, чем его собственное имя. А Фанхас потом признался, что продал мальчика, в Рум, к грекам, в певчие христианскому богу. Где-то он теперь?
Жена Мирра потом ещё тринадцать раз рожала Вениамину, но… уже только дочерей. Видно, покарал их бог за продажу сыночка.
Что поделать?! Мирра потом до самой смерти всё вспоминала проданного сына-первенца. А Вениамин? Он старается быть счастливым в дочерях.
— Эй, Серах, — зовёт Вениамин любимицу-младшую. Мудро объясняет соседям, гладя дочь по головке, чтобы все видели, какой он добрый:
— Дочь для отца — постоянная забота. И попечение о ней отгоняет сон: в юности её — как бы не отцвела до замужества, а в замужестве — как бы не опротивела мужу, в девстве — как бы не осквернилась и не сделалась тяжёлой в отцовском доме, а в замужестве — чтобы не нарушила супружеской верности и в житье с мужем не осталась бесплодною. Над бесстыдною дщерью усиль надзор, чтобы не сделала она тебя посмешищем для врагов, притчею в городе и упрёком в народе, не осрамила бы перед обществом… Вот и я сейчас зорче слежу за Серах…
Вениамин вздыхает:
— Впрочем, никто не решится сказать плохое слово про мою дочку. И я её за целомудрие люблю. А ведь сколько раз в недород и дурное время советовали мне люди: «Все у нас в городе так делают. Пойди на Сук Ар Ракик — продай младшую девочку: сам вывернешься и старших дочерей накормишь-оденешь». Однако я жену свою вторую, после смерти Мирры взятую, молодую, нерожалую, к перекупщику Фанхасу отвёл, а девочку сохранил. Выкормил и вынянчил!
Вениамин гордо выпрямляется.
Он любит говорить о себе такие похвальные слова, ибо какие ещё другие похвальные слова о себе он перед людьми в праздник субботний сказать может? Про свою тихость и бедность? Про ладони трудовые, которые соль изъела? Так это бог христиан пестует унижение и нищету и обещает тем, кто безропотно трудится на богатых и нищ здесь, на земле, взамен рай там, на небе. А бог, которому принадлежит Вениамин, напротив, не одобряет ни тихости, ни бедности. Неизречённый бог велит выделяться, расталкивать локтями других, чтобы показать себя, наживать богатство, утверждать свою гордыню, всемерно нахваливать себя перед другими. Однако чем, кроме того, что сумел расплодиться в новой земле, пока может похвастаться Вениамин? В семени его теперь пребывает всё его наследство, в дочерях — честь его, а внуки ради него!
И громко крикнул Вениамин:
— Эй, соседи! Эй, гости мои! Эй, зятья-родственники! Семя моё — дочери мои! Благодарю, что навестили старика в мою праздничную субботу, что вот радуетесь со мной! За честь, мне оказанную, я кланяюсь вам!
И низко, до земли, поклонился Вениамин гостям.
А потом гордо и довольно, напоказ встал над всеми — длинный худой старик, тонкий в кости, но крепкий в теле. И пусть не было в лице у него ничего приметного, пусть даже борода была у него всего в один жидкий клок (в то время как в роду Каганов клоков бороды носят по целых девять!), пусть не выделился бы он из толпы, но сейчас тоже тешил своё высокомерие — смотрел на всех гордо и свысока.
Хлопнула калитка, вошёл ещё один сосед; увидев, как разгулялся Вениамин, опасливо оглянулся:
— Хон Карба, Вениамин! Ты бы пригасил пламя, а то как бы не занесло к нам ночью сюда на твой высокий огонь какого недоброго гостя. Ворота-то городские ведь почти рядом, а стражники уже навеселе…
Но Вениамин решил гулять:
— Друзей прогонять? От меня? Эй, зятья! А ну катите бочку с берёзовым соком!.. У меня ещё гости из лука не стреляли, на ковре не боролись, одноцветной одежда для жонглёрства не надевали. Или забыли вы, что завтра — Новый год, что с солнцем-рассветом весна придёт?
Ой, не осудим Вениамина за эту гульбу: хоть и велят жрецы тешить в праздники своё высокомерие, но не стал бы он ради одного своего высокомерия выкатывать гостям целую бочку берёзового сока. У него отцовский глаз, наблюдателен. Не с зятьями-славянами он рядом сидел, не с дочерьми шутками баловался — степенные вёл разговоры с другими гостями, но глаз-то всё на дочерей косил и углядел, что к младшей его дочке Серах верный жених присоседился. Сама его Серах привела. На три дня пропадала. Говорит, парень за ней увязался. «Можно в дом, отец, пригласить?» — «Почему же нельзя? Если уж тем более грех какой был…» Вот сидят теперь рядышком.
Хороша у Вениамина младшая, Серах, — гибка, как серна, юна, а груди у неё уже как башни — кто найдёт в них оплот?!. А кожа у неё как оливки; волосы, как чёрный виноград, вьются-змеятся, как лоза. Но и парень возле неё не промах. Не из богатых, но шустр, сметлив. В хукерчинах — коровьих пастухах—в чужом роду ходит, но и Серах — не дочь купца — рахданита. А видно, очень нравится парню Серах. Вон как пылают его щёки — аж чёрными буграми проступили. А глаза блестят, как у трубящего свадьбу лося. Вениамин уже и имя парня успел узнать: зовут его Булан-младший. Булан означает «лось». Поднимай же выше свои ветвистые рога, Лось! Завлекай юную Серах! А старик отец тебе охотно поможет. Старик и простит, коли что было, лишь бы доброй свадебкой всё кончилось…
— Эй, Серах, дочка моя, дорогая, ненаглядная, ты бы поила желанных гостей мёдом, да и соседа своего, писаного красавца, не забудь! Даром что молод он, но отец, Булан-старший, ходатаем от всего народа на Алтай за полком ушёл. Слышал я, слышал про это! Подайте Лосю-младшему кубок большой, пусть, как крепкий мужчина, его осилит, — ласково советует Вениамин.
Засмеялась Серах — поняла отца. Умница: подавая парню большой кубок с мёдом, откинула голову назад, вся выгнулась; глядя прямо в глаза, прильнула на крохотный миг к жениху всем своим текучим, разгорячённым, будто от чёрного костра волос на её голове, и уже совсем женским телом. И отпрянула, стыдясь:
— Выпей, Лось! Да будешь ты всегда с победой — и на игрищах, и в любовном состязании, — глядит Лосю в глаза дочка.
А старый Вениамин громко шутит:
— Младшая дочь у меня созрела. Кто сорвёт цветочек?!
Не шутить бы так старику при смелых парнях — грех на душу свою за подстрекательство к неразумному не брать! Было с Вениамином уже такое, приходилось ему в разорванной одежде, без шапки до наплавного моста бежать. Принародно в грудь себя он бил: за свой позор — на дочь обесчестившуюся громко жаловался.
Однако что делать, коли совсем залютовали священники из Белого храма: не хотят даже в праздник Ляли-Весны свадьбы с иноверцами освящать; отцам девушек, выходящих за чужих, могут отказать в похоронах по правилам: грехи не простить. Нет, уж лучше завтра на мосту опять пережить Вениамину позор, а там, глядишь, всё уладится. За бесчестие на вено (откуп) у Вениамина серебро давно скоплено и припрятано. Лосю-младшему, чтобы достойно уважить Вениамина, только надо будет на мосту при всех людях старику это серебро показать-передать и громко сказать: «Прости, отец! Поторопились мы с твоей дочерью Серах до свадьбы по молодости. Но вину понимаю, за вину свою тебе вено плачу, как положено».
Вениамин косит глазом на Серах и Булана; не поторопились ли и вправду голуби? Три дня дочки не было… Он ведь всё понял.
Вениамин плачет и смеётся, хорошо у него сейчас на душе. О Бог Неизречённый, не казни бедняка за его маленькие хитрости — чего не содеешь, чтобы дочку замуж пристроить! Вон старшие-то дочери уже с внуками пришли: скоро внуков будет Вениамин к клееварне приучать. А сами-то дочери, даром за сакалабами, а как приглядны! В покорность мужьям ни одна волосы не обрила — все с косами, так красивы косы! И идут к чёрным густым косам Вениаминовых дочерей белые сакалабские рубахи! Нежно сверкают на смуглых шеях серебряные гривны! В ушах серебряные кольца. На запястьях звенят, выглядывая из-под пышных рукавов, витые браслеты. Уважили дочери старика: глядятся не хуже, чем если б за рахданитами были. А живут свободно. В уважении! Вот и Серах с любимым в уважении будет. А грех — отмоется… Умны дочки.
Конечно, и похоронить дочери его, старика, как положено сумеют. Сын бы хоронить отца должен. Но где он, единственный сын? Продан! Так что уж тут придётся на зятьёв Вениамину понадеяться.
Вениамин уж всё давно продумал. Перед смертью обязательно накажет, чтобы зятья не скупились: хорошенько священникам из Белого храма за похороны заплатили. Чтобы те не как к бедняку бы пришли, а льняные хитоны на себя надели, и бельё нижнее льняное, и кидар, и поясом подпоясались, и тело своё перед похоронами, чтобы хорошенько водою омыли, чтобы с чистым телом все… А двух козлов в жертву богу за грехи Вениамина — так это Вениамин уже договорился: соседи-скотоводы приведут, не пожалеют. Священники одного козла заколют, другого оставят живым. Заколотого козла возложат на жертвенник и покропят на него кровью с перста семь раз. Вениамин прикажет перед смертью дочерям, чтобы те следили, сколько раз священники с перста покропят. За то и плачено будет, чтобы уж точно все семь раз покропили священники, чтобы всё как положено!.. Над живым козлом пусть исповедуют все Вениаминовы беззакония! Хотя, если думать по правде, то какие у него, бедняка, были беззакония? Был, конечно, грех с сыном первородным, но за тот грех Вениамин левитам уже не одного козла свёл. До нитки обобрали священники Вениамина, когда увидели, что кается Вениамин. А другие грехи?.. Впрочем, разве убережёшься от беззакония, когда положенных правил так много, что священники сами, только когда деньгу с провинившегося потянуть надо, иные из правил вдруг припоминают. Но уж на похоронах пусть проследят дочки за священниками, как те похоронный обряд по отцу отправлять будут. Чтобы священники не торопились со службой, а сначала про покойника от родственников все прознали — и на козла, на козла все грехи переложили.
Вениамин всё уже продумал: пусть козла в пустыню зять отведёт. А то какой единоверец возьмётся да недалеко и отведёт, а козёл и вернётся. Нет, зачем хилый единоверец — лучше пусть хотя бы вот этот, Лось-младший, козла отпущения с Вениаминовыми грехами в степь уведёт. Лось с ногами сильными, долго не устанет…
Вениамин представил свои похороны и вроде даже уже как любовно глянул на Лося-младшего — ведь тот козла отпущения поведёт!
И кричит совсем хмельно Вениамин:
— Гости мои желанные! Не будем мы из лука стрелять. Темно уже. И одноцветных одежд для жонглёров нету у меня. Но я хоть и в шапке-тузурке, хоть и «кувшинной» веры, как вы говорите, но вас обижать развлечениями не хочу. Веруете вы в Огонь. Там устроим игрище с Огнём. Эй, соседи, принесите флейты, принесите бубны. Вон рыбий жир в бочке у калитки. Разливайте рыбий жир по плошкам с фитилями, зажигайте в честь Ода — Огня светильники. А посреди двора кладите большой костёр. Хочу я знать, кто из вас, гости мои дорогие, огнём отмечен? Кто на игрищах выше всех через костёр прыгнет?
Засуетились гости, мажут жиром поленья. Великий костёр кладут.
Кричат:
— А какой подарок победителю, Вениамин?
— Будет, будет, гости дорогие, подарок. Какое же игрище без подарка?! — пообещал.
И запнулся на мгновение Вениамин. Но осенило его:
— Знаю, есть ценный приз. Нет ничего почётнее для хазара-кочевника, чем самому в смелом состязании или в смертном бою добыть-завоевать себе жену! Однако разве не почётны вы все для меня?! Ну, а кого я выставляю в такую жену — в Абурин Эме?
И взял Вениамин за плечи, и прижал к себе крепко любимую младшую дочку Серах, и сказал:
— Вот победителю подарок!
Стихли гости.
Побледнела Серах, оглянулась на жениха Булана, шепчет:
— Что сделал хмельной мёд с твоим языком, отец? Как же ты меня… Какой ты!.. Сына-первенца на Сук Ар Ракик отвёл! Ну того хоть по крайней нужде. А меня-то теперь из самодурства…
Закрыл старый Вениамин своей крепкой ладонью губы Серах, и вот уже подносят факел к костру.
— До облака взметнись, пламя! Чтобы только богатырь мог через тебя перепрыгнуть!
Разгорается костёр, набирает силу. Крепко прижал к себе вздрагивающие плечи дочери старый Вениамин. Успокаивает её: не денег ведь он пожалел, выставив дочь в подарок, а хитрость свою проявил… Как велит Господь!
Прибежали из соседнего двора:
Эй, вы что? Набатного била не слышите?!
— У городских ворот народ собирается. Про дэва кричат. «Голый дэв» подъехал на арбе к городу. Сам ворота открыл и сына Арс Тархана зарезал.
— Теперь дэв по городу на диком муле носится — всё ломает и рушит, что под арбу попадёт…
Но Вениамин оборвал суматошных:
— Чего пугаете?! Сели бы лучше с нами за стол, выпили бы медку. Всё-таки праздник. Весна завтра в город придёт…
Пьют прибежавшие хмельной мёд, забыли про свою весть.
Ещё выше разгорается костёр.
Дрожат плечи рыдающей Серах.
Вениамин подмигнул Булану. В ударе сегодня парень. Как ловок, как смел, как везуч! Может, и удастся Вениамину его хитрость! Ну же, не тяни время, Лось, не боги, так сила твоя тебе поможет. В тысячу раз будет тебе, мужчина, милее женщина, не купленная, как товар, на рынке, а тобою самим отвоёванная у других в состязании, как в бою! Так борись, Булан! Смелее, выше прыгай, храбрый Лось!
Бьёт набат. Тревожные голоса уже слышны в соседнем дворе. Громко кричат про убийцу, знамение, гробы.
Но на дворе Вениамина не до набата — жаждущие живого подарка продолжают, один за другим, опаляясь, летать через костёр.
И случилось.
Оскаленная морда мула, вся в белой пене, вломилась во двор. Высокая тощая тень полуголого человека будто взметнулась над этой мордой. Треск разламываемого колёсами дувала — и таботаи сваливаются с арбы прямо в пламя костра.
Серах закрыла глаза ладонями: ей кажется что сам дэв тоже хочет принять участие в состязании — прямо на своей страшной повозке. «Голому дэву» тоже захотелось получить в подарок молоденькую Абурин Эме — самим завоёванную жену.
А когда Серах отвела ладони от своих глаз, то она увидела, что дэв стоит рядом с её отцом — такой же пепельно-серый, тонкий в кости, одного с отцом роста — прямо как отцова тень, и тоже, как отец, вроде бы а без примет вовсе.
— Ты — дэв?
Отец не спросил, но всем, кто замер в испуге во дворе, почему-то показалось, что он спросил так.
— Да! Я дэв и навожу на город порчу!..
Дэв, как две капли воды похожий на отца, ничего отцу не ответил. Но те, кто остался жив после той встречи на Вениаминовом дворе, потом клятвенно утверждали, что дэв при всех ответил отцу именно так.
Отец и дэв пристально разглядывали друг друга, и в глазах у них было, будто они спрашивали другого, как кого зовут.
Серах рванулась к ним: она сама сейчас выяснит всё.
Но тут кто-то прыгнул на дэва с головешкой в руке, а из темноты истошно крикнули:
— Кувшин! Чего же ты стоишь? Дэв пришёл за твоей дочерью! Прижигай, а то утащит. Спасай дочь! Прижигай огнём дэва!
Дэв, стоявший против Вениамина, увидел головешку, услышал крики и качнулся, — совсем так же качнулся набок, как только что Серах, и прикрыл глаза пальцами, как Серах, — все в роду Вениамина почему-то при страхе прикрывали глаза не ладонью, а только пальцами. Потом дэв ещё раз качнулся и, метнувшись внезапно в сторону, растворился в темноте.
Ещё через мгновение в растерянную толпу, прыгая прямо через дувал, с хода врубились арсии-стражники.
— Где дэв? Почему не спалили дэва огнём? У вас же был тут огонь! — заорали стражники.
И, вымещая свою злобу на ни в чём не повинных людях, вместо того, чтобы дальше преследовать дэза, стражники начали рубить и колоть направо и налево.
Полилась кровь.
Вениамин схватил за руку Серах, упал с нею перед стражниками на колени:
— Помилуйте нас!
Но стражники, не обращая внимания на мольбы старика, продолжали бить всякого, кто попадал под руку.
И тогда Вениаминовы зятья, схватив, что попало — горящие поленья, ножи, — ответно ударили стражников.
Соседи прибежали с саблями. Они без раздумья присоединились к сакалабам.
А сакалабам жёны несли уже тяжёлые мечи.
Стражники, спасаясь от головешек, отступили, под тополь, попробовали, загородившись щитами, встать скорпионом.
На них прыгнули сверху.
Тринадцать арсиев-стражников, нёсших ночной дозор, вспомнили про славу своего Дома и сражались хладнокровно и нетрусливо. Они умело закрывались щитами, они рубили только наверняка, и они бы выстояли, хотя во двор к Вениамину понабежало предостаточно соседей. Считай весь квартал вооружился.
Но тут кто-то крикнул:
— Да прославятся кабары!
— Эй, вспомним про славу бунтарей!
— А чем мы не кабары, чем мы не бунтари?!
До сих пор были избитые и раненые. Теперь началось убийство.
Старик Вениамин поднял дочку с колен, отвёл в дом. Снял со стены лук.
— Зачем, отец? Ты же всегда учил меня, что умный должен отходить в сторону от драки, чтобы самому не попало.
— Здесь уже не отойдёшь в сторону. Могут убить, если не защищаться. Припри столом дверь, а я буду стрелять, если попробуют ворваться.
Во дворе кричали:
— Ишь, бледноликие! — через собственный костёр попрыгать людям не дали!
— Искореним бледнолицых! Это они пришли — арсиев стражниками в город наняли…
— Постоим за родных богов!
— Бей всех, кто не нашей веры! Да прославится Кек Тенгри — наше Синее Небо! Пылай, огонь мести!
Серах повисла на руке отца.
— Не надо стрелять. Кому мы здесь сделали худое? Они все наши соседи — гости твои!
Во дворе громко пели:
«Крепко коням подвяжем хвосты,
Поднимем чёрных прах!..»
Это была боевая песня кабар. Вениамин прикрыл одними пальцами глаза. Прошептал:
— Они убьют нас, дочка…
Серах дрожала, как тополиный лист на ветру.
Не было страшней дней в городе, чем те, когда вспыхивала «Песня чёрного праха». В такие дни Вениамин обычно прятался с дочками в углу дома и только безнадёжно молился. Кабары — не племя, не род. Они рождаются из ничего, как пожар, сам загорающийся на болоте. Они — это просто те, кто хотят убивать пришельцев. Так считал Вениамин. Хотя нарицательное имя кабарам дала горькая, подлинная история.
Первые кабары восстали очень давно. Ещё при Обадии. Был Обадий Ишей — Управляющим Богатством у Кагана, вышел, как и его предшественники, из оборотистых купцов-рахданитов. Однако до Обадия не выставлялись рахданиты со своим иудейским богом. Обадий же заявил, что найденным в пещере в Дагестане святыням нужен храм» и призвал с тёплого моря левитов—священников. Начал строить временный. Белый храм для иудеев — на лучшем месте в городе, посреди острова. Но желторизные священники не поняли обстановки. Повели себя надменно. Тогда и восстали кабары. Хотели четвертовать Обадия, искоренить его род, а заодно всех, кто поклонялся не Синему Небу.
Обадий от кабар (бунтарей) всё-таки отбился, и бунтари бежали к кочевавшим рядом венграм-мадьярам. А когда мадьяры поднялись и пошли далеко на Дунай, в Паннонию — строить там своё государство, то с ними откочевали и кабары-погромщики.
Однако до сих пор тлеет злой дух кабар. Годами их не слышно. Но вот недород, падёж скота, какие дурные знамения, и совершенно из ничего между добрых соседей, вдруг отравляемых ненавистью к ближнему, рождается «Песня чёрного праха». И тогда начинаются погромы — ворвутся к какому купцу — рахданиту и вырежут семью с корнем. Насилуют у пришлых людей дочерей и жён, поджигают их дома.
Вениамин открыл волок. Осторожно глянул в оконце.
И вовремя. Кабары уже добили арсиев и теперь бросились на зятьёв Вениамина. Те, прикрывая своих жён и детей, отступали к дому.
Огонь костра почти погас. Луна зашла за облака. Мечи и сабли звенели в темноте. Зятья были крепки, и пыл кабар скоро поутих.
Оставив нападение, те пошли раздевать убитых арсиев — делить добычу.
А зятья вошли в дом и, черпая берестой, пили берёзовый сок, обтирались.
Утешая дочерей, Вениамин заметил, что нет Серах. Взял нож у старшего зятя, пошёл её искать во двор.
Луна снова выглянула, а костёр немного разгорелся, н никого во дворе Вениамина уже не было. Кабары исчезли в ничто, как из ничего возникли.
Зятья вслед за Вениамином вышли во двор, деловито сложили на костёр полураздетые трупы стражников.
Прибавили огня.
Старший зять пихнул ногой закоптившиеся от дыма сосуды — те самые, что свалились с арбы злого дэва:
— Ну-ка, глянем на добычу. Выходит, вот и у дэва чего-то отняли. Смотрите, какие-то изваяния на каменных ящиках. Неужто каменные идолы?
— Нет, это не идолы… Это гробы, — грустно сказал Вениамин. — Я видел много таких в Хорезме. А у нас, кажется, теперь только род Каганов так хранит прах своих древних предков.
— Мы, отец, не настолько знатны, чтобы нас хоронить в разукрашенных гробах. Это не для нас — передавать прах по наследству, — сказали дочери Вениамина.
Всё же зятья подняли и сложили таботаи на арбу.
Вениамин одобрил:
— Может, за гробами кто вернётся? Слышал я, что у арабов Халиф, когда въезжает в город государствовать, то везёт впереди себя гробы с прахом своих предков. Может, «голый дэв», подобно Халифу, тоже захотел государствовать над нами?
Дочери целовали отца в лоб:
— Ты, отец, пока спрячься где-нибудь. Иначе завтра, как начнут чинить расправу, тебя первым на дыбу. Твой двор-то! Ты хорошенько спрячься, а то захотят твой род искоренить, и ты на дыбе нас всех выдашь…
Ушли.
Вениамин, не находя себе места, ходил по двору. Зачем-то запалил все плошки с жиром. Всматривался в убитых, — скрывая от себя, искал: вдруг Серах?..
Поправил костёр. Громко, как будто его оправдания мог кто слышать, пожаловался:
— Эх, перестарались мои зятья! Не надо было трупы арсиев на костёр… Напрасная обида роду арсиев. От души поступили: думали, что на погребальный костёр возлагают, чтобы с честью проводить на небо. Но ведь то — их, сакалабский, обычай, а арсии — мусульмане. Для мусульманина сожжение тела означает сожжение души. Получилось жёстко. Вот круговерть какая! Как же не вспомнили мои зятья закона нашего городского, что за убитого мусульманина вносится вира, а за сожжённого деньгами не берут — только кровь смывает обиду… Да и я-то: как же зятьям не подсказал!..
Пришла пора и Вениамину помолиться в последний раз у родного очага, потому что уже чуть развиднелось.
Вениамин собрал в тряпочку горсть земли со двора, сунул за пояс — чего ещё с собой взять? Вот сказал когда-то давно об имени Вениаминовом толковый пастырь: «Вениамин живёт Возлюбленным Господом. Сын десницы, будешь ты обитать безопасно, ибо бог покровительствует Вениамину каждый день, и тот покоится между раменами его». Однако не сбылось. Видно, не оправдал Вениамин благоволение божие.
Сзади кто-то прижался к Вениамину, обнял за шею. Вениамин узнал ласковые, тёплые ладони.
— Серах? Ты, баловница?!
— Я, отец…
— А я-то уж грешен — думал, не убили ли тебя? На костре вон тебя искал… Уходим, Серах. Надо нам идти. А куда, не знаю, пойдём…
Серах прижалась к отцу:
— Отец, я тут убегала… С Буланом, ну, с Лосем, этим… Мы отвезли к нему моё приданое. Я ему сказала, что боюсь, что растащат… Серебро, что было на вено — на выкуп за моё бесчестие, я тоже взяла… Оно всё равно моё.
По щекам Вениамина потекли слёзы:
— Вы будете с Буланом хорошими хозяевами… Только как же с отцовским благословением?
Серах потупилась:
— Я Булану сказала, что он — мой спаситель, что я для него теперь буду Абурин Эме. Он меня в бою спас. Завоевал! Я у Булана буду жить. А ты куда, отец? Тебе бы лучше совсем из города…
Вениамин смотрел на дочь:
— Я стар уже, чтобы становиться перекати-поле. Здесь моя земля, и другой у меня не будет. Я хочу приходить и смотреть на свой дом и на тополь. Я этот тополь посадил, когда пришёл в город. Толстым и крепким стал мой тополь…
— Отец, мы уже подумали с Буланом… Тебе надо разбить дом и поджечь тополь. Булан обещал мне: он приведёт утром сюда стражников, и если здесь будет только пепелище, то он громко скажет: «Не будем искать того, чей был тут дом; сами боги, лишив дома, несчастного уже наказали за его преступление!»
Вениамин отшатнулся от любимой дочери, покачал головой:
— Вы умные с Буланом. Хитрые. Однако кем же я буду, если сам разобью и подожгу свой дом?
Серах внимательно следила, чтобы отец как следует раздул пламя, которое должно будет пожрать его дом.
Потом сказала:
— Благослови меня, отец, я пойду, а то нехорошо мне оставлять мужа в первую же ночь после свадьбы.
Она приняла благословение и пошла прочь, пятясь, как велят правила при последнем прощании с родителем.
Вдруг упала. Поднялась, в сердцах пнула ногой тело, о которое споткнулась:
— Поганое! Ой, отец, не будет мне теперь счастья из-за того, что я, отходя после благословения, упала.
Вениамин увидел, что дочь пихает носком своего чувяка тело монаха в синем. Он не мог вспомнить, откуда оно тут появилось.
— А я помню! — повысила голос разошедшаяся Серах. — Это тело с арбы дэва вместе с гробами вывалилось.
И снова ткнула лежавшего ногой.
И в ответ вдруг услышала вскрик. И стон. Отёкшие губы попросили:
— Пить…
Серах отскочила в сторону.
Вениамин взял головешку, нагнулся над ожившим.
Ран на теле не было Тёмные пятна на шее, похоже даже, что со следами пальцев. Монаха этого кто-то душил, но оставил душу в теле. На шее у монаха блистала в темноте, отливая бриллиантами, диковинная алмазная цепь.
Серах побежала в дом, принесла воды. Вместе с чашкой подала отцу нож. Сказала:
— На! Дай ему попить… И… вот ещё тебе это — ты меня, отец, понимаешь… Смотри, какая дорогая вещь у него на шее.
Вениамин покачал головой.
— У меня есть уже нож. Но что нам сделал этот монах? Я не могу из-за вещи отнять у человека жизнь. Я не разбойник…
Серах зло отрезала:
— А у тебя память плохая, отец? Ты забыл, как точно такой же — весь в синем — ходил однажды по городу и громко требовал, чтобы всем людям нашего с тобой племени нашили на халаты заплаты цвета мёда, а на ворота прибили деревянный знак дьявола?..
Монах открыл глаза. Вениамин присел к монаху, поднёс чашку с водой к его губам.
— Отец, не медли!
— Уходи, дочка. Зачем тебе такое видеть?!
Серах исчезла.
Вениамин вытер нож о полу своего халата, смочил в воде и край власяницы монаха и вытер мусульманину лицо.
Он тянул время.
— Я бы дал тебе помолиться, монах, выпросить у твоего Аллаха прощение за грехи, чтобы не представать тебе перед ним непрощенным. Но уже развидневается…
Вениамин снова протёр лезвие ножа полой халата, спять склонился над мусульманином.
Никак он не мог распалить себя для злого удара, и тогда он стал припоминать злобу одного заносчивого рабби1, с которым сам спорил в духовной Академии. Тот считал, что верующие в Неизречённого бога принадлежат к избранному богом народу и с остальными поэтому могут поступать, как с низшими. Даже Моисей, который сам себя называл кротчайшим из всех людей, не раздумывал, когда надо было убить египтянина, а ханаанян и вовсе всех уничтожил. А тут какой-то мусульманин… Мусульмане все происходят от сына рабыни Агари — наложницы Авраама—Измаила. Их поэтому зовут небрежно: агаряне и изманлтяне… Так внушал тот заносчивый рабби и был изгнан голосами караимов из иудейской Академии за ненавистничество. Сейчас Вениамин подражал ему, И потому попытался как можно заносчивее спросить:
— Что, потомок Агари, присматриваешься ко мне? Запоминаешь?
Глаза обречённого по-прежнему тихо, не мигая смотрели в глаза Вениамину. И Вениамину от этого было не по себе: он не был по натуре жестоким и ему трудно было решиться на жестокость:
— Ну, агарянин, молчишь? Или ты в душе молишься — себе самому отходную читаешь?!
Вениамин вдруг отбросил нож:
— Ай, не буду я тебя лишать жизни. Ну, и что, — если кто-то, кто похож на тебя (пусть даже это был ты!), требовал унизить всех, кто похож на меня?! Я тебя всё равно прощаю. Может быть, и ты когда-нибудь простишь таких же, как я или как моя дочь…
Он поднялся, пошёл было прочь. Вернулся:
— Давай я помогу тебе… Тебе тоже надо отсюда уходить. Если утром здесь тебя обнаружат стражники, расспрашивать начнут. А расспрашивают-то у нас, сам знаешь, на дыбе…
Вениамин приподнял агарянина, поставил на ноги.
Монах благодарно опёрся на руку Вениамина. Двинулись оба со двора. Но возле арбы с таботаями монах замешкался:
— Мне бы надо их с собой…
— Таботаи? — удивился Вениамин. — Гробы?
Монах кивнул.
Брови Вениамина поднялись так высоко, что его я без того вытянутое лицо стало похожим на голову кобры.
— Ты хочешь сказать, что это твои таботаи, монах? А где же голый человек, что управлял арбой? Где голый дэв? Разве это не дэва гробы?
Монах очень хотел отблагодарить Вениамина хотя бы нужным ответом на вопрос, но лишь виновато улыбнулся:
— Я не видел никакого дэва. Гробы эти я привёз с собой на корабле, потом перегрузил на арбу. Может быть, голый человек, про которого ты говоришь, — эта христианин. Он был одним из гребцов, и потом, в суматохе, когда я выгружался, этот гребец как был гол за работой вёслами, так без одежды и пробрался ко мне на арбу. Да вот нехорошим оказался человеком: задушить меня хотел. Я чудом спасся: чувствую, что ломает он мне хрящ, ну сам себе старым приёмом дервишей остановил дыхание — притворился, что уже мёртв. Вот как бывает. А я догадался, что этот христианин из наших мест. Решил земляку помочь. На корабле от смерти спас его. А он потом меня… — монах потянулся рукой к чёрным пятнам на своей шее. — Про себя он мне доказывал, что он среди христиан еретик — инакомыслящий. Но не верю в инакомыслие предателей. Императору Византии продался этот человек… Да вот ещё мне про отца он говорил, что отец его ремесленником здесь. Своего-то имени мой душитель даже и не помнит, а отца его Вениамином, говорил, величали. Сказать бы этому ремесленнику Вениамину, какой его сын неблагодарный… Много злого про себя наговорил мне этот человек. Он задумал меня убить и наслаждался безнаказанной исповедью во зле…
Монах вдруг споткнулся в речи, остановился и стал всматриваться в Вениамина, будто что-то припоминая, с кем-то Вениамина сравнивая.
Вениамин тоже весь насторожился, внимательно рассматривал монаха. Невыразительно, как-то неловко протянул:
— А меня, монах, тоже Вениамином зовут, как отца того, ну, который тебя хотел на небо. Только я, видишь, не из христиан, — и Вениамин дотронулся рукой до своей высокой караимской шапки.
На востоке уже окрасило слабой желтизной край синего неба. А они всё ещё стояли посреди разгромленного двора. Рядом с ними, распространяя всё усиливающийся сладкий запах, пылал погребальный костёр.
— Чёрны пути судьбы, — вздохнул Вениамин, — Кто человек человеку: волк или пёс? Враг или друг? Часто помогаешь, а он тебе потом в спину нож. Вот и ты… Я тебя не убил, а ты потом… Ты ведь, — как я уже догадываюсь, приплыл к нам тайком из Баб Ал-Абваб — Ворот-Ворот, от стены, что отделяет Халифат от земель кочевников. Так я был в этом садке зла, когда бежал с тёплого моря от погромов. Этот пограничный город кишит газиями, муттавиями, курраями, гурабами — всеми вашими этими мусульманскими «бордами за веру», «добровольцами», «чтецами Корана», «пришлыми». Видел я; со всего Халифата собираются туда ушлые люди в надежде на поход против «неверных». На устах крик — «Принимай ислам или смерть», а за пазухой одно желание — пограбить.
Монах нахмурился, вспыхнул:
— Не сравнивай меня с газиями, — он выхватил из костра пылавшее полено, осветил себе лицо: — Вглядись в меня! Я не жалкий газий, который состригает усы и бороду, лишая себя знаков мужского достоинства в пользу Аллаха. Я — тощий конь, который много ходит воевать, но выбился из сил. Конь повстречался с лебедем. Лебедь посадил его на свои крылья и доставил сюда — к жёлтому песку и жёлтой полыни, в зелёную степь под Кек Тенгри — Синее Небо. Вот, внимательно гляди. Видишь: я — умершая совесть, которой голос Ашины-Волчицы приказал вернуться. Ашина сказала богу: «Ты — бог Чёрного Пути! То, что у этого тощего коня сломано, соедини. То, что у него разорвано, свяжи». Я пришёл связывать, соединять!
Монах разгорячился, в неистовстве водил пылающим поленом перед своим лицом, освещая своё лицо то справа, то слева и едва не подпалив свои клоки бороды. И Вениамин сосчитал их.
А когда сосчитал, то не поверил себе и стал ещё и ещё всматриваться в лицо монаха. И вдруг громко рассмеялся.
Странен был смех этого только что потерявшего всё человека, которому бы надо оплакивать свою судьбу. А он смеялся всё громче.
— Шоцлари кьюшовлар, ишлари чибинлар — слова его факелы, дела как мухи! Дак это ты, беспутный Волчонок? О, я теперь узнал тебя! Как же я не опознал тебя сразу? Хотя как узнать? Ведь ты в таком чужом обличии… Но болтаешь по-прежнему сладко! Ах, это ты — жалкий беглец, забывший про своё достоинство принца и смущавший город вольными речами, а потом потихоньку выкопавший гробы своих предков и бежавший из города? Какой же я невезучий! Почему не зарезал, пока не знал, кто ты? Почему помиловал? О, жалкий Волчонок! В городе говорят, что все беды из-за тебя — и падежи скота и неурожаи. Что твой отец, наш великий правящий Каган, потерял теперь свою божественную способность вызывать дождь по твоей вине, — потому что ты украл священные сосуды с прахом предков.
Монах выронил полено, которым освещал себе лицо, в растерянности, пытаясь оправдаться, проговорил:
— Я привёз назад священные таботаи. Вот они!
Но Вениамина было не остановить. Он продолжат обличать, он даже бил себя в грудь, как будто был перед людьми в кенасе:
— Волчонок! Как я тебя сразу не узнал! Что же ты будешь делать? Опять сеять в городе смуту?!.
— Нет, ты не Волчонок. Зачем наследному принцу было красться тайком в свой город? Кто посмел бы пролить священную кровь сына Кагана? Тем более, что ты вернулся со священными родовыми таботаями… А ты проник в город тайком. Ты обманываешь. Выходит, ты — гнусный дэв, принявший обличие беспутного великого принца! Дэв способен принимать любое обличие. Чтобы сделать мне больно, ты только что предстал передо мной моим несчастным сыном. Теперь ты сменил обличие. Но ты ведь дэв?
Вениамин споткнулся в речи, вгляделся в Волчонка и резко переменил вдруг тон своей речи на наставительный, поучающий.
— А если ты впрямь Волчонок, не сей больше смуты! Дай людям пожить в мире… Без смуты! Народу от лишних властителей только плохо. Вот смотри: ты сегодня в город въехал, а уже со знамениями. Уже и про «дэва голого» закричали, и в городских воротах убийство сотворилось. А у меня во дворе кабары народились. Вон твои плоды, — Вениамин показал на костёр, — углится плоть, а души невинные загублены — на небо отлетают.
Вениамин помолчал, потом с каким-то вздохом, вроде как жалея, понимая, что это неизбежно, посоветовал:
— Если ты не злокозненный дэв, а в самом деле непутёвый Волчонок, то иди лучше сам сдайся. Ради всех. В народе у нас и так смута. В Кагана не верят, считают, что он силу потерял. На Алтай/ за полком со знаменем гонца народ послал — надеемся, что, может, хоть алтайский полк от Барса Святослава защитит. А тут ещё ты, смутьян, явишься…
Волчонок не ответил, подошёл к арбе с таботаями, впрягся вместо мула, попытался стронуть арбу. Вениамин подтолкнул её плечом. Потом вернулся во двор, снял с убитого синий халат, догнав, укрыл повозку. Впрягся в неё, вместе с Волчонком.
Некоторое время они тянули арбу молча среди безлюдья, дальше и дальше отходя от места побоища.
Было тихо. Уже возле самого наплавного моста на них внезапно наехал разъезд керхан (свободных ополченцев).
Ополченцев было пятеро. И сразу двое из них наперебой закричали:
— Эй, вы! Тут «голого дэва» часом не встречали? Нас по тревоге подняли. Прочёсываем город.
— Нам сказали: «голый дэв» в городе.
— Весь ночной дозор стражников арсиев погиб, а самого сына Арс Тархана прямо в городских воротах зарезал дэв.
Низкорослые, тяжёлые лошади приседали под тучными, грузными керханами. У каждого из всадников были щит, плеть, аркан и копьё. В левом ухе бронзовое кольцо. У левого бедра кривой нож.
— Бир иртыльян, экинчи параданьян — один рваный, другой разодранный. Попались смутьяны, один другого бедней. Что с них взять? — один из керхан вплотную наехал на Вениамина; свистнула плеть — и кровавая полоса рассекла лицо Вениамина.
— Ну, от тебя долго ждать слова, старик? Говори!
Другой всадник теснил агарянина. Ткнул плёткой в чалму…
— Эй, а я дай-ка мусульманина ошпарю! — но, разглядев, что перед ним монах, воин опустил плеть. Повернул коня тоже на Вениамина, стал стегать плетью:
— Говори, паршивый «кувшин»!
Не дождавшись ответа, ускакали керхане.
Вениамин и монах вышли на наплавной мост.
На мосту переговаривались нёсшие дозор арсии.
Один рассказывал:
— Арс Тархан, как узнал, что его сына дэв зарезал, к себе в юрту никого не пускает. Кричит: «Убью!» Одиноко в юрте сидит, пеплом кидается. Дурное случилось с командиром.
Другой арсий сочувственно кивал.
— Горе тяжкое у нашего Тархана. Раз сына убил дэв, то тело сына теперь нечистое. Труп в воротах будет лежать. Убирать три дня нельзя, раз дэв к нему прикоснулся. А через три дня телу ноги придётся отрубить, чтобы убитый за живыми не вернулся, других за собой не потащил. И только тогда можно будет Арс Тархану похоронить сына.
Мусульмане арсии, услышав шум арбы, подняли было оружие, но, разглядев монаха, впрягшегося вместо мула в арбу, пропустили через мост монаха и сопровождавшего его «кувшина» без всяких вопросов. Арсии даже поклонились монаху. То ли поклоном «божьему человеку» хотели в опасный час умаслить лишний раз Аллаха, то ли решили, что раз с впрягшегося в арбу монаха уж явно нечего взять, так надо взять хоть благословение.
Наплавной мост был длинным. Вениамин и Волчонок миновали его молча.
Расставались Вениамин и Тонг уже на острове. У самого края моста, как раз напротив юрты начальника стражи Арс Тархана.
Вениамин сказал, щупая ладонью рассечённое плетью лицо:
— Вот ведь как бывает: в другое время арсии не впустили ни за что бы никого ночью на наплавной мост, а раз дэв в городе разгулялся, то уже не до порядка.
Волчонок молча и сосредоточенно снимал покрывало с таботаев, явно готовясь обратиться к начальнику стражи.
Вениамин потоптался на месте:
— Слушай, давай проедем дальше. Я помогу тебе тащить арбу. Ты забудь, что я тебе сдаться насоветовал — это я от раздражения. Стражники тебя схватят и замучают. Я тебе неискренний совет дал — проверить хотел: не дэв ли ты?
Волчонок снял со своей шеи алмазную цепь. Протянул Вениамину:
— Продай камни!.. Новый дом себе построишь. А меня не жалей. Бабочка влетает в огонь и через свою гибель становится огнём.
Взгляд Волчонка был чист и светел.
Старик взял цепь, повертел в руках. Вернул:
— Цепь твоя для меня слишком дорогой подарок. Мне никто не поверит, что эти камни и золото мои. Подумают, украл. Лучше отдашь цепь своему палачу, чтобы убил поскорее — меньше пыткой мучил…
Волчонок и Вениамин обнялись.
Волчонок остался перед юртой Арс Тархана. Вениамин побрёл дальше.
Он брёл среди начинающих светлеть теней от чужих домов и думал о сгоревшем собственном доме. А ещё он думал о терпении. Ведь разве не одно терпение спасало порой в безнадёжных положениях народ «пришедших из-за реки» — ибрим (евреев)?!
Ну, а то, что сейчас случилось, возможно, сделано богом ради просветления Вениаминовой души. Ведь учит же книга Йоцира, что задача души единственно состоит в том, чтобы она во время земной жизни подвергнулась испытанию?!
Но вот почему боги так рьяно подвергают испытанию именно его душу, а не душу разжиревшего, похожего на сплошной кусок сала толстяка Фанхаса, того самого, который до сих пор торгует детьми и когда-то нажился на продаже Вениаминова сыночка?
Почему не трогают скупившего полгорода Управителя Кагановым Богатством Ишу Иосифа, который теперь уже настолько обнаглел, что при живом Кагане нередко именует себя царём и требует для себя таких же, как Кагану, почестей?
Или, может быть, его, Вениамина, Неизречённый, невидимый и неназываемый, бог столь придирчив к бедным и столь снисходителен к богатым, потому что священники недобросовестно докладывают богу? Получая от богатых подарки, они за эти подарки только о богатых и молятся богу?
Как было бы справедливо, если бы не было этих кровопийц, этих обжор и ленивцев — священников?! Все они лишь для богатых! В городе, бывает, люди перекидываются от одних богов к другим, но всякий раз — Вениамин заметил — это не приносит людям спасения. А что удивляться?! Ведь между богами и верующими всегда остаются одинаковые в своём корыстолюбии священники!..
— Ахчасы табулду — нашлись денежки, сел в почётном углу. Вот и вся мудрость священников! — не выдержав своих грустных мыслей, вслух отводит душу Вениамин.
Уже полнеба было залито желтизной.
Вениамин прибавил шагу. Он не шёл, он теперь почти бежал — мимо деревянных Истуканов, известковых Балбалоз, мимо саманных коробок кенас, деревянных шлемов церквей, и каменных башенок мечетей. Мимо множества святилищ, при которых, как мух при жертвенниках, удобно расплодилось превеликое множество толстых и тонких, но в душе — как был убеждён Вениамин — одинаково засалившихся священнослужителей.
— Чревоугодники! — стал ругать про себя Вениамин всех священников. — Правильно поступил великий мудрец Анан, что хотел заставить всех вас, лентяев, работать. Анан был избран гаоном — председателем духовной Академии, а продолжал работать простым ткачем. Священники теперь уничтожают учение Анана, объявляют ананитов, его последователей, караимами-отступниками от правильной веры, еретиками. Но ведь разве бы творилось на свете, нынешнее беззаконие, если бы, как завещал иудеям Анан, священники все сами трудились в поте лица?
Да, если последовать Анапу, то и гнусных погромщиков-кабар не было бы! Ведь Анан был очень мудр, когда проповедовал, что Моисей, Христос и Мухаммад никогда не были врагами, а были разными пророками, приходившими к разным племенам от одного и того же общего бога. Он хотел, чтобы священники проповедовали такое же равенство среди людей, как равны пророки. А что священники? Они, напротив, натравливают своих верующих против других богов. Толкают людей к братоубийству под видом борьбы за истинную веру, за истинного бога. Нет! Должен найтись тот, кто пойдёт сказать всем людям: «Давайте прогоним плохих священников и изберём из самих себя посредников к богу!»
Священники гнусно пошли на подлог: они ересь считают за отрицание богов. Они травят, жгут, распинают еретиков нещаднее, чем иноверцев. Они кричат, что человек, сегодня дерзнувший поправить своего бога, завтра способен отринуть бога вовсе. Но как заблуждаются разномастные священники?! Как они своим жирным умом не поймут, что только в постоянной ереси — спасение от застоя и полного крушения веры?! Ересь — соль мысли.
Нетрудно догадаться, что в глазах священников из Белого храма — того, что построен на острове, — Вениамин уже сам давно слыл еретиком-караимом, хоть и по-прежнему состоял при Белом храме в духовной Академии (от клееваров, как Анан был от ткачей).
Нет, Вениамин не выступал на собрании общины я кенасе с прямым утверждением, подобно Анану, что нет никакого избранного народа, а все народы равны.
Вениамин помнил, что у него много дочерей, и боялся расправы. Но Вениамин был избран старейшиной в клане ремесленников, и ему не раз выпадало идти в челобитчиках к властям по случаю притеснения со стороны купцов — рахданитов. А раз перечишь властям, то — вот и проклятый караим, злокозненный еретик… Раввины, лижущие зад властям, сочинили талмуд—свод строгих правил. Сделал шаг в сторону — и тебя по голове талмудом. Отступник, инакомыслящий!.. У талмудистов ярлык всегда наготове: «Ах, этот грязный караим, заплата на заплате. Его ремесленники впихнули в Академию, угрожая бунтом! Он здесь, в Академии, от тех, кто не умеет растить деньги! Прогнать защитника лодырей и безбожника!»
— Но ведь кому-то надо быть челобитчиком за бедных людей?! Кто-то нас должен защищать, если для нас нет внимания от священников и мы оказываемся без бога?! — думал Вениамин. — Ведь для этого же меня и в Академию от народа избрали, чтобы я там интересы ремесленников в обиду не давал. Следил… И не провидение ли в сложившемся сегодня? Не освобождение ли моему духу? Ну почему мне теперь не принять на своё чело терновый венец проповедника за бедных?! Я же теперь свободен совсем от имущества! И я свято верю в справедливое учение Анана! Я стоек и вынесу за справедливость даже дыбу. И я уже стар, а старику, что ему дыба?! Нет, я сегодня не пойду, как пёс без хозяина, вои из города. Я пойду по дворам. Я буду проповедовать. Я зайду во все дворы и каждому расскажу про великое учение Анайа о равенстве богов. И тогда не будет больше погромщиков — кабар. Они растают совсем, как истаивают холодные льдины под тёплыми лучами солнца. Кабары разрушили сегодня мой очаг. Когда все народы Хазарии узнают слово Анана о братстве, больше не будет разрушен ни один очаг!..
Рассвело. С минарета громко закричал мулла. На острове, на плоской крыше иудейского Белого храма, утыканной золочёными гвоздями (чтобы на неё не могла присесть и осквернить храм птица), показались в жёлтых одеждах жрецы, они тянули руки к уходившей луне. Как жрецы сами умудрялись, не поранившись, ступать меж гвоздей? Или в этом и есть главная мудрость обслуживания богов?
С левого берега звенели колокола — это приглашала прихожан к заутрене христианская церковь. А снизу, с реки, от ветвистого дуба громко прокричали серебряные трубы — звали к Идолам.
Вениамин резко повернулся и пошёл назад, к наплавному мосту. Напротив юрты Арс Тархана одиноко стояла, прикрытая синим покрывалом, повозка с таботаями. Ока торчала, как синий знак печали, резко выделяясь на жёлтом прибрежном песке. Полог в юрту Арс Тархана был слегка откинут. Видимо, Волчонок вошёл на плаху. Ну что ж, пухом будет ему земля. Вот он тоже искал духовного подвига.
Вениамин миновал мост. Теперь он шёл, смешавшись с толпой — среди людей, спешивших кто в поле, кто к своим бахчам, кто на виноградник, а кто на молитву.
На левом берегу, возле православной деревянной церкви Вениамин увидел толпу оборванных ярбигал — «шейных колодок». Так звали в городе рабов, которым полагалось ходить с деревянной колодкой на шее. Ярбигал потолклись возле двери и не очень решительно стали заходить внутрь христианского храма. Вениамин подумал, что вот так же где-то на чужбине, проданный км самим в рабство, неловко просился к чужому богу его собственный сын. А что, если вернулся? И на мгновение он как будто даже увидел сына среди рабов — в совершенно голом, пепельно-сером человеке, который втёрся в очередную группу ярбигал, входивших в церковь. Голый, пепельно-серый человек был длинен и тощ, с вытянутым лицом, как у самого Вениамина, в чём-то смахивал на дэва.
— А может быть, не такой дурной человек «христианин?» — подумал Вениамин, не решившись даже в мыслях назвать своим сыном того человека, про которого рассказывал Волчонок. Если вправду, что он еретик? Говорили Вениамину знающие люди про павликиан-манихеев у христиан, что у них учение на караимское чем-то похоже. Для манихеев тоже самое главное, что не должно быть розни из-за веры или национальности. И от священников, обирающих народ, манихеи тоже отказываются. Может быть, сыночек-то и вернётся к отцу.
— Сдаётся мне, что оба мы из «братства вдовы», — уже гордо ободрил себя Вениамин.
Вот вдруг как повернулись его мысли. О, загадочна и мистична Каббала человеческой жизни. Тирлик ина, кичи да ити. Жизнь — игла, малая и острая. Никогда не знаешь, куда жизнь нитку души вытянет!..
Примечания
1. Рабби (равви) — учитель, знаток Завета и Талмуда.
День девятый. «Епископ Хазаропрозопос»
Епископ Дукитий, по прозвищу Хазарская Рожа, данному ему в святом городе Новом Риме (Константинополе), шёл к заутрене. Позади себя он приметил кравшегося человека — тощего, длинного и совершенно голого.
Он сначала подумал, что это нищий бродяга, каких сильно прибавилось в городе после минувшей голодной зимы, случившейся из-за того, что осенью по Реке, вопреки обычному, не спустились лодии с хлебом из земель Русов. Но голый не приблизился и ничего не попросил, а только, как тень, всё крался за ним, проводив епископа до самого собора. И тогда епископ догадался, что вот она, — наконец-то прислана ему из Нового Рима святая смерть.
Деревянная церковка, не с шатром, а с круглым, подобным каменному, шлемом-куполом, приткнулась на левом берегу, почти у самой воды. Вид у неё был неказистый. Куда до роскошного храма на острове! Но Хазарская Рожа всё-таки её держал собором, то есть местом собраний всей христианской общины в городе. И сам в ней служил, потому что она была ближе его прихожанам, в большинстве своём жившим не на привилегированном острове и не в богатых кварталах высокого правого берега, а здесь, на нищем левом берегу — рядом со скотом, который они обслуживали. Здесь прихожане, когда случались столкновения с мусульманами или иудеями, могли свой собор и епископа защитить.
Хазарская Рожа сначала отпер собор, словно приготовил себе убежище от кравшейся за ним тени. И только после этого оглянулся и перекрестился. Тень осталась во дворе церкви, а епископ пошёл внутрь.
Был епископ низкоросл, коренаст, с ногами, скорее приспособленными обнимать круп лошади (настолько они были кривы), чем пешком носить тело. И даже высокий зелёный епископский клобук на голове не прибавил ему достоинства, а сделал, напротив, ещё больше схожим с карлом, только карлом почти безбородым — с тремя волосинками.
За эту внешность в Иовом Риме—Византии его, наречённого во епископстве Дукитий, сиречь Удобопреклонный, ромеи-греки иначе и не называли, кроме как Хазаропрозопос — Хазарская Рожа. И сия кличка к нему так и прилипла, звучала уже вроде как даже одобрительно, по-свойски здесь, в Хазарии.
Хазарская Рожа снял негасимую лампаду, которая теплилась перед образом апостола Петра: считался Пётр покровителем этого края, ибо по легенде, подобно Андрею, ходившему на Русь, Пётр ходил миссионерствовать в сторону великой Реки и вроде как даже дошёл сюда, до города Итиля.
Как положено, епископ от негасимой лампады возжёг светильники во храме. Потом потянул за длинную пеньковую верёвку, уходившую вверх, под купол, — качнул колокола. Он любил сзывать верующих сам. Из-под купола сначала прокатилось окрест мелкой, рассыпчатой дробью — это запрыгали малые колокольцы. А потом тяжело ухнуло, когда их догнал медленно пошедший большой колокол.
В освещённый храм потекли людские ручейки. Многие, входя, стеснительно мялись. Сняв шапки, не знали куда деть руки, теснились к стенам. Новички! Хазарская Рожа обрадовался им, как детям. Значит, не зря решился он на проповеди противу любостяжания. Призвал войско собирать против Барса Святослава, а не в злате купаться и голодом ради злата народ морить.
Торжественно рукополагая епископа на отдельную епархию, патриарх Полиевкт внушал, что вне собственной Византийской империи задача церкви прежде всего миссионерская. Не в политику открыто с амвонов вмешиваться, а тихонько привлекать в храм побольше Оглашенных, то есть тех, для кого служба носит учительный характер, увлекает и может со временем побудить их вступить в христианскую общину. Но без проявления заботы о государстве ведь и не привлечёшь народ в церковь?
Хазарская Рожа прошёл к иконостасу, зажёг, кроме лампад, ещё несколько свечей. Свечи были дороги, и предпочтительнее, чтобы их ставили божьим угодникам сами верующие, но новички требовали внимания, нужно было, чтобы они поскорее почувствовали в душе праздник.
Народу прибывало, и Хазарская Рожа чуть повеселел. Уверил себя, что тень, скользившая по пути к храму, ему привиделась. Или была проказой «голого дэва» — говорят же, что он пришёл мутить город.
Епископ приободрился. И вернулся в круг своих обычных каждодневных сварливых обид. Скрепя сердце поставил из отложенного на особый случай запаса ещё несколько толстых свечей; зажигая их, ворчал: «В златоглавой столице Константинополе полагают, что облагодетельствовали Хазаропрозопоса, когда, наставляя его вернуться в родные места, надели на меня епископский клобук. Ещё бы! Обыкновенного монаха, всего лишь спафарокандидата по чиновничьему чину в логофетии, и вдруг ввели в круг вершащих волю Бога. Учит церковь, что Богом людское сословие делится на три ступени: мирян (Богу лишь молящихся), клир (Богу служащих) и, наконец, епископат (коллегию избранных — волю Бога вершащих, патриарха из себя выдвигающих и на троя базилевса-императора благословляющих). И вот Хазарская Рожа сподоблен в круг избранных. Вершителей. Я — вершу!»
Но как? Чем? Какими чудесами было ему божескую волю тут вершить? Видели бы новоримские пастыри, блистающие в убранных золотом и каменьями златоглавых своих соборах, в которых сама роскошь внутреннего убранства ублажает сердца верующих и преподносит им праздник, каково бороться за внимание паствы ему в его жалкой церквухе? Епископ тяжко вздохнул.
А тут ещё нетерпимый питтакий получен. Возмутительное XXXII Правило Двинского церкозного собора, усердно пугая, полностью приводит этот питтакий:
— В местностях злоеретиков мессалиан, называющих себя павликианами, не нужно проживать, или примыкать и ходить к ним, беседовать с ними. А нужно совершенно удалиться от них, гнушаться их, ненавидеть их, ибо они — сыны Сатаны и топливо вечного огня, отчуждение от доброй воли творца. Если кто-либо примкнёт и вступит с ними в любовь и дружбу, нужно таковых ИСТЯЗАТЬ и наложить на них тяжкую кару, пока исправятся и выздоровят в вере. Но если они опять-таки испоганятся в ней, повелеваю таковых совершенно отделить и выбросить из членов церкви Христовой, как заразу, ибо горький корень, возникнув, причиняет вред и им оскверняются многие.
Как увязать это предупреждение в питтакии (да ещё со ссылкой на решение собора!) со служением строго миссионерской задаче, которую сам же патриарх перед ним ставил, рукополагая во епископы? Патриарх советовал не держаться за канон, искать пути к сердцам людей, отвечающие своеобразию местности и традиций, службу вести наглядно и доходчиво, как в апостольские времена, когда не оформились ещё буква и закон, но уже пробудился дух. Советовал даже проскомидию (приношение Даров) и другие таинства совершать явно — прямо перед верующими, как в раннехристианские времена. А теперь сам же шлёт питтакий, за которым стоит непонимание обстановки, в которой здесь, в Хазарии, ведётся христианская проповедническая деятельность.
Удалиться от злоеретиков павликиан? Но с кем тогда епископ останется?! А уж «ИСТЯЗАТЬ»?! Да о чём отцы церкви в Константинополе думают?! Кто ему здесь это позволит?! И потом: почему иноверца (агарянина или иудея) трогать нельзя, а своего, христианина, — только инакомыслящего, — непременно уж надо пристрастно допрашивать, травить, как заразу?! Уж не сами ли манихеи к патриаршему столу подбираются, эту провокацию придумали, чтобы гражданскую войну вызвать? Уж очень знаком почерк «братства вдовы».
Впрочем, есть в питтакии и пострашнее предложение. Про мощи (неистлевшие останки). Коли в каких епархиях останков нет, то, мол, надо о местных возможностях смиренно подумать. Тому же Хазаропрозопосу, ибо известен он стойким образом жизни и могут, следовательно, останки его не провонять, почему бы не повести себя так, чтобы пострадать за веру на глазах народа. Пусть даже нападёт на епископа принародно мусульманин, подлый враг веры Христовой. Пусть жизни стойкого епископа лишит! Возможно ведь такое, — тут тоже не надо бояться, а думать о пользе веры.
Ясно, куда клонит питтакий из Константинополя?
— А если мои останки провоняют? — уйдя в скромные мысли, чуть не вслух вскрикивает Хазаропрозопос.
А, может быть, впрямь что-то вскрикивает вслух, потому что он видит, как толпа сама падает перед ним на колени.
Рассердился. И не стал поднимать паству с колен. Пусть себе проникаются раболепием, если они так жаждут его. Оглянулся: где же баруа — тень, которая прокралась за мной в собор?
Осторожно ступая, епископ пошёл в притвор. Сменил в притворе одежды, взял противень с хлебом, два ножа и прошёл в алтарь. Хлеб был наполовину с мякиной, но и такой хлеб дворцовый лепёшечник доставил в храм лишь после недвусмысленных угроз со стороны Христианской общины и большой дополнительной платы. Вот прямой ущерб даже святому обряду от того, что не пришли хлебные караваны из земель Русов…
Хазаропрозопос, разумеется, послал патриарху известительное письмо, в котором сообщал об этом событии чуть ли не как о предвестии войны между хазарами и Русью. Ведь хазарского похода на Русь как манны небесной ждут в Константинополе. Византия готова платить и кочевникам, и Русам, лишь бы те увязли в длительной войне между собой и ослабили друг друга. Ведь иначе хазары попробуют выкинуть ромеев из Херсонеса в Крыму, а молодой князь Святослав, сын Ольги, того и гляди отправится на запад — прибивать щит к воротам Царьграда, как уж было при князе Игоре, его отце.
Впрочем, Управляющий Богатством при Кагане, рыжий Иша Иосиф, кажется, сейчас всё делает, чтобы отвлечь Барса от византийского похода и завлечь его сюда — на Итиль-город.
У Святослава слишком велика слава, чтобы кто дерзнул идти искать его меча. А вот Иосиф ищет.
Упорно погибель хазарам накликает.
Иосиф три урожайных года тайно набивал свои амбары дешёвым зерном — всё ждал года неурожайного. Не дождавшись, решил сам устроить городу голод — с прошлой осени просто не допускает до города лодии с пшеницей. Стражники арсии по приказу Иосифа поставили свою заставу выше города, по реке, и под разными предлогами отпугивают, а то и убивают торговых гостей, везущих хлеб. Но везут-то пшеницу и рожь чаще всего Русы. Киевская пшеница идёт. Киевлян убивают…
Иосиф уже хорошо нажился этой зимой. Но он мечтает о настоящем голоде. Ведь тогда он за свой припасённый хлеб мало что полгорода сам скупит, так ещё и благодетелем для всего народа станет — спасителем народа от голодной смерти. Так вот собирается Иосиф сделать себе одновременно деньги и добрую славу. И вот бы о чём рассказать народу в проповеди. Вот бы на чисту воду наживу на народном горе соборно вывести! Но как на такое в проповеди решиться?
«Но ведь я тогда истинно стал бы народным героем. Не обидно, даже если меня успеют убить! Тогда я предотвращу и голод, и войну с Русью. Я в самом деле стану для потомков хазар святым», — воодушевляется епископ и сникает. Он прекрасно знает, что патриарху не нужны святые мощи епископа, послужившего спасению народа варваров, а не возвышению Нового Рима… «Будет одно, провоняют или нет мои останки. Меня не причислят к лику святых. Ни за что!»
Хазарская Рожа раскладывает в алтаре предметы святого ритуала — ему предстоит отслужить божественную литургию, — а сам прислушивается к разговорам в храме.
В переднем ряду, возле самого алтаря толкутся те, кто побогаче и кому не зазорно выказать себя перед всем миром. Они сейчас напористо осуждают проповедь, что произнёс Хазарская Рожа в прошлое воскресенье.
— Господи Иисусе! Взбесился наш пастырь, на непорядок народ в то воскресенье подбивал!
— Ну, не скажи. Так уж и на непорядок?.. Конечно, было непотребное кое-что… Очень уж он на любостяжание и на зло от денег напирал. Так ведь перестроить народ можно!
— Люди, честные христиане, братцы вы мои! Ах, деется-то что?! Церкови должно народ к единению вокруг особы властвующей призывать. А наш епископ? Он же прошлый раз намекал на то, что Управляющий Богатством Иша Иосиф деньгам, а вовсе не Кагану служит! Он еретик?!
— Тсс! На кого язык чешешь? На избранного?.. Епископы богом отмечены, к богу приближены… Раз епископ так и говорит, значит, веление на то свыше от патриарха имеет.
— Да какой он епископ! Из наших, местных, он. Сам в проповеди признался, что мальчиком отсюда был ромеям в рабство продан, ну, а у ромеев был богу пожертвован — так в священники и выбился.
— Вот оно чувствуется, что из рабов поп! Да вы, православные, оглянитесь! Кто сегодня в церковь нашу понабежал? Одни же ярбигал… Одни рабы презренные…
— Тсс! Не так громко. Все мы во Христе равны, и потом… рабы могут услышать…
Хазарская Рожа поднял голову от священных предметов. Глядел на недовольных. Их было немного. Но среди них епископ вдруг заметил и самого рыжего Каганова Управителя — Ишу Иосифа. Иша пришёл в пышных одеждах и, чтобы не выделяться, стал в нишу за образом Петра-апостола. Он выглядел как красный коршун, притаившийся в расщелине и высматривающий добычу. Хищно торчал его крупный загнутый нос с красиво очерченными породистыми ноздрями, а под ним — два острых, задиристых клина ярко выкрашенной хной бороды. Иудей в церкви?
Стойкость сразу оставила Хазарскую Рожу. Собственно то, что хитрый управитель пришёл в церковь, не было для него ударом. Иша Иосиф приходил в церковь не раз и всегда жертвовал самую толстую свечку. Так же ходил он и в мечеть, и на капище к язычникам. И сам немало способствовал пущенным по соседним державам слухам, что, мол, «царь» у хазар по пятницам в мечети, по субботам в Белом храме, а по воскресеньям молится в церкви, потому что он рассудил: «Каждый верующий знает истину только своего бога, а я буду приходить ко всем богам и поднимусь над богами…» Рыжему Ише особо лестно было, что в сих сногсшибательных известиях его поименовали «царём». И он щедро оплачивал через своих людей в соседних странах такие известия, в душе надеясь, что когда-нибудь царём и станет, — когда вовсе приберёт всю Каганову власть в свои руки. Ведь что такое «царь»: всего лишь титул, происходящий от римского «цесарь» — управитель…
Однако Иосиф всегда являлся в церковь пышней пышного — себя выказывания ради! Но почему же сегодня он держится в тени? Пришёл подслушивать после последней, особенно резкой против торговцев проповеди Хазарской Рожи? Выходит, у Иосифа вдруг перевелись хорошие доносчики?.. Или сегодня истинно готовится епископу что-то особое, ужасное такое действо, бесстыжим свидетелем которому Иосифу непременно хочется быть самому.
Для злата нет преград. Хазарская Рожа знает, что «братство вдовы» давно жаждет купить кафедру в Хазарии для своего епископа. Конечно, в патриархии клюнут на злато…
Хазарской Роже страшно. Он невольно делает шаг в сторону, чтобы бежать. Скинуть облачение, раствориться в толпе, уйти в степь к кочевьям?
Но уже вторым шагом снова возвращается на своё место. Он понимает сам, что это гордыня. Но он всё думает: «А что, если мои останки не провоняют? Апостол Пётр передал в Откровении своём, что только одни первосвященники и праведники войдут в гору, где им откроется огромное пространство вне этого мира, сияющее сверхъярким светом; воздух там будет сверкать лучами солнца, сама земля будет цвести неувядаемыми цветами, будет полна ароматов и прекрасно цветущих вечных растений, приносящих благословенные плоды. И в этом месте, вне мира сего, будут жить избранные, одетые в прекрасные, необыкновенной белизны одежды. Тела их будут белее всякого снега и краснее всякой розы, и красное у них смешано с белым. Пётр признался, что просто не смог бы описать их красоту. Волосы у них волнистые и блестящие, обрамляющие их лица и плечи, как венок, сплетённый из нардового цвета и пёстрых цветов, или как радуга в воздухе. Одним из таких, если его останки не провоняют, мог бы стать Хазаропрозопос, бывший раб, потом вольноотпущенник — христианин, монах, епископ. Первосвященник!
И тут же смущение приходит к Хазарской Роже.
Он-то войдёт в гору и окажется среди избранных. А вот эти люди, что сейчас в церкви, останутся у горы. Для всех ведь нет места на горе. Все хазары, весь его народ останутся у горы… Хазарская Рожа обрывает свои мысли. Склонив голову, исступлённо крестится, моля простить ему самообольщение. Затем украдкой поднимает голову и видит заполненный храм.
— А что, если мне, как апостолу, жертвенно стать поводырём этой слепой толпы к Богу?!. До сих пор я служил, думая, что тем самым служу Хазарии. Что я, как аркан, связываю свой народ со святым великим Новым Римом! Но ежели Риму надобны сейчас только самоубийственные взаимные походы Хазар на Русь, а Святослава на Хазар, то не освобождает ли сам бог епископа от руки новоримского патриарха? Не разрешает ли: «Проповедуй меня не по питтакиям из Нового Рима, а токмо по совести и не бойся быть обвинённым за то в ереси! Прими за народ свой мученический крест! Не один иди на гору. С народом!» Всё равно я приму неизбежное! — думает епископ. — Такая ли уж разница, насколько позже? Важно, что останется после меня. Мне выпадает смертию смерть попрать! Но разве сам бог, когда ступил на землю, не совершил то же? Сказано в Послании Павла: «Бог уничтожил самого себя, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек». Бог принял на себя испытание на земле как человек. Тем самым показал человеку пример…
Пример!
Хазарская Рожа чувствует, что подогрет к священнодейству, — да, сейчас он расскажет Оглашенным историю Бога. И пусть это ересь, — но он покажет в Боге земной бунт. Епископ оглядывается. Теперь он сам ищет баруа — тень, ползущую за ним. Пусть случится…
Внутренне собираясь к изъяснению и изображению судьбы Бога, епископ не начинает говорить сразу. Он старается прежде «уйти», перевоплотиться в «него». У епископа были в Новом Риме хорошие учителя. Они наставили, что священник, особенно миссионер, должен служить литургию так, чтобы прихожане не столько, слушая его, размышляли умом, сколько вместе со священником начали бы переживать за земную историю Бога. Записано: «Чин священнодействия есть выражение того созерцания, которое должно возбудить у верующих чувства». Священник должен сам поверить в обстоятельства, которые собирается условными предметами представлять, и пережить в них «божее чудо», будто око действительно случается вот на его глазах. И созерцанием своим искренним увлечь вместе с собой всех прихожан…
Хазарская Рожа всходит на кафедру. Низкорослый, с кривыми ногами, тремя волосинками взамен бороды и лохматой, нечёсаной гривой, в которую, как ловчий сокол когтями, вцепился зелёный епископский клобук, — он кажется всадником степи, влетевшим в церковь на коке.
Он знает, что в храме немало манихеев, которые отвращаются от божественного, страшного и святого таинства причащения плотью и кровью Господа. Могут убить за это. Но он дерзает:
— Люди! Христиане и те, кто пришёл к нам! Я приступаю к таинству. Вот смотрите: я нарезал хлеб. Нарезанный хлеб, пока он лежит на жертвеннике, есть простой хлеб. Но вот сейчас я предложу его Богу — и он соделается Даром. Таким же Даром, каким с самого рождения среди нас был нам Спаситель Христос. Но, люди, Спаситель перенёс потом ради нашего спасения страдания, крест и смерть. Вот по этой причине и я, прежде чем перенесу этот хлеб с жертвенника на престол, должен буду на каждом кусочке хлеба изобразить ещё и, — как на доске, — страдание, крест и смерть Бога.
Отложив первый нож, которым он нарезал хлеб, Хазарская Рожа теперь взял второй нож, похожий на копьё, и стал протыкать им каждый кусочек хлеба, совершая прободение и вырезая затем рядом крест.
— Люди! Известно, что для благодетелей служит в некоторой степени наградой со стороны облагодетельствованных ими то, что последние помнят о них и помнят их дела. Для подобного воспоминания мы придумали разные средства — памятники, статуи, столбы, празднества, состязания. Цель всех этих средств единственна: чтобы благодеяния не предавались забвению. Но, люди, тем более не можем мы забывать о благодеяниях Бога. И вот точно так же, как ваши предки, ордынцы, в расставленных по Великой Степи в Ибир-Сибир каменных балбалах изображали победы предков, так вот здесь, перед вами, на этих кусочках нарезанного хлеба изобразил я своими действиями победу Спасителя над Лукавым.
Так не рассказывал, а, как научили его у патриарха, красиво и внушительно напел Хазарская Рожа. Однако при упоминании Лукавого уже вовсе не по канону запнулся. И уставился взглядом в нишу, где таился лукавый Иша Иосиф, пока не проследили его взгляд все. И только тогда будто спохватился, взмахнул кадилом я, воззвав к богу, великодушно разрешил:
— Возьмите каждый себе по памятнику Богу!
Он услышал в ответ нестройное и робкое «Аминь!», поднял противень с хлебными ломтиками и понёс его прямо в толпу молящихся. Верующие брали у него с противня хлеб, и каждый повторял: «Я верю, что это не просто хлеб, а что я прикасаюсь к телу Бога. Вот сейчас я вкушу от тела Бога…»
Хазарская Рожа пошёл через толпу с противнем: хлеб таял на нём. И по тому, с какой стыдливой торопливостью тянулись к ломтикам хлеба худые руки, как быстро, даже не рассмотрев, — хотя надо было эти крохотные, из хлеба с трухой и отрубями ломтики рассмотреть, потому что они были памятью и памяти ради творил епископ на них свои условные знаки, — подносились кусочки хлеба к заранее шевелящимся, ждущим губам, степной епископ испугал себя мыслью: «А вдруг не на службу и не ради бунта, а только ради этой подачки кусочка хлеба пришли сюда новички? И им не нужен даже бунтующий, еретический Бог?»
…Епископ Дукитий идёт через толпу и ждёт кинжального удара. Его тело напряжено. Сердце выпрыгивает из груди. Он скосил взгляд и увидел на стене длинную, тощую тень. Тень прилепилась к стене и не двигалась. «Сколько минут мне ещё отведено жить?» — думает Хазаропрозопос.
И тогда он мысленно перенёс всех — и себя, и тех, кто перед ним, — на гору блаженств, на которой Спаситель поучал собравшихся. И ему представилось, что это перед ним стоят ученики его и простой народ, жаждущий слова его. Отчего же этот народ вместе с учениками неотступно следует за божественным учителем и жаждет слова его? А оттого, что чувствует свою духовную бедность, нищету, осознал слабость духовных сил и богатством ума и сердца Христова хочет восполнить скудость и нищету.
И нищим духом, упившись собственной откровенностью, Хазарская Рожа дерзко сказал:
— Передал Герма, сподвижник апостола Петра, покровителя Хазарии, в книге «Пастырь»: являлись ему в видении ангелы, которые просвятили его, что церковь христианская уподоблена строящейся к небу башне. Только прекрасные белые камни на постройку этой башни идут, и сии суть души наши. Однако белые камни сейчас круглы, а на достройку башни годятся только квадратные камни. Почему же круглы сейчас белые камни? Объяснили Герме в видениях ангелы, что круглые камни — это те, которые имеют веру, но имеют и богатства века сего, и когда приходит гонение, то ради богатств своих и попечений отрекаются от Спасителя. Но между тем, объяснили ангелы Герме, богатые только тогда станут угодны Богу, когда сами уменьшат свои богатства с помощью благотворительности.
Епископ возвысил голос и оборотился к купцам.
— Вы, которые превосходите других богатством, отыскивайте алчущих, пока ещё не окончена белая башня. Ибо после, когда башня будет закончена, вы пожелаете благотворить, но не будете иметь места. Не уподобляйтесь тому Лукавому, который в голод держит амбары, полные зерном, чтобы ещё больше зерно в цене повысить. А народу голодному боготворительно ничего не раздаёт. Сейчас в нашем городе тяжко христианам. Многие, не вынеся бедственного положения, причиняют себе смерть. Посему, кто знает о бедствии такого человека и не избавляет его, допускает великий грех и делается виновен в крови его. Итак, благотворите, сколько кто получил от Господа. Не медлите, чтобы не окончилось строение белой башни.
Хазарская Рожа слышал, как загудел собор. Люди поняли его слово, люди оглядывались на Управителя Богатством Иосифа и не могли удержаться, чтобы не поделиться своим возмущением друг с другом.
— Удалилось царство Божие от нас, неразумных хазар, и в сердцах наших стал царствовать грех с его последствиями, сделав нас из небесных земными, из благих — злыми, из смиренных — гордыми, из чистых — развращёнными, из сильных на всё святое, истинное, доброе — бессильными ко всему доброму и стремительными на всякое зло. В грехе погрязли мы. И ежели теперь — вместо шейных колодок — иной расчётливый из нашего хазарского племени, подобно работорговцу Фанхасу, даже и умудряется отрастить на своём теле необъятные складки жира, то душу-то свою как ему отмыть? Как ему нам, соплеменникам своим, чьими детьми он торговал, бесстыдно в глаза нам глядеть и чем грех свой перед нами искупить, чтобы на вечные муки в ад не провалиться? Не отмоет Фанхас душу! Не простится ему. Вам же я говорю: будет прощение вам, если покаетесь. Если покаетесь и о душе своей не поздно вспомните, если царству небесному душу свою приготовите.
Хазарская Рожа выкрикнул на высокой, почти визгливой ноте этот последний призыв и перевёл дух.
Сын степи, он хоть и поверил, что только взаимная людская любовь может спасти человечество и уравнять рабов и рабовладельцев, бедных и богатых в небесном царстве спасения, но всегда с трудом для себя проговаривал то место службы, где, доверяясь евангелисту Матфею, ему приходилось призывать своих прихожан подставлять тому, кто ударит в правую щёку, другую щёку. Конечно, ежели ты раб, а тебя бьёт господин, то приходится подставлять другую щёку. Но ведь это только приходится, — Хазарская Рожа не верил в рабов, которые не ждут момента, чтобы скинуть с себя своего господина и хорошенько посчитаться с ним. Он знал только, что до поры до времени рабу приходится притворяться. Вот так же, как притворялся всегда он, Хазаропрозопос, православный епископ, желая выгнать лукавого Ишу-упправителя из своего храма и по слабости своих сил не смея этого сделать.
Хазаропрозопос вспомнил про Ишу и пошёл по храму. У ниши с изображением Петра-апостол а, где по обыкновению прятался Иосиф, он остановился, взмахнул перед Иосифом кадилом. И долго ждал пока Иша, привлекши к себе всеобщее внимание, вынуждено не пошёл к епископу, не опустился за положенным благословением на колени.
Какое-то мгновение они оба смотрели с ненавистью друг другу в глаза. Плосколицый, приземистый, будто случайно оказавшийся в храме степной всадник, с зелёным клобуком-соколом в лохматых волосах, и такой же маленький, но горбоносый, сам как хищная птица, вызывающе рыжий Иша — по рангу Управитель Богатством при Кагане, а по реальной власти давно властитель всей Хазарии.
— Я благославляю тебя, Управитель, на то, чтобы ты раскрыл амбары, — медленно и громко произнёс Хазарская Рожа, — отдай хлеб людям! Этого хотят от тебя боги! Все боги — и Христос, и Аллах, и твой, Неизречённый. Ты слышишь?!
Иосиф молча поднялся с колен, повернулся и, слегка пригнувшись, словно хоронясь от пущенной ему в голову стрелы, быстро пошёл прочь из храма.
А епископ вернулся к кафедре и стал медленно снимать облачения. Он скинул с себя омофор (нарампик) и сразу внутренне перестал играть роль великого архиерея — самого Спасителя. С горы блаженств спустился назад, в свою маленькую и тесную церковь, стал обмякать душой и телом. Сердце у него ещё часто билось, глаза медленно тухли, теряя лихорадочный блеск. Он объявил, что таинство для всех представлением окончено.
Он остывал сердцем под медленный псалм, который пел калека. Поднял голову. Его взгляд скользит по храму. «Отчего почти никто не ушёл? Может быть, многие просто ждут, что я ещё раз вынесу им противень с ломтиками хлеба?» — думает епископ и слышит, как, нарушая всё течение службы, церковный староста громко повторяет:
— Святых Даров больше нет. Больше не будем обносить противнем с хлебом. Нету хлеба!
Староста знает, что Святые Дары — не простой хлеб. Но кричит как проще.
Потом Верные пели псалм, а из храма уходили Оглашенные — те, кто предпочли ограничиться общими представлениями о божественных таинствах и не идти никуда дальше, — подождать, пока за них снятое дело сделают другие. Эти люди были согласны побывать на службе богу. Но что-то совершать?.. Они сочли, что это пока не для них. Они будут такими завтра, и послезавтра, и через десять, и сто лет. Они считают себя божьим стадом.
Продавились, работая задами, сквозь толпу от алтаря (они, показывая себя, стояли у самого алтаря) купцы. За ними несколько недавно окрещённых — с крестами на шеях, но ещё с длинными висками: перекинувшиеся от Неизречённого бога в надежде, что если придут Русы, то у христиан будут привилегии. Вслед за купцами и выкрестами зашевелились и ярбигал. Они жались к дверям и осторожно выскальзывали. Рабы тоже не торопились менять мир.
Верные устали распевать псалмы. Храм быстро пустел. Служки уносили светильники. Только что было в храме влажно, как в мовнице, теперь воздух быстро холодел. Две лампады остались освещать внутренность собора, по которому вместе с людьми теперь, казалось, на равных блуждали тени.
Епископ дунул на две последние лампады, ещё теплившиеся перед образами. Одна из них сразу погасла, другая же, напротив, вспыхнула, ярче разгорелась. Тогда епископ встал спиной к темноте храма, лицом к образу апостола Петра, перед которым осталась горящая лампада, и стал тихо молиться — за себя.
Лицо его было жёстким, а слова молитвы давно вбиты в память, будто гвозди в доску.
Он молился очень долго, а когда он поднялся, чтобы пойти в притвор разоблачиться, то было с ним, будто идёт он не по полу храма, а по днищу ковчега, будто ходит пол.
Потом из темноты притвора как бы отделилась и поползла на него баруа. Испугался ли епископ?.. Мы не знаем. Но, во всяком случае, он не стал крестить тень. Составители его жития потом утверждали, что он подумал, что крещением тут не поможешь — открещиваются от диавола, а диавол ждал бы где-нибудь на улице, ибо не вхож в Божий дом. Но утверждали потом, что это было подложное житие, а настоящим было другое. С тех пор минула тысяча лет, — кто теперь знает, вправду ли баруа попросила:
— Благослови, отец святой!
Но не просящим, а совершенно невыразительным голосом, как тень голоса, бесцветно, и потянулась к руке Хазаропрозопоса с поцелуем.
Поцелуя Хазаропрозопос не ощутил. Тень же повторила:
— Благослови, отец святой!
Епископ поднял руку для благословения, но, вместо этого, начал загораживаться, заслоняться рукой.
Тень же вдруг коряво и громко, истошно громко, чтобы слышали там, во дворе храма, кто ещё не разбрелись, крикнула: «Салам Алейкум!..» А может быть, крикнула и не это вовсе, а что-нибудь другое, но что-то не православное, а громкомусульманское. Такое, чтобы все сразу во дворе поняли, что мусульманским духом против кяфира — христианина пахнет.
И в ответ на этот громкий крик сразу громко засмеялся Хазаропрозопос.
«Ха-ха» — поднялось к куполу храма и там застыло, повисло, прилипло.
И в единственном свете лампады, мерцавшей перед образом апостола Петра, сразу будто обагрилась и стала тоже липкой позолота на иконах.
Но святая кровь будущего великомученика ещё не пролилась. И тень не пропала, а вроде как на колени склонилась и попросила:
— Ты благословил меня, святой отец! А теперь исповедуй! Скорей ж прими мою исповедь, ибо я тороплюсь, и, хотя я и вижу, что облик мой непереносим для тебя, но обратиться больше мне здесь не к кому, а душегубства душу тянут. Я, Назирей-монах, только нынче добрался сюда из Святого города. Но совершил здесь уже много грехов: человека убил, стражника, сына начальника стражи Арс Тархана, — я его не хотел убивать, человек этот не поднимал на меня оружия, но я поторопился и убил, а другого человека я удушить хотел. Наследника я душил, сына Кагана — Великого Принца Тонга Тегина, по прозвищу Волчонок, который в город вернуться захотел, — он опять захотел смуту сеять и о величии Эля болтать. Вот я его и удушил. Но ожил Волчонок. Видно, нечистая сила в нём есть… А третий грех мой — сейчас случится. Ты сам понимаешь, какой… Я должен это сделать. Так надо. Не всё ли тебе равно, кто это над тобой совершит — я или кто другой. Для возвышения веры нужно сие. Так будь же смиренномудрым! Отпусти мне три греха, святой отец.
И стала тень ползать на коленях перед епископом, и всё норовила поймать губами его руку, а епископ протянул руку и спросил:
— Долго добирался? От Баб ал-Абваб? Значит, по Кавказу через Халифат? Через враждебные Христу земли? А почему не через Крым? Там готы—христиане. Ах, готы от метрополии святого Рима откололись?! Готский топарх попросился под руку к Святославу? Понятно, почему в питтакиях на меня так нажимали, чтобы я подбил хазар напасть на Русь.
Епископ спрашивал совершенно буднично, а тень быстро, торопливо отвечала ему. И чем внимательнее присматривался к этой тени епископ, тем как бы прояснялась эта тень ему и уже вроде бы обрела очертания того человека, что скользил за ним на рассвете от моста к храму.
Был пришелец, выбранный Новым Римом оказать последнюю услугу своему епискому, сух сложением и сух лицом, высок, но невыразителен очень. И наг.
И пожалел его епископ. Снял с себя и отдал ему, нагому, свою верхнюю одежду, и всё с себя снял и отдал. И клобук свой зелёный епископский, как сокола связанного, из своих лохматых волос отцепил и не без значения тоже отдал. Тому, кто пришёл ударить в правую щёку, подставил щёку другую. Благословил обижающего себя, возлюбил врага своего. Не воспротивился злому.
Сказал:
— Аминь! Я отпускаю тебе твои три душегубства! Слушай, вот я говорю тебе: скорый в заступление и крепкий в помощь, предстань благодатию силы твоей и укрепи, в совершение намерения благого раба твоего произведи…
И тень тогда ответила епископу:
— Так ты извещён, отец, что я убить тебя хочу?
— Извещён. И вот грех тебе этот уже тоже отпустил. Совершай! Ну что ты тянешь…
— Отец святой, я за смиренномудрие своё опасаюсь! С именем божиим хоть я на совершение пришёл, по несмирение чувствую. Наложи, святой отец, ещё на меня епитимию. Ибо возгордился я тем, что мне выпало совершать. Ты догадываешься, что кафедру твою мне за моё служение отдадут. А это — высокомерие. Я уже имя своё во епископах знаю: Памфалон — Из Всех Родов.
— Вот тебе епитимия: ступай и молись завтра за меня, принявшего муку за веру епископа, весь день. А больше не надо. Теперь же совершай своё дело. А я стану сейчас за тебя молиться. Только имя скажи: за чьё прощение мне сейчас ко Спасителю молитву свою вознести? Ты ведь при прежнем имени ещё…
— Памфамир — Всего Лишённый я, — ответила тень.
И помолился Спасителю за врага своего Хазарская Рожа. А потом повернулся к нему спиной и пошёл из храма и выглянул во двор к ещё не разошедшимся прихожанам. Остановился в дверях храма и, чтобы привлечь к себе внимание, громко крикнул, поражённый ножом в спину:
— Принимаю смерть за веру в Спасителя от агарянина!
И охнули в церковном дворе, когда покатилось во двор со ступенек храма тело епископа.
Закричали:
— Где стража?
— Пусть хватают убийцу!
— Нельзя звать стражу, ежели епископ убийцу своего милосердно простил!
— Не должно такое зло прощать!
— Простил! Мы христиане? Прощению нас Спаситель учил?
— На нечестивых мусульман Христово прощение не распространяется.
— Лови убийцу. В церкви скрылся.
— Крестом его крести!..
— Эй, а где начальник стражи Арс Тархан? Как свои мусульманские мечети, так охраняет, а почему к церкви дозора не выслал?
— Сына у него дэв убил. Горюет Арс Тархан.
— Мало ли что, что горюет. А службу всё одно не должен забывать!..
— А то вот пойдём и мусульманскую мечеть обезглавим. Помните, когда в прошлом году христианин рахданита чужеземного убил, так в наказание Иша Иосиф всю зиму церковь обезглавленной продержал.
— Вот! А теперь нас мусульмане обидели. Обезглавим мечеть!
— Снесём минарет!
— Бей мусульман! Где кабары? Да здравствуют кабары!..
Затянули «Песню чёрного праха»:
Крепко подвяжем хвосты,
Поднимем чёрный прах…
Но оружия так и не подняли, обшарили церковь, но нашли только ворох списковых облачений, словно их кто примерил на себя и впопыхах сбросил. Убийца епископа, как тень, явился, как тень, и исчез. Впрочем, раз всё равно убийцу надлежало милосердно простить, то его не очень и высматривали. Так потом язвили злые языки.
Тело Хазаропрозопоса начало холодеть, и, провожая отлетающую душу своего епископа, хазарские христиане опустились на колени. Молились.
Посыльный с Каганова острова принёс старосте общины чудом в один день доставленный из святого Нового Рима питтакий. В питтакии Христианская община в Хазарии извещалась, что хазарам рукоположён новый епископ Памфалон.
День десятый. «Арс Тархан — начальник стражи»
Свет от вышедшей луны расчертил землю длинными тенями, а на крыше белой башни на острове появилась острая фигурка Иши, тянущего руки к лунному свету. Пора было разводить стражу. Но начальник городской стражи Арс Тархан и в эту ночь не вышел на службу.
Сейчас он сидел в своей юрте на корточках, хватал обожжеными ладонями золу из неостывшего очага и кидал её пригоршнями во входной полог.
К нему никто не смел войти, но он был начеку, чтобы сразу кинуть пригоршню золы в откинутый полог. Он думал, что он защищается так от дэва.
Когда ему сообщили, что в полночь голый человек, вёзший гробы, зарезал его сына, то он сразу понял, что это «голый дэв» и что дэв пришёл за ним.
Пришёл, как положено дэву, с гробами и всё прочее тоже, как положено, совершает: сначала сломал его зелёную ветвь, а затем вырвет и корень. Начал с сына, прибьёт и отца.
Узнав, что дэв натворил в воротах, Арс Тархан не заплакал, но быстро прогнал из своей юрты жену с дочерьми и прислугу (может, хоть кто из них ненароком спасётся?!). Затем разгрёб очаг, чтобы было побольше золы. Воинами себя тоже окружать не стал, а, напротив, прогнал их: против дэва воины бессильны — зачем губить ещё и воинов? Против дэва поможет только зола…
Дэва, сиречь возмездия на свою голову, ждал Арс Тархан давно. Но после того, как по приказу Иши Иосифа он расправился с русскими купцами, вёзшими в город хлеб, и тем вызвал голод, ему стало ясно, что если есть в мире хоть какая-то совесть, то ей уж точно пора его наказать. Барс Святослав промедлит, так сами боги его растерзают.
— Ить кибик куцусун йалеит — как собака облизывает свою блевотину, так и мне теперь свою блевотину есть!..
Арс Тархан и прежде не питал особых надежд относительно добропорядочности своей службы. Знал, что нанялся на грязное дело. Он и прах предков своих потому до сих пор держал на земле исхода — в Хорезме, и веру потому иную — не иудейскую, как у нынешнего городского Иши — управителя, но и не веру магов, как у своих предков, а мусульманскую — для себя и своих воинов выбрал.
Ещё когда только нанимались они всем племенем в Итиль-город служить стражниками, предчувствовал Арс Тархан, что прокормиться-то они, конечно, на службе у Управителя Богатством Кагана Иши Иосифа прокормятся и погулять, может быть, даже с саблями в руках погуляют, но раз служба бессовестная, то и расплаты за неё всё равно не миновать. Надеялся он, однако, что из-за смены веры потеряют боги предков его из виду. И что хоть перед памятью предков не будет ему стыдно. Но слишком уж, видно, много натекло с его рук крови в землю: досочилась!.. Вот и добрался до него «голый дэв». Сына уже убил, сейчас за ним самим придёт.
Арс Тархан взял ещё одну пригоршню золы, наугад бросил её в полог.
В городе Арс Тархан держался всегда надменно; мало с кем говорил; ходил в доспехе, так что его даже прозвали балбалом. Глыбой камня, немного обтёсанного — до намёка на фигуру. Подобные глыбы в Великой Степи ставят на дорогах, отмечая места, где убили врагов.
Но сам-то он про себя знал, что вовсе не каменный он, а просто тархан — вождь несчастного племени, потерявшего в песчаную бурю свои стада и теперь вынужденного всем племенем служить на чужбине в наёмниках. Хорошо хоть повезло: до арсиев в наёмной гвардии у Кагана служили Русы, но Управитель Богатством решил нанять воинов подешевле.
Сейчас Арс Тархан жёг золой себе руки, леча болью рук слабость своей печени. Вытирал локтем сухие глаза, не плакавшие о сыне, и сам понимал, что не плачет только от крайнего отчаяния. Куда ему теперь без сына? Он и навстречу-то «голому дэву» подняться, как воин, не сможет. Как на смерть ему гордо идти, когда он побега после себя не оставляет?! Он теперь, если от дэва уцелеет, то и на битву с Барсом Святославом своих арсиев не поведёт. Плевать ему теперь на честь, если зелёной ветви от его корня нет. Ради кого честь блюсти?…
Арс Тархан почувствовал по дунувшему ветру, что открылся полог, и снова кинулся золой. Шепнул заклятие против злого человека:
— Йарымы юстьа, йарымы тьптьа — половина наверху, половина внизу.
Но услышал невозмутимый ответ:
— Хон Карба! Зиму прожил! Приветствую тебя, доблестный Арс Тархан, потомок известного небу многими воинскими подвигами рода Хотир! Если это ты и я не ошибся юртой, то прошу, не бросайся в меня золой. Раз ты в городе служишь начальником над стражею, ты всё равно что полководец. А разве не писано предками в наставлениях полководцу: «Не спеши, если даже какой-нибудь человек придёт посмеяться над тобой. Не бросай в него горячей золой, а смотри на него благожелательно, со смеющимися устами!» Только простой человек может в горе кидаться в других золой — полководцу не позволено. Полководец должен думать о других и уметь смирять своё личное горе.
Арс Тархан не видел, кто так повелительно заговорил с мим. Он слышал только голос — немного ему знакомый, будто когда-то слышанный. Впрочем, известно, дэвы могут говорить любыми голосами.
А голос уже жёстче повторил:
— Ну, что ты, Арс Тархан, всё кидаешься золой?! Ты обожжёшь мне глаза, а я пришёл к тебе сдаться. Бабочка летит в огонь и через гибель свою сама становится огнём.
Арс Тархан встал, хотел шагнуть навстречу пришедшему, но ноги не слушались его, язык тоже.
Он выдавил: «Знаю твоё «сдаться»! На, вот моя грудь, убивай меня, дэв! Не тяни!»
Арс Тархан выдавил из себя это и почувствовал, что уже не дрожит так, как прежде. Догадайся он заранее положить рядом с собой саблю, он бы сейчас, может быть, даже попробовал бы броситься на дэва, попытался нанести ему хоть какую рану, мстя за убитого сына, прежде, чем сам погибнет.
Но дэв не ударил кинжалом Арс Тархана, а предложил:
— Ну зажги светильник. Мне надо с тобой поговорить.
Арс Тархан съёжился. Он знал, что это предстоит обычный разговор палача с жертвой, и он не хотел никакого общения с дэвом:
— Не надо, дзв, со мной говорить. Ты меня не проведёшь. Я тебе не назову никого из своих сородичей, как бы ты меня не мучил. Я виноват один. Сородичей моих не за что искоренять!
Арс Тархан ответил, как положено воину. И после этого плюнул на голос. Он пришёл в себя: не для жизни — для смерти, но пришёл в себя, как положено.
На своей службе начальника наёмной стражи он всегда больше всего нажимал на То, чтобы делать всё, как положено. Это ему было нужно для того, чтобы выглядело всё так, будто не он, Арс Тархан, и его стражники, а вроде бы сам Тере, то есть обычай-закон, его руками действует.
Теперь это «положено» снова пришло ему на помощь.
Он старательно плюнул ещё и ещё — как защищающийся от слона верблюд, который знает, что уж если слон рассвирепел, то всё равно его раздавит, но плюётся до конца, раз так природой ему положено.
Арс Тархан плевался и чувствовал, как ему становится легче: было тяжкое горе, был ужас, а теперь пришла к нему, в самое его нутро как бы лишь та же служба, какую он исправно исправлял изо дня в день. Как положено! Теперь он просто, как положено, служил своему горю по сыну и своему страху перед неминуемой смертью.
— Доблестный Арс Тархан, кончай плеваться и скажи мне, как положено: «Во имя Аллаха, прошу тебя войти в мою юрту».
Услышанное от знакомо-незнакомого голоса «как положено» будто прокололо Арс Тархану печень, и он перестал противиться. Поникше сказал:
— О, тот, кто пришёл за мной! Подожди меня снаружи юрты! Я сейчас к тебе выйду…
И вышел навстречу дэву Арс Тархан. И увидел, что луна зашла за тучи и вокруг юрты сплошная темень. Но не в темени ли приходит судьба?! И — как уверяла потом хазарская хроника — получился у Арс Тархана с самой судьбой своею разговор. Роковой разговор. Для нас, сегодняшних, он выглядит нарочито туманным, запутанным и длинным. Но это разговор на языке Востока — с иносказаниями и словесными украшениями: дабы запутать подслушивавшего демона, а к гостю проявить и свою начитанность, и почтение.
— Доблестный Арс Тархан, вот уже несколько дней, как я приплыл. Издалека и тайно. Стучусь к тебе первому. Я понимаю, что нарушаю священное молчание твоего отцовского горя. Но будь мужем государственным, ибо на руках твоих не один был сын, но всё племя осталось твоё и весь Эль — народ-государство, которому вы, арсии, давно служите и с которым как одно целое стали. Арс Тархан, лишён побега ты. Но ещё не погиб. В племени и Эле, в семени сородичей твоих может продлиться твоё семя. Подумай же сейчас, в эту тяжкую для тебя ночь, обо всех. Что со всеми будет, коли ты о всех не подумаешь, заботой государственною о всех не озаботишься?..
Не дослушал голоса Арс Тархан. Раздражённо буркнул:
— Не утруждай себя, «голый дэв», думами о том, о чём я сам способен подумать. Я тебе не безбородый юноша, чтобы ты мне читал наставления!
— Я не дэв, и не наставления читать я пришёл к тебе! Я — змея с золотой головой. Когда моё чрево порезали мечом, моё тело легло снаружи дома, у дороги.
Арс Тархан помолчал. Усомнился:
— Ой, змея ли ты?
— Да, я змея с золотой головой, и я находился снаружи дома, у дороги. Но в великой гадательной книжке у нас, Хазар, записано, что такое положение для змеи дурно. И вот потому я вернулся.
Арс Тархан опять помолчал. Думал.
Потом понял наконец, к чему подводит гость. И сразу жёстко осудил его:
— Представляясь мне, что ты — змея с золотой головой, ты намекаешь мне, что ты из рода властителей. И находился вне государства! Однако такое людям из рода властителей не положено. Властителю положено неотступно управлять своими людьми и не оставлять их без опеки. Ты нарушил Тере. Поступил дурно.
Голос вздрогнул болью:
— Почтенный Арс Тархан, но я же вернулся! Я вернулся, чтобы сдаться. А ты только ответь: если я тебе передам таботаи, ты поднимешь медное Знамя? Сам поднимешь Знамя? Сам пойдёшь во главе войска против Барса Святослава?
Вопрос был поставлен столь прямо и страшно, что Арс Тархан, как ни черно у него было в глазах от горя по сыну, рванулся посмотреть на смущающего его дэва. «Ну, уж это точно дурной дэв! Кто, кроме совратителя дэва, посмел бы к начальнику стражи приходить с предложением сбросить своего господина и самому поднять священное медное Знамя?!
Гость и сам понял, что смутил Арс Тархана; дэв сказал вкрадчиво:
— Да не бойся соглядатаев! Оки спят. А ты поднеси плошку светильника к моему лицу. Поднёс? Ну, вот смотри: у меня девять клоков бороды на лице. Ты сосчитал? Ты понял, кто я?
Арс Тархан поднёс плошку со светильником к тому, от кого исходил голос. Посчитал девять клоков бороды на его лице и тут лее выронил на землю плошку.
Фитилёк вспыхнул бело и погас шипя. А Арс Тархан упал на колени, пополз целовать ноги пришедшему.
Он не знал ещё, дэв ли перед ним в обличье принца рода Ашины, рождающего хазарам Каганов, или на самом деле один из принцев — братьев-близнецов Тонгов, сыновей Кагана, пропавших из города?.. Но он уже целовал ноги пришедшему, потому что устав службы был внутри самого Арс Тархана, а по уставу службы положено было приветствовать Ашинов целованием ступнёй.
Он поцеловал ступни. Запричитал громко:
— Хон Карба! Зиму прожил! Приветствую тебя, Чёрная Змея с Золотой Головой! Это ты, Волчонок?!.
А сам припоминал лицо, увиденное при кратковременной вспышке светильника. Ему страшно хотелось уверить себя, что перед ним его давний друг Алп Эр Тонг — старший из Волчат! Про младшего — наследного принца Тонга Тегина—до Итиля дошли сведения, что тот прочно прижился в Халифате. Сначала даже водил войско против других кочевников. А потом обосновался в суфийском монастыре Дар Ал Илме—Доме Науки, познаёт ароматы мудрости. Окуривает себя ими, как гашишем. А вот старший из Волчат, Алп Эр Тонг, рядом. Хоть в степи. Не один, а с надёжным полком от города откочевал. Ну, как откочевал — так ведь и прикочевать всегда может!..
Законным наследником-то, конечно, как положено, младший» Тонг Тегин, считается. Старшие принцы по мере взросления отделяются от отца, а младший при хозяйстве остаётся — ему и всё наследство: престол и Хазарский Каганат. Однако, коли младший не делом занялся, а наукой. Коли он ещё здесь, в городе, на себя примеривал вместо брони накидку Тайл асан, покрывало, спускающееся на затылок, — знак богослова…
Подумал Аре Тархан и склонился к тому что перед ним, может, если не дэв, то старший сын Кагана Алп Эр Тонг. Что-то, правда, никак не признать его…
На всякий случай Арс Тархан ответил уклончиво:
— Я, конечно, приветствую тебя, Чёрная Змея с Золотой Головой. И готов тебе отдавать почести, как положено для Волчат. Но мы, арсии, в этом городе и в этом Эле всего лишь наёмники. Мы получаем все приказы от Управителя Богатством при Кагане, который нам платит. Иша-управитель нас нанимал. Через него и отдай мне свой приказ…
Отказался Арс Тархан от переговоров и сделал это вполне искренне.
Он задёрнул полог в свою юрту и оставил дэва с его гробами на улице. Пусть постоят. Если это наваждение, то они сами исчезнут. И дэв проклятый вместе с ними куда-нибудь сгинет…
Ну, а если это не дэв, если к нему в самом деле приползла Змея с Золотой Головой?.. Если это вправду Волчонок, поверив в полководческую звезду Арс Тархана, готов доверить ему священные гробы-таботаи я медное Знамя — символы власти в Каганате? Если, чтобы спасти Эль — хазарский народ-государство, Волчонок вправду готов пожертвовать собой и сгореть, как бабочка: лишь бы к власти пришёл сильный, злой полководец, как Арс Тархан, и снова высоко разжёг священный огонь Эля?.. Сомнения сжали гордую печень Арс Тархана.
И тогда Арс Тархан пошёл к очагу, взял в ладони полную горсть золы. Зола палила ладони, но Арс Тархан дошёл с нею до полога, отодвинул плечом полог и, выглянув наружу, столбом пыли рассыпал перед собой огненную золу.
Так обезопасил себя Арс Тархан и вкрадчиво прошептал:
— Эй, ты! Я буду с тобой говорить, если… если ты — живое письмо.
Прошептав про живое письмо, Арс Тархан опустил полог и скрылся в юрте. Он напряжённо ждал, как поведёт себя незваный ночной гость.
Тот, не сказав ни слова, скользнул, как тень, в юрту. И тут Арс Тархан разъярился!
— Аа! Еки ианлы кашних — двусторонняя ватрушка, двуличный человек! А-а! Витьнин ашайаны — объедок вши, ничтожность! Попался?! Ты не совершил омовения!
Сейчас ты умрёшь, ибо ты не Змея, а грязный предатель, доносчик. Знаю я давно за Ишей Иосифом Управителем такой грех: подсылать своих подлых осведомителей к сильным людям города нашего, чтобы их испытать. Но даже от Управителя не ожидал я, что тронет он меня в моём отцовском горе. Ну и порядки у нас в Хазарии. Ха-ха! Я теперь смеюсь! Я оплакиваю сына и с горьким смехом радуюсь, что оставил в родном Хорезме и не перевёз сюда свои отчие гробы, когда поступал в Итиль на службу. Горько радуюсь, что не признал эту поганую местность своей новой родиной и потому могу обходиться здесь без чести и гордости… Потому что какая же у меня может быть гордость, ежели ко мне подсылают доносчиков? Вон, проклятый!
Арс Тархан немного переиграл в своей ярости. Но зато был уверен, что не дал себя провести. Вывел на чистую воду, только вопрос — кого: дэва или Иосифа?
Однако голос спокойно ответил:
— Арс Тархан, ты обезумел. Ты меня просто не видишь, потому что я давно уже взял чистый песок и совершил омовение. И слушан теперь меня внимательно. Очень внимательно! У меня благочестивое намерение при омывании лица. А теперь я омываю руки по локти. Я омыл правую сторону раньше левой. Обтираю часть головы, а теперь обтираю песком ноги и пятки. Ты понял теперь, что я точно знаю, как соблюдать порядок?
Арс Тархан не видел; омыл ли себя гость в самом деле? Но теперь это уже было неважно. Условный знак, как предупредил Имам, был пересказан ночным гостем в точности.
И Арс Тархану теперь осталось лишь удивиться, что живым письмом к нему была избрана сама Змея. И он ответил условным знаком:
— Я вижу: ты совершил все шесть малых омовений в точности по учению самого имама Аш Шафии — да будет доволен им Аллах. Правильное омовение прогоняет дэва и оберегает от несправедливости правителя… Говори теперь: чего хочет от меня Халиф?
«Велик Повелитель правоверных, раз вот даже Чёрную Змею приручил. Это хорошо, что Ашин перешёл в нашу праведную мусульманскую веру», — подумал Арс Тархан. Но радости не испытал. В мечети Имам говорил с ним о необходимости ради спасения души совершить угодное Аллаху дело и предупредил, что дело такой важности, что сам Повелитель правоверных Халиф пришлёт к нему с вестью об этом деле своё живое письмо. Однако Арс Тархан в душе надеялся, что поручение будет не слишком обременительным—заслать в Византию багдадского человека под видом купца из Хазарии или узнать что через своих на Руси о Святославе. Теперь же, если живым письмом стала сама Змея, ясно было, что речь пойдёт о страшном задании.
И голос передал необычное — сказал, что Халиф поручает Арс Тархану свой сон.
— Доблестный Арс Тархан! Мне «повелел Повелитель правоверных пересказать тебе сон, который приснился ему. Видел Халиф во сне, будто открыт проход в стене между кочевниками и правоверными. Той самой, что построил у Баб ал-Абваб из чередования жёлтых слоёв меди с тёмными слоями железа Александр Двурогий из Македонии.
Арс Тархан не понял: смеётся ли над ним посланец Халифа или говорит всерьёз? Стоило ли ради какой-то стены во сне посылать живым письмом самого Волчонка? Тут что-то скрыто. Но что? Арс Тархан взял светильник, поднёс к лицу вошедшего. Увидел синюю суфийскую рясу, монашескую синюю повязку на голове. Снова пересчитал клоки бороды. Девять!
— Чёрная Змея, нарядившаяся в обличье синего монаха! Вот мой зад, — буркнул Арс Тархан, — лупи по моему заду, как по тамбурину, раз не хочешь говорить со мной прямо. Я же не посещал Дар Ал Илма — Храма знания и не искушён в мудрости иносказаний. Переведи мне, что имел в виду Халиф.
Волчонок объяснил:
— О Арс Тархан! Смысл сна прозрачен, как вода в ручейке. Хазарское государство для Халифата — как стена на его северной границе. Через Хазарию не могут пройти с севера, чтобы напасть на Халифат, ни византийцы, ни Русы. Страшен Барс Святослав! Но между ним и Халифатом Хазария. И вот дошли до Халифа слухи, что закачалась власть в Каганате, и вот Халифу советует сам Аллах (тебе ведь известно, что с помощью снов Халифу делает внушения сам бог!) скоренько починить «стену»: поставить здесь надёжную власть. Ну, а дальше смысл сна вот какой. Жёлтые слои меди — это ты с твоим медным шлемом. А тёмные слои железа — это я с моей железной пряжкой Волчицы Ашины. Халиф хочет, чтобы вместо Управителя, Иши Иосифа, ты управлял государством от моего имени. Ты будешь устанавливать порядок в городе, а меня поднимешь на стол Кагана, и, обожествившись, я буду освящать твою работу своим именем и предками. Таково повеление Халифа. Так что сегодня же, с рассветом, пока ещё не все в городе прознали о моём появлении и Иша-правитель не подготовился и не прибег к каким ухищрениям, тебе надлежит со своими арсиями сначала устранить Ишу, а потом лишить возраста Кагана. Отец мой зажился; ты ведь знаешь, что срок, который он сам определил себе перед богами для правления, давно истёк. Так что теперь, как, по обычаю, положено, ты можешь удавить его золочёным шёлковым шнуром. Как только Каганом воссяду я, тут же назначу тебя Ишей-управителем. Даже присвою титул Судету.1 Халиф послал тебе ещё со мной также звание эмира…
Вот как просто объяснил Арс Тархану смысл сна Халифа Волчонок.
А что сделал Арс Тархан?
Он спросил:
— А как же быть с тем, что перед этим, снаружи, ты же предлагал мне самому стать Каганом, а сам хотел сдаться. Как быть с тем предложением?
Волчонок скривил лицо:
— То предложение было от Волчонка. Ты сам его отверг. Теперь я говорю с тобой не от своего имени, а от имени Халифа. Халиф хочет, чтобы я остался Каганом, а ты бы стал эмиром. Ты сам сделал выбор, отвергнув то, первое моё предложение…
Арс Тархана вполне убедил этот ответ, и он упал на колени, и руки в сторону Волчонка протянул, и даже про сына нехорошее (про своего единственного сына, только что погибшего) подумал, и в нетерпении потащил, схватив за руку, Волчонка из юрты.
Он искал, какие привёз Волчонок от Халифы подарки.
Арс Тархан игриво вопил:
— О пришедший ко мне! А ты всё-таки не человек! Ты шайтан, ты «голый дэв»! Ну, что ты стоишь передо мной? Где твоя охрана? Где привезённые тобой подарки? Вноси скорее в мою юрту. Вноси скорее эмирские отличия, я на них посмотрю… Где диадема мне на голову? Где нашейная цепь и два золотых браслета? Где эмирское жалованье мне и жалованье для моих стражников?
Молчал Волчонок. И внезапно вышла луна. И ясно увидел в лунном свете Арс Тархан, как развязывает Волчонок на своей шее платок, а под ним сверкает бриллиантами драгоценная цепь. Пришедший снял цепь со своей шеи. Но, едва Арс Тархан потянулся за ней, вдруг отпрянул Волчонок в сторону. И исчезла цепь, а Арс Тархан увидел, что прямо напротив его юрты стоит под покрывалом ещё и повозка.
Арс Тархан тяжело шагнул к повозке, откинул покрывало. И замер.
Потом сказал:
— А ты здорово придумал — спрятать ценности, даруемые мне Халифом, в сосуды с прахом. Ни одна досмотрщик ведь не решится обшаривать гробы?.. Я бы и сам не полез в них. Испугался бы, что за осквернение праха покарают боги… Или что? Мой дурной сын на такое всё-таки осмелился? Полез в сосуды с прахом?.. Без святого слова, небось, полез? О горе мне! О дурные знамения на мою голову! Вот, оказывается, в чём неоспоримая вина моего сына! Вот почему погиб мой зелёный побег… Ну, что стоишь, пришедший ко мне? Завози скорее в мою юрту свою повозку. Говори, открывай мне святое слово, которое снимает заклятие, чтобы стало возможным открыть сосуды с прахом и не тронул меня дэв. Ну, называй скорее охранное слово. Я очень хочу достать и примерить диадему, нашейную цепь и браслеты…
Заговорщически оглянувшись, Арс Тархан опять потащил гостя назад в юрту, засуетился угодливо:
— Ну где же свет?.. Помоги же мне зажечь плешки светильников…
Но плошки светильников так и не зажглись (или руки у Арс Тархана столь тряслись, что не смог он высечь искры из огнива), а Волчонок долго не отвечал, а потом пошёл прочь и лишь из-за полога юрты попрощался с Арс Тарханом:
— Салям Алейкум! Мир тебе! Прощай, Арс Тархан! Я бы отдал тебе почётную цепь Халифа. Но она даёт большую власть, а ты такой алчный. Нельзя тщеславному и алчному человеку доверять управление Элем-государством. Ты стал бы править ещё более неразумно, чем Иша Иосиф… Прощай! Турушу тьеванин, акылы тьвманин — рост с верблюда, ум с пуговицу. Вот какой ты…
Потом Волчонок удалялся под скрип колёс (похоже, что сам Волчонок толкал перед собою арбу), а Арс Тархан ещё долго полз за ним на коленях, не смея подняться, и кричал ему вслед в темноту всяческие сначала жалобы, затем оскорбления.
Наконец Арс Тархан, плюнув на доносчиков Иши, которыми кишел город, закричал, как на площади:
— Стой! Вернись! Целую прах у твоих ног! Следы твои, Великий Волчонок, целую. Прости меня, Ашин! Прости, старший потомок Волчицы! Я не поддержал тебя, потому что среди нас развелось много собак. Развелось слишком много собак… О, ты был самым сильным из нас, военачальников! И у тебя, великий Алп Эр Тонг, был сильный полк. Однако мы все подозревали в тебе особый расчёт, потому что ты не желал ни с кем из нас поступить несправедливо, и не притрагивался вовсе к чужому имуществу, и не отбирал ни у кого из нас ни жены, ни стада, ни наложницы. Мы решили, что раз ты так поступаешь, то ты ничего никогда не добьёшься, и отстранились все от тебя. А ты вот какой оказался великий. О, Алп Эр Тонг! Эй, ну подожди же! Подожди!.. Ты только скажи мне: где сейчас твой доблестный полк? Ах, ну, разумеется, твой полк под городскими стенами. Я сейчас пойду прикажу — и твоему полку мои стражники откроют все ворота. Хочешь, Алп Эр Тонг, я отдам приказ — и мои арсии вырежут всех чужеродных. Пусть только твой полк входит. А мои арсии сами, кого тебе надо, всех вырежут. Хочешь всех купцов повырежем? Ты только распорядись, скажи, что отдашь богатых купцов моим арсиям на расправу вместе со всем их купеческим достоянием. У-у, за такую добычу сабли моих арсиев не будут знать сегодня иного точила, кроме как головы чужеродных. G Тонг, ну куда же ты уходишь от меня!
Когда же голос не откликнулся и на этот Арс Тарханов крик и не приказал, чтобы арсии вырезали купцов вместе с их домочадцами и отбирали бы их достояния, то Арс Тархан прекратил ползти вслед за удалявшимся Волчонком и возмутился.
Он подумал, что его чуть было не провели — без жалованья не наняли. И всё ещё на коленях, но грозя кулаками, гневно засмеялся вслед уже совсем растворившемуся в тишине (так, что даже скрип колёс арбы перестал быть слышен) испытывавшему его гостю:
— Ха! Я догадался теперь, кто ты был! Э, ты не солгал, что ты Волчонок, и, что Змея, не солгал… Но это же ты, домокчи — болтун Тонг Тегин, глупый младший Волчонок, который длинному мечу предпочёл длинное слово?! Не знаю, как только доверял тебе Халиф быть у него полководцем? Не оттого ли, не из-за таких ли плохих, слабых полководцев и стал теперь Чёрный багдадский Халиф слабее Халифа кордовского Зелёного?.. Предупреждал меня Иша Иосиф — не связывайся с Чёрным Халифом. Сидит он, как наш Каган, в золочёной клетке. Шииты из Дейлема заняли Багдад, сами управляют, а Халифу одни сны оставили… Ха! Вот потому ты, Волчонок, со сном ко мне и припёрся. Прочь! Прочь от меня, неудачник! Ты, в Багдад отправляясь, тайком забрал из Куббы — золотой юрты сосуды с прахом своих предков: надеялся Родину в Халифате найти. А теперь тайком назад привёз? Что же, не нашёл в Халифате дураков? Сюда опять воду мутить с предками вместе вернулся?.. Уходи от нас со своими гробами — таботаями. Иша Иосиф мне объяснил, что они осквернены тобой и потеряли силу. Иосиф предупредил меня, чтобы я ни в коем случае не позволил тебе вернуть их в Каганову юрту. Гробы предков уже больше никогда не попадут в Куббу. Ты слышишь? Никогда!.. Не с чем будет выходить хазарам против Святослава на смертный бой! Без гробов предков обречены хазары.
Повествовали, переписывавшие хроники, добавляли потом в своих сочинениях, будто Арс Тархан со своими криками вслед удаляющемуся принцу дополз на коленях до самого наплывного моста и ещё по мосту, крича, долго ползал. Мы полагаем, что такое вполне возможно. Ведь почти у самого наплавного моста стояла на левом песчаном берегу юрта Арс Тархана.
Примечания
1. Покровительствуемый Богами. Второй после Кагана титул.
День одиннадцатый. «Гер Фанхас у блудницы»
Чего не сделаешь по муторной весне?! На какое непотребство в томлении не решишься?! Потом-то, может, и жалеть себя будешь, а уж сотворил.
Над островом ещё стоял липкий утренний тумак, и жёлтая полоса рассвета казалась только рыбьим жиром, пролитым на противоположный низкий левый берег, когда Гер Фанхас вылез из своих носилок на площади возле Белого храма. Задохнулся, пытаясь набрать в себя воздуху, расстегнул золочёный халат так, чтобы лучше было видно его необъятное жирное тело. Затем подобрал полы халата и шагнул в галерею, пристроенную к Белому храму. Едва не сбив притолку своей высокой, похожей на кувшин золочёной шапкой, нырнул прямо в полутемень — к Ней.
За порогом он отдышался. Встав прямо под слабо мерцавшей светильницей — так, чтобы Женщине стало его видно, — при расстёгнутом халате стал поправлять ремни, поддерживающие жирные шары его перекормленного тела. Он хотел, чтобы до Женщины дошло, как он страшно сытно ест. Какой он жирный и, следовательно, по кочевничьим понятиям, какой он преуспевающий человек.
Потом, глядя прямо перед собой ещё ничего не видящими в темноте глазами, но уверенный, что смотрит на Женщину, гордо произнёс:
— Хон Карба! Зиму прожила, Женщина! Оцени, кто пришёл. Тобой попользоваться. Я — староста всех городских базаров, а не какой-нибудь простоволосый человечишка, который и в женской породе никакого толка не понимает, потому что, дай бог, если со своими братьями делил одну жену на троих. А я тот, кто умеет женскую породу возвышать. Кто может любую женщину в цене поднять. Уж кто-кто, а я, Гер Фанхас, отлично знаю, что всего четверть дирхема на хну делают девушку на сто дирхемов дороже. Белой девушке я велю красить кончики пальцев красным. Чернокожей — золотисто-жёлтым и красным. Желтокожей — чёрным. Я велю наряжать белых девушек в лёгкие тёмные и розовые одежды, а чернокожих — в красные и жёлтые, подражая тем самым природе, которая при сочетании оттенков цветов тоже воздействует своими противоположностями. Волосы девушкам велю делать длинными, подвязывая к кончикам их волос волосы того же цвета. Дурной запах из носа требую устранять вкапыванием благовонных масел. Зубы отбеливать при помощи едкого калия с сахаром или древесного угля с толчёной солью. Девушкам советую быть податливее со стариками и людьми робкими и тем самым располагать их к себе, а с юношами, напротив, быть недоступными, чтобы завоевать их сердца. Девушкам при покупателе самолично опробываю зубы, грудь и зад, чтобы показать, что они у них не накладные, а таковые от природы…
Ободрённый собственной мудростью, Фанхас громко продолжил просвещение Женщины, к которой вошёл.
— Поведал мне мой друг перекупщик Абу Усман, знатный в Багдаде человек и в своей профессии достойнейший, что идеал рабыни — если девочка-берберийкз, вывезенная с родителями в девять лет, три года пробудет в Медине и три года в Мекке, затем в шестнадцать лет будет отправлена в бывшую Вавилонию и там обучена изящным искусствам. Если потом её продать в двадцать, то она к этому времени будет сочетать в себе хорошую породу с кокетством мединки, нежностью мекканки и образованностью вавилонянки, — Фанхас гордо ударил себя рукой в грудь: — Вот какой труд должен вложить перекупщик, выращивая дорогую рабыню! Так что кто-кто, а я умею обращаться с женщинами. Надо это особо ценить!..
Гер Фанхас поднял руки и причмокнул.
— Послушай меня, Женщина. Я тебе скажу. Когда торгуешь человеческим товаром, то приходится знать всю человеческую породу. Какими только женщинами и мужчинами я не торговал! Женщины Индии знамениты тонкой талией и длинными волосами, они послушны, хорошо носят детей, но быстро увядают. Мужчины-индийцы годятся к использованию в качестве домоуправителей и способны к тонкому ремеслу, но рано гибнут от апоплексического удара… Негритянок поставляется на рынок очень много, но они мало к чему пригодны, легко становятся небрежными и вообще ни о чём не заботятся. Их натура — танец и отбивание такта. Зубы у негритянок чистые, потому что обильно выделяется слюна. Но это обилие слюны нарушает пищеварение. У нубиек шершавая кожа, у абиссинок, напротив, мягкое, но хилое тело, и они часто страдают чахоткой. К пению и танцу абиссинки не пригодны, а также не приспособлены к жизни в чужой стране…
Гер Фанхас запнулся. Он помнил, что неприспособленность к жизни в чужой стране, неумение выживать именно сама эта женщина, к которой он с утра пораньше заявился, объявляла не раз тяжким грехом. Но сейчас ему захотелось пощекотать срамнице нервы.
— Абиссинки зато надёжны. Они обладают сильным характером в слабом теле… Из всех чернокожих наиболее покорна и жизнерадостна нубийка. Египет ей полезен, потому что и на своей родине она тоже пила воду из Нила, но от другой воды нубийка погибает вследствие болезни крови… Женщины из Хазарии в цене на мировом рынке! Потому что кочевницы сочетают в себе красоту, мягкость и гладкую кожу. Глаза, правда, у наших баб слишком узкие для гримировального карандаша и рост небольшой. Но ведь многие мужчины полагают, что с маленькой женщиной удобнее обращаться. К тому же кочевницы — неиссякаемый источник для деторождения, и их выгодно приобретать…
Фанхас оборвал своё изъяснение. Он поднял, как в молитве, руки. Скорее всего, что эти его поднятые руки были срамнице, к которой он пришёл, не видны. В галерее было очень темно. Светильня горела слабо, а зеленоватые лампады по углам галереи мазали её маслянистым, липким, как рассветный туман, светом. Геру Фанхасу захотелось пошутить. Мол, именно в такой темноте должно происходить всякое таинство. Ведь в темноте толком и не разберёшь, свою ли цену товар за себя берёт. А таинство — не торговля. Оно и существует для того, чтобы обманывать.
Фанхас сам засмеялся своей лихой мысли, взял плошку со светильником и поднёс к своему лицу, поднял брови, — свои не прерывающиеся и не сужающиеся, как одна мохнатая гусеница, брови.
Когда Фанхас поднимал брови, то мохнатая гусеница начинала очень внушительно извиваться и толстеть. Не многие выдерживали его поднятую бровь: обычно сразу падали подобострастно на колени, прося пощады. Теперь Фанхас мысленно внушал: «Ну! Преклонись и ты, срамница! Что же ты, Женщина, медлишь, не расстилаешь себя, как ковёр, под ноги сильного?..»
Фанхас ждёт прикосновения и даже уже какая-то тёплая нега потекла по лодыжкам, которые сейчас обхватят мягкие руки срамницы. Фанхас смотрит в темноту, на зелёные маслянистые тени. Не приползла Женщина к его ногам.
Он опускает мохнатую бровь. Сегодня ему приснился ночью ребёнок. Мальчик, лишённый срама. Он страшно кричал: просил не увозить его из города. Сопротивлялся, как ни пытался хозяин напугать его своей мохнатой гусеницей-бровью. Проснувшись в поту, Фанхас долго лежал возмущённый непослушанием мальчика из сна и пытался вспомнить его лицо. Не вспомнил. Сколько их, детей, прошло за эти годы через его руки! — покупал мальчиков у родителей, оскоплял, продавал на Ближнем Востоке, в Багдаде; покупал девочек у родителей, учил танцам, ласкам и ткать ковры — продавал на западе Европы, в Кордове. Детские лица смешивались, не запоминались. Слишком их было много… Вот и мальчика из сна тоже не вспомнил. А мальчик смутил его… Ничего, он теперь, перебивая дурной сон, хорошенько развлечётся с Женщиной, приспособившей для своего ремесла саму галерею Белого храма.
Фанхас смотрит в темноту и сам идёт ближе я паскуднице. Он спешит. Он подумал, что, может быть, и хорошо, что темно, — срамные дела легче делаются в темноте. Он требует у паскудницы даже не ласки, а только Благоволения:
— Решайся скорее! Я не постою за подарками. Мне нужно твоё Благоволение!
Фанхас говорит: «Благоволение!» — и его голос замирает, а грузное тело само становится на колени. Почему даже и не встать на колени перед Женщиной, если хочешь её соблазнить, если её благоволение, принесёт ему новые горы злата, как он уже высчитал…
Распахнутый халат Фанхаса зацепился полами за ножку светильника, сальные шары его тела вывалились из ремней, ему трудно дышать. Он ползёт ближе к Женщине:
— Благоволи!
Но слышит в ответ только пугливое, сопящее молчание. Неужели обманул Фанхаса рыжий Иша Иосиф—Управитель Богатством?! С Женщиной не договорено было? На Фанхасовы деньги в иноземье закупленная, на его деньги (откуда у Иосифа свои?) обряженная, вскормленная, который год в безделье толстеющая, она строптивится. Одурела, как девка на выданье, как полюбовница без соперниц, как…
— Тебе, Женщина, не дал хлеба Иша Иосиф — я дам. Благоволи!
Фанхас ползает на коленях. О, знала бы эта Женщина, какая пытка ему самому на коленях волочить по полу свой жир!..
Но, кажется, уже взошло солнце, потому что народ ломится в двери галереи, напирает на двери разгулявшийся народ. Неужели кочет у Женщины, в сраме, Фанхаса застать?
Фанхас слышит, как за дверьми, не переставая в них колотить, громко обсуждают новость:
— Зря амбары вчера не разграбили.
— Стражники от кабар отбились…
— От каких кабар?! Забулдыги к амбарам рвались, псы нищие, ни одного порядочного воина. Вот арсии их легко и разметали.
— Сегодня не отобьются. Сегодня весь народ попрёт, все харан — свободные люди.
— Да где у нас харан? У нас все тутгара — прислуга. Вот драться и разучились. Амбары у стражников отбить не смогли…
— Тсс! Не подзуживай… Вон соглядатай рядом. Живо на дыбу угодишь…
— А я что? А я ничего!
И уже другие идут разговоры, весне приличествующие, хоть и не объявлена ещё весна. Про него, Фанхаса.
— Ой! Слушайте все! Великое событие… Что происходит?.. Блудница (так в народе, не стесняясь, называют Женщину) сподобилась — самого Гера Фанхаса, работорговца, приманила.
Ой, люди, пойдём посмотрим, как она с ним! Откроем двери!
— Ай, горожане! Возвеличивается наша Блудница — самого Гера Фанхаса принимает. Лучшими девушками мира он, рахданит (знающий пути), торговал. Торговал — ни к одной не входил. Берёг свой товар для покупателей! Себя берёг! А к этой, заумной, блуднице, — не удержался, вошёл.
— Ой, не говорите! Творится-то что! Светопредставление! Не выдержал почтенный человек. Единственное утро у рахданита в году, когда базары позакрывали. Уж мог бы спину разогнуть, себе праздник сделать! На деньги своя в своё удовольствие с утра посмотреть! Все ведь знают, что деньги заставляют любое сердце радоваться я потому именно таким путём быстрее всего достигается удовольствие и веселие. А он — к Блуднице… Ворвёмся? Посмотрим, как она с ним?
— Ой, люди, какая честь и доходы теперь для Блудницы пойдут! Кто теперь, скажите, из горожан, себя уважающих и средства имеющих, Блудницу стороной обойдёт? Теперь всякий вслед за Фанхасом захочет себя показать — побывать у срамницы, подобно самому Геру Фанхасу, благодетелю города нашего. Невесте службу любви оказать! Все, все теперь достойные люди города вслед за Фанхасом к устам невесты сладостной приложатся. Вот ей доход-то!
— Ах, люди! Ведь сподобилась, воистину сподобилась Блудница! Ни у кого нет столько отменного вкуса и наблюдательности, сколько у Гера Фанхаса. Уж если сам Фанхас её прелестями соблазнился…
— Ой, люди, уж не ловит ли Фанхас последние утехи? Почувствовал, что Барс Святослав вот-вот придёт. Вот и торопится работорговец…
— Тсс! Типун тебе на язык…
Гер Фанхас вслушивается в эти разговоры и понемногу успокаивается.
Он ещё вчера, пока не вошёл к Блуднице, а только собирался, как подобает предусмотрительному хозяину, заранее вычислил все эти возможные пересуды. Шаг, на который он сегодня решился, может стать для его положения роковым.
Однако другого случая для того, чтобы попытать счастья у Женщины, Гер Фанхас боится, что не представится.
Нет, именно сейчас можно было рисковать и идти нахально, на глазах всего народа к Женщине. Давно он мечтал. Давно хотел. Теперь пусть его с Блудницей видят. Стерпят!
Вот и не выдержали двери. Подались. Хлынул свет а двери, хлынули за светом зеваки в галерею. Ну что же! Смотрите на девку все! Он, Гер Фанхас, будет смотреть вместе со всеми. Он тоже теперь не прочь хорошенько рассмотреть отказавшую ему Блудницу.
— Люди! Вы слышите? Я предлагал этой Женщине хлеба. Много хлеба, чтобы она могла накормить в праздник всех вас. А она отказалась! Ах, какая она неуступчивая, люди!
Фанхас зло засмеялся, вспомнил, как, словно проценты от займа, сулил вчера Ише—Управителю Богатством пользу от своего посещения срамницы: «Я тебе, Иосиф, — объяснял он Управителю, — разговоры в народе полезные про твою Женщину-срамницу, в цене её повышающие, а ты уж мне за то её саму, на одно завтрашнее утро, с потрошками… Я твою девку своим посещением-почтением обласкаю, да ещё и гостям заморским путь к ней покажу, а она пусть мне…» Теперь вот люди его у Блудницы застали, а он что получил?..
Фанхас поднимается на три ступеньки. Всё же удобно, что есть тут три ступеньки! Фанхас сощуривается. Он будет теперь оглядывать блудницу, как на базаре — по частям, неторопливо.
Вот она! «Женщина» сидела, опустив седые волосы. Как положено Правилами сидела: рядами — по десять чинов на скамейке. Завитые бороды между колен, стриженые затылки под чёрными шапочками, длинные волосы на висках — и на всех лицах отрешённость, как подобает при внутреннем разговоре с богом.
На первой скамейке — семь реше коллет (глав учёного собрания) и трое хаберим (доверенных товарищей). За первой скамейкой проход. А за проходом ещё семь скамеек с семьюдесятью аллуфим (учителями). От каждой скамейки с аллуфим по представителю на первой скамейке — оттого там семь реше коллет. Ну, а в ногах у аллуфим, как положено, ученики. Лежат, учителей и порядок лицезреют — учатся. А за семьюдесятью аллуфим ещё проход и потом всего два ряда сидений: с бене каюме (толкователями).
Фанхас ухмыляется: вот он скольких от своего ремесла кормит! Вот она, вся «Женщина», — по частям и вкупе.
Академией в городе её никто не зовёт — только Женщиной. Ну, если хотят весьма польстить, то Третьей женщиной. Впрочем, и в иноземье все имеющие деньги люди тоже иначе, как своими Женщинами, давно уже духовные иудейские Академии не называют. Получат от неё удобное толкование: «Наша Женщина!» Обидятся: «Блудница!»
Первая Женщина для них Сура. Вторая — Пумбадита. По именам местечек под Вавилоном, где иудейские академии расположены. А эта вот новая, свежеобряженная, ещё, по чести говоря, не очень-то законная — Третья. Но на неё сейчас у таких, как Фанхас, вся надежда. Те-то две первые Женщины — как гробы повапленные. По семь столетий каждой. Чего от них ждать? Какого понимания нового времени? Их и Блудницами-то уж только по памяти называют. Как применил когда-то охальный президент академии Анан, основатель караимской ереси, притчу Захарии-пророка про двух распутных женщин, что принесли свой грех под Вавилон и там воздвигли греху седалище, — так и осталось за Сурой и Пумбадитой хлёсткое: «Блудницы!», а коли помягче — «Женщины!» Увы, падки на едкий юмор иудеи. Ради острого словца отца родного не пощадят и богословов тоже.
Но академии, однако, нужны даже таким разумным и дельным, деньги делающими серьёзным людям, как он сам, Гер Фанхас, и другие уважаемые рахданиты — купцы. Потому что духовные иудейские академии толкуют божии правила и помнят уложение старых законов. Дают выписки и деловые «справы». Справляют свои духовные подписи с ручательством за верность Талмуду—учению.
Блудницы! Но от них в самых сомнительных случаях можно получить разъяснение, что праведно, а что не праведно. А получишь благоволение — «справу» о соответствии твоего дела божьему закону, вот уже и торговля бойчее идёт…
Фанхасу хочется сплюнуть. Но он не решается сплюнуть в галерее храма. Он проглатывает слюну. Он только хмурится. Он видит, как прыгают в сторону глаза семи реше коллет, почтенных глав учёного собрания. Он знает, что в них вся заноза. Семьдесят аллуфим — те не думают, те стараются по спине, по затылку своего реше коллет догадаться, с каким мнением надлежит выскочить. И ещё у аллуфим каждый за руку свою боится: упаси боже, забудешься да руку на голову какому лоботрясу из учеников возложишь; ведь тогда всё — сразу нет уже у тебя верного служки, который тебе и одежду чистит, и дом прибирает; возложил руку — значит, что одобрил ты ученика, признаёшь, что он науку прошёл и может на две самые задние скамейки бежать, там клиентов подбирать, палец свой к распискам прикладывать, за тяжбы браться.
Фанхас ещё раз обводит глазами реше коллет. Каждому из них, на Иосифа не перенадеявшись (хоть и взял Иосиф с Фанхаса сполна якобы для каждого из них!), сам он посылал хорошие подарки. А у Вениамина, ремесленника, еретика, так купил сына у него, когда тому совсем продать нечего было — на обзаведение хозяйством за купленного мальчишку ссудил. Уж Вениамин-то должен помнить и быть благодарен. Сейчас двор у Вениамина, говорят, сгорел за грехи его. По городу стражники его ищут, а он нахально в Академию припёрся восседать. А может, и правильно сделал — здесь ему на виду всего безопаснее. Здесь трогать его нельзя. Но вот как ему дальше быть? Кто ему на новое хозяйство ссуду даст?
— Ну же, поддержи меня, почтенный Вениамин! А я в долгу не останусь… — громко просит Фанхас.
Но молчит Вениамин.
Отворачивают в сторону носы и хмуро молчат все. Понимают, подлецы, какого рода благоволение Геру Фанхасу позарез надобно. А молчат все.
— Почтенные академики Барс Святослав у границ Хазарии бродит. Данте своё Благоволение мне, и я дам деньги на войско. Вот при всём народе обещаю, что немедленно дам…
Молчат иудейские духовники.
— Почтенные академики! Если вы опасаетесь, что потомки будут чернить имена тех, кто поставит подпись под справой о предоставлении работорговле наибольшего благоприятствования в торговых делах, — то вот я позаботился об уважаемых свидетелях. Никаких ваших подписей! Только подписи свидетелей! Из самой Кордовы прибыли к нам почтенные Абу Юсуф Хасдай ибн Шафрут — везир Халифа и великий поэт сладкоголосый Менахем бен Сарук — знаток Каббалы и древних иудейских ценностей. Вот они!..
Замерла Женщина. Все взоры устремлены на балкон для гостей. На поднявшихся и склонившихся в поклоне к Академии маленького сухонького старика с накладными пенсами — на ум и сердце «детей вдовы» — Хасдая и тощего, длинного, как жердь, знаменитого певца-каббалиста Сарука, равно почитаемого как правоверными мусульманами за его духовные стихи, так и «детьми вдовы» за мистические поэтические гимны.
Знал, что делал Гер Фанхас. Удар свой наносил расчётливо и смело. Теперь как перед такими драгоценными умами временной Академии не выхвалиться? Ведь упомянут о решении — назовут и имя новой духовной Академии, Итильская Академия! Третья после Суры и Пум-бадиты!.. Пусть даже кто-то и проклянёт итильскую Академию. Но ведь имя-то всё равно будет названо!.. Академия начнёт существовать в общественном мнении. Законной станет!
Тихо в пристройке к Белому храму. Только колеблются фитили в плошках с жиром и пылает ярко пятисвечие над кафедрой, на которой стоит Гер Фанхас.
Толст Фанхас, как бочка. Бочка жира забралась на духовную кафедру — сейчас затопит своим жиром всех вокруг.
— Почтенные духовники! Барс Святослав вот-вот нагрянет. А я даю деньги на войско. Я не прошу у вас того, против чего Закон божий. Мне только справу — подпись на деловой бумаге, которую вы справите: что нету в Законе божием слов против работорговли. Можно даже устную справу… Устную!..
Гробовая тишина, и только потрескивает пятисвечие.
Нет среди духовных отцов святой иудейской веры ни одного, кто готов освятить попрание человеческой свободы.
Просит уважаемый Гер Фанхас:
— Дайте мне выписку, что, согласно левиту — обряду, можно торговать рабами.
Молчание слышит.
Снова просит Фанхас:
— Дайте выписку, что в Завете — Свидетельстве нет проклятия работорговле.
Молчит Женщина.
Опять отыскал Фанхас глазами караима-еретика Вениамина:
— Ты-то не талмудист. Ты Талмуд отрицаешь, вот к поддержи меня — докажи свою смелость…
Встал Вениамин — сухой, смирный. Как свечечка тоненькая на ветру:
— Не призывай святой народ, Гер Фанхас, к непотребству. Не нам, сынам Шехины, вызывать на себя гнев других народов и других вер. Я понимаю, тебе, работорговец, всё равно, где торговать. Вот ты и спешишь урвать барыш, хоть и ценой осквернения здешней местности. Святослав-барс разрушит это наше царство иудейское, как проклятое, как сделавшее из торговли другими людьми себе главный барыш, а ты в другое место переберёшься. Тебя с деньгами всюду примут. Мы же, честные иудеи, куда денемся? Ведь на нас, бедных, а не на тебя, богатого, будут пальцем показывать: «Поганый народ — другими людьми торгует!» Ты откупишься, а нам кабары погром устроят. На нашем избиении за твои поступки душу себе отведут. Не жди, работорговец, что духовные отцы Хазарии публично осветят работорговлю. Мы иудейскую веру не предадим ради твоих барышей. Мишна и Гемара — книги древние. Люди тогда были забитые. Но и в древних книгах нет добрых слов о твоём гнусном занятии… А ко мне ты, Фанхас, не взывай больше. Уж кто-кто, а я-то от тебя больше других пережил. Ты ведь моего сына в рабство продал. Я духом пал — на что жить, не знал, а ты тогда и обрадовался. Подскочил, как Сатана, меня соблазнил… Теперь всю Академию, как Сатана, соблазняешь на грех… Не выйдет!
Гер Фанхас ждал сопротивления Женщины. Без сопротивления и победа, как известно, для мужчины не сладка. Но Женщина, кажется, уже переходит все границы ей природой дозволенного. Эта уже не игра. Фанхас беспокойно оглядывается на балкон для гостей. Что скажут теперь почтенные Хасдай и Сарук? Таких уважаемых людей притащил Гер Фанхас из далёкой Кордовы — самого Мастера «детей вдовы» и великого иудейского поэта! А теперь этот позор! Какой же Фанхас всесильный меняла и староста всех базаров в Хазарии, если Женщина его нагло не слушается?
Гер Фанхас понимает, что отступать сейчас нельзя. Потом он, конечно, накажет Женщину. Он всех этих хакамов-мудрецов лишит денежного вспомоществования. Но сейчас ему придётся Женщину убеждать не розгой, а словом. Гер Фанхас взбирается на кафедру:
— Послушай меня, почтенная Академия иудейства. Я говорю тебе: рабов держат все — и лишённые божьей благодати Гог и Магог — варварский мир, и необрезанный Эдем — христианский мир, и обрезанный, как мы, Измаил — мусульманский мир, и мы, верующие в нашего Неизречённого бога. Однако—да будет помощником нам Всемогущий! — вышло сейчас так, что и на востоке, откуда восходит солнце, и на западе, где оно, утомившись, заходит, торговлю рабами мешают вести попы, муллы и раввины.
Хазария много захватывает рабов, но как рабами торговать, когда мулла с минарета, как шакал, выкрикивает: «Шарр-Н-Насиман Ба, А-Н-Н-Иаса! Самый плохой человек, кто торгует людьми!» А епископ христианский призывает: «Бейте работорговца каменьями! Нет у него угрызения совести, людей он к животным приравнял!»
Дай же мне благоволение на работорговлю, почтенная Академия! Пойми: работорговля — богоугодное дело. Большие доходы приносит Хазарии работорговля, но нам, рахданитам, нужно, чтобы не отворачивались от нас единоверцы в городах, куда мы со своим живым товаром прибываем, а чтобы, полагая, что мы делаем нашему Неизречённому богу полезное, изо всех сил помогали… Дайте Благоволение — и я сразу посылаю Барсу Святославу караван с золотом и рабами. Я готов ему заплатить за Хазарию дань. Вот и всего только. А за это, — слушай меня, Академия, слушай меня, Женщина, — не прогадаешь. Ты сейчас сидишь без хлеба. Оделить нищих со стола бога тебе даже нечем, а я раздвину чресла Хазарии и волью в Хазарию столько золота, что она понесёт от золота и рожать будет золото. Много, много золота народит. Хазария захлебнётся в золоте. А Барсу Святославу мы станем платить хорошую дань, и он сам будет охранять Хазарию, как охраняют золотую кладовую.
Никогда ещё не произносил Гер Фанхас более вдохновенной речи, ни одну женщину более соблазнительными посулами не уламывал… Что же учёной-то Женщине надо?
Вот управлять бы Фанхасу всем городом! Уж он-то бы сумел сделать хазарам деньги. Да он бы всех кочевниц устроил… Вот иные не знают, откуда взять товары, а какой товар пропадает в юртах рядом! Плодящие, послушные — на невольничьем рынке в Европе женщины из Хазарии в цене. Так продать бы всех местных женщин в Кордову — в Испанию, а сюда навезти рабынь, каких подешевле, — чернокожих и прочих. Он, Фанхас, дал бы каждому хазарину заработать разницу на продаже жены в обмен на привозную рабыню, дешёвую.
Гер Фанхас сердится. Сидят, бараны! Разважничались, как петухи перед котлом. Неужели они не понимают, почему здесь встал Белый храм. Мешал купцам старый здешний Солнце-бог. Сколько ему мяса на высоких шестах ни подавали — не признавал торговли, на войну только подбивал. Вот и подобрали себе рахданиты такого бога, чтобы нигде царя своего не имел. А с другой стороны, людей своих, пусть хоть и рассеянных (для купцов, знающих пути, такое только к удобству!), но достаточно под рукой держит, — и не простоволосых объединяет, а в торговле и в ремесле людей полезных. Объехал Гер Фанхас полсвета и убедился: нету сейчас ни в Азии, ни в Африке, ни в Европе города, где бы не торговал человек в длиннополом плаще, подпоясанном пеньковой верёвкой, в стёганой высокой шапке-кувшине. И как удобно, что несчастны многие из этих людей, что приходится страдать им за потерянную Родину и поруганную веру, — от таких-то купцу любой услуги требовать можно, хоть самой и зазорной, а платить можно меньше… Так что же эта треклятая Третья женщина все расчёты уважаемым торговцам путает?! Мы, люди силы и богатства, хотим несчастных подкормить, приголубить. Мы, хазары, своих отчих богов оставили — чужого, заброшенного и покинутого удачей, бога приветили. Храм вот Белый ему даже построили, какого у него нигде не г. А что нам, купцам, за эту щедрость иудейская Академия в ответ?!
Гер Фанхас уже вошёл во гнев. Он прежде всего городской сайарифа, а не только работорговец, а ему перечат!..
Гер Фанхас идёт прямо к первой скамье, чтобы хорошенько побить свою забывшуюся тутгару — прислугу. Он бы сейчас тут же и Ишу Иосифа, Управителя Богатством при Кагане, заодно хорошенько побил — все они, эти приказные купцов, становятся дурными, как псы, когда их слишком много кормишь… Надо и Ишу-управителя основательно побить. Чтобы сам торговать не лез! Служить Иша-управитель должен, а не торговать… А то этот Иша ради своей выгоды над русскими купцами казни чинит, не пускает их хлебные караваны. А ведь чего добьётся? Сам повод Святославу-барсу напасть даёт!
Руки у Фанхаса от гнева дрожат, он спускается с кафедры к первой скамье, хочет, но никак не может ухватить за виски Вениамина. Ах, побить главного смутьяна, все другие мигом образумятся.
— Почтенные, составившие Академию! — берёт себя в руки Фанхас. — Для порядка скажу вам, — голос его становится елейным, — я уже посылал запрос о Благоволении к работорговле в суранскую Академию, сопроводив запрос, как положено, солидным пожертвованием. Однако, к сожалению, вместо справы о Благоволении, получил сообщение, что то прославленное заведение закрылось из-за недостатка спрашивающих. Обращался я и в Пумбадиту и тоже посылал солидное пожертвование. Однако вместо Благоволения мне вернули назад часть пожертвования, сообщив изустно, что принятая часть пошла на добрые дела, а вопрос мой разбирался и по причине его сложности оставлен пока без решения. Но я и не удивился на то, что Пумбадита тем самым признала себя недостаточно сведущей. Она для итильской, вашей Академии оставила сложный вопрос. Ибо вы теперь самые мудрые.
Послушайте, почтенные, подтвердите свою мудрость — выдайте мне нужную справу! Клянусь всем жиром на своих костях: вам от этого только лучше будет. Кхе-кхе! Я не так выразился: хотел сказать: «Клянусь Шехиной — божественной сущностью!» Не дадите нужную справу — никто к вам обращаться не будет, и погибнете вы, как Сура… Не собираетесь же вы, подобно еретику Анану — председателю Академии в Пумбадите, от ткачества кормиться? Или вы все тоже клей варить, как Вениамин, днём будете, а по вечерам заседать?.. А то варите, вон у вас учитель уже на то есть: Вениамин вас научит!.. Он мало что в городе мутит, он по кочевьям ходит. Мол, священники мешают, подобно перекупщикам, честным отношениям между богами и людьми — вот что он рассказывает! Мол, вы все тоже трудиться должны. Вот что еретик этот говорит! — работорговец вытянул руку к Вениамину, крикнул? — Вениамин, сам подтверди!
Гер Фанхас расхохотался даже, наслаждаясь своим торжеством. Он не ожидал, что Вениамин подтвердит донос на себя.
Но Вениамин поднялся. Опять качнулось его худое тело, как свечечка на ветру.
— Подтверждаю, что проповедовал то, что говорит Фанхас.
Жирные шары, составляющие тело Фанхаса, пошли ходуном:
— Ха-ха, подтверждает?! Смерть, дыбу себе ты подтверждаешь…
Отбрив смутьяна Вениамина, Гер Фанхас переменил тон:
— Почтенные академики! С Вениамином вам всё понятно. А вы сами? Вы-то почему бунтуете? Или вы в душе со мной, а стесняетесь? Кого стесняетесь? Вы стыдитесь моих заморских гостей? Так они тоже все рабами охотно станут приторговывать, коли вы постановите сейчас, что не будет за то на том свете вреда их душам. Или вы опасаетесь за собственных учеников? Так наживутся ученики на бумагах, к которым будут прикладывать палец, удостоверяя, что такой-то раб куплен, а такой-то продан. Тут ведь купцам без должной бумаги никак не обойтись — такой уж товар, что удостоверяющей печати требует!.. А-а, вы стесняетесь народа, что протиснулся посмотреть на вас, почтенных? Так это не народ! Народ гуляет на берегу, Весну и Солнце встречает, а здесь только алкинчи — соглядатаи, которые получают от своих рахданитов дирхемы за угодные известия…
И, кажется, добился своего работорговец. Шесть реше коллет из семи (кроме уже стоявшего Вениамина) встали. От лица всех заговорил первый, самый старый:
— Почтенный гер Фанхас! Третья иудейская духовная академия почитает тебя за твои щедрые пожертвования. Однако души наши давно на пути к богу, а тела стары. Ты напрасно в злобе полагаешь, что нас можно принудить битьём вынести несправедливое решение. Бог, а не ты, призвал нас в этот город; мы прибыли сюда, потому думали, что вот где хорошее место нашему потерявшему земное обиталище богу, вот где нам, грешным, будет честь и хвала за дела добрые. А ты нас хочешь бить, как рабов. Бей. Однако же никто из нас всё равно не даст нужной тебе справы о пользе работорговли, потому что не о себе мы печёмся, а о братьях в вере. Мы помолимся, Гер Фанхас, за твоё преуспевание в торговых делах. Однако мы не смеем послать по другим городам наставления, чтобы верующие в Неизречённого бога помогали рахданитам, торгующим рабами. Торгуй другим товаром. Не рабами… Сведущие лица говорят: «Нельзя, чтобы негодники воспользовались несчастьем племени, оставшегося без своего царства и своего храма и состоящего в рассеянии, и сделали бы из него мишень для камня, спину для плети». О почтеннейший купец! Осведомлены мы, грешные, что некий христианин-епископ сложил с себя сан, потому что не смог выкупить рабов-христиан у одного «кувшина» Гера Фанхаса. Теперь тот епископ стал героем толпы, а толпа кидает камнями не в тебя, Гер Фанхас, — тебя охраняют надсмотрщики за рабами! — а в любого, у кого на голове высокая, как кувшин, шапка, а на одежде жёлтый гийар — значок, отличающий иудея. Ты сам пристал к нашему богу, Гер Фанхас, и мы тебя приняли, и в наш храм ввели. Но ведь не для того же, чтобы ты позорил иудейскую веру?
Все семь реше коллет, включая Вениамина, снова сели на свои места. Лица у стариков были бледными.
Фанхас не выдержал и всё-таки плюнул на пол в храме. Лицо у него было как замороженный жир. Фанхас рассвирепел и совсем забыл, что он в духовном собрании:
— Учёные?! Толкователи?! О единоверцах решили тут печься?! Что же не пеклись раньше, когда оставили своего бога без царства и без храма?.. Говорите: ваши предки в Иерусалиме сражались до последнего, отстаивая Родину и своего бога, но злые враги восторжествовали над их силой: город ваш разграбили. Второй храм разрушили, побеждённых убили, прогнали, рассеяли?.. Так пора бы и смирить гордыню!.. А не умеете смирять своё высокомерие — смените бога, вот как я, Фанхас… Ах, страдальцы! А что же вы молчите, зная, что Иша-управитель купцов русских убивает? Вы работорговлю благословить боитесь. А Барс Святослав придёт — вас самих всех рабами сделает! — изрыгал хулу Фанхас.
Но старики заткнули себе уши и молчали. И глаза опустили. Один Вениамин поднял на Фанхаса свои выцветшие глаза. Не глаза — глубокие впадины на сухом лице, будто лик мумии, высохшей и оставшейся с людьми лишь для того, чтобы напоминать им о вечности.
И тогда Фанхас смачно плюнул уже не на пол, а прямо на кафедру и пошёл вон.
Над островом всё ещё стоял прежний липкий туман, и солнце плавало, как фитиль в рыбьем жиру. Измаянная нескончаемым празднеством толпа моталась по острову, как лишённое зимовки блудное стадо. Гер Фанхас плюхнулся в носилки, поддерживаемые восемью рослыми рабами-неграми, и носилки поплыли сквозь толпу.
Фанхас на этот раз не закрывал занавесок у своих носилок. Обиженный на учёную Женщину, хотел теперь быть вместе с народом. Он даже решил высунуться, чтобы быть с толпой ближе. К его носилкам толпа подтолкнула юную гибкую девушку, в жёлтом платье, с оливковой кожей и красиво забранными на голову волосами, уложенными, как гроздья чёрного винограда. Девушка сидела на плечах молодого кочевника, как на троне, и, когда её толкнули, изогнулась, как серна, и, чтобы не упасть, за шею Фанхаса, как за бревно, уцепилась, игриво так.
Фанхас мотнул шеей, пытаясь её сбросить, но девушка только плотнее обвила его шею рукой и смело глянула ему прямо в глаза. Имея дело с рабынями, Фанхас отвык от смелого с собой обращения. «Ах, какая девушка!» — подумал Фанхас и вдруг по каким-то неуловимым признакам — то ли по змеиной худобе, то ли по вытянутому лицу — понял, что это знаменитая Серах Чёрное Пламя.
Он шепнул свою догадку ей прямо в её приблизившиеся губы:
— Слушай, это ты Серах, младшая дочь академика Вениамина?
Она испуганно выпустила его шею, упала на руки и головы толпы:
— Нет, я не знаю никакого Вениамина. Откуда мне знать? Я вот с мужем Лосем гуляю. Ну где ты? — стала искать она глазами своего кочевника с притворным испугом.
Фанхас осклабился. Он умел читать лица и понял, что девушка польщена вниманием, хочет, чтобы всесильный работорговец Фанхас её запомнил, но осторожничает, озорно намекает, что замужем.
Он тоже созорничал:
— Да разве тебе такой нужен муж? Он же бедный. Хочешь, я тебя у отца куплю?
Она растерялась, вспыхнула:
— Я свободная и жена свободного человека…
Рабы-негры шустро несли жирные шары Фанхасова тела к наплавному мосту и при входе на мост чуть не врезались в иву, склонившую над водой проклюнувшиеся листочки. Под ивой, обнимая руками дерево, стояла девушка с длинными, до пояса, прямыми золотыми волосами, в зелёной длинной рубашке и золочёных плесницах. С бездонными синими глазами под коричневыми опахалами-ресницами. Тана жемчужина, так с восхищением все называли в городе эту девушку, была дочерью богатого купца из Русов, киевлянина Буда. Звали её Воислава. Но воинственное имя как-то не шло к юной красавице.
— Хон Карба, Жемчужина! — торопливо заулыбался Фанхас. Он бывал не раз в лавке Буда и дорожил вниманием Русов.
Но девушка смотрела куда-то в сторону и не ответила на приветствие Фанхаса. Фанхас проследил за её взглядом и заулыбался ещё больше. Даже про свою неудачу с учёной Женщиной едва не забыл. Фанхас увидел, что Тана наблюдает из-за дерева за арбой, стоящей напротив юрты начальника стражи Арс Тархана. А на арбе, укрытой синим покрывалом, дремал молодой, красивый мусульманский монах. Вроде монах как монах — в синей рясе печали и синей повязке багдадского суфия на лбу. Фанхас сначала презрительно скользнул взглядом по лицу избранника Таны и… споткнулся взглядом на девяти клоках бороды, не сбритых монахом, вопреки обряду, и гордо украшавших его чело. Фанхас понял, что избранник-то у этой необычайной своей красотой дочери Руса был тоже необыкновенный.
— Неужели это ты, Волчонок, вернулся? — Гер Фанхас от удивления закричал монаху на арбе во всё горло.
— Это ты, Тонг Тегин! Неужели ты, Великий Принц?
Он немедленно приказал рабам поднести свои носилки к монаху. И, не скрываясь, утопил своё удивление в жирном издевательском смехе.
— Но, боги, в каком ты, Волчонок, облачении?! Ты же, помню, когда-то всё меня на базаре обличал, что я родных богов предал ради преуспевания в торговле на иудейский «кувшин» на голове Небо променял. А у самого-то тебя теперь на голове мусульманская куфа. Ну, ты хорош, сын Кагана! Во мне-то хоть крови священной нет. Простая во мне кровь — ей всё равно, под каким знаком течь. Какому богу от своих доходов положенную десятину отделять. А ты-то, оказалось, — домокчи — болтун. Убежал — и вон каким объявился. Что, не нажил там, в Багдаде, ничего больше? Только на рясу синюю тебе денег там и хватило?!.
Гер Фанхас исходил смехом. Но дремавший монах вроде как спросонья и не понял, что за пёс на него лает… Постепенно голос Фанхаса стал стихать, он выговорился и, удовлетворённый тем, что хоть на кого-то выместил часть своей обиды, махнул рабам, чтобы несли его носилки дальше.
«Надо мне сегодня же послать подарки Тане Жемчужине, которую зовут Воиславой. Благоволение Воиславы очень может пригодиться, если город займёт Барс Святослав, — подумал Фанхас. — Вообще хорошо, что война надвигается, — рабов много на продажу пойдёт…».
Рабы-негры сбегали с моста. Гер Фанхас, уже совсем остывший, оглянулся на остров, — на уже зазеленевший холм с наполовину деревянным, наполовину саманным, выкрашенным извёсткой Белым храмом. В липком тумане золочёные гвозди на плоской крыше храма казались тоненькими свечками, зажжёнными богу. «А не поторопился ли я, перебежав к новому богу, — засомневался Фанхас. — Надо бы узнать, какой бог у Барса Святослава».
День двенадцатый. «Иша Иосиф — управитель Богатством Кагана»
Из-за весны Иша Иосиф — Управитель Богатством Кагана — потерял сои. Что греха таить! Ляля-Весна любовным томлением разбередила. Всё чаще взбирался он на крышу своей дворцовой башни и смотрел часами вниз на Итиль-город. Завидовал тому, как по берегам и по наплавному мосту сладострастно толпится народ. Хотелось сейчас Иосифу смешаться с этой жаждущей празднества толпою; нырнуть в толпу, как в объятья многорукой, многогрудой любовницы, потереться о многие чресла и груди, вдохнуть запах пота и вожделенья. Может быть, там, в толпе, он столкнётся с той юной и смелой красавицей Серах, которая на наплавном мосту, когда все от него отвернулись, ведь так и ела его глазами. Она так смотрела на него, будто возвращала ему молодость. Она верная. И волосы у неё как южная ночь. В такие волосы зарыться лицом — как уйти в забвение. В их чёрном пламени магическая сила. «Надо бы как-то приблизить её к себе», — мечтал Иосиф. И уже посоветовал начальнику стражи Арс Тархану взять её мужа Булана на службу — помогать арсиям. А жену помощника Иосиф вполне законно смог определить в дворцовые служанки…
Он даже, вопреки своей обычной скупости, наперёд жалованье новой дворцовой служанке послал. И лежал ночью с закрытыми глазами, прислушиваясь к каждому шороху и представляя, как новая служанка догадается — войдёт поблагодарить к нему в спальню. Она недолго заставила себя ждать, и сколько сил она влила в него…
Теперь он сможет своротить горы. Был глухой второй час ночи, когда Иосиф поднялся. Облил лицо водой из кувшина, взбодрился, раздувая, будто застоявшийся скакун, красиво очерченные пористые ноздри своего крупного коршуньего носа. Отпустив Серах, без слуги, самолично оделся, расчесал два задиристых клина своей крашеной хной бороды. Взяв медное зеркало, прищурил в него свои красивые луковичные глаза и — по витой лестнице взлетел на крышу дворцовой башни.
Едва успев перевести дух, поднял руки к небу. Изо всех сил потянулся к богу.
Не к Кек Тенгри — Синему Небу — богу своих предков по мужской линии из степного, не очень знаменитого, но многочисленного рода Лося.
И не к Неизречённому богу — покровителю своих предков по женской линии из колена Израилева.
А к сумрачному Айн (Ничто) — самой сущности Вселенной — простёр Иосиф, как Мастер Ремесла, свои руки.
Без трепета простёр Иосиф к Айн свои руки. Когда дерзать ему, если не сегодня. Всё сложилось для него, избранного, перед сегодняшним дурманящим рассветом как нельзя мистичней. Семнадцать дней постился Иосиф. Одну воду пил и по нескольку капель тайного омолаживающего бальзама, привезённого из Египта от александрийских мудрецов-каббалистов. А сегодня юную красавицу Чёрное Пламя взял, — как положено для рождения великих детей, — на семнадцать лет семь месяцев и семь дней себя моложе. Ей семя своё отдал, а от неё омолаживающих сил набрался. Теперь самый мистический час для Иосифа, чтобы новый срок жизни у Айн для себя просить. Тот срок, в который совершить избранному даётся великое.
Одеяние чёрное сейчас на Иосифе. Голубым поясом с изображением солнца, луны и семи звёзд он подпоясан. Ещё с вечера вынесли особо доверенные слуги тайный алтарь на крышу башни. Разложены Библия и угольник, два циркуля и меч на алтаре. Три пятисвечника с длинными восковыми свечами с востока, запада и севера вокруг алтаря поставлены. Тихо, пророчески безветренно сегодня в небе. На крыше башни горят три пятисвечника — ровно пламя стоит, ни одна свеча не шипит, не гаснет.
— Отмерь мне, Айн, роковые сорок дней! — смело просит Иосиф. — Всю энергию духа и тела в мысли свои я собрал; сигналы божеству в открытое, чистое, без единого облачка, глубокое, бездонное небо всей волей своей посылаю. Не одному себе — стране сорок дней у тебя, Айн, прошу: исчисли! Реши: быть ли Хазарии?!
Роковые, страшные слова заклятия произнесены. Выбор сделан. И теперь Иосифу осталось только напряжённо смотреть и ждать знака. Остановившейся звезды.
Для каждого каббалиста останавливается на небе после заклятия его звезда. Про эти останавливающиеся звёзды одни мудрецы говорят, что это и есть действительно человеческие звёзды.
Но другие столь же страстно утверждают, что это — только мытарства лукавые. Сам Иосиф уверен, что это не звёзды и не мытарства, а пламенные осколки небесного огня. Корабли небесного Ремесла, направляемые двенадцатью мастерами Зодиака. Они падают вниз и по мере падения растопляются в воздухе. Они доставляют на Землю послания духа, а оболочка сгорает, светясь. Поэтому-то никто никогда и не видел, чтобы они упали на землю, — они всегда в воздухе сливаются и рассыпаются.
Ждёт Иосиф теперь своего «корабля». Уже скоро рассвет. Розовый туман над рекой поредел. Иосиф идёт по плоской крыше дворцовой башни, подходит к её краю и, как на ладони, видит весь свой город Итиль. Толпящийся беспорядок из землянок, мазанок и юрт, крохотных садов и двориков, укрытых, как ловчие ямы, зелёным настилом, переплетениями виноградной лозы, сквозь которую, подобно острым копьям, кое-где пробивались жиденькие тополя. И думает Иосиф, не для себя ли соорудили все эти люди свои дворики — ловчие ямы? Чтобы самих себя в город поймать? Поймать и в добровольное рабство себя продать! Кому? А кто купит! Уж не ему ли, рыжему Управителю Иосифу?
«Почему бы мне сейчас не купить всех их, если у меня в амбарах предусмотрительно припасён хлеб, а у всех остальных хлеба нет? Только надо торопиться, пока не нагрянул Барс Святослав. Взять за хлеб деньги и — лёту. Улететь отсюда птицей», — думает Иосиф и подбадривается душой. И гордо, как крупный коршун, — красный коршун пустыни, — простирает над городом свои руки, расправляет над городом крылья. Знает он, что когда он на башне молится, особенно ежели при полной луне, то видно бывает хорошо его с острова и с обоих городских берегов. И оттого как-то приятней ему молиться. Потому что хоть и в уединении с богом суть молитвы, но… Чего бы там высоко прыгать (а, по обряду, по книге Йоцире, полагается прыгать как можно выше — прямо-таки тянуться к луне, к небесной выси!), когда ты одинок, когда ни ахнуть, ни охнуть, ни оценить тебя в восторге другим некому?! А когда внизу народ — когда глядят во все глаза, кто дивится, а кто и духом залюбуется, сердцем ближе к нему, Иосифу, подвигается… Иосиф оттого и ограду с краёв крыши повелел сломать — пусть страшнее будет народу за своего управителя… Теперь и в судьбе Иосифа тоже уже больше нет никакой охранительной ограды. Снял он только что сам свою собственную ограду: запросил у Айн роковые сорок дней…
Однако вот, кажется, и ответ судьбы. Не с неба. А с грешной земли. Тень скользнула на крышу дворцовой площади.
Опознался Иосиф:
— Хон Карба, новый епископ Хазарии Памфалон! Я рад, что имя твоё означает «Из Всех Родов». Вижу, ты оценил силу Ремесла. Приветствую братство «детей вдовы» с «сыновьями вдовы».
Иосиф уже было протянул руку, чтоб гость облобызал её, как мастеру лобызает руку подмастерье. Но, вглядевшись в тень, Иосиф отпрянул назад. Из сумрака возник кочевник. Скуластый, с чёрными волосами и карими глазами, с витым золотым, с клеймами, обручем на волосах и железной пряжкой на широком поясе. А на лице — девять клоков бороды!
Иосиф дрожит всем телом. После того, как он запросил у судьбы через Айн сорок роковых мистических дней, не сбежишь! А что делать? Труслива человеческая природа.
— Хон Карба, Тонг Тегин! Зиму прожил! С возвращением в город, Волчонок! — с трудом выдавил из себя Управляющий Богатством. Подумал, класть ли Волчонку поклон? Всё-таки наследник? Надо бы поклон класть… Не положил поклона. Наследник — пока не бог.
Волчонок спросил его уязвлённо:
— Иша Иосиф! Ты — тутгара: прислуга. Слуга Кагана, управляющий его богатством. Ты почему не кланяешься сыну Кагана?
Иосиф гордо выпрямился:
— Я — Иша, но Иша не слуга, а Управитель. Я царь, а царь кланяется только богу.
— Царь? — удивился Волчонок. — Какой ты царь? Опомнись, ты в самовозвеличении совсем теряешь рассудок, Управитель…
Иосиф давно ждал этого разговора и подготовился его вести (хотя не ночью, конечно, и не на крыше над бездной). Теперь сказал вкрадчиво:
— Почему же я не царь? Царь, значит то же самое, что «цезарь». В Восточноримской империи Византии это титул высшего после императора сановника. Второго человека в государстве. И я у нас, хазар, второй — после Кагана… Всё честно, всё точно. В чём толмача за такой перевод упрекнуть?! А от заморских гостей мне, Ише, зато сколько почёта!..
Ответил так Иосиф и сам, дрожа от страха, заставил себя подвинуться к краю крыши. Высказал он главное, чего от бога хотел, и теперь проверял, благоволит ли господь к нему. «Если «нет», то вот и бездна. Сам я на её краю. Если «да», то я уж дальше буду знать, что мне делать. Нет и не будет мистичней такого мне знака о воле небес».
На самом краю крыши башни, у лестницы стоит Иосиф, а Волчонок чуть внизу. Качнулся вперёд Иосиф. Глянул вниз, как в пропасть. Голова закружилась. Никогда не кружилась, привык Иосиф перед толпою на самом краю прыгать; а сейчас страшно стало.
Не столкнул «царя» Волчонок. А Иосиф быстро на середину крыши возвратился. И, чувствуя поддержку Айн, заговорил нагло:
— Вычислил я, что приползёшь ко мне на брюхе, Волчонок!
Не исчислил Управитель прихода Волчонка. О направленных в Хазарию лазутчиках из Багдада и Константинополя осведомили «дети вдовы». Но то, что Волчонок, вопреки Тере — традиции, сам к Управителю поднимется?! Кто бы подумал!.. «Что ж, видно, помощь от Айн уже идёт. Сказано: «адьеть — йарымы диннин; традиция — половина религии». Значит, рушиться всё в городе начинает. А на расчищенном от традиции месте, почему бы и случайному человеку не воцариться. Эх, если бы Барс Святослав с севера не угрожал, мне самое время на престол замахнуться, — решает Иосиф. — Пора не в Куббе гноить Кагана, а скинуть…»
Колкие искорки сверкнули в луковичных глазах Иши Иосифа:
— Так с чем ты пришёл, Волчонок? И ко мне-то зачем?! Ты же мой род ненавидишь. Наследственное право наше — передавать от отца к сыну мою должность царя (он нарочно опять сказал не «управителя» — «царя») — оспариваешь. Пробовал ты и народ от меня увести: священные гробы — таботаи из золотой Куббы выкрал. Прах своих предков вместе с собой показно из города увозил. Думал, и Вся Масса Народа вслед за тобой свои юрты свернёт, за тобой поедет. А не поехала!
Волчонок зло огрызнулся:
— Кому ехать было?! Кому последнего моря искать?! В городе мало стало воинов — стало много торговцев. И ты, Управитель при моём отце, — тому полной виною. И купцы твои!..
— Ах, Волчонок, не твоими ли предками завещано: «Не выдёргивай ни одного самого маленького колышка, связывай всякую лопнувшую верёвку, иначе покосится опорный столб». А ты всё воду мутишь, хочешь одних людей в городе на других поднять. Ну, что тебе покоя не дают доходы купцов? Их богатство — ведь и Итиль-города богатство!
— А это? — Волчонок вытащил из-за пазухи несколько явно размноженных переписчиками писем. — Как на это ты ответишь? Эти письма по торговым людям в разных странах тоже на пользу городу?
Ждал удара от Волчонка Иосиф. Но такого не ожидал. Отвернул лицо от переписанных старательными асл мансубами грамот.
А Волчонок не сжалился — стал читать: «Пусть оповестит мой господин Царь, каково положение его страны, длину её и широту, о городах со стенами и городах открытых, орошается ли она искусственным образом или дождями, докуда доходит его власть, и каково число войск и полчищ у него и князей его. И пусть не гневается господин Царь за то, что спрашиваю о числе полчищ его. Господь да прибавит к ним в тысячу раз большее число таких, как они, и благословит их, и пусть господин мой Царь сам увидит это! Я же спрашиваю об этом, только чтобы люди везде могли возликовать вследствие многочисленности его царства. Да будет много счастья моему господину Царю, ему и его потомству, и его престолу вовек! Я же скоро надеюсь увидеть самолично его приятное лицо…»
Опускает лицо Иосиф. А Волчонок продолжает наседать на Управителя, как на несмышлёныша:
— Ты что, ещё не понял, что этим письмом предал тебя везир кордовского Халифа Абу Юсуф Хасдай Ибн Шафрут — твой единоверец. В преждевременной радости за твой будущий успех (а скорее всего в заботе, как бы с помощью хазарской набить цену себе самому!) он даже не подумал о том, что тебе, тоже везиру, как-то надо держаться на должности. Что бы сказал сам Хасдай, если бы ты таким же образом распространил по соседним о Халифатом странам восторженное послание о том, что, сместив Халифа, скоро везир Хасдай объявит царём себя. Сохранилась ли бы у везира Хасдая сейчас на плечах голова?
Молчит Иосиф. А Волчонок добить его норовит:
— Я понимаю, ты славы единоверцам захотел?! Ах, появился свой у вас царь иудейский! Но теперь, как на ладони, оказался перед всеми завоевателями «иудейский царь Иосиф в Хазарии». Хочешь — завидуй, а хочешь — приходи и бей, отнимай царство. Вот что ты Хазарам приготовил!
Тяжко Иосифу. Ждал Иосиф подвоха от общин Ремесла. Но хуже случиться не могло… И ведь сам Иосиф из огня да в это полымя кинулся. Допустил два слёзных посольства — Булана-старшего на Алтай и Гера Фанхаса в Кордову. «Братцы! Помогите! Барс Святослав грозит нам…» Ну, и что теперь? С Алтая уже полк на Хазарию движется: придёт — власть отнимет. А из Кордовы — оттуда «дети вдовы» как раз вот и распространили эту проклятую хвастливую переписку (письмо Хасдая к «царю Иосифу» и ответ «царя иудейского Иосифа» к Хасдаю и всем братьям по вере!). Ах, лучше бы никогда не сочинял Иосиф бахвального письма! Хазарам бы молчать. А к Святославу богатую дань послать — под руку его надёжную всей Хазарией попроситься. Попросились ведь уже к Святославу богатые крымские готы — знают, что защита будет от Руси прочной и купцам надёжное покровительство на торговых дорогах. Подданных Руси кто тронет?.. Вот как надо было сделать! А что он, Иосиф, взял натворил этой распространяемой по общинам «перепиской»? До сих пор Великий Хазарский Каганат пышно именовали в дипломатической почте, но смотрели-то на хазар в Европе и в Азии (в обоих Халифатах, Зелёном и Чёрном, в Византии, и на Руси) одинаково как на смутные земли Гога и Магога, — на невнятное обиталище подвижных кочевничьих орд. Грозную, как море, стихию, от которой пользы мало, но всегда надо опасаться набега и поэтому нужно задаривать подарками, чтобы направить этот набег на соседа. Хазар на Западе презирали, как презирают сброд. Но зато с ними и не очень-то хотели связываться, от них предпочитали откупаться.
Иудейско-Хазарская «переписка», пропущенная через всю Европу из рук в руки по торговой почте, теперь сделает Хазарию предметом «удивительных разговоров» в торговых кругах (от которых всегда недалеко до кругов властителей). Переписка хоть и прямо не откровенничает об Иосифе как о ставленнике Ремесла, но опасен её дух. Она кишит вызывающими славословиями, как могильными червями; и Хирамово заклятие «Мак бенаш! — Труп истлел!» — уже тайно витает над нею, как память о золотом мастерке.
Волчонок снова развёртывает распространяемую переписку и с нажимом читает:
— О нежданный подарок! О надежда и опора… Вспоминаю знамения древних времён и упиваюсь ожесточением и возмущением, ибо длились времена, тянулись дни, а года избавления не было видно. Похоже было, что прекратились видения и пророки и была незаметна сила божия и её явления. Однако вот, наконец, подарок. Время, которого мы ждали, вот пришло!
— Чьё время? Кому пришло? — изображает недоумение Иосиф, но лицо его бледно.
Волчонок неумолим. Он спокойно и горько объясняет, что уже одних этих крикливых возгласов достаточно, чтобы насторожились все службы сыска и наблюдения, какие только были у хазарских соседей. Но переписка ещё требует, чтобы Иша-управитель упразднил Кагана и впрямую взял власть. Переписка практически сообщает о готовящемся перевороте, открыто называя Иосифа Царём. На словах она, ликуя, спрашивает — на деле предаёт заговор огласке.
Капли холодного пота катятся по крупному коршуньему носу Иосифа и застревают в двух клоках бороды; смешиваясь с хной, солят бороду. Породистые ноздри Иосифа раздуваются. Заговор раскрыт. Но не надо теряться! А что, если пробил час?! Может быть, сегодня и остановится для него звезда? Он вычислял этот день давно. Нет сегодняшнего дня благоприятнее. Устранён соглядатай Нового Рима — Византии. Усоп христианский епископ, отправлен на мощи; теперь жара его пытает: то ли сгниёт, то ли не сгниёт в церкви? А его преемник епископ Памфалон — Из Всех Родов сам убийца, этот будет бояться. Не дерзнёт вызвать гнев Мастера, у которого есть руки в патриаршей канцелярии. Да и к тому же, как доложили Иосифу, преемник, будто тень еретика Вениамина, — так похож! Он не коренной кочевник, и степь не будет дурманить его. Правда, он — бывший иудей, выкрест, а подобные становятся большими врагами Неизречённому богу, чем исконные христиане. Но этот слишком безлик, чтобы подняться до ненависти. А Багдад? Вернул в Хазарию Волчонка. От отчаяния, ибо наследного принца своих строптивых соседей всегда надёжнее держать в заложниках, чем возвращать домой без войска, способного сразу посадить его на престол. Нет, Багдад при таких своих обстоятельствах в деле хазарские тоже не сможет вмешаться. Остаётся Русь. Но как придёт сюда Барс Святослав? Через степи Русь не ходит — у неё нет стольких коней. А на кораблях, через волоки, проходят малые дружины. Барс только пугает. Ведь он ещё не прислал своей неизменной, вызывающей на бой бересты: «Иду на вы». Послать ему дань — и он успокоится, повернёт на запад.
Иосиф смеётся. Выходит, все соседи смирятся с тем, что хазары сменят над собой властителя. А здесь, в городе, и вовсе некому будет выступить против перемен. Каган? Но уже давно нашёптывают на базаре люди Иосифа, что в нём вся беда: «Так это же он по своей дряхлости растерял свою божественную силу и оттого виноват в голоде и падеже скота!..»
Все в один голос в городе ропщут, что Кагана надо уже сменить! А «дети вдовы» называют спасителя: «Спасёт город человек, для которого управление — Ремесло… Ремеслом вдохновлён, ему предан».
Иосиф уже смеётся. Потому что не Волчонка же, хоть и вот он, вернулся, посадит собрание Сильных Степи на престол. Волчонок теперь мусульманин, и это не понравится. К тому же, верные люди Иосифа на базарах прожужжали толпе уши, что Волчонок всего только домокчи — болтун. А главное — не допустят рахданиты Волчонку сесть над собой. Староста базаров Гер Фанхас, как ни злобствует, что Иосиф надул его с учёной Женщиной, однако же понимает, что если при царе Иосифе у него останется возможность получить со временем свою справу — Благоволение на работорговлю, то при непримиримом Волчонке работорговцы Благоволения не увидят никогда.
Иосиф смеётся. Надо решаться! Не зря оторвался он от жаркой постели, не зря сейчас на крыше своей белой башни!.. Крупный рот Иосифа открыл белые зубы, подвижны ноздри. Он доволен. Он правильно вычислил сегодняшний день. Звезда должна сегодня для него остановиться! А Волчонок сам пришёл, чтобы Иосиф объявил ему, что время Ашинов прошло!..
И свершилось.
Иосиф повернул голову от Волчонка. Глянул на небо и увидел, как, знаменуя великий мистический знак, остановилась звезда.
Звезда пришла. Выкинула длинные кровавые лучи. Тихая и спокойная, встала, не шелохнув ни подсохшего, старого, почти невесомого тополиного пуха, лёгкой паутиной обволокшего город, ни робкого пламени пятисвечий на крыше и догорающих там, далека внизу, по всему городу ночных светильников многочисленным итильским богам (сколько ведь разных вер сошлось в городе!).
Стоит звезда. Как вестник двенадцати знаков Зодиака стоит. Как корабль Ремесла приплывший — трёх подмастерьев и девяти мастеров заповедная работа.
И показал Иосиф Волчонку на остановившуюся звезду:
— Видишь, над храмом белым стоит. Понял знак сей?..
И не хотел пугаться Волчонок, а испугался. Не хотел на колени падать, а упал. Долго ниц лежал. Потом на корточки сел.
Бога Кек Тенгри — Синее Небо призвал:
— Синее Небо! И ты, Этукен — Золотистая Поверхность, Земля-Вода, пожалейте отбившегося Коня. Все мы, хазары, — Конь дурной. Но не по своей воле. Прапрадед Булан, предок вот этого Иши Иосифа, веру сменил. Ишей, Управителем Богатства, как был назначен Каганом, так веру и сменил. Думал, что с купцами удобнее ему будет на одном языке говорить. И теперь по-прежнему Каганату поддержка купцов нужна. Однако не одни купцы в хазарском государстве. Хазария — кочевничий Эль. Оттого и распределено было провидением: для купцов — Управитель Богатством Иша, а для кочевников — сам Небу подобный Каган. Теперь, когда волею обстоятельств идёт в руки Иши Иосифа государственный стол, возьми его назад, в свою веру, Синее Небо! Чтобы не было раздора между хазарами. Так умней будет… А я в сторону отхожу.
Оторопел Иосиф. Растерялся от неожиданного отречения Волчонка. Ведь выходило, что готов теперь сам отдать ему наследник Кагана право на престол. Подумал Иосиф и решил, что престол стоит возвращения в веру предков.
Стал развязывать Иосиф пояс, хотел на шею повесить — чтобы, как положено, Синему Небу молиться. Но порвался пояс. Под ноги Иосифу упали изображения солнца, луны и семи звёзд, что на поясе были.
И засмеялся тогда принуждённо Иосиф. Испугался молиться Синему Небу. Ниц пал. Заломил руки. Бога Неизречённого, которого чуть было не оставил, призвал. Решил взмолиться всесильному богу, страшному и требовательному, испытывающему тяжестью изгнания сынов своих.
— Увы мне! Не прогоняй иудеев, Неизречённый бог, отсюда! Здесь задумали иудеи обрести жилище; пыль скорбных дорог на ступнях пришедших из-за Реки. На подошвах изгнанников, но думают иудеи: вот отряхнута пыль. Здесь тебе, Неизречённый бог, покой сулят: вот тебе жилище построили — временный храм для скинии, ковчега. Не Третий, но Третьим может стать, коли соблаговолишь. Не из вечного камня — из самана и дерева храм построен. Но ведь стоит. Бел храм, и места в нём много. Повыше Куббы — золотой Кагановой юрты — бел храм стоит. Неужели оттого звезда над храмом, как над горой Ванс, встала, что бог хочет, чтобы праведностью храм возвысился?.. Но помоги тогда суету извести!.. Верою всех нас укрепи. На тех, на кого заклятие ты кладёшь, укажи!..
Взмолился так Иосиф. И, не стесняясь Волчонка, надел теффилим — ремни молитвенные. Ведь как без теффилим узнать, дошёл ли до бога твой глас или се есть глас вопиющего в пустыне?..
Иосиф поднимает глаза к Луне. Жёлтая, она сквозит сквозь быстро бегущие тучи, и Иосифу кажется, что криво улыбается ему — свысока и жестоко, как жертве, над которой, отмечая ей путь голгофы, а вовсе не радости, остановилась звезда. Что Шехина — Божественная сущность потребует от него? Что ему предопределила? Иосиф боится и одновременно обольщается. Он хочет выговориться. И, забыв, кто перед ним, а может быть, даже обольстившись, что перед ним «друг», исповедуется Волчонку:
— Волчонок! Ты видишь, какой я ярко-рыжий. С детства я привык к этому ярлыку «рыжий», как к медовому пятну на плаще. Я привык к выделенности. Мальчиком стыдился и пугался её, пока близкие не объяснили мне, что я теперь на эту выделенность обречён (роково избран! — если так самому приятнее думать). А случилось это порыжение по вине моего легендарного прапрадеда — славного воина, по имени Булан. Прапрадед показал себя самым ловким в бою, и потому, как велит древний обычай, Каган поручил ему управлять богатством Каганата. Новый Иша (Управитель Богатством) скоро взял себе в жёны юную красавицу иудейку Серах. И это тоже было вполне по обычаю — люди силы и богатства всегда стремились брать в жёны иноплеменниц, чтобы установить полезные связи и упрочить свою силу и богатство. Однако смел был тот легендарный Булан: заботясь о больших купеческих деньгах для Хазарии, совершил для себя самого непоправимое — дал своей жене уговорить себя перейти в её веру. С тех пор все потомки легендарного Булана вместе с наследственной должностью Управителя Богатством (они её добились благодаря купеческим деньгам) получают также и медовое пятно на плаще. Знак выделенности. Я понимаю, Волчонок, что билек иркен — толпа как чан со здоровым, сочным мясом. Для потомков того легендарного Булана теперь отведена роль пряной специи, которой кислят мясо. С одной стороны, специя ценится высоко, потому что придаёт чану с мясом манящий вкус. Но, с другой стороны, специю постоянно обзывают горькой, едкой. Что ж! В повседневной жизни толпы кто-то должен быть её солью и перцем. Почему же не я, «рыжий Иша»? Ведь так? — последние слова Иосиф даже крикнул, ища подтверждения своим мыслям у своей покровительницы Луны, а она опять криво улыбнулась из-за облаков ему.
Иосиф опустил глаза, переводит взгляд на Итиль-город, лежащий под башней внизу. Он говорит Волчонку:
— Когда для билек иркен Управитель Богатством начинает делать много хорошего, то она непременно ответит своему Управителю плохим. Разве я не умножаю сейчас богатств Хазарии? Тот легендарный мой прапрадед Булан ходил в завоевательные походы, получал дани даже с самой Руси. Теперь меня все тычут в нос памятью о том Булане и других хазарских управителях-полководцах. Я не вожу полков. Но времена меняются. Теперь люди силы и богатства в городе, которым должна служить власть (а значит, я, Иосиф!): рахданиты — купцы, ведущие заморскую торговлю. Заморская торговля делает больше серебра и золота, чем мы его раньше отнимали у других народов в грабительских походах. Может быть, ты это объяснишь толпе, Волчонок? У меня перед глазами стоит возвышение Кордовы, которое за какие-то несколько десятков лет осуществил вместе с купцами толковый везир-сайарифа Хасдай. Титул Зелёного Халифа преподнесли везир и купцы на золочёном подносе своему эмиру. Блистательный пример торгового расцвета! Теперь самой судьбой для Хазарии предложен тот же путь. Правда, пока я здесь — не сайарифа, не меняла. Это затрудняет мне дела. Чтобы, раздираемые личными склоками, купцы перестали помыкать Управителем Богатств, как подставной фигурой, и губить город, Иша тоже должен иметь много золота. Только тогда купцы начнут считаться со мной. И много золота у меня скоро будет. Мои амбары набиты хлебом, а в городе начался голод. Я понимаю, что неизбежны поганые слухи, что меня скоро начнут проклинать за то, что нажился на голоде. Будто я сам организовал голод. Однако у меня не было выбора. Потом, когда я добьюсь возвышения Хазарского Каганата, получив, как Хасдай, в свои руки великое оружие — золото за хлеб, все меня поймут, вынуждены будут понять и преклониться передо мной. Но я верю тебе и хочу, чтобы раньше других ты это понял, мудрый Волчонок! Раз ты уж решаешься на самоотречение, Волчонок, то иди до конца — помоги мне стать сильным Каганом!
Иосиф забыл или не придал значения тому, что не выполнил требования Волчонка вернуться в веру Синего Неба. Он принял от Волчонка только его самоотречение от престола и теперь бьёт на откровенность, пытаясь опутать ею Волчонка, как арканом:
— Мою лодию, Волчонок, — говорит Иосиф, — несёт течением. В сущности, Управителей всегда несёт течением, и они разве что чуть пытаются подправить руль.
Ты знаешь про меня, что я всегда прыгаю на башне перед толпой. А хотел ли я этого?! Хотел ли быть лицедеем, да ещё не только во время спектаклей, а всегда, во всём? Хотел ли я сделать для себя самого всю свою жизнь сценой, на которой вечно нужно что-то играть? И прежде всего играть собственную выделенность! Избранность! Такое для кого-то другого, с прирождённой актёрской жилкой в груди, может быть, и было бы в радость, но я с детства был таким же книгочеем и любителем Знания, как ты, Волчонок, наследный принц Тонг Тегин. Я искусил себя в наур ва нур, наверное, не меньше, чем ты. Однако что было позволено принцу (даже сумасбродство с бегством в Халифат, полководчеством там, а потом добровольным заточением в Суфийский храм знаний — монастырь Дар Ал Илм!), то всё было заранее закрыто для меня, сына Управителя, который, живя среди чужого народа, обречён был быть в лучшем случае всегда только вторым. Властительным вторым при ничего не значащем первом, но всё-таки только вторым.
Вторым, который, если бы не сложились нынешние другие обстоятельства, вынужден был поднести тебе — сумасбродному наследному принцу Тонгу Тегину — на золочёном подносе возвысившуюся державу так же, как Хасдай в Кордове преподнёс своему эмиру зелёный плащ Халифа — Повелителя правоверных. Сейчас я стану первым, но за это каким только исчадием ада и рыжей бестией не будет рисовать царя Иосифа злая молва! Мол, знал премудрости александрийцев? Пользовался их тайной поддержкой? Верил в книгу Йоциру? Свою нить вплёл в клубок ангела лика Масона! Без заговора будет объявлен молвой заговорщиком.
Не раз я пытался вырваться из порочного круга. Выстроил отдельный дворец для своей Хатун — главной жены. У меня никогда не было никакой жены — ни десятой, ни третьей, ни второй. Я не верю в гаремную многоликую любовь. Творя ежечасные, ежеминутные спектакли на людях, я мечтал о единственной любимой жене, которая поймёт меня, принесёт мне в приданое только своё исконнее кочевничье имя. Но и отдельный дворец для будущей Хатун не помог. Ни один знатный кочевой род не решился связать себя кровными узами с потомком Лося, да и к тому же иудеем по вере. Великая Степь разрешала мне от имени Кагана повелевать собой, но она не осмелилась отдать Кальирке — постороннему именитую кровь. «Зачем нарушать Тере-обычай? — сказали одинаково маги Великой Степи и талмудисты из Блудницы-академии при Белом храме. — Возьми, Иша, за себя девушку из своего рода и своей веры». И я вынужден был отступиться — дворец для моей Хатун остался пустым.
Иосиф запнулся в своей искренней речи. Дальше то, что он не может сказать вслух. Сейчас Иосиф думает, что и не нашлось женщины среди дочерей беков, при одном взгляде на которую он волновался бы так, как сейчас волнуется, смотря на свою служанку Серах — дочь еретика-караима, смутьяна-ремесленника Вениамина. «Ах, как поняла меня змеинокудрая жена стражника Булана! И как мистичны имена. Снова Серах! Снова Булан — Лось! Как она упала передо мною в грязь при всём отвернувшемся от меня из-за хлебных бунтов народе и смело закричала: «Судету!» Вот самоотверженность и любовь в трудный час. А каким взглядом, жгучим, проникающим в сердце, смотрела она на меня…»
Рыжий Иша Иосиф больше не смотрит ни на Луну, ни на свой город, ни на Волчонка, стоящего напротив. Его взгляд туманится. Он думает, он представляет, как неистова на ложе Серах. Он думает, что сделает своей Хатун — главной женой Серах, когда станет истинно царём.
Иосиф отвлекается от обольщения Волчонка думой о сладкой Серах и совершает роковой промах. Рыбка, казалось бы, уже крепко поддетая на крючок, срывается. Волчонок вдруг перестаёт уныло поддакивать Иосифу, а сам начинает испытывать его мудрость.
Волчонок напрягается и задаёт каверзный вопрос:
— Я выслушал твои доводы, Иша Иосиф. В них много разумного, если судить о державе согласно взгляду купцов. Но ведь, кроме купцов, в нашей державе много кочевников. В нашей державе больше кочевников, чем купцов. Сказано в биликах — заветах Степи, что опорный столб для процветания степной державы — Каган. А у нас в городе хотя и находится ставка Кагана, но давно пропал от народа сам Каган. Видим, Иша Иосиф, что стражники арсии зорко охраняют Куббу снаружи, но кто к Кагану, отцу моему, когда в последний раз входил? Молчишь? А когда выходил в последний раз Каган? Молчишь?
Иосиф на горячность Волчонка ответил холодно и веско:
— А зачем, Тонг, к тому, кто нам бог на земле, людей допускать? Достаточно, что я, Иша-царь, в Куббу вхожу. А что не выводим мы божественного Кагана из юрты, так потому, что пока что не было ни у войска, ни у народа потребности в его благословении. У нас уже много лет, как нет большой войны. У нашего Эля сейчас только небольшие заботы, и с ними вполне я, Иша-царь, управляюсь. В небольших заботах ведь надо только соблюдать Тере — закон и поступать так, как до нас поступали предки. Самим нового не выдумывать. Я стараюсь, а стража ревностно помогает мне. Ты сам знаешь: Арс Тархан как камень. Недаром в городе его прозвали каменным истуканом — балбалом. Он умеет поддерживать порядок.
Волчонок всё кипятился:
— Порядок? Видно, и вправду надо оставаться балбалом, чтобы поддерживать порядок на кладбище. Как положено, глашатаи у нас по-прежнему с утра до вечера кричат на площади перед дворцом, что здесь, в городе, ставка вождя Кочевников. Твои предки, Иша-управитель, нанялись служить в ставку кочевников. Но теперь любому путешественнику стоит лишь немного побродить по городу, чтобы убедиться, что скотоводы стали здесь щепками, которых бросает из стороны в сторону чужой поток. Скотоводы стали лишними в здешней местности. Не пойму, ради чего ты заставляешь надрываться, хрипнуть глашатаев?! Кочевал Эль — племенной союз-государство, но больше не кочует. Был Эль. Нет Эля. Погиб Эль, остановившись. Вся Масса Народа остановилась, и не соблюдает больше достоинств своего рождения, и не живёт больше для Эля. Для себя живёт каждый. Никто не похваляется под твоей, Иша, рукой доблестью, но похваляются заморскими одеждами и питьём. Есть при тебе полководец Песах, да и тот забыл про доблесть, а только, как павлин, выряжается. Люди не смотрят в глаза друг другу, а смотрят в руку. Никто больше здесь не напоит строптивых верблюдов. Некому метнуть клич к бою, как пронзающую стрелу. Здесь, в городе, теперь только в воспоминаниях рычат львы и бьются на ветру знамёна. Здесь только в воспоминаниях встаёт пыль в воздухе от множества всадников и пронзают воздух блеском своих наконечников острые стрелы. Здесь тонкие стали толстыми, а твёрдые стали мягкими, тощие стали жирными. Здесь будет некому смотреть на медное Знамя, даже если Каган вдруг вынесет его к воинам. Зачем сверкающий диск Знамени впереди войска, когда нет давно ни духа у войска, ни самого войска? Вот видишь, Иша-управитель, сегодня потому остановилась звезда, что несёт тьму, в которой все мы погибнем.
— Погибнем? — Иша Иосиф услышал как будто только одно последнее слово из того, о чём наговорил ему Волчонок. То ли сам сейчас не о Волчонке, а только об остановившейся звезде думал, то ли мелькнуло опять у него в голове, как бы и из несчастья извлечь пользу. А потому, как пойманный, на шее у которого аркан, хватается за аркан руками, так вцепился Иосиф в «погибнем»!
— Погибнем, говоришь? А ты, Волчонок, о нас не заботься. Тем более, что ты уже согласился отречься от власти в мою пользу. Ты откочуй скорее от нас так же, как твой брат старший, Алп, откочевал. Взял свой полк, свернул юрты да и откочевал от Итиля-города, как от чумы, подальше. Вот и ты бы так… Тем более, что тебе легче это сделать. У брата был полк, а у тебя пусто? — Иосиф вроде бы даже умоляюще теперь смотрел в лицо Волчонку. Он нанёс удар под дых и теперь только ждал, как будет корчиться сражённый Волчонок.
Но тот молчал.
— Пожалей себя, уйди от нас, а? — Иосиф всегда был актёром в жизни и сейчас, войдя в роль правителя, жалеющего Волчонка, уже даже сам с трудом сдерживал себя, чтобы за Волчонка, искренне расчувствовавшись, слезами не изойти.
В лучах наступившего бледного рассвета стало видно, как у Волчонка почернели от прилившей к ним крови бугристые скулы. Иосиф понял, что его жалость жалит без промаха, и ещё надрывнее повторил.
— Ах, Волчонок, славный, добрый, маленький! Зачем тебе погибать вместе с нами, торговцами? Ты ведь всегда хотел другой жизни. На базаре ты и ходил не туда, где царит оживление, а где полно всяких свитков и листков, написанных красивыми цветными строками. В Багдаде в Дар Ал Илм — Дом Знания подался: захотелось тебе и там почитать свитки. Видишь: я всё про тебя знаю. И даю совет. Искал мудрости — вот и продавай её. Ступай теперь в Киев. Только не начинай распространять мысли про народного властителя, которые прежде пробовал проповедовать здесь! Я ведь так и говорил Арс Тархану: «Сбежал от нас наш книгочей Волчонок, — но сделает и у Халифа что-нибудь такое, что выделывал здесь, потому что не было ещё ни с одним человеком, чтобы он вовсе излечился от той болезни, которой однажды заболел. Начнёт Волчонок и там проповедовать. И они его тоже прогонят, как мы прогнали». Ты ведь у нас потому, что они тебя прогнали?
Иша Иосиф старался, как гвоздь, вогнать в голову Волчонку мысль, что его отовсюду прогоняли.
— Но ты, Волчонок, не отчаивайся! На севере нанялись служить Руси многие варяги. У княгини Ольги, у её сына Святослава полководцем варяг Свенельд. Тоже пришлый. Говорят, что Ольга хитра, как змея, но любит учиться у других — она захочет поучиться и твоей мудрости. Не обязательно же на севере сразу отрубят хазарину голову! А, может, ты отведёшь полки Святослава от Хазарии. Предложи Святославу, чтобы доверил тебе полк для похода на Халифат.
Иосиф издевался; он колол Волчонка и сам наслаждался остротой своих уколов. И он с большим трудом Прервал себя, чтобы выслушать ответ. И то сделал это лишь потому, что намерение врага надо было знать.
Волчонок же больше не горячился. Он сказал тихо и спокойно: — Царь! Видишь, я называю тебя «царь», раз тебе так хочется. Если прислуга сына божественного Кагана хочет, чтобы её называли не Ишей, а на иноземный лад: «царь», я могу тебя так называть. Но, однако, запомни: если сын Кагана говорит с тутгарой — прислугой, то прислуге надлежит внимать мудрости, а не лезть с советами. Это я пришёл испытать тебя и дать тебе совет. Но ты испытания моего не выдержал. Нет ничего пагубнее для будущей судьбы государства, чем гражданская война, изнуряющая народ братоубийством, а правителей приучающая к бессовестности. Я готов был уступить своё священное наследственное право — ради благоденствия и спокойствия моего народа. Но ты не хочешь быть одной веры со своим народом, а потому не смог бы никогда стать для народа хазар справедливым властителем. Я только наследник, и я не могу тебя сейчас прогнать, раз отец мой сидит в золотой Куббе и держит тебя своим Управителем. Однако постарайся, пока ты ещё остаёшься в Управителях, не натворить больших бед, чем ты уже натворил. Не надейся на «детей вдовы» — разговоры, распространяемые письма и ловкие козни действуют в тех пределах, в которых нет сильного полка с медным Знаменем. Барса Святослава можно подстеречь или отравить. Но уж если Барс сюда нагрянет, лишь войско, собранное из всех племён и языков Хазарии, сможет нас спасти… Ты понял это, Иша?..
Иосиф чувствовал, как к его щекам бешено приливает кровь. Раздражённо перебил:
— Зачем ты осмелился нарушить мою ночную молитву? Ты ведь пока ещё не имеешь никаких прав. Ты только пока наследник, и неизвестно, получишь ли наследство? Кто тебя над собой посадить захочет? Кто сейчас за тобой? Говори быстро или проваливай, пока я не позвал стражу.
Волчонок склонил голову:
— Не грози мне в моём городе, Управитель. Не забудь, что я человек священной для хазар крови — ни один стражник не посмеет поднять руку на род Ашины. Поэтому не кидай в меня пустыми словами. Уразумей, что я скоро могу стать Каганом. И вот что ещё. Исполни всё-таки одну мою маленькую просьбу. Понимаешь, Иша, по стечению дурных обстоятельств ночью зарезали сына Арс Тархана. Люди полагают, что это сделал «голый дэв», и потому тело сына Арс Тархана осквернено. Я видел собственными глазами, что это не так, что никакого дэва не было, а был просто дурной человек, неблагодарный. Надо исправить заблуждение с помощью мудрого Каганова билика — изречения. Обнародуй такой билик как можно скорее. Не надо, чтобы росла смута ещё и якобы из-за дурных примет…
Иосиф ответил зло:
— Приметы нехорошие уже подтверждаются. Падёж скота, предвещаемый, уже был зимой.
И вдруг сорвался. Ответил нагло и бесстыдно. Сам даже не понимая, зачем это говорит.
— А мне-то что? Пусть поднимается в цене пшеница, которой я предусмотрительно набил свои амбары ещё с позапрошлой осени, в урожайный, дешёвый год… А знаешь, Волчонок, была ещё зимой другая нехорошая примета: разорвал ветер Хазар Михи, приёмный парадный шатёр, и опорный столб выломало, из-за чего ушиблено было много народу. При такой примете кочевники теряют веру в своего правителя и разбредаются в смятении. Но ведь мне, торговцу, до того что? Коли какие скотоводы разбрелись и откочевали подальше от города, так в городе спокойнее стало: меньше ртов, которых надо подкармливать, и смутьянов меньше… — закончил Иосиф, уже глядя на Волчонка явно с издевательством.
После такого своего рассуждения Иосиф даже повеселел. И он всем видом своим показывал, что не хочет смотреть, куда денется-исчезнет Тонг Тегин Волчонок. Сам Волчонок пришёл — сам пусть и пропадает куда хочет!.. Что ему, Иосифу, до Волчонка теперь, коли вернулся Волчонок в город без полка и без золота?! Разве ничтожных опасаются? Разве униженных и опростоволосившихся страшатся?
Спросил так себя Иосиф и уже с ехидным прищуром глянул теперь на остановившуюся звезду: нависла она — а вроде бы и не звезда вовсе, а так, пятнышко какое-то, пустой светляк из мириады светляков, угасающих на заливаемом рассветной желтизной небе?
И твёрдо сказал вслух Иосиф, решительно уверовав, что он — Чезед (божьей любовью обласканный) и что, следовательно, всё ему должно теперь стать нипочём. Не в страх, а лишь на пользу:
— Остановилась звезда? Кто это видит? Я, Царь Иосиф, к СТОЛУ готовый, вижу!..
А звезда стояла над островом с дворцом и Белым храмом и светила не мигая. И лежала под звездой обтекавшая остров золотая, в обрызгавших её жёлтых рассветных лучах, полноводная река. И пах прошлогодними травами прозрачный воздух, стекавшийся из безбрежных и сочных степей, уже выбросивших весенние зеленя.
И шёл новый год по этим степям — по календарю именовавшийся Барс ил — годом Барса.
Медленно совершалось, но вот и довершилось. Тихо вот так — без кровопролития и битв стол подан! «Грозит Святослав. Он город напугал, глупцов в страхи ввёл. Пусть дрожат. На себя надо этот страх перевести. Себе, умному, на пользу взять. Пусть теперь от страха ищут сильного, за чьей спиной укрыться молено; страх делает людей пулами — зависимыми. А раз есть зависимые, то нужен и кнут. Берите меня — я буду кнут!».
Иосиф даже изогнулся всем телом, представляя себя кнутом. Думал: «А сын Арс Тархана, этого каменного балбала, пусть ещё в городских воротах посмердит, и ноги трупу пусть, как суеверием положено, отрубят. Полезно балбалу унижение: попослушнее, посговорчивее станет Арс Тархан. Тогда и надо будет Волчонка отдать на расправу Арс Тархану».
И хитро прищурился, улыбаясь уму своему, Иосиф. Потом стал молиться. На этот раз он не прыгал, не старался дотянуться руками до неба. Он встал на колени, долго ёрзал, ища, как поудобнее устроиться. Наконец с каким-то даже облегчением коснулся лбом пола и сразу поймал себя на согласии с Книгой Творения: это хорошо в обряде для посвящённых придумано — молясь, опереться на лоб, чтобы как бы вознести, отдать богу всё остальное тело. В высокой молитве человек выворачивается и духовно, и физически.
Теперь Иосиф уже совсем не боялся остановившейся звезды: она ведь была теперь у него как бы под ногами, о н попирал её. Его тело обескровливалось. Кровь ушла из щиколоток, а потом и из бёдер, она оставила прочие члены и обмывала только мозг: прополаскивала его от обыденной грязи, как в хорошей мовнице.
С низовья реки потянуло вдруг на крышу дымком и гарью. Иосиф вздохнул эту гарь ноздрями, но не переменил позы: зачем прекращать молитву и бежать на край башни рассматривать, откуда гарь, когда вчера ещё он предсказал эту гарь Арс Тархану?! Причина в том, что стражники-арсии обманом взяли в плен плывший мимо города небольшой купеческий караван с малой дружиной. Заставили всех выйти на берег якобы для уплаты торговой пошлины. И внезапно захватили. Арсин добро поделили, а пленных посадили на колы и кресты. Купеческий караван, с которым расправились, был из Руси. А раз среди казнённых были славяне, то Иосиф предсказал Арс Тархану, что славяне, осевшие здесь, в городе, и подожгут тела, чтобы души умерших не блуждали в позоре, а попали на небо. Арс Тархан после пророчества Иосифа обеспокоился: хотел послать наряд, чтобы уничтожить следы разбоя. Но Иосиф снова проявил мудрость: разрешил Арс Тархану оставить кресты с распятыми. Пусть, раз хотят, заботятся местные славяне о душах одноплеменников — поступок благородный. Да и власти городской на пользу. Иначе местное славяне проявляли бы недовольство лихими дедами стражников, жаловались бы власти, а теперь сама власть вроде как право на недовольство местными славянами — за самочинство — получает.
Иосиф ещё раз потянул гарь ноздрями. Хороший ветер! Быстро унесёт и развеет пепел — и концы в воду. Надо всегда разрешать своим подданным делать маленькие нарушения, чтобы они чувствовали себя свободными. Пусть тешатся, сжигая кресты и колы. Никогда не привязывай верёвкой крышку к кипящему котлу — и тогда всегда будешь и с горячей водой, и с целым котлом.
Наставляли мужи из Александрии — города философов, что, ежели задача души состоит в том, чтобы подвергаться во время земной жизни испытаниям, то согрешим, ибо оное на пользу душе нашей! Согрешим и помолимся-поклонимся! И снова согрешим, и снова поклонимся! Вот смысл веры! Все мы дети вдовы-природы, а солнце от нас — за небосклоном.
Иосиф молился уже долго и чувствовал, как совсем отяжелела голова, а тело стало очень лёгким.
Его глаза застила пелена, а сам он почувствовал, что будто вдруг поднялся, воспарил, и вокруг него — или уже где-то даже под ним — поплыли звёзды, и среди них та, совсем маленькая, ради знамения городу остановившаяся. Она остановилась, а он не то пришёл, не то проплыл независимо мимо — по дороге длинной и колышащейся, вдоль которой всюду стояли молящиеся, тысячи, миллионы самых разных молящихся, и все кому-то отбивали поклоны. Этой дороги Иосиф прежде ни наяву, ни во сне никогда не видел, но теперь почему-то сразу догадался, что душа его попала на путь предков, и, сообразив, стал тоже отбивать поклоны. Мысленно отбивать поклоны! Он бил поклоны и продвигался всё дальше по этой дороге, отмеченной богом.
Поклон — и крохотный шажочек к концу чудес. Медленно. Очень медленно. И всё-таки с каждым шагом всё ближе к тому сладостному времени, когда можно будет распрямить спину, выкинуть прочь страннический посох, поднять прямо и гордо лицо — и пройти мимо всех. Может быть, даже мимо самого Неизречённого бога. Мимо? От такой мысли Иосиф испуганно пришёл в себя и встал на ноги. Или, может быть, ему опять только показалось, что он встал на ноги. Какая разница? Поучали философы из Александрии, прознавшие всё про зиферотов, что неважно, стоишь ли ты истинно на голове или на ногах, а важно, как перед другими выглядишь.
Волчонка перед Иосифом уже не было.
День тринадцатый. «Полководец Мерген Добун»
За Арал-морем доблестный алтайский полководец Мерген Добун остановил катившуюся волнами орду. Впереди открывалась потрескавшаяся солончаковая степь с редкими островками травы. Зелёный мост от Арал-моря до Урал-реки, по которому Мерген надеялся проскочить за три луны, предстал ему шатким и хлипким, как две доски через пропасть.
С одним своим полком он ещё мог бы решиться на дерзость. Но с целой ордой — с массой народа, с табунами, юртами, с семьями, которые тянутся в обозе, — можно застрять в полупустыне. Мерген опустил медное Знамя.
Эх, как ему не хватало опытного проводника. Сбывалось дурное предзнаменование. Если бы не умер этот старец Булан-старший?! Небо будто нарочно поторопилось взять к себе старца, чтобы оставить Мергена слепым.
Что делать?.. Опыт кочевника подсказывал Мергену, что надо дождаться хотя бы одного дождя. Но небо стояло чистое и спокойное.
Мерген с силой воткнул отливавшее на солнце пожаром медное Знамя и приказал развёртывать юрты. Из собственного полка выделил тёмников, ставя их над примкнувшими к полку добровольцами. Решил использовать стоянку, чтобы поучить добровольцев воинскому делу. С огорчением видел, что среди примкнувших к его медному Знамени много сог-по, или, по другому имени, татар. Не каткулдукчи — воинов, а мирных пастухов, которые пошли за полком не ради добычи, а искать хорошую землю. Татар сманило за собой не воинственное медное Знамя, а таботаи на синей арбе — гробы предков, которые свидетельствовали, что Мерген идёт не грабить, а переселяться.
— Придётся мне ещё обустраивать всех этих татар! — сердился Мерген. Но глядел, как хозяйственно вбивают татары опорные столбы для юрточных юбок, как сметливо выгораживают загоны для овец, — печень его потеплела. «Хорошей будет в моём Эле Вся Масса Народа, с такой Эль не обеднеет!» — подумал Мерген. Он уже почувствовал себя Каганом, который обязан заботиться о Всей Массе Народа.
Мерген давал лошадям и скоту нагуляться, наесть бока на тучных пастбищах Арала. И ждал первого ветра с запада, чтобы смело двинуться ветру навстречу. Он ещё не был «Яда медекун» — «Способный вызывать дождь», как положено божественному Кагану. Но он уже порасспросил стариков и знал, что ветер с запада приносит в эту степь дождь.
День четырнадцатый. «Принц Волчонок поёт любовную песню»
Все мужи испортились из-за вещей.
Увидев имущество, они кидаются,
словно гриф на добычу.
Они держат своё имущество, заперев
его, сами не пользуются,
плача от скупости, они собирают и
копят золото.
Не замечая родных и близких, они
стерегут имущество, на родственников
они смотрят, словно собаки.
Из-за имущества, не памятуя о небе,
сыновей удушат…
Хазарская песня
Он не мог понять, как с ним такое приключилось. Почему-то он стал медлить. Не действовал после того, как неудачно объяснился с начальником стражи Арс Тарханом, как поднялся на башню к Управителю Богатством Иосифу и нашёл только вражду. Волчонок понимал, что выдал себя и кольцо козней вокруг него неумолимо сомкнётся: «дети вдовы» не прощают тех, кто отказывается выполнить их волю. Его гордая печень сжималась в предчувствии страшной опасности. Он понимал, что должен, как коварный зверь, затаиться, изготовившись к прыжку. А сам всё бродил и не мог набродиться по Итилю. Не мог надышаться его острым воздухом, его горячей пылью.
Он смущённо удивлялся: и чего это он в Багдаде заскучал по вот этому грязному, пыльному, дикому, на город-то мало похожему (больше юрт, чем домов!) обиталищу? Там, в Багдаде, видел он воздвигнутые купола, расстеленные на улицах ковры, роскошно разукрашенные здания, множество людей конных и пеших в нарядных одеждах, — но там, в Городе Мира, он повесил голову, не проронил ни звука, ни на что не смотрел, никому не радовался. Когда же мать Халифа, принявшая участие в судьбе изгнанника, спросила об этой его постоянной грусти, то он вдруг нелепо ответил: «Я грущу, потому что нет ведь здесь, в Багдаде, наплавного моста!..».
Мать Халифа была златокудрой — происхождением из Русов, и он утаил от неё в своём признании одну маленькую, в общем-то, наверное, только для него самого важную подробность. Постеснялся, что эту подробность мать Халифа примет за лесть. Он не сказал, что грустит ещё и по ничем не примечательной лавке русского купца Буда, разместившейся у самого края моста, напротив юрты начальника стражи Арс Тархана. В этой лавке, наряду с рогожными мешками с золотой пшеницей — основным предметом торговли — был ещё и книжный развал, а в задней половине, сгорбясь и цепляясь бородами за книги, скрипели перьями два старых асл мансуба — работавшие на Буда переписчики. Буд не только торговал киевской пшеницей и оружием (знаменитыми русскими обоюдоострыми мечами), но скупал или переписывал во множестве рукописи для великой княгини русов Ольги, в свите которой Буд состоял и от имени которой, исполняя посольские обязанности, даже нередко вёл переговоры в Каганате и Халифате. Юный принц Тонг Тегин, — с ещё не пробившимся пушком бороды, — зачастил в лавку Буда, потому что любил книги больше лошадей и охоты. И часто он засиживался у Буда за полночь вместе с дочерью Буда Воиславой, тоже влюблённой в книжную мудрость. Разбирали вместе при плошке рыбьего светильника прихотливые греческие, арабские, иудейские, персидские письмена. И бывало даже, что Волчонок и маленькая Воислава выходили из книжного развала, только когда уже брезжил рассвет. И они шли на наплавной мост и, взявшись за руки, вместе смотрели, как величаво восходит для людей и для всего сущего, живого и растущего на земле огромное жёлтое солнце и разливает всем поровну своё тепло: хазарам и чужестранцам, богатым и бедным. У Воиславы была длинная золотая коса, и когда ветер, крепко рванув, внезапно распускал её, то золотые волосы девочки струились, совсем как солнечный свет.
Когда Волчонок уходил из Итиля-города, то они остановились возле серебряной ивы и он попросил, чтобы маленькая Воислава завязала ему в платок на счастье несколько угольков из её очага. И потом в Дар Ал Илме (монастыре суфиев), если было ему особенно тягостно и тоска угнетала печень, он кидал заветный уголёк на жаровню и видел (или ему казалось, что он видит), как в струившемся сладком прозрачном дыму тянет к нему руки и полощет, как прапором, солнечными нитями своих золотых волос маленькая Воислава.
Вот теперь Волчонок опять на том самом месте на мосту, где они простились с Воиславой.
Волчонок вспоминает, как они с Воиславой мечтали, что будут обменивать каур ва нур (свою образованность — цветы и блеск Знания) на товары. Буд ведь уверял, что образованность скоро станет самым дорогим товаром. Однако вчера Тонг Тегин пришёл на овощной базар и обратился к торговцу: «Дай мне в руки пучок овощей и возьми в уплату с меня толкование какой-нибудь суры!..». Но дико запротестовал, размахивая руками, торговец овощами: «Мы продаём только за чеканную монету!». Тогда подошёл он к меняле, к торговцу полотном, к продавцу специй, к пекарю и мяснику, к рыботорговцу, ко, даже когда он согласился просто дарить цветы образованности, все отмахивались от него, как от мухи. И только необъятно толстый работорговец Фанхас смекнул: «Я готов допустить образованного человека до беседы с рабынями, которых повезу в Кордову и Багдад. Думаю, что, усвоив от тебя кое-какие знания, они повысятся в цене».
Вчера Волчонок ушёл с базара, бродил по городу, распугивая стаи ворон, клевавших проступившую с весной из-под снега и размораживавшуюся падаль. Привыкнув подкармливать скот пшеницей и ячменём, доставлявшимися русами с верховьев реки, многие кочевники не отогнали свои табуны и отары на дальние зимовья. И если богачи ещё как-то держались, купив корма у Иши-управителя, то тем, кто победнее, теперь только оставалось что бродить между рассыпанных по степи жёлто-бурых ледяных холмиков: печальных кладбищах из туш замёрзших животных. По степи уже шёл поганый запах гниения, и вот-вот должна была вспыхнуть чума.
Но странно: именно ожидание чумы, с предвестием о которой людские толки сразу связали появление страшного «голого дэва» с гробами, порождало в городе какое-то надрывное, истошное веселье.
К весне готовились, как никогда; и, как никогда, праздновать её хотели все. Все в городе до изнеможения, до упаду, до полного забвения хотели веселиться, петь и любить. Может быть, в последний раз сладко любить.
И Волчонок подхватил со всеми:
От дуновения ветерка обнимаются
и лобзают друг друга ветви деревьев,
рассыпается мускус из сита воздуха.
Вставай, потому что цветы разбили шатёр в степи!
У реки раскинули они алый шатёр.
Вставай, потому что из-за прихода весны
вокруг тебя столько чудесных творений!
Вставай, потому что всё вокруг тебя полно трелей птиц!
Вставай, потому что роза показала белую руку.
Вставай, потому что соловей,
сидя на цветке-минбаре,
желает стать сегодня для нас проповедником!..
В монастыре Дар Ал Илм, когда он вспоминал Воиславу и приходило к нему отчаяние, он хватался, как за кувшин приносящего забвение, перебродившего с маком кумыса, за такие же игривые, стыдно-соблазнительные касыды Однодневного халифа (ими прославился Халиф, правивший один день). Тонг Тегин повторял наизусть не молитвы, а эти стыдные касыды. Поил себя запретной любовью, оставшейся в упоительных стихах, и успокаивался, начиная снова понимать Вечное. Ведь есть какая-то мудрая тайна Неба в том, что именно лукавое и сладкое озорство любви глядит в вечность больше, чем любое другое из человеческих дел: следствием любви становится продление человеческого рода. Как по-другому может оставить после себя след всякая тварь земная? Как продлиться в бессмертие всякой твари земной, кроме как не сохранить себя в потомстве своём, рождаемом любовью?!
Волчонок держался за засыхающее дерево (оно одиноко стояло напротив заветной серебристой ивы, склонившейся над водой) и чувствовал, как легко обрываются у засохшего дерева корни.
А мимо Волчонка текла толпа, и толпа позвала его. Вся толпа сразу. Неважно, чьим голосом.
И он шагнул от дерева к толпе, шагнул в толпу, как окунулся с берега в воду; толпа сразу подхватила его и понесла. Ещё какие-то мгновения серебристая ива, будто фонтан, поднявшийся из воды, сияла ему тысячью росинок на своих серебряных листьях. Потом его отнесло дальше. Посветлевшее небо тихо, как эхо, засмеялось с ним вместе, река ему пропела, а люди, — ему показалось, — все разом обняли его. Его спина ощутила общее тепло: теперь он был одинок (известно, что нет большего одиночества, чем когда ты отдельная песчинка среди массы других!), но всё равно слитен со всеми, кто его окружили. В Багдаде он плавал бы в толпе жалкой щепкой, но здесь он чувствовал, как будто он со всеми.
Малиново-белёсым пятнистым мухомором завис в зыбком утреннем полусвете над островом дымный гриб. Плавают поднятые в воздух частички глины — тысячи ног сейчас жадно месят глину здесь, на правом берегу! Взвешены капельки пота — разгорячились тела в толпе, будто в мовнице, — собственным потом умываются-обливаются! Пропитали облачный гриб острогорькие запахи семени. Приправили мирра, кипрей и мускус из душистых флаконов, что меле холмов у женщин! Сколько капелек падает из флаконов-серёжек! Сколько благовоний, втёртых в рамена и чресла, испаряются! Трудно, тяжко дышать потным облаком, а оно всё растёт — тысячи глоток продолжают надувать дымный гриб, выдыхать в него из себя сладковато-кислые клубы медового перегара.
Волчонок в толпе, вместе со всеми. Вместе со всеми кривит губы, хватая воздух. Мохнатая тысяченогая гусеница-толпа захватила его в своё чрево, и его ноги теперь не его — они принадлежат общей гусенице.
— Тоимаса аштан, тойар уйаланмахтан — не насытимся едой, насытимся облизыванием, — кричат Волчонку в лицо влажные яркие рты и, раскрываясь, вдыхают весну ему в рот, как слюну возлюбленному с поцелуем вливают. Его обвивают чьи-то руки и чьи-то бёдра прижались к нему.
Рядом с Волчонком молоденький, с вывалившимся до корня языком кочевник мнёт зрелую, толстую, с отвислым животом белокурую женщину: «Чего смотришь, монах? Пособи! Помоги оттащить в сторонку!..» — не договорил: другой, более рослый зверь вырвал у него добычу, уволок во встречный поток. Сбоку вцепилась в Волчонка худая, как змея, с маленькой головкой арсиянка; повисла на Тонге — так в потоке хватаются тонущие за плывущий кусок дерева; и теперь Тонга несёт вместе с грузом на боку, и он чувствует, как судорожно свело вцепившиеся в его тело тонкие пальцы, как обмякли они. Змея отвалилась, и её тут же унесло, смыло встречным потоком. Но уже чьи-то шершавые губы теперь жуют его ухо. «Кере! — Заря?» — бормочут шершавые губы и тянутся, жадные, к его губам.
Вот влюблённая пара. Низкорослый, плотный юный кочевник и обвившая его шею руками гибкая, как серна, с кожей, как оливки, юная девушка с глазами взрослой женщины. Она наклонила игриво голову, на которой сооружена не причёска — дворец. Как гроздья чёрного винограда, уложены на голове у девушки кольца густых волос, и змеиные пряди, будто лоза, выползают из-под гроздей винограда, расползаются по открытым рукам и жёлтому платью девушки. Глаза её вперились с удивлением и оторопью в Волчонка. Ему кажется, что она силится вспомнить его. А пока в глазах её словно застыло, как застывает волна, остановилось веселье и медленно обволакивается чёрным туманом. И вот уже только жёсткость в этих стылых чёрных мраморных глазах. Теперь и Волчонок опознал её — это дочь Вениамина, которая подавала старику кинжал, советуя скорее добить мусульманского монаха.
Волчонок делает движение, чтобы протиснуться к безжалостной юной красотке. Он что-то хочет сказать ей. Может быть, он хочет укорить её, — объяснить, что она ещё слишком мало испытала в жизни, чтобы столь жестоко решать чью-то, другую, судьбу.
Но жестокая девушка уже смеётся ему в лицо. Весело хохочет, стерев со своих губ минутную капризную хмурь, и показывает на него своему парню прямо пальцем.
— Смотри, Булан! Да это опять тот мусульманин! Вот нам повезло! Ну, конечно же, это он опять… Ой, где же алкинчи — соглядатаи? Ты же одни с ним не справишься… Всегда в толпе доносчики болтаются, я их с ходу узнаю, а когда надо, то нету ни одного рядом, как на грех. Эй, люди! Преступника, нарядившегося в одежду монаха, надо схватить!
Почётно сгореть бабочкой, став огнём. Но быть растерзанным толпой как преступник?! Тонг Тегин бледнеет. Бойкая девушка указует пальцем на него. Смысл слов её кощунствен и чудовищен. Она даже не хочет замечать девяти клоков его бороды. Она тычет в него пальцем, как в какого-нибудь простолюдина…
Она пытается заставить своего парня:
— Милый мой Лось, беги к Арс Тархану в юрту — вон вход у края моста, — донеси начальнику стражи. Скажешь: ты ищешь дэва, который убил твоего сына, так монах, который с «голым дэвом» в одном сговоре, вон тут трётся. Ну же, донеси Арс Тархану. Вознаграждение за донос получишь — нам на хозяйство пойдёт. А повезёт, так и в стражники тебя, зоркого, Арс Тархан тогда возьмёт. Зачем тебе простым помощником быть — одна слава что свободный?! Лучше самому хлыстом стать, других по спинам хлестать!
— Нет, Серах, я всё-таки свободный! Не побегу доносить! — противится Булан. Бойкая Серах поворачивает спину кочевника, которого она обнимает за шею, как щит, против Волчонка, нагибаясь, прячется за живым щитом, орёт:
— Люди! Этот монах — оборотень из шайки дэва. Отца моего сгубил. Помогите отомстить!..
Она бы добилась своего, но поток не останавливаясь несёт всех, вертит, ударяет о другие сцепившиеся тела и вдруг, будто заставив всех разом споткнуться, обрушивает всех на землю.
Закричали восхищённо:
— Идёт Судету — Покровительствуемый богами!
Волчонок догадался, что это об Ише Иосифе Управителе. Прежде божественный титул принадлежал ему самому — сыну Небом рождённого, Небоподобного Кагана. Но что стоило купить несколько крикунов, чтобы те исправно кричали этот титул при появлении Управителя Богатством, раз законный владелец титула из города сбежал?! Теперь уже привыкшая толпа и без оплаченных крикунов кричит Управителю, что это он покровительствуемый богами. И никто уже не видит, что у Управителя не девять божественных, а всего два клина бороды.
Даже сам Иша-управитель уже поверил в то, что теперь он — Судету. Он держится, как взмывший в высь хищник, от одного вида которого прижимаются все твари к земле. В длинном, до земли, красном, расшитом золотом халате, из-под подола которого выступают, как когти, чёрные острые туфли; с волочащейся сзади серой накидкой, похожей на ветвистый хвост коршуна; с крупным загнутым породистым носом, — Иша Иосиф сейчас и в самом деле похож на красного хозяина степи, которому надоело во главе ворон клевать по городу падаль и вот он вышел поохотиться на живность.
— Ну, дрожите все перед кривыми когтями красного коршуна! Живо падай ниц, толпа!
Извиваются тела, упавшие на землю. А коршун? Два острых, задиристых клока окрашенной хной бороды упёрлись в небо, так гордо откинута голова Управителя Богатством.
Извивающиеся животы и груди месят грязь.
— Все в грязь перед Судету!
О, Лайлат Ал Машуш (Ночь ощупывания)! Есть такой праздник в Багдаде, когда женщины смешиваются с толпою мужчин, и никто ни от чего не удерживает свои руки. В Багдаде Лайлат Ал Машут празднуют в темноте. Здесь, в Хазарии — на рассвете, в ожидании Весны.
Волчонок клянётся себе, что если выберется из-под этой навалившейся на него груды тел, то повторит дикие «подвиги» Чёрного Халифа, женоненавистника. Тот заколотил в ящики триста своих жён и разом утопил в Ниле, затем запретил сапожникам шить женские туфли, дабы женщинам не в чем стало выйти на улицу и они не смогли бы вводить правоверных в грех.
Какая-то необъятная толстуха (Фанхас в шальварах!) вытаскивает Волчонка из кучи-мала:
— Хо, монах! Я беру тебя…
Он сопротивляется, он упёрся обеими руками, отпихивает от себя этот необъятный кусок теста…
И тут, как рок, возле них появляется «голый дэв». Волчонок видит его — длинного, тощего и невыразительного, как тень. Ну, конечно, это всё тот же Кяфир, который пытался его задушить. Теперь лжедэв, указывая на Волчонка, протягивает руки и, громко призывая толпу в свидетели, охально кричит:
— Эй, люди, посмотрите! Монах отказывается от женщины. Может быть, ему козу надо?..
Принц Тонг Тегин вспыхивает. Он знает, что он должен снять туфлю и побить ложного дэва, развлекающегося издевательством над ним, монахом, одетым в синий траур вечной печали по Аллаху. Он готов призвать всех в свидетели и объяснить людям, что это и есть тот наглец, который смущает город, изображая «голого дэва» и сея панику и смуту.
Тонг Тегин оглядывается на людей вокруг: надо объяснить им всё, надо сказать, чтобы они схватили ублюдка, эту подлую тень человека, живую изнанку людских достоинств.
Тонг Тегин ищет глаза лжедэва, чтобы крикнуть ему это прямо в глаза. Но тень завела толпу и исчезла, как не было её.
А вокруг Тонга уже радостно улюлюкают.
— Ха, Танаббаа! Пророк!
— Скорее, скорее, козу приведите к Пророку! Козу к исфаганцу!..
Толпа уже крепко схватила Тонга. Упоминание об исфаганце и козе обещает ему страшное надругательство. Простоволосые люди не терпят монахов; они, если развеселятся, вспоминают про монахов только гадости вроде ходячего анекдота про отвергнутого исфаганского лжепророка. Якобы тот лжепророк ходил по улицам и обещал всем сотворить чудо: «Если у кого-нибудь есть красивая жена или дочь, то пусть он её приведёт: я в течение часа одарю её сыном — это мой признак пророка…» Исфаганцу толпа привела козу.
Счастье Тонга, что в этом месиве нет под руками козы. Но с каким удовольствием ему теперь кричат в лицо:
— Мутаннаби! Лжепророк!
Ещё несколько минут назад эти женщины сплетали руки и тянулись друг к другу с поцелуями, теперь они давятся от смеха. Пляшут крепкие плечи. Трясутся отвислые животы. Машут руки. Как попал Волчонок в это скопище диких тел, завёрнутых в белое? Словно все разведёнки города собрались здесь возле него. Женщины бьют Волчонка, они толкают его в грязь.
Он не сопротивляется: он знает, что толпе нельзя давать сдачи, от толпы можно спастись, лишь отползая и надеясь, что она отвлечётся на другую жертву.
Волчонку везёт. В толпу врезается барабанная дробь:
— Нишит-е (будет бить палками)! — это нечто вроде объявления стражников о собственном появлении. — Разойдись! Все по домам. Весна отменена. Того, кто об этом забыл, будем бить палками.
Вокруг кричали: — Да что это такое? Сколько можно собираться и расходиться?! Вот торговцы — плюнули на объявление…
— Если хлеба нет, так пойдём и разобьём у Иши-правителя амбары. Чем от голоду помирать, лучше от палок стражников!
Никто не намеревался расходиться. Людской водоворот лишь больше закрутился. Народу прибыло. Напёрло и просто снесло куда-то стражников арсиев, бьют они кого-то палками в стороне.
И снова предупреждающие крики:
— Падайте все ниц. Возвращается Судету!
И голос ужаса:
— Ой, посмотрите на Судету! Какое у Управителя лицо опрокинутое…
И шепоты… Если хочешь узнать подноготную, то окунись в эти шепоты толпы!
— Говорят, что Судету мудрецам из Академии хлеба на праздник не пожертвовал. Оттого они отменили праздник.
— Пожадничал Управитель Богатством. Амбары у него полные, а он даже с богов хотел золотом за пшеницу получить.
— Вот тебе и Покровительствуемый богами! Что же он делает-то?! Жрецы-то ведь для нас, для народа, пожертвований хлебом на алтари богов у Судету просили. Чтобы нас, голодных, остатками с жертвенников накормить-опохмелить по случаю праздника! А Судету отказал…
Как легко меняется настроение толпы! Только что люди безропотно, подобострастно падали в самую грязь при появлении Иши Иосифа Управителя. Теперь они лишь пригнулись, пряча головы от плетей стражников. Стражники работают плетьми вовсю, стараясь уложить на землю непокорных, но люди лишь отступают, заслоняясь руками.
И тут Волчонок снова увидел повисшую на шее у кочевника жестокую девушку в жёлтом платье. Слава аллаху, на этот раз ей оказалось не до мести монаху. Она дождалась, пока Иша Иосиф Управитель поравнялся с ней, и внезапно расцепила руки, картинно покатившись прямо под ноги Управителю.
Управитель Богатством невольно остановился. Замедлила ход вся его процессия. А девушка в жёлтом платье поднялась на колени и протягивая, как за благословением, свои гибкие, тонкие руки, заголосила лицедейски восторженно:
— Судету! Великий Судету! Тебя любит народ!..
Волчонок видел, как удивлённо, благодарно и даже уже как бы с предопределённым восхищением оглядывал Управитель юное, гибкое, как у серны, тело своей почитательницы. Как губы Иосифа чувственно пошевелились и породистые ноздри дрогнули, вдыхая зовущий запах кожи девушки, гладкой и томной, будто оливки. И как уже совсем побеждённым встретил Иосиф её покорно-зовущий взгляд и тут же утонул своим ответным взглядом в красивом чёрном винограднике её волос, в этой сложной причёске, где маленькие чёрные колечки спускались, как гроздья, а длинные прямые пряди змеились, сползая на чуткие плечи, будто лоза.
Процессия напирала сзади на Управителя Иосифа, а он всё не решался перешагнуть через тянувшую к нему руки девушку и пойти дальше. Её оттащил с пути Иосифа молодой кочевник, видимо, её муж, тот самый, у которого она висела на шее. Она брыкалась. Она даже гневалась:
— Пусти, Булан! Куда ты меня тащишь? Лучше бы сам тоже встал на колени. Вон он какой, наш Судету! Как красный коршун — хозяин неба! А ты знаешь, что его предок был таким же простоволосым, как ты, и даже звался таким же именем — Булан Олень? Только тот Булан из легенды был расторопней тебя — он сумел лучше других показать себя в бою, и согласно обычаю Каган назначил его за это Ишей Управителем Богатством. Ну, а потом тот Булан принял веру своей жены, а должность Иши сделал наследственной, чтобы она стала передаваться от отца к сыну. Вплоть до нашего Судету Иосифа. Ну что, завидуешь, мой Булан!?
Она уже успокоилась, повеселела и, чмокнув «своего Булана» в щёку, снова повисла у него на шее. И тут их накрыло новой людской волной.
Эта волна сбила с ног и Волчонка. Толпа напирала. Тонг Тегин чувствовал, как на него опять валятся груди, ноги, спины, животы.
А потом их всех подняло, как поднимает мусор прибывшая вода, и понесло. Толпа бежала.
Волчонка рвануло, сдавило, стиснуло — так, что ноги у него уже висят, как плети; он провис на чьих-то сильных бёдрах, локтях, плечах, грудях. А гусеница-толпа прибавляла ходу. Волчонка вынесло толпой с левого берега и потащило в лодке толпы по наплавному мосту.
Он был в самой горячей толпе, когда толпа искусила его.
«Ну же, — шептала ему в ухо толпа, — прими скорее моё искушение. Для тебя, Волчонок, это единственный путь, чтобы ты сам понял, чего хочет твой город. Ну, разгляди! Разгляди же: вот тебя уже соблазняет девушка. Её стан словно ива. Можжевельник её кудрей колеблется, и нос прям. Отправился к тебе демон, держа перед тобой мёд, одетый в шёлк, — стань безумным и слабым!..».
О, что с тобою, Волчонок! Разве ты ещё сам не понял, что шагнул в омут. Как быстро ты слабеешь! Признайся: тебе, посвятившему себя только бесплотности высокой идеи, мечтам и думам о возвышении Эля, уже самому захотелось случайно коснуться женщины?! Ты отдался прикосновению? Ты отстранился? Ты совестно шарахнулся прочь, будто от лизнувшего тебя пламени?
Шепчет толпа: «Ничего, ты привыкнешь. Через миг ты будешь снова бояться, и проклинать, и ловить новое женское прикосновение… И обходить, и стыдно желать…»
Вокруг пели:
Меня пленяют томные глаза,
чёрная родинка, румяное лицо.
От них каплет совершенная красота.
Пленив меня, она снова от меня убегает…
Поклонившись, она сделала мне знак,
оттёрла слёзы с моих глаз,
исцелила раны моего сердца.
Став странником, проходит она теперь мимо…
Плача ей вслед, я погибаю,
я бережу раны моего сердца,
я ищу убежавшее счастье.
Словно дождь, брызжет моя кровь…
Поймав меня в сети, уж не бросайте!
Дав обещание, не отрекайтесь!
Мой истекающий слезами глаз — море,
по краям вокруг него летают птицы…
Волчонок-монах оказался в самой голове людского потока. Будто молоденькие деревца снялись со своих мест и все бегут в толпе.
Все танцуют, поют. Волчонка грубо стиснуло толпой. Но странным образом теперь ему хорошо в жарких объятьях. Толпа напирает. И уже разорваны полы его синей власяницы. Теперь ловкие руки сорвали платок, которым он обвязал себе шею. Он завязал этот платок после того, как серый, как тень, ублюдок Кяфир пытался его задушить. Следы от пальцев ублюдка остались на шее тёмными пятнами, он стеснялся, закрывал их. Теперь он увидел, как, уставившись на его шею, расширились, остановились синие зрачки.
Они были по-прежнему в чреве толпы — Волчонок и эти остановившиеся, расширившиеся синие зрачки, в которых он тонет. И ещё — пальцы тех проворных рук, что сорвали нашейный платок, они теперь осторожно и мягко касаются несчастных пятен. Толпа продолжает бешено нести Волчонка в своём потоке. Но Волчонку кажется, что поток застывает, как высыхающая глина. Пусть толпа песет его дальше, пусть уносит в вечность.
— Эй, человече, отчего у тебя тёмные знаки на шее?
— На моей шее знаки дэва.
Зачем говорит такое он? Неужели, чтобы заинтересовать собой синие девичьи глаза? Чтобы удержать на себе их внимание?..
— Семь ночей назад дэв задушил меня, бросил в арбу с нагруженными на неё сосудами для праха и так провёз в город. Но я вот ожил… А дальше будет ещё страшнее. Меня утопят в реке, загонят в воду и пустят в меня пори — гремучую стрелу, но я опять оживу…
Синие зрачки вскрикнули:
— Значит, ты не живой человек? Оживают только духи! Боже! Я встретилась с духом!
Но Она не отстранилась от Волчонка, — не отпрянула в испуге.
Она, напротив, сама тоже стала как летающий дух. И он увидел вплотную, прямо перед собой длинные и упругие, цвета хаданга, темно-коричневые, как кора молоденькой берёзки, вёсла, поднятые над двумя лодиями. Плывут лодии по озёрам и вдруг обернулись птицами. Летят на Волчонка две синие птицы, в небесную высь зазывают.
Так погиб от прекрасных глаз сильный отважный Волчонок. А Этукен могла его спасти, а не защитила. Не дала ему брони от прекрасных глаз, оказавшихся острее копья, от нежных рук, оказавшихся сильнее рук богатырских. Был храбрый, самостоятельный Зверь, Волчонок, а стал пленник. Ты замер, Волчонок. Смущенье толкает тебя отстраниться, загородиться ладонью от приблизившихся влажно дышащих губ? Ты можешь спастись! Признайся: ты не хочешь спасенья. Ты видишь яблоко, налитое яблоко, на котором отпечатался её укус, подобный клешням скорпиона, — ты знаешь из касыд так принято одаривать возлюбленного.
— Вот, возьми это яблоко, суфий! Ты знаешь его значенье!
Новый людской вал, накатившись, ударился в тот укрепившийся, сложившийся и оттого внутри самого себя как бы застывший поток, в котором несло Волчонка.
Удар новой волны размашист и силён, он перемешивает тела. Волчонок пугается, что навсегда Её потеряет, и он инстинктивно вытягивает вперёд обе руки, он крепко обхватил и, сберегая, прижимает к себе цветущую ветвь.
Ах, дурные боги! Теперь только вам будет молиться Облачённый во Власяницу (монах). Своего-то бога он оставил. Монах обнял девушку. Пала клятва бесплотному духу….
Толпа катит их обоих, и кажется монаху, что это, словно колесо арбы, покатилась его потерянная голова. «Как изменчив мир, — ты суетой зачат! Всегда и соблазнить, и обмануть ты рад…» Спешит, торопится, перебирая тысячью своих ног, зубастая ящерица-толпа, а в чреве се совращённый монах, — без бубнов весел, без воды напоён, без пищи вскормлен, без вина пьян… Волчонок ушёл из монастыря Дар Ал Илм в день, когда умер его учитель. Учитель признался Волчонку на своём смертном одре, что после того, как аллах на протяжении четверти века оберегал его от опасностей брака, судьбе его было угодно, чтобы он влюбился в описание одной девушки, которую никогда в жизни не видел. И страсть настолько заполнила его существование, что вера его почти заглохла.
Волчонок помнил это признание своего учителя. Но сам влюбился даже не в описание, а только в одни зрачки?! «Нет, кет! — спорит с собою Волчонок. — Я влюблён ещё в синий окаем вокруг зрачков, в длинные ресницы и налитое яблоко губ?!»
Бежит по берегу реки людской поток, а в нём монах. Обняли руки монаха тело Её, и превратились в крылья, и, как птицу, унесли прочь от собственного тела. «О, знайте, люди! Наврали хакамы, мудрецы из Академии, что Ляля-Весна отменилась, что весна не пришла. Вот я же поймал Её. Я крепко держу весну!».
— Ой, люди! Что же такое деется? Монахи на глазах всего честного народа девушек обнимают, а мы смотрим?!
— Позор! Что же после такого срама о нас, хазарах, в заморских странах болтать будут!..
— Люди! Убейте этого поганца! Не разрешайте монаху осквернять Весну!..
Толпа налетела на толпу. Как будто ветер забурлил воду и перемешал, одну волну с другой столкнул. Не удержал Волчонок в руках цветущую ветвь — отняла толпа у Волчонка девушку, которой он так и не увидел.
Кинулся Волчонок в одну сторону, в другую. Исчезла прекрасная. И другой голос, истошный, нахальный, пытающийся «завезти» толпу, теперь у него в ушах:
— Люди! Что же вы осквернившегося монаха отпускаете? Побейте его! Не бойтесь, люди, — я знаю его: не монах это вовсе, а преступник. Это он дэва на людей наускал. Хватай его! Бейте пособника дэва!.. Эй, Булан, муж мой верный! Ты-то что стоишь — не мстишь?! Убей монаха!.. И поганую девицу, что с монахом обнималась, убьём!.. Эй, где она?..
Волчонок выныривает из толпы, оборачивается. Змеинокудрая бойкая женщина опять указывает на него пальцем…
И сотни рук потянулись к Волчонку и Ляле-Весне. Ещё секунды назад эти руки были нежными и мягкими, крепкими и сильными, горячими и холодными, ласковыми и страстными, родными и близкими — руками доброй толпы. Теперь все они стали одинаково грубыми и чужими: погромными!.. Ещё никто не крикнул: «Кабары!» Ещё нет погромного огня, но уже летит искра. Как чёрное пламя, взметнулись волосы змеинокудрой юной красавицы.
— Бей монаха!
— Бей белокожую! Она испоганилась с монахом!..
Волчонок вырвался. Волчонок схватил девушку за руку, и они побежали. Кто первым догонит талая — зайца?.. Вот и начался гон. Толпе предложена отвлекающая жертва. Волчонок в сама Ляля-Весна стали зайцами. Заяц уводит толпу за собой. Только бы спасти ту девушку, у которой синие глаза как птицы.
Толпа бежит за талаем — зайцем. На краю острова, у самого наплавного моста, напротив юрты Арс Тархана одиноко стоит арба под синим покрывалом, — покрывалом прикрыты гробы. «Будь что будет! Они сами хотели этого ужаса!..» Волчонок никогда бы не опустился до того, чтобы пугать ужасом собственный народ. Но в зайце нет священной крови. Заяц свободен от чести рода и долга перед своим народом. Заяц юркнёт под синее покрывало. Вот сейчас, сейчас сорвут синее покрывало грубые чужие руки. Вот сейчас увидят хищные, возбуждённые гоном за зайцем глаза страшные гробы. И замрут в ужасе. Пусть ужас поразит потерявших разум. Ближе, ближе топот набегающей толпы, Волчонок и Ляля-Весна уже возле арбы с таботаями. Сорвано синее покрывало. Они остановились под защитой сосудов с прахом предков — Волчонок и Ляля-Весна. Крепка ли их защита?
Волчонок поворачивает голову. Пока злой, разъярённой гоном толпе ещё несколько десятков метров до своих жертв, Волчонок хочет окинуть взором весну. Хоть в последнюю секунду увидеть её всю. Какой явилась Ляля-Весна для него? Неужели в облике Воиславы?..
День пятнадцатый. «Легенда о Золотоволосой»
Было два сына у Ода (жёлтого Солнца) от Этукен (Земли-Воды, Золотистой Поверхности), и вырос первый сын вороным, как резвый конь, и избрал себе образом жизни «хаз» — кочевье, оттого назвавшись Хазаром; а второй вырос в отца, золотоволосым, и избрал образом жизни себе «руси», сиречь «плаванье», оттого назвавшись Русом. Издревле дружили эти два брата, как дружат боко (силачи). И, как всякие богатыри, часто и достойно мерялись силой. При этом в степи обычно побеждал хазар, а на воде побеждал рус.
А позже умудрило Кек Тенгри Синее Небо одного из рода железной Волчицы Ашины, входившего в народ Хазар, чтобы он пошёл и взял себе в абурин эме (самим взятую жену) женщину из народа Русов — прекраснейшую золотоволосую Тану Жемчужину. От той Таны получили сыны рода Ашины магическую силу — «Яда медекун» — умение вызывать дождь. Ведь жемчужины рождаются в воде.
С тех пор Вся Масса Народа хазар ставит над собой Каганами людей из рода Ашины.
А мужчины из рода Ашины влюбляются только в золотоволосых женщин. Каждому из них с детства снится Золотоволосая. Волосы у неё до пояса и перетянуты обручем златоковным, как у Итиль-Реки. В глазах у неё — синь воды, а ресницы цвета хаданга и напоминают поднятые вёсла гребцов. Когда Золотоволосая раскрывает свои оранжевые, как рябина, губы, то, будто лодии под белыми парусами, выплывают её крепкие белые зубы. Засмеётся она — и как зажурчит вода. А от нежной её кожи исходят будто лучи солнца.
День шестнадцатый. «Лосёнок в степи»
Булан ехал степью, волоча на аркане пленника и задабривая степь, чтобы не напустила волков, длинной льстивой песней.
Зима с летом сражались,
Смотрели друг на друга враждебными глазами.
Они сблизились, чтобы схватиться.
Заняв места друг против друга, они разъяряют себя.
Они стоят друг против друга,
Собираясь пускать стрелы.
Зима шепчет лету:
— У меня муж и копь становятся крепкими,
И болезни уменьшаются,
И укрепляется плоть.
Весь этот снег выпал зимою; благодаря ему растут хлеба.
Злые враги при мне стихают; они начинают шевелиться,
Лишь когда приходишь ты.
С тобой появляются скорпионы, мухи, комары, змеи.
Тысячи их, свои жала и хвосты подняв, при тебе бегают!
Отвечает на шёпот зимы лето:
— Пришёл холод и всё кругом охватил: он завидовал
Благодатному лету.
Снег, падая, стремился покрыть весь мир.
Тело, замёрзнув, зудело.
Скапливались грязь и глина.
Бедные и убогие от холода съёживались, их пальцы
Трескались и лишь от огня шевелились.
Задув, налетел ветер, похожий на буран.
Стуча зубами, народ укрывался в жилища.
Но что это? Чёрная туча издаёт гром!
Грохоча поднялась туча, с рёвом потекли потоки дождя.
Народ пребывает в изумлении: всё гремит и ревёт.
Туча пролила свой дождь — держит, натянув белую сеть.
Смывает с холмов снег.
Текут и ревут потоки. Снег и лёд — всё растаяло,
Потекли воды с гор.
Поднялись серые облака, они колышутся, как челны.
Все сухие впадины превратились в озёра,
Показались вершины гор, дыхание мира потеплело.
Разные цветы выстраиваются в ряд.
Взошла луна и окружилась ореолом.
Поднялись белые облака, они громоздятся друг на друга.
Разливаются и ревут воды.
Множество цветов распустилось из бутонов;
Долго лёжа под снегом, они мучались, —
Теперь, распускаясь, они обвивают друг друга.
А дождь шёл и сеялся.
Различные цветы сбросили одежды — раскрылись чехлы жемчужин:
Смешиваются сандал и мускус.
Красные и жёлтые цветы подпирают друг друга,
Пурпурные и зелёные травы сплетаются,
Они обвивают друг друга.
Человек этому удивляется.
Стрелой сверкнула молния.
Туман, поднявшись, заклубился.
Заржали жеребцы и кобылицы.
Взяв себе по косяку, жеребцы скачут.
Вершины и бугры зазеленели,
Сухую траву скрыла свежая.
Озёра наполнились водой,
Мычат коровы и быки.
Весна взбудоражила куланов,
Она собрала архаров и сайгаков,
Склонила их к летовке,
Те скачут, выстроившись рядами.
Бараны и козлы отделились от самок.
Дойное стадо соединилось,
Потекло молоко, козлята и ягнята смешиваются.
Скот выгуливается, поедает траву и тучнеет.
Люди садятся на сытых коней.
Жеребцы, радуясь, кусают друг друга.
Послушай, зима! От тебя бежит щегол,
У меня находит покой ласточка!
Сладко поёт соловей,
Самцы и самочки встречаются!..
Такую длинную песню поёт Булан. Он едет степью и, как положено по мудрому Тере (закону-обычаю), старательно пел ей. Ведь известно всем кочевникам, что степь — дитя Неба, а для дитяти, чтобы оно не забеспокоилось и не выкинуло какую-нибудь неожиданность, надо хорошенько петь убаюкивающую песню. Булан едет медленно: сберегает коня, потому что приходится Булану волочить ещё и пленника — своего тестя.
Недостойный тесть, набрался наглости. Подпоясался, вместо гордого степного ремня, позорной пеньковой верёвкой. На голову себе, вместо кривой степной шапки, кланяющейся ветру, надел эту свою высокую, как тузурке (кувшин), шапку, нарочно бросающую вызов всем ветрам! И в таком непотребном наряде бродил не по городу, а по кочевьям! Смущал народ проповедью, что все боги равны. Кощунствуя, говорил, что на самом деле боги вовсе не боги, а только разные пророки, которых единое для всех людей божество Айн (Ничто) посылает к народам. К каждому народу такого пророка, какой этому народу больше подходит.
Смущал народ Вениамин тем, что утверждал, что все люди вообще должны быть равны между собой, как равны пророки, и если люди сейчас друг над другом хотят властвовать, то только в силу своей нравственной испорченности, а не по божьей воле.
«Ну, бесстыжий тесть, до чего договорился! Как это хукерчин (пастух) может быть равным с Еки Терин (начальником)?! Да тогда же не будет никакого порядка! Тьфу! Плюнуть надо на тебя, «кувшина», — думает Булан. — Ух, все вы такие, с «кувшинами» на голове, наглые — и вот мало вам в городе места. Уже в степь нос свой суёте, нас поучаете… У-У, бузу хелнкету (люди чужой печени) ! Сделать бы из вас «красного голыша» — кнутом бы докрасна отстегать, чтобы в степь не повадно вам заходить было. Торгуйте по городам, ремеслом занимайтесь. А в степь, да ещё по кочевьям таким ходить не позволено!» — вот что держит в мыслях, злобясь, Булан, пока на языке у него длинная песня.
А Булан сейчас в трудном положении — мало, что его жена Серах — дочь этого самого бесстыжего старого наглеца, бузу хелнкету (чужой печени), которого ему сейчас приходится волочь на аркане. Серах сама оказалась наглой. Недостойно ведёт себя к рыжему Ише Иосифу, управителю, нанялась в служанки. Другие люди ниц лежат перед Судету (Покровительствуемым богами), а она свои волосы, как ветряная ночь, распустила, бёдрами поводит, Иосифу, какой он великий, словами красивыми лесть в уши льёт. Фу, как отец, такая же бесстыжая, — только бы словами играть! И платье своё жёлтое из цельного куска материи всё надевает. Зачем прямое платье надевает? Почему не в сборках? А потому, что не хочет скромной служанкой выглядеть. Выделиться хочет. И всё пугает, что к Фанхасу от мужа уйдёт. Мол, Гер Фанхас сказал, что лучше быть у богатого в рабынях-наложницах, чем у бедного в жёнах.
Совсем тоскливо стало Булану. И тут ему ударило в голову, что если Вениамин исчезнет, то некому ведь станет у него, Булана, вено за бесчестье дочери получать. Булан даже холодным потом покрылся. Обернулся назад:
— Слышишь, кувшин! А я ведь тебя сейчас убить могу, чтобы за Серах тебе не платить. Деньги на вено ты мне дал. А я их присвою. Только я так не сделаю, потому что не хочу на себя кровь сородича брать — ты ведь мне, как ни говори, всё-таки теперь сородич. Не настоящий, конечно, сородич, потому что дочь я твою обесчестил — до свадьбы взял, — меняется направление мыслей у Булава, — а тебе чидкюл — подарок представления для сватовства не дарил — и не подарю! И выкупа не заплатил. И не заплачу! А всё потому, что если я тебе чидкюл пошлю, то выйдет, что я с тобой, кувшином, породнюсь. А не хочу с кувшинами родниться. Я всех на аркане хочу таких волочить… Ты думаешь, я тебе не заплатил выкупа за жену, потому что у меня денег нет? — лукавит Булав и мотает головой. — Ничего подобного! У меня свой бог, а у тебя свой бог. Зачем нам родниться? Ты согласен, что мы ещё не породнились?
Булан, повысив голос, кричит на Вениамина, будто на нашкодившего пса:
— Я тебя спрашиваю, кувшин! Ты согласен, что ты мне ещё не родич? Или я тебя убью!
Булан хитрит. По закону степи именно родича убить нельзя. Но вдруг бы Вениамин промахнулся к сам от родства с Буланом сейчас по глупости отрёкся?!
— Ну, кувшин, ты согласен, что я тебе ещё не родственник? — ещё грознее крикнул Булан.
Однако старый «кувшин» на аркане по-прежнему волокся сзади, как мёртвое тело, в не издал в ответ ни звука.
Тесть Булана как язык проглотил с того самого момента, как увидел, что к нему, собравшему вокруг себя в кочевье целую кучу народа, пробивается, направо и налево хлеща плетьми, Арс Тархан со своим отрядом. Старый Вениамин не издал ни звука, когда его били, когда волокли за ноги в сторону от кочевья, когда прижигали пятки углём. Только молчал старый Вениамин в даже не закрывал лица от хлыста.
Арс Тархан отдал пленника новому своему Заводному — Булану, а сам с отрядом ускакал, явно рассчитывая на то, что родственник отпустит тестя (попутали Вениамина, а на расправу Аре Тархан при народе не решился). Но Вениамин опять ни слова не проронил, — не попросил при народе у зятя помилования.
Булан одобрительно подумал, что хоть и из «кувшинов» старик, но знает своё место, раз нашкодил, то отвечать готов и родича своего подводить не хочет. Понимает, что каждому положено своё и коли решил Арс Тархан своего нового подручного Булана испытать и пленника доверил именно ему в город отволочь, то, по крайней мере, пока Арс Тархан не отъехал, должен Булан приказ исполнять. Однако и позже старик не попросил о помиловании. И это уже злило Булана. Он-то ведь был хитрый и догадался, что Арс Тархан хочет, чтобы «сбежал» старик.
— Эй, старое вонючее мясо, — снова крикнул, обернувшись назад, Булан, — я тебе что ещё хочу сказать. Ты не думай, что я Тере — порядок нарушу и тебе бежать дам. Напрасно Арс Тархан удочку закидывает, на незнание мною закона надеется. Ты сбежишь, а мне за беглеца палок. Ишь хитрый какой у меня начальник. А я не хочу, чтобы меня из-за твоих проповедей били. Ты равенство проповедовал, пусть тебя и бьют…
«Привезу я Вениамина в город, не буду тестя отпускать», — решил. Булан и немного повеселел.
Но затем споткнулся на этой мысли, как конь, попавший копытом на камень. Как выкручиваться из непотребного положения, в которое он, Булан, будет поставлен, если в городе перед всем народом ему придётся проволочь своего тестя на аркане? Позору ведь не оберёшься, и, как позор смыть, неизвестно. Вот что выходит, когда связываешься с бузе хеликету (чужой печенью) !
Только что Булан веселился, теперь в блестевших глазах его встали слёзы. Уже с совсем испортившимся настроением ехал он дальше. Песню больше не пел.
Ехал и чувствовал Булан, как всё более набраживается в нём злость, словно пену от прокисшего кумыса ему кто в печень выцедил. Внезапно он повернулся, размотал чичуа (длинный хлыст), хорошенько размахнулся и смачно вытянул хлыстом своего тестя Вениамина. Волочившееся сзади тело дёрнулось. Старик глухо застонал. Булан удовлетворённо присвистнул и вытянул своего тестя хлыстом ещё раз.
— А-а стонешь, тузурке, кувшин! Вот тебе! Вот тебе ещё, поганый! Это тебе не дирхемы в меняльне считать, старый, вонючий кусок мяса! Во! Я бью всю твою ху-ар — породу, поганый кувшин! В тебе я бью весь твой дурной корень! Печени всех вас, кувшинов, я делаю сейчас больно…
Снова занеся хлыст, Булан замешкался: припомнил то, чего не хотелось припоминать, — что старик-то никогда не пересчитывал кучи монет в меняльне, что он-то как раз трудом своим, ремеслом кормился.
Однако Булан считал, что наказывает не старого Вениамина, а «кувшинную породу»: чтобы чувствовали те всё-таки разницу между собой (пришлыми!) и законными степняками.
О харан (свободные люди): рассудите Булана! Обычай Степи приучил его не мыслить свободного человека вне рода-племени. Здесь целое всегда отвечало за свою часть. Совершит свободный человек подлость — сразу объявляется подлым весь его многотысячный «дом». Платил весь «дом» своим позором, а то и полным искоренением. Не нашёл кто своего непосредственного оскорбителя — имел право получить виру за своё оскорбление с любого встречного из того же «дома», а коли по великости оскорбления нужна не вира, а кровь, то пролить и кровь встречного. Сколько было удивления у европейских купцов, когда на гузских дорогах их вдруг останавливал некий степняк и отбирал кое-что из товара. «За что? — кричит купец, — по какому праву?» — «А прошлой осенью тут тоже ваш купец проезжал, — так он мне как раз столько не доплатил. Я своё беру!»
Вот и Булан, войдя в раж, полосовал собственного несчастного тестя с каким-то молитвенным остервенением. Как будто возносил на шесте жертвенное мясо к Небу. Ещё бы! Ведь он обряд творил! Кувшинную печень наказывал.
— Отвечай, тузурке, кувшин, за свою породу! Не раб ведь? Свободный человек! Отвечай за всех своих!..
Войдя в исступление, Булан высунул кончик языка. Красным лоскутом болтался язык над торчавшим, как клык, зубом, и было похоже, что вдруг орогатился Лось, стал злым зверем. Булан бил старика изощрённо, ловко подтягивая длинный хлыст и стараясь, чтобы хлыст как можно громче щёлкал своим концом о спину жертвы.
Булан раньше всегда гордился, что длинный хлыст у него хлопает громче всех. Ах, если бы он этой зимой не потерял в снегопад шуисин конит (пайковых овец), — тех, что распределялись рыжим Ишей Иосифом Управителем в порядке кормовой повинности?! Не стали бы ни за что тогда сородичи отсылать его в коровьи пастухи — в хукерчины! Такого-то ловкого с хлыстом?! Однако совершил он глупость. Понимал сам, что хороший пастух не погонит овец в снегопад далеко в степь. Но в городе был голод, никто не хотел одолжить ему до лета ни кучки кока (сухой крошеной травы). Вот он и понадеялся, что Синее Небо сжалится и придержит в стойле, не выпустит гулять в степь буран…
Зверское исступление у Булана прошло, и он остановил руку с чичуа — кнутом. Тупо рассматривал он теперь «старый вонючий кусок мяса», на котором щедро выместил свою злобу.
После добротной обработки тело старика стало кроваво-красным и было всё в змеящихся полосах. «Кац волосы Серах, когда она их распускает!» — подумал Булан.
Вслух же (для степи!) Булан громко и гордо сказал, показывая кнутовищем на старика Вениамина:
— Чурама ничнкун — красный голыш!
Умение так избить человека (или раба) хлыстом, чтобы он превратился в красного голыша, весьма ценилось в степи и считалось одним из непременных способностей ловкого воина. Кто побогаче не жалели далее забить раба, чтобы хорошенько натренироваться.
— Чурама ничнкун! — осмотрев ещё раз старика Вениамина, удовлетворённо повторил Булан, как будто только что участвовал в состязании бойцов, наказывавших пленных, и вышел победителем.
Потом Булан старательно свернул чичуа и, тронув коня, гордо поехал дальше по степи.
Он ехал и думал, что вот негде ему теперь поддерживать своё умение обращаться с длинным хлыстом, потому что прибился он к арсиям, которые не держат стад. Пригорюнился от этого. Но потом согласился сам с собой, что служба у арсиев для него всё-таки удача. Хоть находится он на положении хукерчина (коровьего пастуха) в чужом роду, но коров, как раб или мальчишка, позоря себя, не пасёт, даже при оружии ездит, как свободный воин.
— У меня умная жена. Я кул, зависимый, но я свободен! — Булан это гордо выкрикнул, чтобы вся степь его услышала.
Он опять повеселел. Весенний ветер обдувал лицо. Степь мягко стелилась под копытами коня. Солончаковый участок кончился, и колючки сменились низкорослым темно-бурым золотарником, ещё не набравшим соков после зимы, но уже распрямившимся, расправившимся. Небо было ещё по-зимнему светлым, негустым, но в нём уже вилась тиал (стая птиц), и если бы не болтавшийся на аркане за конём «кувшин», то Булан сейчас не отказал бы себе в охотничьей радости подстрелить одну-другую певунью или разорить пару гнёзд а полакомиться яйцами — его рысьи глаза видели гнёзда в траве.
Он всё-таки притянул из-за спины лук и, приладив стрелу, пробовал целиться то в одну, то в другую птичку, как ребёнок, тешась забавой. Потом запел песню.
Булан кричал песню громко, а самому же ему стало думаться об отце. По обычаю Степи, выходило, тесть Вениамин, что сзади на аркане теперь, ему сейчас должен быть за отца. Собственный ведь отец у Булана сгинул. Ах, если бы Булан-старший отказался пойти гонцом от Всей Массы Народа за Урал через Ибир-Сибир на Алтай, то разве такими вот «чернокостными» были сейчас у Булана его обстоятельства?! И хороший чидкюл отец бы для сына справил, и жену бы сам, как положено, сыну высмотрел… Коли уж было соблазнять дочь «кувшина», то при живом отце-то, наверное, не у ничтожного ремесленника Вениамина, а у рахданита какого, может, самого Фанхаса. Может, тогда бы и сам торговлю открыл. Как Гер Фанхас!.. Фанхас-то ведь тоже из скотоводов, а вот разбогател и в веру полезную перешёл, теперь не скотом, а рабами до Багдада и Кордовы торгует!.. У-у, отец! Зачем пошёл стараться за всех, а родного сына забросил? У-у, теперь ведь какая у сына жизнь?! Серах ещё всё пристаёт! «Сделай, милый, себе полезное, перемени веру!» Но с кувшинной-то верой привольно в купцах, а в не в прислужниках. Или ремесленником, подобно тестю, становиться?.. В клееварню? Вонью пропахнешь! Нет уж!..
Булан ещё громче заорал песню и отпустил поводья. Конь легко пошёл сам ровно, мягко переступал через кочки дерезун (колючей травы).
Вот уж который год выигрывала дерезун свою битву в степи с прекрасной кунгаулсун (высокая травой жёлтой полынью), совсем ту притеснила. Но что делать, если Каган в силе ослаб, не помогает прекрасной кунгаулсун — не вызывает для неё добрые дожди?! Потерял божественную силу старый филин Каган Байгуш. Отец-то Булана оттого и пошёл на Алтай с наказом от плачущей Всей Массы Народа, чтобы свежую ветвь на престол взять — такую, чтобы к «Яда медекун» (вызывать дождь) была способна!
Конь споткнулся, и Булану пришлось оглянуться.
Тело пленника на аркане цепляло за колючую траву далеко сзади. Очень далеко сзади, потому что Булан схитрил: хоть и труднее стало коню, но распустил аркан на всю длину.
Зачем так поступил Булан? Боясь, что Степь вдруг не оценит его, не поймёт, он сам прервал песню и громко объясняет ей в песне:
— Слышишь, Степь, — поёт Булан, — поручил мне еки терин — начальник отволочь на аркане вонючего пленника, потому что среди его помощников я самый неразумный и ничтожный. Еки терин решил, что я вовсе не догадываюсь, что от «кувшинов» исходит по степи коангшиу — смрад. Но я хоть и не мусульманин, а, что по утрам мулла с мечети кричит, тоже прислушивался. Я хитрый! Так что про коангшиу я осведомлён. Потому я сразу понял, с чего это мне, а не другому, более надёжному воину Арс Тархан оставил пленника. Тут не мне, а суслику глупому и то было бы ясно, что захотел начальник своих сородичей от заразы поберечь — как бы они по неосторожности «кувшинным» смрадом не пропитались. А до Булана-младшего начальнику что? Булан — тьфу! Булан — не арсий? Булана чего оберегать?!… Однако не держи меня, Степь, за глупого. Не такой я! Меня, как куропатку слепую, не проведёшь. Я вон тоже нашёлся: от смрада подальше еду. И я не потащился за всем отрядом вдоль реки, я не спустился в низину, где застаивается воздух, а вот повернул в открытую степь, где гуляет хороший ветер, да ещё и аркан на всю длину я распустил. Ничего, что коню труднее. Я ведь и о коне думаю: чтобы конь тоже не надышался и не заразился от тузурке-кувшина смрадом…
Последний довод — о пользе коню — показался Булану уже совершенно неотразимым. Он даже крякнул от восхищения своей находчивостью. О харан (свободные люди), разве мы тоже не прячемся за выдумку про очередной смрад, когда совершаем что-нибудь непотребное?! Кто из нас не катается на предрассудках, как на покладистых ослах, которым можно удлинять или укорачивать делбеке (поводья) в зависимости от собственного хотенья?! Вот и Булан, — он, не задумываясь, убил бы на месте каждого, кто вздумал бы с намёком носом шмыгнуть возле Серах. Однако её отца он волочит на длинном аркане — якобы из-за смрада. Так ему удобнее.
Впрочем, если бы Булан сейчас вывернул наизнанку свою печень, то мы увидели бы некий серый уголёчек, от которого, по совести-то, и загорелся в нём весь сварливый костёр его мести «кувшинной породе». А засунула этот тлеющий уголёчек к нему в печень сама Серах, когда кляла отца своего, что невезучий тот иудей и по глупости к Фанхасу не пристроился; что, мол, другим иудеям от Неизречённого бога польза, а отец её и тут оплошал: «Не к жрецам льстится, а в общину караимов-еретиков затесался, и даже в проповедниках там у них. А эти караимы сплошь из одних бедняков — из вонючих клееваров… Грязь и смрад один, отщепенцы паршивые! Еретики! И чего только отец там нашёл!.. Ты бы, Булан, попугал отца-то моего, а то как бы из-за него нас с тобой от Белого храма не отлучили!» — прижималась к Булану Серах.
«Отлучили нас? Ишь какая прыткая! Говорит так, как будто я уже согласие на то, чтобы сделать себе полезное, дал, — Булан вспомнил ночные шепоты Серах и смачно плюнул в сторону. — Ну, это она ещё подождёт! Чтобы я, свободный человек, пошёл в Белый храм?! Пока ещё есть мои боги — Небо, Солнце, Земля и Река! Тесен моему духу Белый храм. Низок! Мне Небо — как полог! Трава в Степи — как ковёр! Солнце — как огонь в очаге! Я же вольный кочевник — воином вырос!.. А она?! В погреб меня тащит. Да я ей покажу!»
День семнадцатый. «Лосёнок против волков»
Лосёнок продолжал волочь по степи на аркане тестя. Снова, уже в который раз положив, на всякий случай, для Степи на язык весеннюю песню, он в мечтах занялся Серах — представил картинно, как он ей «покажет». Он распалялся. Но вышло в его картинках, что он не бьёт жену, а ласкает. Грубо и неистово. И такое желание Булана удваивалось тем, что был он сейчас хмельно сыт. Перед тем как отправить стражников во главе с Арс Тарханом по кочевьям ловить проповедника-еретика Вениамина, толстый Гер Фанхас, староста всех базаров и Белого храма, накормил всех стражников билеуром — остатками жертвенного мяса. За зиму, как и все в городе, подтянувшие животы стражники быстро почувствовали себя от мяса пьяными, как от выстоянного кумыса. А ведь ещё и кумыс был.. И кроме кормёжки, все стражники вместе с Арс Тарханом получили солунге (денежное жалованье), которое тоже Гер Фанхас выдавал от имени рахданитов — богатых купцов. При дележе солунге достался Булану хорошенький, совсем необрезанный серебряный дирхем. Выдавай жалованье сам Иосиф Управитель Богатством, то уж тот наверняка бы все монетки лично слегка пообстриг ножницами, собирая стружку себе в тигль. Но Гер Фанхас оказался щедрее. Булана же он приветил особо. «О смелый стражник! А я знаю твою жену Серах! Какая резвая женщина! И волосы как южная ночь! Верно, ты хороший наездник, раз такую оседлал! Я на тебя смотрю — думаю: ты вправду хороший наездник, мне ещё пригодишься!» — и он так ласково потрепал Булана ладонью, как жеребца по холке, что даже растаяло что-то внутри Булана и стали мокрыми его шея и уши, а губы онемели. Как будто ему достался кусок жира из накопленного необъятным Фанхасовым телом. Совсем растаял, размечтавшись: вдруг он будет служить у Фанхаса?..
Булана чуть не выбило из седла. Конь резко встал, потому что волочившееся на аркане тело пленника крепко зацепилось за колючую траву, и Булану пришлось дёргать аркан обеими руками, вытаскивая окровавленное тело Вениамина из колючих объятий.
Дерезун (колючая трава) никак не хотела отдавать Булану его «красного голыша». Появилась стая ворон, с карканьем вороны кружили низко-низко над окровавленным стариком, словно дожидаясь, когда он станет падалью и его тело можно будет беспрепятственно растерзать. Ворон слеталось всё больше и больше.
В этот момент конь под Буланом прянул ушами и рванул, едва не порвав аркан. Булан насторожился, стал внимательно оглядывать степь.
То, что Булан увидел, заставило его резко осадить коня и, замерев, крепко зажать под коленом тамарисковый кол. Страх, который теперь сковал его, был уже не от разыгравшегося воображения. Страх катился пыльным облачком на Лосёнка и имел вполне реальные очертания стаи степных волков.
— Коромут — немного времени! — произнёс про себя Булан. Как бы уже приказывая себе самому, тихо вслух повторил:
— Коромут, смелый, храбрый, отчаянный Булан! Немного времени возьми, воин.
А значило это: возьми себя в руки, подумай, подумай! вспомни, что у тебя есть мужская печень! и только не торопись — обдумай свои действия хорошенько!
Но о чём было думать? Каждый кочевник усваивал с детства, что можно только в безумии одному выходить в степь весной, когда серые хищники злобствуют после голодной зимы. Но однако уже второй раз Булан понадеялся на авось. В первый раз пронесло. А теперь, когда расплата пришла, в Булане остался только инстинкт. Такой, как у тех серых зверей, которые с облачком пыли накатывали на него.
Он собирался с духом, и он трезвел на глазах. Хотя медленно росшая борода даже теми двумя клоками, которые были положены лосям, ещё не пробилась на его круглом и гладком, совсем юношеском лице, однако успел он уже стать достаточно опытным пастухом, охотником и воином, чтобы понять, что даже в минуту смертельной опасности сначала лучше потерять немного времени, чтобы собраться с мыслями и холодным, несуетливым умом принять решение, а не мчаться галопом в первую же попавшуюся глупость.
Но время шло, а он только всё щупал и щупал рукой тамарисковый кол, зажатый под коленом. По тамарисковому колу обязаны были брать с собой, выезжая в открытую степь, все воины кочевников. Воткнули колья — и вот уже ограда вокруг лагеря, а при случае, когда сраженье доходило до рукопашной, кольями было удобно драться. Отбиваться от наседавших врагов. Но поможет ли сейчас кол?
Ему всё-таки пришлось пару раз сильно ущипнуть себя за ладони, чтобы ноги не цепенели.
Волки летели на Булана сбоку, убыстряя бег, всё ближе и ближе, извиваясь, будто йори (гремучие стрелы), серыми и чёрными спинами. Ещё не разбредшаяся на весеннюю любовь и, значит, голодная и беспощадная стая. Стая шла с севера; видимо, проделала немалый путь из своих мест, добираясь за добычей сюда, навстречу весне.
Булан чувствовал, как окаменела у него спина. Не уйти им с конём уже от стаи. Сейчас от всех троих — самого Булана, его коня и от Буланова тестя, злосчастного старика, которого они с конём столько протащили на аркане, — не останется ни косточки на помятом каракане, низкорослом темно-буром золотарнике.
Или всё-таки попытаться скакать к реке, спастись в воде?
Нет, опытный волчий вожак вои уже разворачивает стаю, отрезая добыче путь.
Булан ухмыльнулся, твёрдо и громко, чтобы слышала вся Степь, сказал: «Быстро же ты меня настигла, степная владычица Ашина-Волчица! А я-то ещё, неразумный, хорохорился. А ты наслала на меня обыкновенную никудышную стаю. Ха! Разве будет великая Волчица унижать своё достоинство до самоличной расправы с каким-то жалким Лосёнком?! Ты соблюдаешь своё положение, Волчица, и твоя, Серах, взяла. Не Рус я, не положено тебе взойти с прахом мужа на костёр. Детей-то у тебя нет. Обрадуешься, что вдовой стала. С вдовы какой спрос? К Иосифу жить переедешь! К Иосифу ночью проще бегать…»
Булан вынул из-под колена тамарисковый кол и положил кол на руку. Плюнул. Провели суетливого пастуха умные, сильные, богатые люди. Туда тебе, глупый, шальной Лосёнок, и дорога! Коли попал в хукерчины к чужому роду, надо было не зевать, смотреть в оба! А ведь теперь доложит Арс Тархан и на собрании Сильных Степи, и в Блуднице (духовной академии), что так, мол, и так, приказал я своему заводному Булану, родичу Вениамина, его зятю, доставить оскорблявшего Степь Вениамина в город на честный суд. Однако разгневанная Степь, видимо, сама решила расправу над Вениамином учинить, потому что волки Вениамина вместе с зятем Буланом разорвали. Вот как хитро Арс Тархан всем доложит.
Булан скривил лицо. Что же ему теперь делать? По обряду, ему надлежало попросить помощи у своего тотемного зверя — у Лосихи. Однако что. Лосиха, хоть и с ветвистыми рогами, против бродячей стаи волков?! Да и станет ли Лосиха защищать человека, отбившегося от своего рода, к другому прибившегося. Не унизится Лосиха, чтобы бодать волков из-за хукер чин а каких-то арсиев!
— А-а, всё ты, старый, смрадный кусок мяса! — громко набросился Булан на Вениамина. — Это из-за тебя дёрнуло меня тащиться через степь, хоть знал я, что ещё и снег не везде сошёл, и не все волки разбрелись из стай?! Это всё ты, треклятый старый кувшин. Я с тебя твою жалкую кожу содрал, так ты вздумал меня в отместку погубить. Это тебя, наслушавшись, забыл свою волчью спесь наследник Токг Тегин! О Ненгду Кутук — счастливый дух, при моих злосчастных обстоятельствах ты один помог бы мне, несчастному, но ты побоишься заразиться смрадом?! Теперь кувшин поганый хочет властителей Степи — прекрасных серых отважных волков всех хочет перезаразить!…
Булан ещё пытался схитрить: припугнуть волков заразой. Он считал такой свой ход само собой разумеющимся: раз Арс Тархан сумел перевести гнев Ашины-волчицы на своего приказного, то почему бы и ему, в свою очередь, не попытаться перевести её гнев на «кувшина»?!
А волки уже приблизились на расстояние полёта стрелы.
Булан поискал глазами вожака, снова упрятал под колено тамарисковый кол, взял лук и тщательно прицелился.
Однако тут же упрятал лук обратно за спину. Что зря тратить стрелу?! Раз от самого него ни косточки не останется, то пусть хоть его, Буланов, лук, как положено, люди, рыдая, со стрелами похоронят!
Булан помнил, что вожак у волков вовсе не обладает такой же священной силой, как Каган. Если враг убивает Кагана, то все его бойцы бросаются врассыпную. Но стая из-за гибели вожака не кинется врассыпную. А вот если чуть промажешь, не убьёшь вожака наповал, то умирать он, разъярённый, пойдёт на стрелявшего. И умирающего волка уж никакой тамарисковый кол не отгонит. Прочь стрелы — надеяться только на кол! Всё-таки в древнем воинском обычае Степи есть толк. Сколько раз Булан бранился на всех и вся, таща увесистый кол за собою! Но за частоколом из тамарисковых копий отбивался не однажды в степи при неожиданном набеге отряд стражников. «Послужи мне, тамарисковый кол, напоследок! Помоги мне умереть не как слабому коровьему пастуху, а как достойному своих предков и сыновей свободному воину», — помолился колу, как Небу, Булан.
Волки надвигались.
Лосёнок всё ещё разговаривал сам с собой. Обычно в степи почитались длинные песни и короткие речи. Булан даже и самого принца-наследника считал за домокчи (болтуна), потому что тот всё пытался долго объяснять, вместо того чтобы кратко приказывать. Однако сейчас Булан вдруг подумал, что, может быть, был не совсем прав к принцу: поболтать — неплохое средство, заговаривающее от страха.
А волки были уже совсем рядом. Булан уже ясно видел их вывалившиеся языки, с которых бело-серыми хлопьями, как талый снег, скатывалась пена; видел оскаленные пасти.
Волки уже почти достали старика. И только тогда Булан начал действовать.
Он оглушительно свистнул — так, будто звал своего верного пса, увлёкшегося разорением гнёзд и забывшего про службу при охотнике. На самом деле пса у Булана не было, ему нечем было бы прокормить пса, но он хотел внушить волкам, что действует не один.
А зубы переднего волка уже готовы были впиться в старика. И в этот миг Булан, будто вылавливая большую рыбу из воды, взялся за аркан и одним сильным махом подтянул к себе. Он вырвал «мясо» из-под самого носа вожака волков и, когда этот кусок мяса плюхался рядом с ним, разглядел удивлённо-благодарные глаза Вениамина, уже считавшего себя растерзанным волками. Однако старик напрасно удивился на Буланову помощь и благодарил. Булан не искал этой благодарности. Для него Вениамин сейчас был только вонючим куском мяса, не больше. Но Булан просто уже успел рассчитать, что попытка бросить волкам на поживу этот единственный имевшийся у него «кусок мяса», а самому, пока волки терзают «кувшина», ускакать выйдет пустой. Ускакать не удастся. Волков слишком много, а до спасительной реки слишком далеко, чтобы хилая жертва как-то попридержала стаю.
Булан решил уложить приманку рядом с собой: старик весь в крови, почти без кожи, и волки, естественно, будут кидаться на старика первого, а тем временем Булан надеялся хотя бы хорошенько отдубасить их тамарисковым колом. Победа, конечно, будет не велика, но когда Булан отлетит, то хоть будет ему что сказать праматери Лосихе на Откане (кладбище предков). Можно будет погордиться: мол, не сдался я Ашине-волчнце, а отстаивал твою, Лосиха, честь, тоже порядком сделал больно печени серых кулов — зависимых от Волчицы; а потому, мол, в ином мире зачисляй меня, Лосиха, не в безропотные хукерчины, а в каткулдукчи — свободные воины!
Булан сразу не подтащил «кувшина» к себе, а дожидался последнего момента не без уловки: хотел хоть немного сбить волков с хода, чтобы они не со всего разбегу налетели и не свалили сразу с коня, а немного сбились, поворачивай.
Теперь старик лежал у Булана под копытами коня. Булан быстро вытащил унувчи китукай — кривой нож для заточки стрел. Он собрался выпустить из старика немного свежей крови, чтобы приманка пахла острее, и затем отъехать чуть в сторону, как раз на длину тамарискового кола.
Старик, однако, не понял намерения Булана. Он вдруг зашевелился пошатываясь, поднялся и протянул руку к ножу — так, словно не сомневался, что Булан отдаёт ему нож для защиты от волков.
Булан ножа не отдал. А если он промахнётся тамарисковым колом и какой волк успеет в него самого вцепиться, то как тогда без ножа? Самому нож нужен!
Однако и пускать кровь из старика Булан уже не стал — засунул нож обратно себе за пояс.
Он едва успел шага на два отъехать от старика и обхватить тамарисковый кол ладонями покрепче, как молодой рослый волк, опередив стаю прыжков на десять, не то чтобы подлетел, а, как стрела, пущенная рукой боко — силача, врезался в «старое мясо».
От удара старик упал. Но и волк, сбив старика, тоже не удержался, с клочком стариковского тела в зубах покатился дальше по траве — серо-чёрным, как грязь, комком. Тамарисковый кол хрястнул по этому грязному комку, вминаясь, как в глину. Волк с переломленным хребтом даже не успел взвыть, жалуясь Ашине-Волчице и зовя на помощь товарищей. Сдох мгновенно.
Но тут же конь под Буланом вздыбился и едва не понёс. Лосёнку пришлось, усмиряя коня, вцепиться левой рукой в узду. Кол у него остался в правой руке. Однако, может быть, в волнении коня как раз и оказалась для него удача: уж не сама ли праматерь Лосиха, опекая потомка, спугнула вовремя коня. Вожак и ещё трое матёрых волков, державшихся за ним впритык, метились не на приманку — не на старое мясо, а в шею коня. И теперь все четверо промахнулись, пролетев под копытами коня и захватив только куски хеликебечи — набрюшника.
«Вот, а я ещё хотел поменять сегодня тебя потихоньку от Аре Тархана на отнятого коня, о моя Конгкор, жёлтая лошадь! — ласково подумал Булан. — Глупый я: полагал, что масть у тебя не годна для боевого коня. Я ведь взял тебя, Конгкор, лишь потому, что нельзя хукерчину ломаться: хорошо хоть жёлтую лошадь начальник выделил. А вот ты, Конгкор, какая прыткая! И не трусиха».
Два волка помоложе, бежавшие вслед за промахнувшейся первой четвёркой, растерялись, невольно сбавили ход и, получив от Булана по хребтам тамарисковым колом, тоже откатились. Эти успели немного поскулить, издыхая: ведь Булан бил их одной рукой.
Стая стала. Четыре промахнувшихся волка торопливо жевали доставшиеся им куски кожаной хеликебечи. Видно, очень вся стая была голодна.
Булан перевёл дух.
— Эй, кувшин, поднимайся! Молись своему Неизречённому богу. А ну, где твоя хуриер — молитва? — Лосёнок теперь понукал лежавшего у его ног старика, как пса. Своего пса! Он сам не мог понять: отчего он это делает? То ли от самодовольства, что отбил первое нападение серых «заводных» Волчицы? То ли от животного страха?
Страха в пылу подготовки к бою Лосёнок всё-таки не успел вкусить, как следует, от головы до пяток. Зато теперь в передышке он слышал, как стучат его зубы. Его печень свело. Ему надо было отвлечься, поговорить. Наверняка он сейчас разговаривал бы с верным псом, если бы пёс у него был. Но пса не было. И заговорил он, вместо пса, с «кувшином», который к тому же ещё считался его тестем.
— Молись, кувшин! — Лосёнок легонько ткнул старика тамарисковым колом и осклабился. Смех, однако, получился у Лосёнка каким-то деланным. Он думал: «Вот и решать мне Небо ничего не дало. Избавило меня от решения. Само Небо отводит от меня коангшиу, вонь. Я теперь уже никогда не буду нюхать смрада от дочки этого «тузурке», не задохнусь. Ах, как я всегда хотел от Серах задохнуться!..»
Булан хотел посмеяться над собой, но в горле встал ком. Любил он свою Серах.
Он замахнулся было, чтобы отвести душу на тесте. Но не ударил — рука была бессильной, слабой, рука не хотела бить.
— Видишь, я отбил у серых тварей время на молитву нам обоим!
Он так и сказал: «нам обоим!» Он сейчас думал о торексенах — своих законных сыновьях. Эх, не родятся уже никогда у него сыновья от Серах. А то бы, подумал Булан, бегали бы внуки вот к этому деду. Последнее бы от себя старик им отдавал. Добрый он всё-таки старик! Хоть и вот в положении старого, вонючего куска мяса… У-у кувшин! Сколько Булан из-за него стыда имеет?! Думаете, он, Булан, не понял, что мулла с мечети пару дней назад нарочно в сторону его, Булановой, юрты кричал про всякий смрад, идущий по степи от «кувшинов»? Был бы Вениамин, конечно, не еретик-проповедник, а с деньгами, то так бы мулла не закричал. Побоялся бы, лисица, что снесёт Иосиф минарет с его мечети за оскорбление чужих богов.
Булан потеребил старика:
— Кувшин! Слышишь? Я тебе говорю! Ты должен успеть сотворить молитву, прежде чем разорвут нас. Со второго нападения уж непременно нас разорвут. Серые твари дважды не промахиваются! Молись быстрее! Я вот и сам хорошенько бы помолился. Но думаю, Лосиха, моя праматерь, если и приходила мне помочь, то уже ушла из-за того, что возле меня пахнет твоим смрадом! Ты, кувшин, отпугнул своим смрадом мою заступницу, поэтому молись за нас хоть своему богу. И за меня своему богу помолись!
Зачем Булан вдруг приказал такое «кувшину»? Что это вдруг стал примазываться к Неизречённому богу этих смрадных тузурке? Неужели он так боялся волков?! Или он подумал, что таким хитрым образом оставляет для себя возможность там, в ином мире встретиться с Серах, змеинокудрой дочкой этого кувшина? Там, в ином мире все люди, известно, направляются за получением райских благ каждый по своим богам. А Лосёнок втайне уже хотел к чужому богу. Из-за Серах…
Старик чуть приподнялся и смотрел на Лосёнка. Ещё совсем недавно, когда Лосёнок, забыв, что перед ним его тесть, творил «красного голыша», равномерно щёлкал хлыстом, заживо обдирая кожу с Вениамина, в глазах старика было такое беззащитное удивление. Это будто однажды шёл по берегу, мимо стада, пригнанного на водопой, человек, а на него вдруг налетела ватага бездельников, истомившихся подпасков-малосмышленышей, и ни с того ни с сего начала над ним издеваться и бить его, как щенка.
Подростки так пытались выпить чужого животного страху, как пьянящего напитка. От этого напитка хмелели и в кураже кричали: «Вот какие мы сильные! Видите, как мы умеем бить!» Сейчас, сам испытывая животный страх, Лосёнок заглядывал в глаза поднявшемуся на локтях старику. Неужели старик обижался? Но за что?! Если Лосёнок избил старика, так ведь на вполне законном основании. Ведь не он же, Булан, попал на позволяющий унижать и бить аркан?
Лосёнок примирительно сказал:
— Однако не толчись зря, кувшин, — не мни степь попусту. Вставай-ка на колени… И хорошенько за меня помолись: это я ведь не дал тебя разорвать серым тварям — защитил!
Лосёнок усмехнулся. Как приятно, оказывается, произносить такое: «защитил!» Он вроде как уже и сам поверил в то, что защитил этот «старый, вонючий кусок мяса». А поверив, снисходительно пожурил себя: «Конечно, это отец моей Серах… Однако всё равно я глупость сделал, что «вонь» защищал… Глупый я, за доброту свою страдаю… Смотри, Неизречённый бог, видишь, какой я добрый к «кувшинам»?» Это был первый мосток, который Лосёнок кинул для своего пути к Неизречённому богу…
Старик встал на колени.
Однако, вместо того чтобы упереться лбом в землю, согласно обычаю молитвы своей веры, как ожидал Булан, Вениамин протянул к Булану руку:
— Дай лук!
— Вот те на! А я-то думал, что у тебя во рту уже давно обрубок?!
В степи был обычай, следуя которому, чтобы не выдать свой «дом», пленник сам откусывал себе язык и уже после этого не боялся пыток.
Булан осклабился. Вокруг них были волки. Волки должны были вот-вот снова напасть. Но Булан похохатывал. Ещё бы. На Откан (кладбище предков) к праматери Лосихе он теперь притащится с крепким пленным — не о каким-нибудь безъязыким. Он теперь сможет сказать Лосихе: «Смотри, великая Лосиха! Меня волки растерзали. Но я тоже волкам сдачи успел дать, и вот пленный у меня — ого-го. С языком! Чтобы привести такого к полному повиновению, много надо было иметь доблести. Уж теперь непременно делай меня, Лосиха, в ином мире каким-нибудь начальником!..»
Булан попробовал ещё хохотнуть и слегка ударил старика по спине тамарисковым колом — легонько ударил, только чтобы Лосиха, если она сейчас за ним смотрит, видела, что он, Булан, не давал потачки своему пленнику.
Между тем волки легли на брюхо и медленно подползали со всех сторон к Лосёнку, его жёлтой лошади и старику Вениамину. Неторопливо сжимали кольцо вокруг своей добычи.
Лосёнок выругался.
Волки ползли столь показно осторожно, будто боялись спугнуть добычу. Неужели серые твари принимали его за какого-нибудь ничтожного унена (хорька), способного юркнуть в нору?! Какой позор для воина!.. Булан вслух возмутился, громко выругался, а в его печени жалко стонало: «Ах, если бы ускользнуть сейчас в нору! Почему не роют люди себе нор?!»
Старик Вениамин потянулся к нему всем телом, протянул руки. Булан хмыкнул, ожидая мольбы о пощаде, но услышал:
— Добчиту кор!
Булан даже поперхнулся. «Добчиту кор» было именем боевого лука степняков. Выходило, что этот презренный «кувшин» прекрасно разбирается в оружии кочевников. Ничего себе кул (зависимый) сейчас у Булана оказался — даже лук держать в руках хочет! Ну, это уж слишком?! Владеть добчиту кор (боевым луком) считалось высшим искусством для каткаллукчи (воина). Умереть с таким луком в руках — нет большей чести!..
— Э-э, жалкое мясо! Из добчиту кор стреляют без промаха! Это не лук, чтобы как-нибудь одождить противника стрелами. Из добчиту кор стреляют метко! А метко стрелять — это тебе не дирхемы в меняльне пересчитывать. Тут другой глаз надо — не жадный, а зоркий!.. Тьфу на тебя, коангшиу! Смрад!.. Тухлое мясо!..
Булан вылил на Вениамина весь привычный набор ругательств, извергавшийся начальниками на него самого. Ругал старика он скорее уже в своё удовольствие. Вроде как ласкал ругательствами своего кула. Ругал и ждал, когда кул возмутится: «Ах, зять мой! Что ты меня попрекаешь меняльней? Ты же ходил в мой двор и отлично знаешь, что никакой меняльни у меня никогда не было. И что ты называешь меня «коангшиу»?! Ты же спишь с моей дочерью! Я понимаю: не нравятся людям рахданиты — купцы, которые, усевшись на деньги, высокомерно кряхтят, как на отхожем месте. Поэтому и стали говорить люди про рахданитов, что они воняют. Но я-то… Что ты меня всё за мою высокую шапку поносишь?! Я же не осуждаю твою шапку кривую!» — так должен был возмутиться скул». И, верный своим проповедям, Вениамин должен был бы добавить: «Перед богом все равны. Всем бог един, — а к людям только разных пророков он посылает — к кому кого надлежит направить по обстоятельствам…»
Хитёр Булан. «Умно я про меняльню упомянул, как будто она у старика была. Для «кувшинов» меняльня — признак положения. Вот сейчас в иной мир перейдём, так, может быть, Вениамину его бог, наконец, меняльню и выделит…» думал Булан. Он даже на мгновенье забыл про волков: так увлёкся меняльной на Небе.
А волки подползали и подползали. Уже ближние из них подтянули задние ноги, изготавливаясь к прыжку.
— Добчиту кор! Уилсосынкор! Ноорчак! — старик снова требовательно протянул худые руки. Он точно называл всё, что он хотел получить от Булана для военной стрельбы: лук с крышкой, берестяной колчан, боевую стрелу.
Булан старался не слушать старика. Он внимательно оценивал шкуры волков. Нет! Если бы далее ему и повезло, и он снял бы эти шкуры, то ими нельзя было бы застелить юрту. Его Серах намечталась о шкурах. Она говорит, что Ишу Иосифа Управителя в юрту пригласить нельзя, потому что шкур нет. Сразу увидит, что Булан и не воин, и не охотник. А тут сколько шкур. Но у всех какие-то свалявшиеся, и рёбра проступают. Плохие шкуры! Нельзя шкуры весной брать!
Старик тем временем под нос Булану стал совать свои ладони. «У меня крепкие руки. Не изнеженные!» — словно говорил Вениамин, показывая свои ладони изъеденные солью, с многочисленными шрамами.
— Чем хвастаешься? — зло отмахнулся Булан. — Руками человека без достоинства?.. Кто хвастается мозолями? — Он боялся, что бог тоже разглядит, какие рабочие ладони у Кула, и уж ни за что не выделит ему меняльню.
Волки же снова начали подползать. Видно, они теперь хотели занять позицию поудобнее, чтобы уж прыгать всем сразу, наверняка. И тогда у Лосёнка сдала его храбрая мужская печень. Он ухватился за соломинку. Ещё раз смачно сплюнув (должен же был он показать, что для него, каткулдукчи — воина и коренного степняка, «кувшин» всё равно останется «кувшином»?!). Булан всё-таки снял с себя лук и колчан и, не глядя, отвернувшись, — будто это не он, Булан, а кто-то другой докатился до такого позора, что отдаёт другому свой боевой лук, — передал своё оружие Вениамину. Он подумал вдруг, что там, на Небе, куда они сейчас отлетят, он скажет своей Серах, когда праматерь Лосиха пришлёт её к нему: «Я хорошо похоронил твоего отца. Лук ему в руки положил. Как воину!»
Старик «кувшин», оставаясь на коленях, тем временем сноровисто упёр концом в землю лук, твёрдо положил стрелу. Натянул тетиву. Теперь было впечатление, что этот Буланов «кул» и на коленях-то оказался лишь из-за того, что так ему удобнее стрелять из лука.
Волки замерли перед прыжком. Лосёнок крепче ухватил свой кол.
— Стреляй наверняка. А то раненые серые твари разорвут нас прежде, чем сами издохнут, — буркнул сквозь зубы Вениамину не потому, что надеялся, что «кулу» поможет совет, а потому, что всё-таки хотел уйти в иной мир, командуя.
Вениамин не ответил, Булан отметил, что, прицелившись, он немного сдвинул стрелу, сделав поправку на ветер.
Жёлтая лошадь под Буланом перестала дрожать и встала как вкопанная. Лошадь тоже чувствовала, что сейчас начнётся последнее волчье нападение.
Но волки не прыгнули.
Они вздыбили шерсть и подняли к небу морды.
— Ну, теперь ещё и слушать ваше пение придётся, серые. Пугать будете? — тревожно сказал вслух Лосёнок и на всякий случай взял покрепче каадар (узду). Он знал, что лошадь сейчас может струсить и понести. Правда, Конгкор хорошо показала себя при первом волчьем нападении. Жёлтая лошадь надеялась на своего хозяина и не попыталась самостоятельно спасаться бегством. Однако Булан помнил, что даже умело обученные кони не выдерживали волчьего могильного воя и, надеясь только на свои копыта, глупо бросались бежать прочь, порой даже проламывая тамарисковый частокол, нарочно выстроенный от волков воинами. Кони надеялись на быстроту своих копыт. А волкам что? Волкам только такого и надо было: в открытой степи волки косулю загоняют, а не то что какую-нибудь жёлтую лошадь.
— Эй, не пугайте! Я вижу, что вы сами, серые, струсили. Вот сейчас споёте песню своей Ашине, чтобы она вооружила вас мужеством! — громко рассудил вслух Булан и поймал себя на том, что говорит уже не только для волков, но и для Вениамина. Булан презирал себя за это (нашёл для кого говорить про мужество? — для кувшина!), однако он теперь не мог не приободрить тузурке, потому что раз уж дал ему свой лук, то как ни думай о тузурке, но стал тот вроде бы уже не только кулом — зависимым, но его, Булановым, Котонином Заводным, — его Охранником Спины. А это уже было доверие: за спину свою каждый человек больше всего боится!
Волки держали морды к небу, но всё ещё не выли. Видно, и у них тоже, как у каткулдукчи — бойцов, выдерживался порядок и никак не полагалось младшим подавать голос раньше старших и вожака.
Однако стая, настигшая Булана, явно давно не ела, и некоторые молодые волки даже только в предвкушении добычи уже скулили и облизывались.
Булан покосился на Вениамина. «А может быть, всё-таки изловчиться — бросить серым тварям этот старый, вонючий, никуда не годный кусок мяса, а самому довериться коню? Ведь бывает чудо: убегает быстрый конь. А Конгор — Жёлтая лошадь хорошо уже себя показала. Шибко бежать будет — себя ведь будет спасать! Понимающая лошадь! Что, если она успеет доскакать до реки?.. Да и волки, видать, измотанные, отощавшие. После первого нападения сникли — может, довольствуется их вожак старым мясом?..»
День восемнадцатый. «Вениамин — воин»
Волки держали морды к небу, но всё ещё не выли. Обложив Булана и Вениамина, они ждали голоса вожака. Булан потрепал Конгкор, верную лошадь, между ушей. Весь напрягся. Осталось только как-то бросить старика в кучу волков.
Но прорываться на Конгкор сквозь кольцо волкоз Булан всё-таки не решился…
Подал голос вожак. Наверное, он долго приходил в себя после того, как промахнулся. У волков ведь, хоть стая и прощает вожаку один промах, хоть не торопится, как у людей, сразу с удавкой на шею своему «Кагану», но порядки тоже строгие. Вон возле вожака уже и соперник встал рядом — волчище не меньше. Второго промаха только дождётся, и вожака — за горло!..
Как будто откуда-то снизу, с самой земли пошёл хриплый, душный вой вожака. И тут же, подхватывая песню старого волка и будто разводя её по высоким и низким голосам, как хор, завыла вся стая.
Конгкор под Буланом дёрнулась, но не понесла: крепкая рука Булана вовремя натянула узду и помогла лошади сдержаться после первого испуга. Конгкор чувствовала руку сильного каткулдукчи и надеялась на него, но круп лошади дрожал, как дрожит на ветру кунгаулсун — высокая трава жёлтая полынь.
Булан схватил тамарисковый кол за самый конец и начал размахивать им над головой, как плетью. Так он подбадривал себя, лошадь и своего «кула» Вениамина, стоявшего на коленях с упёртым в землю луком.
Кол был тяжёлый, но Булан всё продолжал им размахивать. Он вроде как угрожал волкам. Он не хотел, чтобы, припугнув добычу и взбодрив самих себя своим воем, серые разом кинулись со всех сторон. Показывая волкам кол, Булан надеялся, что и среди зверей, как среди людей, не без трусов и пройдох: найдутся, которые состорожничают и немного, совсем немного не поторопятся, за спины других прижмутся.
Вой волков взвился к синему небу и дрожал там на одной дребезжащей ноте. Вой держался там, в небе, и будто даже всё набирал высоту для того, чтобы коршуном упасть на головы своих жертв и совсем оглушить их, заставить жертвы сразу смириться с тем, что они — волчья пища.
— Эй, ей! А ты ел волчье мясо, «кувшин»? Или твой Неизречённый бог, подобно тому, как Аллах мусульманам запрещает свиное мясо, запрещает «кувшинам» есть волчье мясо?! — громко крикнул через вой Булан.
Крикнул, разумеется, не ради стариковского ответа: Булан прекрасно знал, что есть волчье мясо не запрещает ни один бог. Даже те, у кого тотем — Ашина-волчица тоже охотятся на волков (особенно на красных волков), показывая свою силу и ловкость. Волков много в степи, всем охотникам себя показать хватит! Так что отчего бы и этому старому «кувшину» где не попробовать волчьего мяса, раз вот видно, что он держал в руках лук, а может, когда и в походы со славным полководцем, тоже иудеем, Песахом ходил? Могло ведь вполне быть такое? Раньше, говорят, часто набирал Песах из иудеев—ремесленников вспомогательное войско. Это сейчас, при Иосифе Управителе перестал Песах вообще ходить в походы. Вспомнив про хитрого доблестного Песаха, Булан снова закричал свои громкие вопросы старику. Булан не рассчитывал на ответы. Волков он своими вопросами к старику всё пугал, — а больше уверял самого себя, что волков пугает. На самом деле, волки выли так, что всё равно никто бы ничего не расслышал. Но Лосёнку нужно было что-то кричать, чтобы волчий вой совсем не заполнил ему уши, чтобы самому держаться.
Вениамин в это время тщательно менял стрелу. Видимо, та, которую он поставил сначала, показалась старику всё-таки недостаточно прямой, или старик тоже искал, как себя успокоить?..
Внезапно вой оборвался.
«Сейчас пойдут», — успело мелькнуть в сжавшейся печени у Лосёнка, как-то вдруг уменьшившейся, толчками заколовшей. И Булан сразу увидел, как, подтянув задние лапы, медленно, напряжённо, весь собравшись в комок мускулов, приподнимается вожак, а за ним, словно по команде, подтягивают к головам задние лапы, готовясь к большому прыжку, все другие волки.
Булан круто развернул коня. Не ради лучшей позиции: волки ведь были со всех сторон. Булан просто хотел, чтобы Конгкор почувствовала свои мышцы. Может быть, Конгкор тогда успеет отпрянуть в сторону, как при первом волчьем нападении. Впрочем, Булан сомневался, что вожак теперь промахнётся — матёрые волки во второй раз никогда не промахиваются.
Вожак настолько подтянул задние лапы, что они были у него уже даже впереди головы. Чёрная лохматая голова вожака поднялась. Пасть раскрылась, приготовив клыки. Вот на передних лапах качнулись, отодвигаясь назад, чтобы раскачать тело, волчьи плечи. Вот уже качнулось назад и резко пошло вперёд всё волчье тело.
И тут завизжала иори (гремучая стрела). Она летела прямо в вожака, а вожак уже не был в силах остановиться и поднимал ей навстречу разинутую пасть.
Гремучая стрела истошно визжала, наводя ужас на других волков. А вожак поднимал и поднимал ей навстречу морду. Похоже, Вениамин поразительно точно выбрал момент для выстрела: когда мышцы вожака уже все сработали, уже делали прыжок.
Вожак встал на задние лапы и упал со стрелой в пасти. Его тело задёргалось, оставляя мокрый красный след на каракане — темно-буром золототарнике.
Только теперь Булан оценил, сколь смело сменил старик стрелу, рискнув поставить вместо обыкновенной, деревянной, пусть более медленную и менее меткую, но зато сильно пугающую, костяную, гремучую. Сам бы Булан стрелял только деревянной, устойчивой в полёте — побоялся бы промазать. Но Вениамин рассчитал, единственно правильно. Ведь даже убей он вожака обыкновенной стрелой, все волки всё равно бы уже не заметили её смертоносности и уже терзали сейчас добычу. А отвлечённые гремучей стрелой, другие волки на какое-то мгновение приостановились, растерялись, скосились на вожака и не поспели прыгнуть вместе с ним.
Теперь вожак издыхал, мучаясь, на глазах у всей стаи. Ещё две, уже меткие деревянные стрелы настигли кинувшихся к вожаку самку и молодого волка. Старик, как опытный каткулдукчи, быстро прикончил сразу же и «близких» вожака.
Волки уже не выли, они беспорядочно лаяли и как-то мялись, иные даже поджали хвосты.
— Одукийи — как бы не ушёл?! — радостно завопил Булан. То был клич уже не страшной войны, а весёлой охоты.
Он кричал, словно бы не за ним, Лосёнком, и не за его кровью пришли эти волки, а он сам, резвясь, хочет поохотиться на них:
— Одукийи!
Булан улюлюкал снова, и в ответ (тоже как на охоте?) услышал от старика короткую, как команда своему Заводному, подсказку:
— Догони!
Привыкший повиноваться начальникам, Булан дёрнул узду, посылая вперёд жёлтую лошадь. Та прыгнула с места (она была всё-таки очень прыгучей лошадью), Булан издал страшный крик (самый страшный, на какой только были способны его лёгкие!) и, не раздумывая, направил коня прямо в середину смешавшейся, сбивавшейся в кучу стаи.
Перед ним успели пролететь ещё две стрелы. Это Вениамин, расчищая дорогу Булану, уложил того большого матёрого волка, который намеревался сменить вожака и, взяв под себя стаю, кинуться в упор на Булана, и ранил молодого волка, попытавшегося броситься на Конгкор сзади.
Ещё три волка, оскалясь, попробовали откусить себе по куску от крупа лошади. Булан размозжил им головы колом. Конгкор мяла волков копытами. Булан бил тамарисковым колом по куче. Он действовал смело. У него был хороший Заводной. За спиной его (спасая!) ещё трижды пропели стрелы.
Теперь волки визжали, как нашкодившие собаки. Они бросились бежать.
Булан поскакал вслед за удиравшим остатком стан.
— Одукийи! — улюлюкал Булан, гоня волков, но, обещая вслух непременно их достать, незаметно сдерживал коня.
Потом, когда волки пропали из виду, он остановился, покричал с места, призывая злых дэвов воспользоваться трусостью «серых тварей» и расправиться с ними вконец. Погрозил он волкам ещё и духом Медведя. Почему бы и Медведю не полакомиться волчатиной? Ведь он, Булан, приготовил для великого Медведя хорошую пищу. «Бегите, волки, далеко-далеко, до лесу, — там вас ждёт косолапый хозяин. Скажите ему, что я послал вас ему в пищу!»
Булан потешался. Он не знал, чего бы ещё покричать.
Он повернул назад, только когда совсем охрип.
«Кувшин» был на том же месте. Старик, которому прижгли пятки и с которого Булан, жестоко развлекаясь, сдирал кожу, делая из него «красного голыша», по-прежнему стоял на коленях и на его луке лежала приготовленная стрела.
Рассмотрев стрелу, Булан было дёрнулся повернуть прочь. Но, измерив расстояние взглядом, с ужасом понял, что уже поздно, что он по своей нерасчётливости уже въехал в круг стрелы и теперь его жизнь, только что зависевшая от стаи волков, зависит от поганого «кувшина».
— Эй, добрый человек, возврати мне лук! Отдай добчиту кор — лук всё-таки мой, а не твой!.. — без всякой надежды жалобно крикнул Булан, уже не только боясь вслух называть Вениамина «кувшином», ко и не осмеливаясь даже панибратски назвать старика по имени.
Конгкор медленно подъезжала к старику, и по мере приближения печень Булана всё ближе перемещалась к пяткам. Он повернулся на коне боком, заслонил бок рукой.
Но «кувшин» спокойно отдал боевой лук.
На его месте Булан-то уж ни за что бы боевого лука не отдал, а пристрелил бы своего стражника. Булан крепко усвоил: когда хорошо стреляешь, надо не раздумывая стрелять. Почему стрелял, оправдаешься потом. А этот «кувшин»?! Серах права: совсем никудышный у Булана тесть! На что он всегда надеется?! «Кувшины» дают себя связать; не сопротивляются, когда их припугнёшь. Говорят: «Помоги нам бог!» И как бог поможет боязливому? Ах, Вениамин! Как же ты не понял, что твоя песенка спета. Обычаи Степи — вырывать дурную траву с корнем. Раз уж так получилось, что Арс Тархан не пожалел Волчонка-наследника, то кто же пожалеет его близких, «побратимов». Кто и когда в Степи оставлял семена, которые могут дать всходы мести? Никудышный у Булана тесть! Неразумный!
Булан сплюнул. Он сразу же забыл, что «кувшин» мог, а не застрелил его. Он решил: «Слабый тузурке, такого только и убивать!»
— Аул? — насмешливо процедил Лосёнок. «Аул (остался в живых)» теперь звучало у него на губах, как будто это было его, Лосёнка, временным старику одолжением.
Теперь он ещё больше запрезирал всех этих «тузурке-кувшинов», испускающих коангшиу (смрад). Вот какие они — сами они признают себя покорными, вонючими. Покорный и «вонючий» были равными оскорблениями в Степи.
— Аул, Кувшин! — Булан издевательски хохотал.
Старый Вениамин молчал. Видно было, что он еле держится даже на коленях, что он отдал бою с волками остаток своих сил. По красному, кровоточащему телу старика, по израненной коже, ободранной колючей травой, когда его волокли на аркане, обильно ползали, как мухи по падали, разбухшие от крови комары.
— Коангшиу, смрад! — всё ругался Булан. — Не хочу смотреть на тебя, старый, вонючий кусок мяса! Дрянь!
Бениамин молчал.
Кончился бой, и старик снова будто замкнулся в себе, будто теперь снова он вовсе не понимал языка степи — во всяком случае, языка Лосёнка: он был безучастен к такой степи — злорадной, жестокой к достоинству пленников и видящей средство к собственному утверждению лишь в унижении, оскорблении, издевательстве над другими. Или, может быть, это, как блевота, выхлёстывало, выливалось наружу из подобных «хукерчинов» собственное их постоянное скотство, раболепие, самоунижение?!
Вениамин брезгливо отвернулся от Булана. Но Булан слез с коня и подошёл к Вениамину. Силой пригнул к себе в унизительном поклоне. Поставил ногу ему на шею. Нацелился из лука в спину. Так, прошивая стрелой насквозь, самолично не раз на глазах у Булана расправлялся очередной еки терин (начальник) со своим нашкодившим строптивым кулом (зависимым). Булан сам теперь хотел пережить это ощущение.
Тетива была очень тугой и не поддавалась. То ли устала рука от кола, то ли кто-то незримый мешал сейчас Булану натянуть её?
Уж не бог ли этого «кувшина», никогда не называемый по имени, Неизречённый бог?! Булан смог бы, конечно, натянуть тетиву через силу. Но вспомнил, как Арс Тархан поучительно рассказывал стражникам про то, что Каган Байгуш-филин (когда ещё был помоложе и в силе) однажды во время боя потерял коня, и он, Арс Тархан, спасая Кагана, отдал ему своего. Но, торопясь, Арс Тархан подсадил божественного Кагана рукой, не обёрнутой в тряпку. За это оскорбление Филин приказал запрячь Арс Тархана, как осла, в повозку и бить до беспамятства палками. Вот какой был Филин высокомерный! Сразу видно, истинно Небом рождённым был начальник у Арс Тархана! Оттого и стал Арс Тархан мудрым воином. Булан подумал, что надо бы и ему, прежде чем убивать, и старика тузурке вот так же запрячь, Вениамина — своего «кула», в повозку, как осла, и до беспамятства побить палками за то, что он посмел попользоваться его, Булановым, боевым луком… Вот бы посмотрели боги, как Булан умело воспитывает своего куда.
Лосёнок пихнул Вениамина ногой. Старик упал на спину. Лосёнок стоял над ним гордый. Победил стаю волков — вот какой Лосёнок великий каткулдукчи (воин)!.. Он упивался своим высокомерием и не знал, как бы ещё громче (чтобы всем тварям в степи было издалека видно!) выхвалиться?!
Во время боя с волками у Лосёнка всё спеклось во рту. Теперь слюна вернулась, и Лосёнку доставило гордое и высокомерное удовольствие несколько раз плюнуть в лицо старику:
— Жалкий! Ничтожный! Никудышный! Простоволосый! Тьфу, простоволосый!..
Лосёнок геройствовал подобно тому, как какой-нибудь пятилетний несмышлёныш в длиннорукавном отцовском халате мучает слепого щенка, воображая себя всевластным хозяином.
Лосёнок ещё долго пинал ногами «смрадного кувшина». Наконец ноги Булана устали, и он, взяв коня за узду, сел на траву возле конской морды.
Но мышцы ныли, сидеть было неудобно, узда мешала. Булан бросил кадар (узду). Потом, не обращая внимания на «кувшина», бросил в сторону лук со стрелами. Он даже не измерил взглядом, кто первый дотянется до лука: он или «кувшин»?
Булан лёг на спину и стал смотреть в небо. Мешали комары. Булан встал и развернул коня — так, чтобы жёлтая лошадь обмахивала ему, лежащему, хвостом лицо.
Было тихо. В небе по-прежнему, будто и не было здесь только что битвы с волками, и не раздавался вой, и не свистели стрелы, вилась тиал — разномастная стая птиц.
— А ты, кувшин, — судсутай! — полежав и посмотрев на небо, сказал Булан. — Ты — судсутай — имеющий печень! Мужественный, смелый. Не будь ты из «кувшинов», я хотел бы спать с тобой под одним одеялом — так, чтобы ты стал моим побратимом.
Старик молчал.
— Е теля — согласен? — Булан громко рассмеялся. Ему стало очень весело от странной мысли, что он, потомок Лосихи, сначала чуть не стал законным родственником этого «кувшина». Хорошо ещё, что так получилось, что не пришлось ему награждать старика подарками за Серах, а удалось её захватить (теперь Булан уже твёрдо решил для себя, что он захватил Серах!). Однако теперь должен Булан по установлениям Степи признать помощника в бою своим побратимом…
Булан засмеялся искренне и звонко. Может быть, в этом смехе из него наконец-то выходил страх, который он только что пережил?! Черны пасмы, потные и свалявшиеся, закрывали круглое, не имевшее ещё ни одного клочка бороды лицо; из широко раскрытого рта красным лоскутом вывалился над косым, как клык, зубом мокрый язык. Булан был очень похож в своём смехе на обрадованно блеющего лосёнка, к которому вернулась в лощину пропавшая мать.
К Булану и в самом деле вернулась мать. Не из детства. Ту он не помнил. Та только родила его и, трудно рожая, стала бесплодной. После чего строгий Лось-старший прогнал её из своей юрты, не пожелав зря бесплодную кормить. Но у Лосёнка оставалась всегда его «большая мать», Этукен — Земля-Вода, Золотистая Поверхность. Сейчас Лосёнок смотрел в небо на вившуюся тиал, и небо было таким синим, а солнечные лучи такими золотыми, а птицы такими близкими, что у Лосёнка потеплело в печени. Выходило, что сама великая Этукен вот не захотела расставаться с Лосёнком, своим сыном, не передала его в иной мир! Сейчас Этукен была вокруг Булана и под ним. Он ощущал всею своею плотью её плоть.
Он потрогал землю:
— Мараа — плоть!..
Он стал представлять себе Этукен (Золотистую Поверхность) и удивился, как она змеинокудра… Он лежал на спине, смотрел в небо, а рядом с собой внезапно почти осязаемо ощутил женщину. Он даже погладил её (землю?) рукой и стыдливо отдёрнул руку.
— Слушай, Вениамин! А твоя дочка Серах мягкая… Она на Управителя Иосифа постыдно ласково смотрела. Но ты не думай — я твою дочку всё равно не брошу. Я понимаю, что мне другую жену не завоевать. Не ходит ведь наш полководец Песах в походы. И ещё понимаю, что кожу Иша Иосиф с меня сдерёт, если только ему твоя Серах на меня чуть пожалуется; это уж — как положено! Нет, я, хоть ты, мой тесть, с дурными разговорами по кочевьям ходил и совсем испоганился, всё-таки твою дочь тебе не верну. Я её за абурин эме почитаю — за «самим в бою насильно взятую жену». Кто же абурин эме бросает, ежели даже она на управителя ласково поглядывает… А меня вон тоже сам Гер Фанхас ласково по шее потрепал… Как весной кобылицы жеребчиков треплют!.. Очень ласково потрепал…
Вениамин молчал. Лосёнок приподнялся на локтях. Подполз к старику, заглянул ему в тёмные, ушедшие в небо глаза.
— Ну, чего дрожишь? — старик не дрожал, он лежал тихо и спокойно, но Лосёнку хотелось, чтобы он дрожал. — Не дрожи! Я твоей дочери не расскажу, как ты испоганился. А хочешь: ей скажу, что ты ловкий, сильный — с луком в руках умер. Ты же ведь всё равно помрёшь. Наверное, прибьют тебя гвоздями к дыбе в городе или кожу сдерут. Только как бы дочка тебя во время казни не увидела?! Жалко ей тебя будет… А на рынок продавать тебя уже не поведут… Арс Тархан сказал: никто за такого, как ты, невольника деньги бросать не станет! Тебя для острастки другим на дыбу поместят.
Старик по-прежнему лежал с глазами, ушедшими в небо.
— Слушай, а удачно, что ты — отец моей жены. Брататься мне с тобой вроде уже и не надо — мы и так родственники! А то бы пришлось… После такого боя как бы иначе? — Лосёнок помолчал, что-то решая. Потом сказал убеждённо: — А знаешь: коангшиу — смрада от тебя нет!.. Это я, потомок Лосихи, тебе говорю. Ты хороший каткулдукчи — воин. Врал мулла про смрад от «кувшинов». Смуту сеял…
Старик молчал, и Булан обиделся. Он даже совсем по-детски надул губы.
— Слушай, пленный! Ведь это я тащу тебя на аркане, а не ты меня?! Как смеешь ты мне не отвечать?! Ты ведёшь себя не так, как в твоём положении установлениями положено?!
Старик не ответил. Он по-прежнему смотрел глазами, ушедшими в небо. И до Булана дошло, что отец Серах с ним высокомерен. Горд и презрителен! Вдруг выяснялось, что этот старик «кувшин», хоть и сбили с него недруги высокую шапку, но остался при высокой шапке. Может быть, потому что всегда оставался немного ребёнком — с главами наивными и доверчивыми? С такими глазами всегда счастлив человек на мир смотреть. Птицы поют — ему уже хорошо. Мышка по полю побежала — у него на глазах слёзы. Ему всегда хорошо, Однако каково такого никудышного, невзрослого человека иметь рядом его близким? Родным то его каково с таким?! Недаром Серах на отца всё жалуется, неприспособленным его называет, неумельцем. Другие люди живут, низко согнувшись, — несут свою ношу, а этот будто всегда где-то там, в выси — при боге. Живёт на земле безмятежно, как на небе. Оттого и пятки ему что прижигай, что не прижигай, кожу с него что сдирай, что не сдирай — тело-то у души только для неба?! Он всегда чистенький! Вон сколько его били, сколько по берегу да потом я его по степи нещадно волочил, — он вовсе и не грязный, он даже вроде как в крови обмытый, а всё равно чистый… Грязью-то не залепленный!
Булан содрогнулся. Он пополз прочь, дальше от Вениамина, как будто полз прочь от тени своего отца — страшной тени, явившейся, чтобы сыну напомнить о чести. Но зачем напомнить?
Он отполз от старика и заплакал.
Они долго лежали, и оба смотрели в небо ушедшими глазами — благородный старик и его молоденький родственник.
А высоко в небе пел кайракана (жаворонок). Кайракана пел Земле-Воде и Солнцу, пел Лосёнку, его лошади Конгкор и старику Вениамину. Кайракана был общий (совсем как общий бог, про которого проповедовал старик!) и не разделял мир на «свою» и «чужую» печени, Кайракана пел всем. У лосёнка был чуткий слух степняка, и он услышал ещё и то, что все подпевают кайракане — вся степь!
Нечуткому уху могло бы показаться, что это были лишь шорохи: неряшливый — унена (хорька), тонкий, будто острый — кучулина (мышонка), присвистывающий — кучукура (злой степной крысы). Но Лосёнок-то знал, что на самом деле все они — и хорёк, и мышонок, и крыса — тоже пели: каждый на своём языке. И борчин гоно (дикие утки), когда с каким-то прихлопыванием, будто кто гнал их хлыстом по небу, прошли клином высоко-высоко, — они тоже пели. Присоединились к общему хору и пропели всем от себя, что летят из дальних краёв, возвращаются, как положено, весной на Родину и очень радуются встрече со Степью.
Песня степи оборвалась, только когда возник мягкий, обволакивающий свист. Это туринтай (самец хищной птицы) погнался за утками. Не догнал. Но песню испортил.
— Испортил песню туринтай, — сказал вслух Булан.
Теперь наступила тишина. Чуть слышна была лишь мелкая-мелкая дробь: будто кто-то бил по кожаному барабану одними подушечками пальцев. Мягко-мягко. Так всегда стучали, стукаясь друг о друга на слабом ветру, метёлки кунгаулсун — высокой травы жёлтой полыни. Казалось, что и они тоже подпевали кайракане. И Лосёнок вдруг обозлился на кайракану, как будто кайракана лично ему чем-то досадил.
Лосёнок резко поднялся с земли. Пнул ногой Вениамина:
— Вставай, вонючий кувшин! Ты что? Уж не молишься ли кайракане?
И вдруг опомнился, осёкся:
— Прости меня, почтенный Вениамин! Прости, я поступил неразумно: я не хотел, я не хотел прерывать твоей молитвы.
Лосёнок сначала пнул, а только потом заметил, что Тузурке-то уже не разлеживает на спине с глазами в небо, а с богом своим похоже что разговаривает. С богом же (пусть даже чужим) Лосёнок связываться не хотел: люди — это люди, а боги — это боги! Что там меж ними — кто знает? Во всяком случае, любой бог выше человека. Бог — еки терин (начальник) любому человеку…
Лосёнок дал старику домолиться и только уже после этого перевернул ногой старика, чтобы поудобнее накинуть и затянуть аркан на туловище «кувшина». Старик отрешённо, будто ребёнок, которого пеленают, подставлял под аркан руки.
Лосёнок влез на лошадь, привязал к седлу конец аркана и медленно поехал степью, волоча за собой «кусок старого, вонючего мяса».
Навстречу Лосёнку послушно-приветливо кивали головками стебельки кунгаулсун, и Лосёнок думал о том, что уже в соку весна и через два-три дня весь Еке Аурук (Великий Стан), по обычаю, снимется с зимника и войдёт в обход своих владений. Был Город-на-Реке — и не будет города. Разберут даже тамарисковый частокол вокруг него, и исчезнут городские ворота. Останутся каменные дворцы Иши Иосифа Управителя (на острове с белой башней) и свободный, пустой пока дворец, выстроенный для главной жены его, хатун, на высоком правом берегу. Останутся Белый храм, мечеть со снесённым минаретом, деревянная церковь, кое-какие деревянные дома. А все юрты — и малые, и большие, и парадные, я, богатые, и бедные! — снимутся и пойдут кочевать следом за Еке Аурук. Останутся в городе иные торговцы, а иные из них тоже поедут с товарами за Великим Станом — торговать по кочевьям. Останутся те из рыбаков, кто живёт только ловом, да виноградари.
Будет торжественным этот выход города в Степь, Впереди в каратаи тёрке (закрытом возке) будут везти Кагана или, может быть, будут делать вид, что везут Кагана. Потому что за всё кочевое время Кагана всё равно никто не увидит. За возком Кагана на почтительном расстоянии поедут рыжий Иосиф Управитель и всякие еки терин (начальники). За начальниками — приказные и свободные люди. А ещё дальше — хукерчины, вроде Булана, погонят стада. И так будут все идти и идти до зимы — осмотрят виноградники вдоль реки, потом будут кочевать все только степью, откармливая стада, собирая дань и утверждая порядок среди подвластных племён.
«А меня, наверное, Арс Тархан оставит в городе? — вдруг подумал Булан: — Кто-то должен будет охранять пустующие дворцы, пока Управитель Иосиф на кочевье?.. Арс Тархан не без намёка ведь уже бранился, что у Булана нету своей собственной кошилик—походной палатки. Ах, как на кочевье можно было бы откормиться, если оказаться при стаде баранов! А если суметь дать взятку, когда будут распределять пастухов, то, пожалуй, можно было бы даже стать настоящим (не тощим!) мужчиной. Ирке — баран-четырёхлетка, лилилкун—двухлеток, ясак—годовалый барашек — ах какие лакомства достаются умелому на кочевье!..»
Лошадь медленно шла степью и терпеливо волочила за собой старика. Конец аркана, привязанный к худесу (ремню, которым закрепляют боковые доски седла), узлом тёр лошади спину, но она не брыкалась.
Булан запел. Ведь, может быть, оттого и напали на него волки, что он не пел, как следует.
Теперь Лосёнок с удовольствием пел о том, что видел. О травах: ноненя и дурнушник, чернобыльник и кумарчик, песчаный овёс — все проснулись после зимы, все наливались соками, ждали стад, приговаривая: «Придите, поешьте нас!» И о тварях. Острый глаз Лосёнка замечал среди трав желтобрюхого полоза и ящерную змею, гадюку и удавчика. Он видел черепаху. А когда присматривался, то различал тарантула, фалангу и скорпиона — все они тоже проснулись и каждый тоже воевал за своё место в степи. Каждый говорил: «Берите пример с нас. Вот мы как хорошо устроились!» Иногда по пробивающейся траве скользили тени, и Лосёнку даже не надо было поднимать глаз, чтобы опознать чёрного коршуна или чеглока-сокола, ястреба, сарыча или орла. Когда на пути стали попадаться дрофы и цапли и кликуны-лебеди прошли совсем низко над Буланом, он понял, что река с тростниковыми зарослями уже где-то совсем рядом и вот-вот она чёрно блеснёт впереди, у самого края синего неба.
Но увидел Лосёнок не реку, а сначала белую башню на дворце Иосифа Управителя. В другой раз Булан бы обрадовался, возгордился собой, что не промахнулся, а точно выбрал в степи направление. Однако сейчас, чувствуя себя после своей победы в степи чрезмеру смелым, он громко выругался:
— Коангшиу!
Ему казалось, что он теперь под защитой степи, и он дал волю тому внутреннему неприятию города (и белой башни, как его олицетворения), какое он всегда носил в себе, но прежде, зная, что кормится от города (и от башни!), никогда бы не посмел вот так открыто выразить.
— Коангшиу! Это ты, белая башня, виновата в несчастьях Коня. Зачем людям класть друг на друга камни, когда удобнее раскинуть алачук — шатёр? Если у кого много добра, то пусть делает себе шатёр из крепкого шишкая—юртового войлока, не боящегося дождей. Не промокнет добро! А если кому хочется показать, как он богат, то пусть украсит тоургу—юбку шатра! Или некоторые уже думают, что у них так много добра, что его не увезти на возках?! Поганый город! Тьфу! Караван-сарай! Тьфу!
Лосёнку всегда представлялось, что город — это что-то вроде большого караван-сарая, придуманного купцами только ради постоянных остановок. В городе власть у купцов—рахданитов. Рахданиты означает «знающие пу-тн», и, конечно, они знают пути, они много в пути: везут туда, везут отсюда, но где-то им нужно иногда останавливаться, чтобы покормить отощавших верблюдов и произвести торг… Вот они и завели поганый город.
Лосёнок подумал о том, как было бы хорошо, если бы рахданиты однажды снялись и все ушли караваном дальше, — вверх по реке, к Русам, или по морю, к Арабам?
«Однако, — Лосёнок спохватился, — он-то, Лосёнок, куда же тогда денется?.. Он-то уже с ними?! Ему-то ведь без купцов не прокормиться?» Больше Лосёнок уже не бранил ни караван-сарай, ни город.
Конгкор, жёлтая лошадь, вдруг начала спотыкаться и захромала.. До городских ворот осталось меньше полёта стрелы.
Лосёнок слез с коня, взял его под уздцы. Так они вместе проковыляли несколько шагов. Потом Конгкор вовсе встала.
Лосёнок раскинул мозгами: «Уж не яарин ли мне? Не знамение ли?» Выходило, что екес (предки) подавали ему достаточно прозрачный знак, чтобы не входил он в городские ворота в таком виде — с таким конём? в такой одежде? с таким пленником?!
Лосёнок заволновался. Знака от предков ом, пожалуй, только и ждал, чтобы подтвердить свои собственные опасения. Не было бы этого знака, он, наверное, ухватился бы за какой-то другой. Если сам понимаешь, что втаскивать в город пленника, про которого еки терин (начальник) решил, что лучше было бы, чтобы тот исчез, неразумно и опасно, — то знак богов всегда найдётся.
Лосёнок потянул за аркан, подтащил к себе старое, тухлое, вонючее мясо. Процедил:
— Слушай, Кувшин. Конь спотыкается, в город не хочет тебя волочь. Садись на корточки, подставляй спину.
Это значило на языке степи: «Я должен тебя расстрелять, старик».
Вениамин понял. Но в отрешённом, уже словно отлетевшем лице его не дрогнул ни один мускул. Он спокойно встал, выпрямился во весь рост, — как пожелтевшая камышина под ветром, длинное, сухое, покачивалось из стороны в сторону его тело.
Лосёнок взял лук и стрелу. Повторил:
— Садись на корточки, старик, подставляй спину.
Тот повернулся спиной, — медленно, прилаживаясь, словно ища последнюю удобную позу в жизни, присел.
Лосёнок натянул тетиву, упёр стрелу концом старику прямо против печени… Что-то всё-таки было не так. Лосёнок понял: старик не просит пощады.
Став стражником, Булан в последние дни уже успел поучаствовать в расправах над несколькими купеческими караванами, пытавшимися, — зная, что в городе голод, — провозить хлеб. И Лосёнок уже привык спускать тетиву под жалобные крики о помощи.
Вениамин же молчал.
Лосёнок опустил лук. Выругался.
— Ишь ты какой строптивый. Ты что, меня презираешь? Почему, как у господина, пощады не просишь?
Со стороны города донеслись звуки била. Видно, что-то случилось. Собирали народ. Может, убитого нашли, а дознание судья будет проводить. Булана кольнуло в бок: «А ведь нехорошо, если останки Вениамина со стрелой в спине найдут рядом с городом. Судья может народ для дознания об убийце собрать. Арс Тархан с Иосифом-управителем тогда сразу судье Булана выдадут. Не убийца, а нож ведь всегда виноват».
Булан опустил лук. Его вовсе не прельщало платить виру за убийство, а то и на дыбе самому быть вздёрнутым. Это уж как судья дело повернёт.
Булан зло процедил: «Ах, лучше бы тебя, поганый «кувшин», растерзали волки» — и отвернулся от Вениамина.
Стал думать, насколько была права Серах, когда поносила своего отца за то, что Вениамин не предприимчив. «Другой бы на месте моего папаши, — жаловалась Серах, — давно бы перебежал к Русам. Все ведь знают, что княгиня Севера Ольга зазывную грамоту прислала: Хазарское подворье в Киеве заселяет; ремесленников и торговых людей, какие в Киев переедут, обещает от пошлины на первые годы освободить. Русь поднимается, обустраивается. На Руси сейчас дошлый человек легко дело своё может завести, богачом стать. Здесь моему папаше за его проповеди только дыба светит, а на Руси, может быть, в советники к молодому князю Барсу Святославу пробился. Тот многих книжных людей вокрус себя собрал — и варягов, и греков. И богов Святослав, как мой папаша, разных терпит. Может, ему папашина мудрость насчёт равных пророков и подошла бы. А что?»
Лосёнок вспомнил, как всегда хитро сощуривала Серах свои луковичные глаза, произнося это «а что?»
— А что? Ведь устроился бы мой папаша при дворе в Киеве, возможно, и мы бы потом к нему перебежала. Неважно, где жить. Важно, где хорошо жить!
Лосёнок поднял плеть и жёстко стегнул Вениамина по лицу.
— У-у, поганый. Что глядишь на меня? Не буду я тебя убивать. Не хочу виноватым ножом оказаться. Поэтому счастье твоё сейчас такое — на Русь беги. Там молодой бек Святослав ходит; как барс. Сырую конину ест. Положив голову на седло, спит. Попоной укрывается. Большой полководец Святослав! Как кочевник! Иди к нему в советчики. Про него люди говорят, что ни в каких богов не верит. Иди — может, он в твою мудрость поверит, тебя рядом с собой на военном совете посадит. Беги к нему! Так тебе Серах передать велела…
Вениамин поднялся с корточек — опять стоял, как высохшая камышина на ветру, длинным телом качался. Потом тихо попросил:
— Повтори, что тебе для меня, несчастного, дочь моя передать велела.
Старик теперь смотрел Булану прямо в глаза — тихим, спокойным и немигающим взглядом.
Лосёнок замялся. Обычай степи разрешал хитрость и даже коварство с врагом, но жестоко карал пустую ложь. Глаза в глаза степь предписывала говорить правду, и Лесенок где-то даже облегчённо её сказал. Он скрывал давно эту правду ото всех, потому что был убеждён, что эта правда нехорошая и люди за неё осудят Серах. Но Вениамин спросил глаза в глаза. И Лосёнок безжалостно ответил:
— Серах ничего не передавала и никогда больше ничего не передаст для тебя, старый Вениамин. Узнав, что ты проповедуешь по дальним кочевьям, Серах перед всеми «детьми вдовы», возложив руки на священную книгу Йоциру, отреклась от тебя. Поклялась, что никогда больше не будет общаться с тобой ни взглядом, ни словом, ни переданными словами. Серах сделала это потому, что тебе уже всё равно бедовать, а её без отречения от тебя, еретика и дурного человека, священники из Белого храма не утверждали в почётной должности прислужницы во дворце Управителя. Вот, ты сам вынудил меня это сказать, Вениамин. Видят боги, я не хотел огорчать тебя перед иным миром. Мало ли, как там, в ином мире, с тобой бы решили?..
Вениамин стоял как каменный. Его даже не качало ветром, он застыл, как воткнутый навсегда в землю колонный кол. Как застывшая печаль!..
Когда подъехали к городу, в городских воротах Булан разглядел целую кучу весело размахивавших руками купцов. Булан бросил лошадь в поле и пленника возле лошади. Пошёл к городским воротам, прислушиваясь, чего там говорят.
Гер Фанхас суетился перед заморскими гостями. Хлопал себя по толстому животу, перекатывая необъятные шары наеденного сала, что-то объяснял, вытаскивая из-за пояса кошельки. Увидев Булана, радостно замахал рукой, будто только его и ждал.
— Эй! Доблестный керхан, воин? Ты добычу привёз в город? Ежели это твоя собственная добыча, то смело продавай её мне. А если это добыча твоего начальника, то тоже продавай — я заплачу достаточно, чтобы он тебя похвалил за сообразительность. Начальнику хватит и себе урвёшь толику!
Лосёнок весь напрягся. Вот и удача ему, вот и хитрый способ избавиться от позора тащить на аркане через весь город собственного родича. Фанхас не зря сам кормил сегодня стражников. Наверняка всё вычислил, как будет и теперь нарочно поджидал пленника. Булан принял игру.
— Почтенный Гер Фанхас! У меня негодный товар. Так, коангшиу! Кусок старого, вонючего мяса…
Гер Фанхас поморщился:
— Аулгу — ещё живой?..
— Живой ещё! Но сильно ободранный! А так живучий, жилистый. И ремесло знает. Клей варить умеет! — Лосёнок сообразил напомнить про ремесло: ремесленники ценились на невольничьем рынке много дороже, чем неумелые рабы. Теперь Фанхасу не отделаться жалкой монетой.
Гер Фанхас понял:
— Я куплю добычу у тебя! — под ноги Лосёнку полетела монета. — Мясо старое, вонючее — считаю, одной монеты хватит.
Булан подхватил монету. Печень у него счастливо сжалась.
— Две монеты! Одной мало! Издалека добычу вёз.
Гер Фанхас порылся в кошельке, кинул вторую монету, совсем маленькую, не однажды обрезанную. Он считал, что обсчитал Булана. Булан же радостно думал, что отдаст первую монету своему начальнику Арс Тархану, а маленькую, совсем обрезанную, утаит для себя. То, что он продал пленника, было, как это уже узнал Булан, делом нормальным: стражникам продажа добычи входила в жалованье.
Булан вернулся к лошади и пленнику, оставленным в поле.
— Чего не убежал, кувшин? — Булан старался не глядеть на Вениамина и нарочно грубил: — Что? побоялся бежать в открытую степь? Страшно стало! Все вы, кувшины, такие… Боитесь степи. Предпочитаете быть распятыми — только чтобы в городе…
Булан попытался поставить старика на ноги. Старик глядел на него тихо и согласно. Вдруг опустил голову, сказал:
— Я степи не боюсь. Охотиться научен. Но нельзя мне было бежать. Серах бы одна осталась… Тебя ведь, если бы я убежал, за меня на деревянном осле распяли. Они так и задумали…
Булан не ответил. Молча влез на лошадь; понукая её как можно резвее, подволок старое, вонючее мясо к городским воротам, ловко бросил тело — так, чтобы оно подкатилось прямо к ногам своего нового хозяина. И поторопился убраться прочь, пока купец не передумал.
Умело заставляя лошадь бить копытами, он поднял за собой огромный столб пыли. Однако внутрь города не ускакал, притаился подсматривать-подслушать, что будет дальше делать Фанхас с покупкой.
Булан видел, как Гер Фанхас ногой перевернул купленного на спину, раскрыл ему рот, осматривая зубы. Впрочем, сделал это, видимо, Гер Фанхас лишь по профессиональной привычке.
Маленький суетливый заморский гость волновался:
— Посмотрите: у проданного в рабство длинные волосы на висках! Сколько страдает в рабстве подданных Шехины!.. Почтенный Гер Фанхас, неужели ты сам будешь продавать этого человека на сук ар ракике — невольничьем рынке?! Я слышал, в вашем городе порой даже отцы водят своих малых детей на сук ар ракик на продажу, что у вас тут нет в этом зазорного. Однако как ты решаешься продавать единоверцев? А что, если покупателем окажется мусульманин или, того хуже, христианин?..
Гер Фанхас промолчал.
В это время Вениамин открыл глаза. Гер Фанхас глянул ему в глаза, и все шары, составлявшие его тело, гневно заходили ходуном. Подглядывавший Булан сжался, стал торопливо припрятывать полученные от Гера Фанхаса монеты под седло: испугался, как бы не отнял монеты Фанхас и не вернул назад «старое, вонючее мясо». Но Гер Фанхас, хоть и трясся от негодования, заговорил приторно ласково и очень громко:
— Ах, почтенные мои гости Хасдай и Сарук! Пусть не сложится у вас неверное мнение, будто мы, здешние рахданиты, увлеклись работорговлей и портим репутацию Неизречённому богу своими действиями, продавая даже единоверцев. Это навет на нас. Мы делаем добро многим людям, ими торгуя: устраиваем обездоленных, не умеющих о себе позаботиться, по надёжным хозяевам!.. А вот этого старика я и вовсе выкуплю, чтобы вернуть ему свободу… — Гер Фанхас снова внимательно посмотрел в глаза Вениамину. — Ты свободен, старик. Да будет благословенна Шехина! Я решил сделать небольшой подарок нашему богу, жаль, что сейчас при всех не могу назвать божьего имени, восславить громко это имя! Ступай, старик, я не буду прокалывать тебе ухо… А пять монет, которые я отдал за твой выкуп, ты мне вернёшь до будущей весны; отработаешь — у тебя ремесленные руки. Вот так-то, хакам — мудрец Вениамин. Ты мне не оказал услуги у Женщины. Не помог получить справу в пользу рабства. А я зла не помню. Вставай, старый Вениамин, и помолись Шехине за то, что у тебя есть единоверцы и потому твой лоб миновало сегодня раскалённое клеймо.
Купцы вокруг Гера Фанхаса и заморские гости наперебой восславляли Фанхасову щедрость. Кто-то, правда, заикнулся, что, мол, Гер Фанхас выкупил караима — еретика, что, может, не надо было караима выкупать. Однако Гер Фанхас обрезал: «Надо! Он теперь у меня в долгу!.. Караимы теперь у меня в долгу. Я их вождя спас».
— Иди, Вениамин, и помни, что в следующий раз тебя некому будет выкупить…
Булан подъезжал к своей юрте и думал, как скажет Серах, что это он — спаситель её отца. А заодно и про монеты расскажет. Всю правду. Чтобы Вениамин вовсе не думал отрабатывать у Гера Фанхаса пять монет, Фанхас ведь дал две за выкуп… «Вот только не слишком ли я много кожи содрал со старика, как бы тот на меня не обиделся? — думал Лосёнок, — Но всё равно потребую со старика Вениамина монету — за спасение!..»
День девятнадцатый. «Воислава — жемчужина Итиля»
Рассказывают, что у Весны всегда бывает своё, отдельное имя, которое она шепчет избраннику. Вон для кочевника Булана она обернулась чернокудрой Серах, у которой волосы как чёрный виноград. А для тебя, Волчонок? Какое имя она тебе прошепчет, благословенная твоя весна любви? Кем она явилась к тебе? Нежно приникает к тебе её стан, а глаза её смелы. Не стоять тавру на челе при таких смелых глазах. Значит, она явилась к тебе не рабой. Но кем? Она не ордынка: светла, и, как жемчуг, мерцает её кожа, и, как синие птицы, летят её глаза.
Знает каждый в кочевой стране, что семя двадцати пяти на трое народов здесь смешалось и даёт побеги, ибо сто лихих военных дорог и сто плодущих караванных путей ведут к Хазарию. Но по какой дороге пригнало ветром счастья семя предка твоей красавицы? Спроси у бледнолицей: может быть, гунном был её пращур? Тьмы гуннов, гривастых, раскосых, промчались здесь на своих взмыленных низкорослых лошадях. Гунны скакали из Азии в Европу. Но кто-то и отстал? Расставил здесь свой войлочный шатёр, женился на пышнотелой сарматке и научился сохранять на зимних пастбищах свои отары? Спроси свою пери: не от того ли дерева подбираешь ты спелую ягоду?..
Или она дочь горбоносого авара — жестокосердного обра из преданий соседей Русов? Того самого обра, что увёз с Руси сюда бледнолицую дулебку и теперь растит на реке Итиль черноголовых, но синеглазых дочерей?
Или она аланка, мадьярка, булгарка, печенежка? Сколько их прошло мимо Итиля? Сколько переплывало здесь эту Реку?! Но, может быть, мать её отца здесь осталась? И вот плод её?..
А не одна ли она из тех, чьего бога не принято называть по имени? Из тех иудеев, гонимых и обиженных, что гордо не пожелали изменить своему безымянному богу и за то были прогнаны гневливым Халифом Гаруном Ао Рашидом? И в другой стране не захотели изменить своему богу и были прогнаны императором Византии Романом Лекапином?.. Эти гордецы и страдальцы называют себя ибрим — евреи — «происходящее из-за реки». Но нет, она не из народа Ибрим: его дочерей узнают по глазам с поволокой, по оставшемуся в их взгляде туману страданий.
Но кто же она? Или её семя проросло здесь совсем недавно — одиночное, перелётное семя. Она из тех, чьих предков по одному из других народов заносило сюда, — в город на распутье? Ты знаешь таких: они прибились к орде и приняли закон и язык орды. Они старательно и гордо говорят теперь про себя: мы — ордынцы. Что, если она из них? Ну же, пусть она торопливо ответит: «Я — ордынка!»
О маламатие (дурные святые)! Вот, наконец, ты понял всё: тебе никогда не узнать её корня, потому что не на земле проросла она. А послана к тебе дэвом. Она — аркан в его руках.
Когда людская волна, крутившая вас обоих в толпе, внезапно опала, ты слышал изумлённо её голос. Или нет — сразу два её голоса. Будто на два голоса сразу не сказала, а пропела она тебе, — и был первый её голос чист и серебрян, как звезда, а второй тёпл и бархатен, как чанг. А что сказали голоса, ты не понял, потому что услышал ты только мелодию речи — не хазарской, не гортанной, а прозрачно чистой, с неожиданно падающими вниз, в тёмную глубину тонами.
Ты услышал эту речь, памятью о которой, как грёзами, замирало у тебя сердце. И понял ты, что Весна сама перед тобой. И совсем зарделся. И испугался, и стал в страхе счастья гнать прочь от себя несбыточную догадку. И сладко желал подтвержденья.
Вы оба стоите возле арбы с таботаями, чуть сбоку. Толпа, погнавшаяся за вами, хлещет на берег с моста. А ты держишь её руки в своих, и она, отступив на шаг, не пробует освободить ладони. Вы замерли оба.
И ты сейчас скажешь ей стихами с чёрных кипарисовых дощечек, потому нет более достойных её необычайной красоты слов. Ты скажешь:
— Ушёл свет моих глаз, взял с собой мою душу. Где же она, где моя душа? Теперь ты меня ото сна пробуждаешь. Страсть взволновала меня, печаль собралась во мне, и моё сердце склоняется, моё лицо желтеет. Ты смотришь на меня, тем исцеляя. Ты глядишь на меня, делая знак. Останусь ли я с застывшим сердцем?..
Ты скажешь ей так, как надлежит говорить любимой согласно хазарскому Тере (обычаю).
А она выслушает это твоё признание (даже если бы его и не проговорили уста, то ведь глаза твои уже и так ей всё сказали!) и ответно поглядит тебе прямо в глаза, как никогда не глядят женщины на Востоке.
И ты смутишься, и сам опустишь глаза, и скажешь:
— Что же ты теперь со мной сделаешь? Как поступить в таких случаях велит твой обычаи? Ведь ты не мусульманка, и не из веры магов, и не Небу Синему поклоняешься ты, и не в Белый храм ты ходишь… Ты, прекрасная, оттуда! — и твёрдо махнёшь рукой на север.
— Скажи, останусь ли я с застывшим сердцем?
Ты повторишь вопрос с чёрных дощечек, и растеряешься, и почему-то станешь поправлять свои длинные космы. У тебя кочевничьи космы, и ты никогда не стыдился за них. Но теперь ты вдруг застесняешься этих своих нерасчесанных лохм. И застесняешься того, что вот бежит по твоему лицу утренний свет и не может выделить тенью ни одного возвышения. Лицо твоё плоско, как тарелка. Всегда прежде ты гордился, что у тебя лицо Степи, и тебя никогда не трогало, когда тебя пытались унизить, говоря, что ты — из безобразной, безресничной, косматой толпы Гог и Магог. Но теперь ты застесняешься и станешь руками приглаживать волосы.
А она опять будто сладко пропоёт:
— Ты сказал мне клятвенные слова с твоих чёрных кипарисовых дощечек, на которых мудрость Степи. Но у меня свой бог. Пойдём: я дам тебе мой ответ перед своим богом!
Ты захочешь убежать. Но ноги не послушаются тебя.
И, прося пощады, ты только прошепчешь в ответ:
— Прекраснейшая, я не могу идти… Я был рождён верующим в Синее Небо, Жёлтое Солнце, Золотистую Землю-Воду.
А её губы растянутся к устьям, по-прежнему счастливо улыбаясь; её ладонь протянет к твоим глазам горстку зерна; её глаза спросят: «Почему ты упираешься? Тебе нечем одарить идола солнца Хорса! Вот возьми! Мы сожжём эти зёрна на юру перед изваянием Хорса, и тогда никто уже никогда никаким колдовством не сглазит мою клятву: прямодушный Хорс охранит мою верность. А за свою веру не бойся. Идол Хорс не ревнует к другим богам. Ради его благословения тебе вовсе не надо будет идти к нему в подданные. Я приведу тебя к Хорсу только как гостя. И не бойся подвоха! Это только людские пророки — Моисей, Иисус и Мухаммад — развели между собой соперничество, ищут себе «рабов божиих». У идола Хорса нет рабов — он освящает союзы свободных!..»
Она скажет так, словно она сама Этукен Земля-Вода, а солнечный свет будет струиться в её волосах, и нежная кожа её будет золотистой. Не оттого ли у Этукен два имени «Земля-Вода и Золотистая Поверхность», что а ней суть природы?!
А девушка протянет к тебе руку и погладит волосы. Тепло погладит — так гладят шёрстку любимому зверю.
Она и скажет тебе, как любимому зверю:
— Здравствуй! Вот ты и прибежал назад, в родные места, мой лохматый волчонок — сын волчицы. Я вчера ещё во все глаза высматривала тебя, а ты прошёл мимо и застеснялся. Я сегодня смотрела на тебя, а ты — окунулся от меня в толпу. Убежал, стыдясь. Почему ты вдруг стал прятаться от меня? Что ты натворил, отчего стеснительной стала твоя волчья печень? Неужели ты всё-таки не узнал меня? Но разве я столь сильно переменилась, что ты уже не слышишь издалека, за полёт стрелы, как бьётся, радуясь тебе, моё сердце? Раньше ты ведь всегда моё сердце слышал! А где твой нюх? Почему твой тупой добрый нос не тычется мне в плечо? Почему тебя подвело волчье безошибочное обоняние л не вывело тебя верной дорогой к моему порогу?! О, мой любимый, мой лохматый, мой стыдливый, мой мужественный, мой властительный, мой долгожданный волчонок! Когда я увидела в толпе твои крутые скулы, твою славную, тупую, волчью морду, твои шершавые губы и широкие ноздри, твои глаза — два карих огня, — я сразу поняла, что это ты пришёл за мной. А ты сам разве не почувствовал, как в тот момент впились мне в грудь твои сладкие когти, чтобы вытащить и забрать с собой моё сердце. О, мой родной Волчонок! Я знала, что ты придёшь за мной! Любимый, я так мечтала погладить твоя лохмы. Твои лохмы — это ночь. Но они же — и твой лохматый рык. Они — весь степной простор. Я окуналась лицом в полынь, а говорила себе — я прислонилась лицом к шерсти моего волка. Ну же! Ответь мне скорей! Это я твоя Ляля-Весна! Я пришла к тебе в золотоволосом облике. И уж тут тебе ничего не поделать!.. Это значит, что тебя с Веской свело само Небо!
Так казалось Волчонку, что ему говорила сама Ляля-Весна. Волчонок стоял рядом с Весной у повозки с таботаями, возле скульптурных изображений, в подножье каждого из которых был прах предков.
А на них бежала разъярённая толпа. Весна говорила Волчонку о любви и не боялась, что их обоих толпа сейчас растерзает.
Толпа приблизилась и… пронеслась мимо. Не заметила ни Волчонка с красивой девушкой, ни даже гробов. Толпе, занятой гоном за талаем — зайцем, ведь нужен был заяц. Толпа и смотрела только на тех, кто не стоял, а бежал. Ведь это свойство, как известно, является признаком талая — зайца.
А Волчонок наконец-то поднял глаза и окинул восхищённым взором Тану Жемчужину, которая, держа его за руку, стояла с ним совсем рядом.
Девушка мягко улыбалась, словно удивилась пронёсшейся мимо толпе. На ней была зелёная рубашка, высоко схваченная золочёным пояском под самыми холмами, крутыми и крепкими; а на ногах, длинных, как у лани, статных ногах, зелёные плесницы с золочёными ремешками, перехватывавшими тонкие щиколотки. И эти перехватывающие щиколотки ремешки гляделись так, будто лань забежала на этот весенний праздник с реки или из степи, может быть, даже с поляны, где шла охота.
Она была вся непривычная, нездешняя, необычная здесь. Волчонок глядел на неё: узнал Воиславу и всё не мог в это поверить, настолько она стала прекрасной Таной Жемчужиной.
Девочка с золотой косой любила прижиматься к своему «лохматому волчонку» и часто сидела у него на коленях и целовала его в щёки и в глаза, но всё — как играла со своим зверем. Как ласковое детско, стосковавшееся без матери и нашедшее в Волчонке себе утешение. (А, может быть, так сама Этукен уже тогда играла со своим зверем!)
Тонг с чужестранкой Воиславой был открыт и наивен. И он даже позволял себе играть с девочкой в своё предстоящее коронование. Изображал, как великий принц сменит золотой обруч на своих лохматых длинных космах на расшитую золотыми плодами граната и сияющую рубинами косую степную шапку Кагана!.. Во время таких игр Волчонок гордо принимал облик властителя-волка — надевал хранившуюся в заветном родовом сундуке священную шкуру волчицы и произносил перед Воиславой, изображавшей Всю Массу Народа и кричавшей на разные голоса о разных бедах народа, заветную Каганову клятву:
Небоподобный, Небом рождённый мудрый Каган Степи —
Я, Тонг Тегин, ныне сел над вами всеми.
Мою речь теперь выслушайте до конца вы —
Следующие за мной младшие родичи,
Союзные мне племена и народы,
Эту речь мою выслушайте хорошенько,
Крепко внимайте!
Вперёд, вплоть до солнечного восхода,
Направо, вплоть до полудня,
Назад, к солнечному закату,
Налево, вплоть до полуночи —
Здесь, внутри этих пределов находящиеся народы
Все мне будут подвластны!
Столько народов — всех я устрою!
Тонг Тегин затем вскидывал руки, расставлял локти и, как орёл, хлопающий крыльями, шёл вокруг девочки по кругу. А Воислава, продолжая изображать Массу Народа, громко, как положено, славила на многие голоса мудрую устроительную клятву нового Кагана Тонга Тегина. Но самое интересное начиналось, когда Вся Масса Народа — тоже, как положено, — обращалась к новому Кагану за разрешением своих обид. Они оба заранее долго и очень старательно обдумывали, какие должны быть ныне у хазарского народа обиды. Они бродили по базарам, заходили в караван-сараи — слушали людские толки. Они искали причины народных обид. А потом в их игре он, новый Каган, мудрейше устранял все их… Это была только игра. Великому принцу даже некому было пересказать обиды народа: его отец, Великий Каган Байгуш (Филин), сидел в золотой Куббе и стража не допускала к обожествлённому Кагану даже его сыновей, тегинов-принцев, Тонга и Алпа.
Считалось, что Каган правит народом с помощью биликов (изречений), передаваемых через Ишу (Управителя Богатством). И великому принцу оставалось только ждать то время, когда он наконец-то сам воссядет на престол и — в отличие от отца — уже будет не только изрекать туманные билики, которые Иша толкует вкривь и вкось, как ему заблагорассудится, но будет сам и управлять хазарским Элем… Всё было тогда только их с Воиславой игрой! Но кто знает, может быть, именно в том детском счёте народных обид больше всего духовно вырос Волчонок, впервые, пусть пока только в игре, приняв на себя бремя ответственности за судьбу родного Эля и вдруг осознав, насколько не сладка, а тяжка эта ноша.
И вот миновали годы. Пробил долгожданный час. Волчонок держит за руку Воиславу. Он претендент на престол, а она дочь Русов, чей Барс Святослав сейчас смертельно угрожает Хазарии…
Говорят, что жемчужные ожерелья нужно постоянно носить, потому что жемчуг умирает, если не слышит человеческое тепло. Тана сама отдавала тихое светлое тепло, а волосы её вспыхивали золотыми нитями, словно спустившиеся в юрту из дымника солнечные лучи.
Она сказала:
— Хон карба! С весной, Волчонок! Вот ты и вернулся. Я знала, верила, что уж этой весной, когда твоя Родина в опасности, ты непременно вернёшься. Я вспомнила, как ты всё расспрашивал моего отца про великую княгиню Ольгу и её сына Святослава. Сына Ольга с шестилетнего возраста посадила на коня и водила впереди войска в походы. Ныне он возмужал, Барсом его прозвали и сравнивают соседи с Зулькарнейном — Двурогим — знаменитым Александром Македонским. Вот теперь ты сможешь помериться с ним силами. Теперь все в Хазария ждут Барса. Ты, разумеется, тоже поспешил на эту встречу. Кому же ещё тут выводить войско против Барса?.. Ты ведь так прославился, водя полки в Халифате!.. Я была уверена, что тебя позовут главнокомандующим…
Волчонок молчал.
Она поняла, что коснулась больного места. Покраснела. Перевела разговор.
— О, не будем сразу говорить о войне. Давай лучше о самом простом. О лепёшках. Я тут всё время, как ела лепёшки, вспоминала тебя. Помнила, как ты, решив научиться ремеслу, освоил искусство пекаря. Пёк для русской девочки хазарские лепёшки. Помнишь, мы в дорогу всегда брали тобой самим испечённые лепёшки. Ах какая я тогда была маленькая! Даже не могла сама влезть на коня. А помнишь, когда мы уезжали в степь, ты показывал мне норку суслика, учил слышать жаворонка, парящего в небе. Сколько было тебе тогда, — у тебя ещё не пробились усы, и ты страшно переживал, что не можешь предстать передо мною с девятью клоками бороды — как подобает Тонгу Тегину — великому принцу. Увы, я уже, видно, так никогда и не увижу, каким ты мог бы предстать принцем. Ведь теперь ты вернулся Облачённым во Власяницу. Ой, хоть бы взглянуть на тебя принца, а не монаха?! Ну, можно одним только глазком?
И она радостно засмеялась. А её руки шаловливо сорвали с «монаха» его синюю, печальную, головную повязку.
Знала ли она, что под повязкой золотой обруч принца?! Наверное, это было по-детски, она словно хотела, чтобы даже монах не нёс траура в утро радости. Но золотой обруч, освобождённый от повязки, сверкнул звонко, дерзко.
Что изменил он? Что внёс во встречу любви своим блеском?! Она, конечно, знала, что Облачённые во Власяницу приносят священную клятву подарить себя богу. Но ей хотелось шутить. Она была упоена радостью снова видеть Волчонка, и ей казалось, что уже нет невозможного. Она засмеялась. Ей вдруг представилось, как забавно будет, когда к ней вдруг придёт свататься… монах. Вот так, придёт вдруг к её дому монах и на глазах у всех соседей попросит её руки. И все будут смеяться, а она о? веселья даже начнёт прыгать вокруг свата на одной ножке. Может быть, она попрыгает на одной ножке вокруг Волчонка и сейчас?
Словно отбежало назад время, и Тана Жемчужина превратилась в маленькую шалунью Воиславу И тут же она спохватилась, стала подбирать упавшую на землю Тонгову повязку печали. Смутившись, вся заалела лицом. А потом виновато улыбнулась. Молчала, не зная, что сказать.
Тонг держал её пальцы в своих ладонях, а сейчас выпустил. Он помрачнел.
Она потянулась к нему, хотела его обнять. Но он отстранился. Потом заговорил глухо:
— Да, ты истинно жемчужиной стала, Воислава. Ты нашла себя. А я вот себя потерял. Ты прости меня. У меня от весны зашла голова. Я вернулся давно. Всё кружил возле твоего дома, но избегал встречи с тобой. Мне стыдно было с тобой встретиться. Маленькая золотоволосая чужестранка верила в Волчонка. Она играла с ним, как с волчонком. Говорила ему: «Мой шерстяной». Потом ждала, представляя, какой красивый и мужественный из него вырос Волк. А Волка нет!
Прежде чем протянуть ко мне руки, посмотри на недостойного. Ты верила в Волчонка. Нет его. Прежний Волчонок сгинул — я его в себе в Волка вырастил, а Волк здесь оказался ненужным. Степь поставила на этой реке ставку Кагана. К ставке Кагана прилепился город. Он кормился от ставки Кагана. Теперь, я вижу, город вырос. Он сам кормит себя. Он кормит ставку Кагана. Зачем теперь городу степной Волчонок?
Хазары начали теперь жить не порядками степи, а города. Поэтому они хотят под руку не «степного» Кагана, а «городского» Иши Управителя Богатством. Иша Иосиф здесь уже заставляет называть себя «Судету», и эти люди подобострастно его так называют. Они скоро вообще забудут про Кагана, потому что они питаются от дел Управителя, а не Кагана. Иша даже перестал собирать подати с подвластных Кагану народов. Для сбора податей нужно держать в страхе подвластные народы, нужно содержать сильное войско, а Иша копит деньги и не хочет тратиться на войско. Иша убеждён, что больше, чем податей, получит золота от торговли. Он мечтает совсем закрыть дорогу мимо города иноземным купцам: чтобы вся торговля и весь обмен товарами между Севером и Югом, Европой и Азией происходил только на здешнем рынке. Городские купцы, менялы, ростовщики богатеют от такой политики Управителя, а от богатства купцов и менял немалые крохи перепадают и тутгаре (прислуге). Всему кормящемуся при рынке чёрному люду. Иша Иосиф нагло перекрыл дорогу в город хлебу из земель Русое, истребляет торгующих пшеницей и ячменём купцов, потому что набил свои амбары и теперь хочет крупно нажиться на голоде. Все в городе знают это, но терпят. Епископа убили, — тело епископа, не погребённое, гноится в церкви, а голодная тутгара молчит и лишь рвётся гулять, весну встречать вместе с нажившимися купцами и менялами. Чёрный люд голодает, но молчит, потому что уже разучился пасти стада и боится потерять объедки с помоек богатеев-купцов. Они стали жалкими псами.
И я тоже теперь говорю себе: «Виляй же хвостом, пёс! Прыгай, заливисто лай и веселись, ты ведь обязан угадывать настроение хозяина. Прыгай и заливисто лай, хотя у тебя давно свело живот!» Нельзя быть вожаком-волком скоплению людей, переставших быть народом. Нельзя возвысить сброд до Эля — племенного союза-государства. Возрождать славу Великого Хазарского Каганата поздно! Теперь, если я, Волчонок, хочу остаться в своей стае, я могу сделать единственное — опуститься до самого последнего шелудивого самца в этой стае. Стать как все! Билек иркен, кучка народа, — это поток, который становится то народом, то толпой. Понял я, Волчонок, что сейчас поток обречён быть толпой. Понял я это — и отдамся толпе. Сдам священные гробы предков начальнику стражи, пусть палач выдерет девять клоков моей бороды! Признаю, что поток обошёлся без меня впереди, и, если я всё-таки вернулся, то присоединюсь теперь ко всем. Наберусь храбрости, чтобы смешаться со всеми!.. Пусть толпа снесёт меня. Снесёт и поглотит. Сольюсь с ней!
Я вернулся, чтобы помочь Родине бороться с Барсом Святославом. Но, знаешь, это оказалось никому не нужно. Меня никто не хочет даже слушать, и мне ничего теперь не остаётся, как сбрить девять священных клоков своей бороды и стать простоволосым. Ты вспомнила, что я научился пекарному ремеслу. Когда-то я пёк лепёшки одной тебе. Теперь вдруг подумал: а что, если мне теперь начать печь всем людям? Когда придёт к нам Барс Святослав, воины хоть будут сытыми.
Не смейся! Здесь, в Итиле, я всегда гордился, что происхожу из того рода, что выделился из толпы, но в Багдаде я страдал и тосковал по своей родной толпе.
Так я решил поступить, Воислава. Вот видишь, какой Волчонок оказался — растерявший свою шерсть. Я обманул в ожиданиях тебя, потому что всё время обманываю сам себя. Я видел тебя вчера, почувствовал, что это ты. Ты стояла вчера под серебристой ивой и смотрела в толпу. Но я заставил себя не узнать тебя. Я сегодня пришёл к нашей серебристой иве и стал возле неё и почувствовал твоё тепло. И опять приказал себе ни во что не верить. И глаза твои, синие птицы, сразу, как ты на меня посмотрела, я узнал сегодня. Но я молчал. Я отговаривал себя и строил нелепые догадки, чтобы оттянуть свою исповедь: потому что то, что сейчас говорю, — это стыд мой. Я возвращался сюда, в город, с гордо поднятой головой, а буду ходить с понурой. Я возвращался воином, а стану торговцем. Но что мне делать, если я не могу жить без своего племени, без своих хазар, а другого места, кроме как последнего, теперь для меня среди своих хазар больше не находится?!
Волчонок остановился в своей пылкой, искренней речи и опустил голову.
Мимо него и Воиславы текла толпа. Толпа смеялась и пела. Толпа веселилась, И они оба хмуро молчали.
Потом Воислава сказала:
— Вожак, даже если он стал хилым, не может смешаться с общей стаей. Вожака тогда загрызают. Разве ты не помнишь этот закон волчьей стаи?!
Волчонок помолчал. Потом, будто через силу, ответил:
— Летел домой над степью чёрный лебедь, был живым письмом Халифа. Приземлился лебедь. Видит: выгорела степь. Свои у степи заботы — не нужно ей письмо Халифа. Нечем степи прокормить чёрного лебедя, сама она не знает, как прокормиться. Что теперь делать чёрному лебедю? Садиться в камыши на болото, клевать траву вместе с утками! Авось не заклюют чёрного лебедя серые утки?..
Волчонок увидел, что в синих глазах Воиславы появилась влага обиды. И глаза её будто отдалились от него — отделились влажной завесой.
Вот ведь как бывает. Была весна, и светило солнце. Вдруг набежала туча, и пошёл сильный дождь, всё затопил, всё омрачил, испортил.
Волчонок протянул руку Воиславе:
— Прости меня, Воислава! Я, наверное, сам не знаю, что наговорил.
Она отшатнулась от него:
— Я не верю тебе, великий принц. Ты меня обманываешь, потому что я чужестранка. Ты что-то задумал, а от меня скрываешь. Мой отец Буд привечен княгиней Ольгой, и ты боишься, что о твоих планах узнает Барс Святослав. Хорошо, не говори мне больше ничего, Волчонок. Скрывай от меня, если ты считаешь, что гак нужно ради Эля. Но одно прошу тебя: только не внушай мне, что я спешила к каткалдукчи — воину, а меня встретил талай — заяц. Не заставляй меня спускаться с синей горы!.. Твои рассказы о древней славе Хазарского Эля, твои высокие мысли о народе сделали из меня, обыкновенной маленькой девочки с золотистыми волосами, твою единомышленницу. Я всегда хотела быть достойной тебя. Ты рассказывал мне о золотоволосой Алан Гоа, — рождающей для Степи Каганов. Алан Гоа приходит на рассвете из дымника, как луч солнца. Ты говорил, что Степи, чтобы возродиться, снова нужна Алан Гоа. Что же ты теперь опускаешь меня в яму стыда за тебя?! Зачем говоришь, что Волчонок растерял свою шерсть?!
Тонг почувствовал, как от Воиславы перестали идти к нему тепло и свет. Словно тучи закрыли солнце, вдруг поблёк, перестал светиться жемчуг её кожи, и даже её золотистые волосы теперь словно потускнели; перепутались, падали на плечи, как поваленная бурей трава.
Воислава подняла голову, вглядывалась тревожно в лицо Тонга, будто в лицо больного.
Потом она сказала:
— Помнишь, Тонг Тегин, как ты рассказывал мне о древней вере огнепоклонников, которая ещё почитается некоторыми из хазарских племён, что кочуют вдали от Города. Ты рассказывал, что согласно этой вере душа человека имеет облик юной красивой девушки — даены. Каждый человек рождается в этом мире с даеной в сердце и помыслах, и даена вдохновляет его на достойную героя жизнь и прекрасные устремления. А когда приходит для человека время расстаться с этим миром и перейти в мир иной, то даена—душа выходит из него, и он берёт её на руки и бредёт с ней по пустыне к чудесном у мосту Чинват, по которому с помощью девушки—даены и переходит в иной мир. Ты тогда ещё сказал мне, что брат твой, бек Алп, кочует по степи с племенем, которое верит в даену, и что ты тоже бы поверил в даену, если бы я согласилась ею для тебя стать… Скажи теперь мне, Великий Принц, неужели ты тогда только шутил над маленькой девочкой — говорил ей то, во что сам не верил?..
Глаза у Воиславы были синими и большими, а сузившиеся зрачки стояли в них, как две остановившиеся посреди озёр лодки. Волчонок растерялся и молчал, не зная, что Воиславе ответить. А Воислава сказала: — Я вижу у тебя, гордого хазарина, на шее очень красивая цепь. Но не заменила ли она тебе душу? Ведь это цепь, хоть и почётная, но обозначает, что ты подданный Халифа, чуждого владыки. Уж не из-за этой ли цепи и этого синего халата — власяницы монаха-суфия — так торопишься ты, Тонг Тегин, потерять достоинство благородного дома Ашины и стать простоволосым?.. Не веришь в то, что ты Волк, и спешишь стать жалкой собакой?! Молчишь? Опять не отвечаешь?.. Так ступай прочь! Я не буду сама надевать на тебя ошейник! Я не буду тебе помогать в этом, пёс!
Они стояли напротив друг друга и смотрели друг другу в глаза. А в это время их обтекала толпа, вернувшаяся ни с чем после гонки за талаем.
«Монаха» и девушку обсуждали, совершенно не стесняясь:
— Смотрите, люди, монах-то разгулялся. Вместо аллаха молится павлину Весны?! Призывает к проповеди не муллу, а соловья?!
— Эй, народ! А ну-ка пуганем этого монаха, пристроившегося к девушке. Может, кусок лепёшки с него сдерём. Скажем: «А ну живо откупайся, ты, променявший молитву на касыду. Из своей торбы откупайся. Доставай припрятанный кусок лепёшки. Начнём сильно его пугать, как будто мы стражники.
— Тсс! Не дурите! Это не простой монах-побирушка! Разве не разглядели вы, что в его одежде синие знаки печали. Это — тот, кто оберегает сердце от путей легкомыслия! Это учёный монах-суфий!
— По одежде он самый! Это Облачённый во Власяницу, и не иначе как из самого города мира Багдада! Слышал, что мулла говорил: «В Багдаде каждый поэт — Облачённый во Власяницу, а каждый Облачённый во Власяницу — поэт». Все приходящие из Багдада суфии — поэты, и, видишь, этот на наплавном мосту тоже. Поэты — пророки, пророков нельзя трогать…
— Арс Тархан не примет обвинения мусульманину и ничего не заплатит. Арс Тархан сам мусульманин. Ты забыл, что у нас в городе каждой твари по паре и все рабы. Управитель и купцы-иудеи — рабы Неизречённого бога, стражники-мусульмане — рабы Аллаха, рыбаки и ремесленники — христиане, рабы Христа, а мы, нищий городской люд, язычники, — рабы Ода — Огня и Кек Тенгри — Синего Неба.
— Не кощунствуй. Не рабы мы. Мы — харан, свободные люди. У Синего Неба нет рабов.
— То-то мы по помойкам у торговцев вместе с воронами побираемся, тем и сыты, что в городе стало много помоек!
— Тсс! Не гневи Небо! Лучше пугнём этого монаха. Скажем, пусть откупается, а то убьём. Скажем, мы — кабары, бунтари. Всех чужеземцев искореняем… Сейчас и тебя, багдадец, искореним, если не откупишься.
— Тише. Ты что, про Облачённых во Власяницу не знаешь, что они сами смерти ищут? Монах-суфий обрадуется, что мы его убиваем, — поторопится дух испустить. А как нам потом грех за посягательство на божьего человека замолить?
— Эй, если вы в самом деле харан, свободные люди, то отстаньте от человека, разговаривающего с девушкой. Вы же самого Тонга Тегина Великого Принца обидеть захотели. На нашего доблестного и добродетельного Волчонка, который сам всё состояние своё бедным людям роздал, отваживаетесь посягать. Не смейте трогать святого человека — не то поразит вас Небо!
— Да не Волчонок это! Волчонок давно пропал! Ушёл от нас за грехи города Волчонок!
— Ушёл, а теперь снова пришёл. Я у этого монаха, который сейчас с красивой девушкой разговаривает, ещё вчера клоки бороды посчитал — девять клоков! Да и поясом с пряжкой железной, смотрите, у него власяница подпоясана, а на пряжке Ашина между двух сопок. А на голове, смотри, обруч золотой. Волчонок это — я его сразу узнал.
— Ну что ты мелешь? Как же наш Волчонок мог монахом стать? Разве бы великий принц монашество принял от мусульман, когда он сам полубог на земле — священной Кагановой крови. Не может быть такого!
— Всё может быть! Царь вон наш, то есть Управитель Богатством, в пятницу в мечеть ходит, в субботу в синагогу, в воскресенье в церковь, а на неделе и на капище к Оду — Огню и Синему Небу заглядывает. Почему бы и Волчонку покровительством лишнего бога не заручиться?! Такие сейчас времена пошли!.. Лучше приглядывайся и молчи!.. Тсс!
Громко поспорили люди в толпе вокруг Волчонка и Воиславы и растаяла волна толпы. Но новая людская волна — и опять зевакам не терпится.
— Боже всевидящий! Что за монах рядом с красивой девушкой такой прыткий? Едва солнце взошло, а уж он пристроился. Жрецы с крыши храма ещё, как положено, весны не объявили, а уж он возле девушек трётся. Спихнём его в воду… Голод в городе, а он…
— Тише, побойтесь бога. Разве возможно обижать юродивого? Вон смотрите: стражники уже появились, всех толкают, палками бьют, а его обошли. Нельзя юродивого трогать: вдруг он — глаза и уши Халифа?
— Ах, люди, я заморский гость, в делах ваших человек посторонний. Но как же вы живёте?.. Сами не знаете, кто у вас там возле красивой девушки! Один говорит юродивый, а другой говорит — агент-доносчик Халифа…
— Ну и что? Мало ли, какое бывает на свете!
— Как что! Так вы схватите этого певца, пытайте, пусть откроет правду!
— Тсс! Такого в нашем городе нельзя. У нас тут свой тере — порядок. Разве можно открыто спрашивать человека, доносчик он или нет? Что скажут заморские гости?..
— Плевать нам на гостей. Хватай монаха!..
— Никак нельзя сегодня хватать. У нас в городе в гостях Иша из Кордовы — Абу Юсуф Хасдай ибн Шафрут, а с ним поэт Менахем бен Сарук. Разве можно, чтобы Хазарию знатные свидетели ославили во всех общинах «детей вдовы»?!
Волчонок Тонг Тегин оглянулся на говоривших. Подумал: «Отойти бы нам с Воиславой куда подальше». Но они не отошли. Он смотрел на праздничную шумящую толпу и продолжал улыбаться; он думал: «Мои хазары! Они веселятся, а я, чтобы сохранить им смех, должен погибнуть. Я это понял! Но почему я тоже улыбаюсь суете и вот тоже весёлую песенку спел?! У меня же синяя фута — повязка траура должна быть на голове. Я же отдал своё тело богу, облачившись во власяницу. «Верующий в руках Аллаха, как мёртвое тело в руках обмывающего трупы» — гласит заповедь, а я пел весёлую песенку. И сейчас стою рядом с девушкой и не могу на неё насмотреться.
В сером рассветном полусвете серебро резных ивовых листьев сливалось с серебром быстро текущей весенней воды.
— Нишит-е (будем бить палками)! Расходитесь! — совсем рядом кричат стражники. — Расходитесь: весна откладывается!
Но толпы не убыло, её всё прибывает, как в половодье. Толпа разлилась. Вот идёт высокая волна и накрывает собой всех — и стражников, которые теперь лишь смешно барахтаются в толпе, и степного Волчонка с золотоволосой Воиславой. Волна смыла Волчонка и Воиславу, завертела, разделила и нещадно понесла в разные стороны. Он попытался позвать её. Но его голос утонул в едином тысячеглотном вздохе толпы:
— Хорс!
— Солнце!
Славу Солнцу—Хорсу неистово кричали со всех сторон. Ещё вчера он был только славянским идолом. Но, видно, палки арсиев, разгонявшие праздник, сделали своё дело. Посмотрите: даже желторизные жрецы из Белого храма теперь тоже кричат: «Хорс!» Желторизные левиты тоже надеялись сегодня повеселиться, но раз их тщеславные и высокомерные мудрецы — хакамы, что засели в Академии, испортили людям праздник, чтобы показать своё «я», то пусть хакамы получают своё. Теперь все иудеи тоже помогают славить первого кто из богов явился на праздник Ляли-Весны.
— Славься, Хорс! — кричат муллы и хохочут.
Как же им не хохотать, что сделала глупость соперница — иудейская Академия при Белом храме?! Так к надо зазнавшимся чёрным ермолкам.
— Славься Хорс — жёлтое Солнце! — кричат маги и кочевничьи шаманы.
— Да здравствует Хоре, несущий свет! — кричат маги. Почему и жрецам Зороастра не прославить именем Хорса свет, являющийся народу?
Муллы выстроились в ряд — восхваляют Хорса. «О, пусть-ка вспомнит теперь Иша Иосиф Управитель Богатством, как он городскую мечеть за оскорбление иудеев обезглавил! Может быть, среброусого славянского идола с берега он в воду свалить теперь прикажет?.. Вот будет потеха! А потом придут кабары…»
Бьют в бубны волхвы. Начинают пляску солнца. А Хоре уже рядом — уже скользит жёлтой полоской по воде.
— Здравствуй! С возвращением тебя после зимы, великое и могучее Солнце! — протянули все к солнцу руки. Пусть Хорс успокоит зимнее бурное море, разрешит доплыть-вернуться в город всем купеческим караванам! Пусть Хорс вскроет все реки и откроет пути!
Жёлтым шаром по витой тропинке поднимается Хоре на правобережную кручу. Катится пламенем мимо круглых войлочных шатров, в которых живут скотоводы, мимо глиняных мазанок, слепленных ремесленниками, мимо купеческих домов, деревянных, с горбатыми крышами. В куполе церкви Хоре сверкает, в изразцах мечети играет. Вот забрался на крышу Белого храма, меж гвоздей побежал, смеясь. Эй, мудрецы-хакамы! Вместо вас Хоре на крыше! Хоре за вас Лялю-Весну объявил!
Волчонок потерял Воиславу. Мечется в толпе. Наконец догадывается где искать. Печальный образ насилия, который сопровождал его от въезда в город, напомнил о страшной картине на берегу. Он подумал о её сородичах, и, может быть, даже её отце, — кто остались на крестах и колах всего лишь за то, что везли пшеницу — накормить голодный город. Русы приняли лютую смерть от арсиев-стражников. Больше уж никогда не придут они к хазарам с пшеницей. Накрепко заказан путь. Самой смертью заказан.
Волчонок среди киевлян… Мелькнуло впереди зелёное с серебром платье. Поманило. Волчонок рванулся и остановился. Как смеет жалкий пёс бежать за Таной Жемчужиной?!
Волк сам отдал свою тропу. Он гордо шёл по этой тропе на плаху и не боялся, потому что нет ничего счастливее восхождения на плаху, когда восходишь за свой народ. Но гордый Волк встретил на этой тропе красивую, как солнечный свет, девушку и поколебался в своей волчьей уверенности. Волк подумал: «Как я уйду на Небо, когда любимая тут, на земле?» Волк сказал себе: «Почему я непременно должен за свой народ погибнуть? А не могу ли я ему послужить, став простоволосым? Пусть палач возьмёт только девять святых клоков моей бороды, а я буду печь своему голодному народу вкусные лепёшки и встречать каждый день счастливым взглядом небесный свет — Тану Жемчужину!» Так хотел поступить Волк — стать домашним псом, охраняющим отару, чтобы не расставаться с любимой. Но любимая оскорбилась за Волка, который решился стать псом.
День двадцатый. «Гер Фанхас опять у блудницы»
Ах, как суетна жизнь! Как обольстительны минуты заблуждения! Всего неделю назад добивался Гер Фанхас от Третьей женщины Благоволения в пользу работорговли, а теперь вот сам, при всех, торжественно, прямо при ней, в стенах иудейской духовной Академии (чтобы на весь мир разнеслось!), вознамерился пример показать — раба своего отпускает!
Всего неделю назад шептали, не смея сказать вслух, иудеи: «Господи вездесущий! Без прощения оставит всех нас в ином мире Фанхас: он уже и в божьем заведении, как у себя на Сук Ар Ракике, торговать стал…» А теперь вон улыбается во весь рот приведённый Фанхасом в галерею к Женщине домашний раб, которому в поучение и назидание другим при её свидетельстве будет сейчас дана вольная. Должен бы сдержаться, а не может, уже заранее ликует душой счастливый избранник: ему выпала нежданно-негаданно манна с синего неба. Аж весь извертелся, издёргался домашний раб, не веря в неслыханную удачу.
Кто, хоть бы даже и из учёных, что заседают в Блуднице, своего раба сам задарма отпустил? Да ещё с наградой?! Халата старого своему ближнему никто из них впустую не подарит!.. А Гер Фанхас хочет пример показать. Благодетель народа, — он и есть благодетель!..
Со всех сторон кричали:
— О, хакам, мудрец, Фанхас!
— Ах, как он тонок умом, как остёр языком, щедр рукою!
— А мы-то, неумные, жаловались, что прекратились видения и пророки и не заметны сила и явления. Вот он — муж вожделения!..
— К богу, нашей помощи, простирали мы, глупые, свои руки с жалующейся душой. Молили, чтобы из земли запустения собрал нас… А вот вокруг кого собираться надо…
— О Фанхас, дай… дай всем нам праздник!..
Фанхас наслушался словословий, а потом сам начал речь:
— Почтенные академики! Учёные! У меня есть раб. Да он не раб, а дитя, которым Неизречённый бог — слава всемогущему во веки веков! — меня одарил. На щеках моего раба розы и анемоны, яблоки и гранаты образуют вечно цветущие сады, исполненные красоты, где дрожит вода очарования… — жирный голос Фанхаса высоко взлетает под потолок галереи. Он не был бы купцом, если бы не научился согласно самым утончённым правилам расхваливать свой товар. Ведь насколько нахвалишь, столько за товар и получишь.
— Учёные! Мой раб изящен, весел, остроумен, неподражаем — прекрасный драгоценный камень, лучи которого искрятся. Он как хранитель ценностей в моём доме и верный страж: у меня никогда ничего не пропадает.
он выдаёт деньги, но протестует, когда я деньги не берегу, всегда придерживается золотой середины. Среди всех людей он больше других сведущ в приготовления пищи. Вот посмотри на меня: вы все видите, каким я стал с ним толстым и жирным. Мой раб, когда я улыбаюсь, — сияет, а когда я его бью, — он трепещет. Он знает искусство поэзии. Вот послушайте меня: как с помощью своего раба я научился изящно говорить! Он, мой раб, настоящий меняла стихов, который тщательно пробует на зуб содержание в них золота тонких выражений. И о моих расчётных книгах он заботился, чтобы всегда они были в прекрасном состоянии. Он и одежды мои так складывает, что все они как новые. Да вон он, мой раб…
Фанхас шарит взглядом по проходу. Он нарочно долго ищет своего учёного раба, чтобы и все увидели, как раб уже свободным человеком почувствовал себя и нахально трётся возле учеников, возлежащих у ног учителей: уже надеется, что вдруг и вторая удача ему выпадет (везёт счастливым!), — вдруг кто-нибудь нечаянно положит ему на голову руку, посвящая в судейские. Воспользовался охальник, что ухо у него не проколото, как у клеймёных рабов, и свобода ему не заказана.
Наконец, привлекши всеобщее внимание, Фанхас, «находит» раба и машет ему рукой. Повелительно и торжественно машет, чтобы не ослушался, мол, пусть, идёт к хозяину и покажется всем. Вот, щупайте раба, трогайте ему зубы и… другое. Всё налицо, без обмана!.. Проверяйте все, каким товаром ради Неизречённого бога Гер Фанхас жертвует!
Домашний Фанхасов раб, привычно повиливая задом, будто дорогая танцовщица, высланная хозяином, чтобы поразвлечь гостей, взошёл на кивот.
Но закричали:
— Господи! Раба прямо на кивот Фанхас хочет возвести. Да что же делается?! Не стоило бы! Не священнодействие же всё-таки! И сам Фанхас — не священник. Кощунство!
Реше Коллет схватились в отчаянии пальцами за виски. Но Фанхас по-прежнему гладит своего раба на кивоте. Ласково, как любимую женщину, как мальчика, который на рынке дороже женщины, обнял своего раба за плечи, чуть пригнул…
Спрашивает громко Фанхас:
— Знаю я, учёные, что писано: «Если продастся тебе брат твой, верующий в Неизречённого бога, то шесть лет всё равно он должен быть рабом, тебе, а в седьмой отпусти на свободу…» Так ведь писано?
Фанхас сделал паузу, чтобы все поняли, как отменно знает он законы и как благородно, с какой пользой он от рабства приобретает, но от рабства и сам избавляет. Избавляет ведь!.. А ему неделю назад здесь говорили, будто он ремеслом своим общину позорит?!
Продолжает свою речь Фанхас:
— Также ещё писано: «Когда же будешь отпускать, не отпусти раба с пустыми руками, но снабди его от стад твоих, от гумна твоего и точила: дай ему, чем благословил тебя Господь, бог твой, помни, что и ты был рабом в чужой земле и избавил тебя Господь, бог твой, поэтому сегодня и заповедано тебе сие повторять…» Ведь так писано?..
В парадные двери в галерею раздался громкий стук. В них ломились из всех сил, и Фанхаса это немного сбило. Он заплатил своим людям за ликование, но, платя, чётко же объяснил, чтобы они стучались уже после того, как всё свершится. Он хочет, чтобы известно стало всем (и заморским гостям, что приглашены, особенно!), что сам народ восторжествовал — благодарить и славить Фанхаса к Женщине примчался. А тут «ликующие» ломятся раньше времени.
Парадные двери сотрясались от ударов, но Фанхас не из тех, кто пасует даже перед неприятной неожиданностью, он снова взобрался на кивот, хлопает в ладоши, пытаясь привлечь к себе внимание.
Но удары в двери превратились в гулкую барабанную дробь, и он никак не мог подстроить под эту дробь свой визгливый голос.
Не выдержал, дал знак, чтобы открыли парадные двери. Подумал: «Всё равно теперь уж ничто не может мне помешать, а раз уж я решил сделать красивый широкий жест, то пусть придёт и увидит мой жест побольше народу».
Парадные двери открыли, но в них втолкнулась не купленная заранее толпа, а уже порядком вспотевшие (сколько они колотили кулаками в двери!) Шлума и Мазбар — городские наблюдатели за луной. Это они должны были приносить в Академию сведения, когда луна родилась и когда умерла, потому что Академия, как и подобает учёным, ведёт календарь, но ей некогда самой смотреть на небо.
Сейчас на раскрытых губах наблюдателей (и главных городских сплетников), как пузырь, висела какая-то явно не календарная, а иного значения новость…
Шлума и Мазбар втолкнулись, увидели на кивоте Фанхаса, а рядом с Фанхасом раба тоже на кивоте. Фанхас грозно глянул на них со сведёнными (как гусеница выползла) бровями, и те застыли в полуужасе.
Фанхас снова обнял своего раба, как ласкового мальчика. И быстро-быстро, хотя вполне разборчиво, завизжал слова из Закона:
— «Если же раб скажет тебе: «Не пойду я от тебя, потому что я люблю тебя и дом твой», потому что хорошо ему у тебя, то возьми шило и проколи его ухо, и будет он твоим рабом навек».
Потом Гер Фанхас не мог вспомнить, как, зачем и почему тогда оказалось в его руке острое шило. Видит бог, что не хотел он этого шила даже и показывать, а так — привычно нащупал его рукой за поясом халата (работорговец ведь, как же без шила?) и вытащил.
Вытащил да и проколол ухо своему рабу, ещё хмельному от радости, покачивавшему, как женщина, бёдрами. Обнял, прижал к себе поплотнее отпускаемого на волю раба — да и лишил навсегда надежды на волю.
В растерянной, потрясённой тишине он затем потребовал:
— Почтеннейшая Академия! Ты освещаешь своими искренними свидетельствами благостность и богоугодность всякого совершаемого дела. Ты одна судишь, что богонравно, а что богопротивно. Так засвидетельствуй же, что потерял голову от неслыханного счастья сей раб!..
Фанхас ещё крепче, сдавливая шею, прижал к себе раба, загоняя внутрь его запоздалый безнадёжный крик.
Бодро продолжил:
— А как же не радоваться этому человеку?! Как не благодарить бога за оставленное ему рабское состояние! Ведь отныне ему уже никогда не надо будет самому заботиться ни о куске хлеба, ни о чашке воды, ни о занятии для рук. Всё сделает для него его господин — и накормит, и к делу определит, и, когда надо, как положено, в меру поучит. Подобно тому, как масса бездомных псов, горестно подвывая, часто бродит вокруг стойбища, набиваясь, чтобы какой сжалившийся хозяин посадил приглянувшегося пса к себе на цепь, за это предоставив постоянные конуру и похлёбку, так и масса непредприимчивых людей мечтает о ярбигал — рабской колодке себе на шею, потому что иначе ей не выжить. Вступление в состояние рабства есть божественная возможность для слабого человека прислониться к плечу сильного и стать под его отеческую руку. Я давно уже пришёл к выводу, что работорговец полезнее врачевателя: продавая слабых людей, он тем самым подыскивает им кров, пищу и попечителя. Так засвидетельствуй же, почтеннейшая Академия, что я, работорговец Гер Фанхас, достоин восславления во всех молитвенных собраниях за заботу о человеческой породе, а работорговое ремесло находится под покровительством самого бога?!
Фанхас отпустил раба. Вздрагивая, тот повалился на пол, странно пополз.
А Фанхас сошёл с кивота, встал против Блудницы на колени, уверенно опустил (как поднял!) голову — для Благословения.
Но тут, будто удар кинжалом в живот, услышал, как вышедшие из-под контроля Шлума и Мазбор наперебой заорали — обнародовали ошеломляющую новость:
— Барс Святослав прислал Кагану бересту: «Иду на вы!» Береста уже передана в руки Царю Иосифу. Радуйтесь, харан — свободные люди. Иша-управитель Иосиф взял всю полноту земной власти в свои руки. Иосиф теперь оставляет Кагану только дела божеские, а сам будет готовить Барсу достойный ответ.
В галерее все неистово зашумели. А про ждавшего Благословения с преклонёнными коленями Фанхаса сразу просто забыли.
Фанхас всё-таки попробовал ждать — может быть, наорутся и вспомнят про его дело.
Не дождался. Поднялся на ноги. Бросил шило на пол, как плюнул. Грузно пошёл вон — прочь от Блудницы, словно он своего раба ей для её удовольствия швырнул — подарил. Спи, мол, с рабом, паскудница, раз дела не знаешь, мне, полезному для тебя человеку, нужную справу дать не сумела! Разбирайся со Святославовой берестой. Хотя скорее всего это пустая угроза. Русам до Хазарии с большим войском без коней не добраться…
Он вышел на площадь. Плюхнулся в носилки. Рабы резво побежали по наплавному мосту на левый берег. Навстречу ему нёсся поток иудеев, торопившихся к своему храму ещё раз своими ушами услышать про бересту от Святослава-барса.
Но вскоре пошли виноградники, и поток этот обмелел. Был уже поздний вечер. Простоволосая чернь, хоть и тоже была из «кувшинов», забыв про праздник, ещё гнула перед лозой свои спины.
Фанхас не торговал вином и потому равнодушно взирал на эти согнутые спины: он не понимал, зачем нужен был такой тяжкий труд над лозой?
Виноградники принадлежали его новым единоверцам-иудеям. Но тут всё больше были еретики — неразумные караимы, поверившие в учение Анана, будто избранных народов нет, а человека спасает труд. Ах, скольких уже разумных иудеев смутили такие, как Анан!
Гер Фанхасу пришлось выслушивать от караимов, что Анан бен Давид был царского рода, а надо же — вот занялся ткачеством. И когда его выбрали гаоном — главой духовной Академии, от ремесла не отказался. Караимы теперь канту (заодно) с Волчонком, который, хоть и Каганова рода, но стал лепёшечником. Освоил пекарное ремесло и тоже решил кормиться от собственных рук.
«Юродивым, наверное, был Анан, вроде Волчонка-лепёшечника, — подумал Фанхас, — Волчонку бы караимство принять?! Он такой же еретик…»
Гер Фанхас велел повернуть носилки, двинулся назад.
У самого храма было шумнейшее ликованье заморских гостей. Кажется, все заезжие иудеи собрались тут и славили Иосифа.
— Яарин! Знак божий!
— Вездесущий сотворил чудо!
Заезжие купцы-иудеи пели хором:
— Я сделаю рог твой железным, вовек, с сегодняшнего дня и впредь!..
Кордовский везир Хасдай и поэт бен Сарук (которых пригласил Фанхас как свидетелей) тоже довольно потирали руки, благодарно бахвалились:
— Отныне мы не анастатика хиерохунтика — иерихонская роза «перекати-поле»! У нас есть отныне свой царь. Слышали, что в ответ на бересту «иду на вы» Иосиф прямо ответил, что он — царь? Никто больше не посмеет презирать иудеев: мы любому ответим, что у нас тоже есть свой царь — царь Хазар! Нас есть теперь кому защищать перед иноверцами, мы больше нигде не будем бесправными. За нашими спинами теперь Великий Хазарский Каганат.
Фанхас подошёл к заморским гостям, стал обниматься с ними. Обнимал, а сам думал, насколько себялюбивы заморские гости. Они не хотят даже понять, что береста Барса Святослава — объявление войны Хазарии. У них на уме одно тщеславие. Странно, иудеи часто противоречат сами себе. Ведь когда перетаскивали его в свою веру, то клялись, что их бог — самый сильный, хоть и нет у него нигде, ни в одной державе отдельного престола, потому что их бог — сами деньги. Оттого, мол, и не называют бога по имени, а всё иносказательными именами; неудобно же в жёлтые и белые кружочки верить. А теперь радуются, что у них свой царь, как дети. И не понимают, что этому царю уже недолго быть.
Фанхас потеребил жёлтую пластинку, висевшую у него на цепочке на груди. Он думал: вот я поверил, бросил своих богов, перешёл под руку к Неизречённому, потому что сам тоже с детства видел силу жёлтых и белых кружочков, их особую таинственную власть, при которой вроде бы как под рукой ничего и нет суетного: ни многих стад, ни великой прислуги, ни титула, ни войска, — ничего нет зримого, но рассыплешь кружочки — и, как у арабов их джин из бутылки, является для тебя всё сразу, всё, что хочешь. С жёлтыми и белыми кружочками ты становишься сильнее бека, грознее Иши, потому что те — повелители, а ты — волшебник. Ты в стороне — и ты над всеми, один всем хозяин!..
Фанхас поверил тогда людям, убеждавшим его сделать себе полезное. А эти же самые люди теперь за то, чтобы не оставаться таинственными кудесниками, а показаться перед всеми (только на миг показаться!), будто и у них тоже есть свой царь на престоле. Эх! А все называли себя особенными?!
Фанхас в последний раз старательно облапил своих дорогих гостей, прижал, как только что прижимал своего раба, к огромным шарам своего сала, так что все они по очереди провалились в его сале, как хилые ухажёры на груди дородной, кровь с молоком, женщины.
Громко чмокнул каждого сальными губами в щёки и в уста. Какие они избранные? Какие «дети вдовы», знающие тайную силу мира?.. Ведь им тоже только бы перед другими показаться! С другими сравняться!
Сотрясаясь всем телом, всеми огромными сальными своими шарами, Гер Фанхас рассмеялся на всю площадь перед храмом.
Заморские гости одобрительно хлопали его по плечам, по спине, по отвисшему пузу, — они думали, что он радуется вместе с ними. А он смеялся над ними. Прежде он хохотал только над караимами-еретиками. Он говорил им: «Разве Вездесущему угодны такие, как вы, проповедующие со всеми равенство, смиренномудрие? Не употребляйте больше имя Вездесущего всуе! Ведь своим смиренномудрием вы добьётесь только одного — тихого растворения в иных племенах. Так и уходите сразу. Вы должны уйти от нашего великого бога, а ваше место займут предприимчивые и сильные из иных племён, вроде меня! Вот тогда действительно образуется избранное племя, способное завоевать мировую торговлю, все жёлтые и белые кружочки, а вместе о ними и весь мир!..»
Теперь Фанхас будет тоже хохотать и над «детьми вдовы». Они только полагают себя избранными. Нету избранных! Избирать каждый может только себя сам!..
И тут в голову Фанхасу ударило: береста от Русов! Ну, теперь-то Иосиф должен стать сговорчивее…
На пороге храма, у входа в галерею стояли в парадном облачении Арс Тархан и Кандар-Каган (главнокомандующий) Песах, другая свита. Гер Фанхас решительно оттёр свиту, подмигнул Песаху, цыкнул на пытавшегося ему преградить дорогу Арс Тархана:
— Где царь?.. В храме? Вызови! Я немедленно хочу с ним поговорить!..
Как жирный породистый бык, Гер Фанхас припёр к стенке появившегося «царя» Иосифа. Потребовал нагло:
— Слушай меня, царь Иосиф. Я, твой джахбаз ал хадра — придворный банкир, нуждаюсь для пользы твоих государственных дел в маленьком твоём царёвом Благоволении — немедленно заставь Блудницу поддержать работорговлю! Это деньги на войну с Барсом.
День двадцать первый. «Волчонок оскорбляет богов»
Тихая лежала перед рассветом под бездонным небом Река и чернела водой, отражая небесные бездны. И белые бурунчаки пены бороздили её. Как чёрное зеркало с белыми трещинами была Река. И мужской голос, высокий и задиристый, одиноко пел о моста ей молитву.
О Чёрная Река. Всякий может увидеть тебя
В образе прекрасной девушки,
Сильной, стройной, высоко подпоясанной,
В нарядном чёрном плаще с обильными складками.
Стягиваешь широким поясом высоко ты стан свой,
Чтобы дивные груди твои восстали,
Чтобы влеклись к тебе людские взгляды.
О прекрасная Река! О чёрная! О добрая!
Милости прошу я, Кочевник, у тебя:
Помоги мне, тобою полюбленному,
Отразить войско Барса Святослава.
И самому захватить обширные царства,
Где варят обильную пищу,
Наделяют большими жирными кусками…
А другие голоса шли с берега, где стояли в темноте кучками люди и, развлекаясь, кричали охально, перебрасываясь словами напоказ, явно изнывая от ожидания. Они ждали развлечения. Какого?
Они сами выдавали, чего они ждут, в весёлых вопросах и перебранках:
— Эй, кто это там на наплавном мосту показно творит молитву? Ишь повязал, как чётки, свой пояс на шею, за тесьму повесил на руку свою шапку, расстегнул-обнажил грудь и кладёт девятикратно поклоны? То же мне птица! Орёл царственный!
— Ха, да это же лепёшечник, поторопился пораньше занять своё торговое место. Ничтожный, простоволосый человечишка! Он для голодных лепёшки приносит на наплавной мост. Всякая тутгара — прислуга теперь аж к рассвету к наплавному мосту собирается — ждёт хлеба. Лепёшечник продаёт им за даник, за мелкую монету, свои лепёшки, а нищих и вовсе задаром кормит.
— Ничтожный, простоволосый человечишка. Быстро разорится.
Так переговаривались на берегу.
— Эгей, кто там посреди наплавного моста среди ночи столь дерзок? Кто смеет класть девятикратно молитвенные поклоны и, будто он стоит над всеми, выпрашивает у покровительницы Чёрной Реки жирные куски не для себя лично, а для Всей Массы Народа? И кто он, такой важный, что нету для него от стражников запрета по ночам болтаться на мосту?
— Тсс! Тише! Заткни себе глупую глотку, охальник! Разве ты не видишь, что там, на мосту, принц! Сам Тонг! Тот, который ходит весь в чёрном, распустив до плеч волосы под золотым обручем! О, какой ты неразумный! Как же ты не знаешь, что в нашем городе нет сейчас никого знатнее Тонга Тегина?! Видишь: он повесил себе на шею, как чётки, кожаный пояс с железною пряжкой. А знаешь, что у него изображено на пряжке? Волчица Ашина между двух сопок! Это знак, что он — Волчонок, наследник Кагана.
— Волчонок говорит, что живёт только ради того часа, когда сменит отца и на собрании Сильных его изберут властителем душ. Он говорит, что, как нагрянет Барс Святослав, все его сразу вспомнят. А он закроет высокий и широкий стан свой плетёной бронёй, наденет на свою большую голову утыканный гвоздями шлем, а здоровенный лоб свой прикроет медной доской и поведёт войско Хазар защищать Родину.
— Ха, да видел бы ты его?! Разве он воин? Разве домокчи — болтун когда становился хорошим воином?!
— Но он говорит, как нагрянет Барс, то он устрашит Барса Русов крепким копьём из кедрового дерева а обоюдоострым мечом.
— Слушайте, свой меч он захватил в землях Русов, когда воевал вместе с полководцем Песахом.
— Волчонок говорит, что высоко поднимет над своей головой медный диск, сверкающий, как жёлтое солнце, — говорит, что сразу созовёт всех харан, свободных людей, и поведёт за великой олье — добычей.
— Ха! Мало ли что болтун болтает?! Полководец Песах давно тоже только на разговоры мастер. Не вспомню уже, когда он в последний поход ходил. Нарядится и расхаживает по городу, как павлин. За чужой счёт норовит пообедать. Вот и весь полководец.
— Раз Волчонок с Песахом в походы ходил — вот болтуном и стал. Гнать надо говорунов. Всем им языки вырвать. Может быть, тогда они взялись бы за войско. А то только пугают Барсом…
— Это ты зря. Слово иногда тоже полезно. Разве не записано в биликах: «Соблюдайте меру между словом и молчанием. Когда не нужно говорить и говорят — теряют слова. Когда нужно говорить и не говорят — теряют людей».
— Ты что же, хочешь сказать, что Волчонок потому много и говорит, что не хочет потерять людей?
— Да, он не хочет, чтобы мы себя совсем потеряли. Напоминает, что Эль — племенной союз-государство, А мы про это забыли. Потому мы и не сможем противостоять Святославу…
— Ну, это для меня слишком мудро. Мне бы лепёшку скорей! Святослав нагрянет? Не нагрянет! Далеко ему идти до нас!..
Так перебрасывались словами на берегу в темноте собравшиеся кучками люди, которых пока, — до рассвета, — стражники не пускали на наплавной мост. С нищих, что с них было взять? Эти были голодные люди.
Но и у другого конца наплавного моста, на острове тоже темнела кучка людей, хотя на острове жили «люди силы» и уж ям-то, казалось бы, нечего было с рассвета сторожить лепёшку.
На острове говорили:
— Ах, почтенный Фанхас? Всё-таки я никак не пойму, чего ты меня, твоего гостя, поднял такую рань и подвели к наплавному мосту. Чего мы тут ждём? Ответь мне разумно, почтенный джахбал ал кадра — придворный банкир! Пусть направится ко мне твоё сердце не за мои заслуги, а ради нашего союза: объясни мне — чего ждём?
— Успокойся, почтенный! Я не зря призывал тебя к нам из Испании, — далёкой и почтенной Кордовы, — а чтобы ты стал свидетелем. Чтобы, уехав, на всём своём долгом пути до Кордовы всем-всем, кому надо, рассказывал то, что ты сейчас увидишь и что надо рассказывать с удивлением и восторгом. Жди.
— О мудрейший Фанхас! Пусть склонится твоя милость в мою сторону. Сколько ж можно испытывать моё любопытство? Ты расписал мне, что хазары покажут с наступлением весны чудо, равное времени освобождения и началу пророчеств. Но что вижу я?.. Свидетельствовать мне оказалось нечему. Духовная Академия не решила даже твой вопрос. Не дала тебе справы в пользу работорговли. А теперь я вижу только и всего, как какой-то человек молится на мосту, а с берега одна кучка народа над ним смеётся и называет его лепешечкиком, а другая кучка народа кричит: «Тсс!» — и пророчит, что он станет Каганом, Что ты меня, почтенный Фанхас, морочишь глупостями! Как лепёшечник может стать Каганом?
— Ах, дорогой кордовец. Да наплывёт на каждую из твоих больших и малых костей столько сала, сколько ты сам пожелаешь! Клянусь всем моим жиром,».
— О почтенный Фанхас, я совсем не понимаю тебя. Зачем мне сало на костях? И почему ты клянёшься жиром?
— Ах, прости меня, Хасдай! Видишь ли, дорогой гость, дело в том, что я, банкир Фанхас, в вере нашего Неизречённого бога недавно. Я прозелит, новообращённый. У меня ведь потому и стоит перед именем «Гер». Так вот. Я просто сейчас хотел пожелать тебе добра на том языке, какой был принят в моей прежней вере. Я же был кочевником, а кочевник больше всего боится бескормицы и падежа скота и, естественно, во избежание голода желает себе и своим ближним накопить побольше жира на собственных костях.
— О всевышний! Ну что вы тут мне все говорите? Не за этой же скотоводческой мудростью плыл я сюда к вам за три моря, переживая за свои товары и кляня обстоятельства, направившие меня в столь утомительный путь?! И что ты меня сегодня с рассветом поднял? Ну какое тут чудо? Долго мне ещё смотреть на мост? И что за человек молится? О, меня предупреждали осведомители, что в вашем городе хоть и верят в Неизреченность бога, но верят неправильно, что у вас тут свили гнездо своё еретики-караимы. «Ах, сегодня ткач, а завтра гаон — духовный вождь! Сегодня лепёшечник, а завтра Каган — властитель душ! Ах, у нас вскопана Земля Обетованная, основан город великих возможностей! Ах, у нас демос кратос — народовластие!» Уф, дух захватило от вашей неожиданности! Только почему вы её без света, в темноте показываете? При солнце-то, выходит, уже нельзя — солнце-то твёрдые законы предпочитает и для каждого его собственное, а не чужое место отводит! Тьфу! Какие же вы рахданиты — богатые купцы, если не понимаете, что торговля на законности и порядке держится? Зачем вы меня сюда притащили? Дайте мне света! Скорее, света! — закричал гость.
Гость так взбеленился, что старческий крик его, похожий на кашель, поднял птиц из камышей, и они взвились над рекою. Впрочем, может быть, мы преувеличиваем значение почтенного заморского кашля, и птицы поднялись сами собой, потому что почувствовали приближение солнца.
Небо и впрямь стремительно белело. Река под небом всё ещё лежала чёрным бескрайним зеркалом. Но уже не царила над ним огромной бесшумной совою насторожённая тишина хазарской ночи, и уже не смог бы никто, хоть с самыми чуткими ушами, расслышать громкие шепоты на берегу, или разговоры на острове, или плеск крупной рыбы, или сап коня. Филин тишины, байгуш, был вспугнут.
Волчонок, услышав поганые пересуды, снял со своей шеи кожаный пояс с железной бляхой, изображавшей волчицу, запахнул на груди свой чёрный халат, поправил золотой обруч на своих разметавшихся длинных чёрных волосах. Он погладил ладонью свои девять клоков бороды и, придвинув к себе корзину с горячими лепёшками, стал прямо на пыльном мосту красиво раскладывать товар. Он знал, что голодная толпа моментально сметёт лепёшки, как их ни выложи. Но он был мечтатель и любил, чтобы было красиво, хоть в мечте. Он бросал взгляд на город, как видел его с моста, и тут же клал несколько лепёшек. Потом ещё и ещё. И постепенно под его руками у его ног стал возникать тоже город — из лепёшек. Игрушечный город, который уже через несколько минут сжуют голодные рты. Но, может быть, думал Волчонок, там, на небе, где заранее выбивается на медных досках каждому человеку его ризк (судьба), тоже есть вот таксе изображение Итиля-града и уже определена его судьба: какая?
Река всё чернела, но теперь уже не блестяще-зеркально, а густо-матово и, клином сходясь к горизонту, теперь стала похожа на чёрное платье с широким подолом, обтягивающее девичий стан.
Волчонок замечал за собой, что после того, как Воислава порвала с ним, он стал только ещё больше её любить. Ему представлялось, как она идёт к нему, ища примирения, и он начинал ей навстречу улыбаться, и всё сразу плыло перед ним, растворялось в радужном окаеме. Только стучали где-то очень вдали каблучками серебряные плесницы. Или это, может быть, он так слышал гулкое эхо собственного сердца?!
К реке чем ближе к восходу, тем круче стекался туман, наползал клубами и, смешиваясь с водой, превратил всё вокруг Волчонка в единое молочное марево, чуть желтеющее и, как парной кумыс, будто подсвеченное изнутри.
И выглянуло солнце, и руками мужа оно разом сняло, как чадру с лица жены, весь туман с реки.
Тихо колыхалась в своих берегах река, похожая теперь на перевернувшуюся белым брюхом вверх огромную рыбу. А на берегах и на острове шумел, просыпался родной для Волчонка город. Судили-рядили про Итиль-город в Халифате, что станет он скоро, как Вавилон, — потому что люди говорят в нём на четырёх языках, а исповедуют четыре великие веры и, одни боги знают, сколько малых вер. Кого только не встретишь на итильских площадях — почитай полгорода булгары, а сколько славян, албан, армян, мадьяр, иудеев («пришедших из-за Реки», — чьи предки ещё видели Второй храм)! Всех приветил Итиль-город.
Тоне Тегин уже видит свой проснувшийся Итиль на солнечной ладони. С крепким забором-частоколом вокруг. Как наконечника копий, упёрлись в небо островерхое войлочные юрты скотоводов. А рядом блеснули покатыми крышами саманные мазанки виноградарей и рыбаков. Сгорбатились деревянные дома рахданитов — купцов и чиновников. Всем вдоволь места. Как конные командиры, встали над мазанками, юртами, землянками и домами, блистая золочёными куполами и облитыми глазурью минаретами, христианские церкви и мусульманские мечети. А меж ними, весело тесня их, плюхнулись похожие на сундуки плоскокрышие дома молитвенных собраний — синагог. И повсюду на улицах и площадях, как стража, приткнулись у божьих заведений там и сям деревянные языческие идолы с золочёными и посеребрёнными усами и рогами. И сколько расставлено в городе, как достойных воинов, балбалов (каменных истуканов, поставленных в честь героев) — жёлтых, из песчаника, и серых, из гранита. И не меньше пирамид с магическими надписями, и рядом с пирамидами лес длинных шестов: когда-то они были со свежими кусками мяса на своих тонких остриях, тянущихся к небу, чтобы дать пищу богам. А на острове колышутся резной листвой, все в лентах и дарах, священные дубы.
Вот, встречая восходящее солнце, радуются храмы. И идолы возле храмов не для соперничества и мести друг другу, а чтобы охранить людей, празднично сверкнули золотом и серебром своих одежд. И люди, смешавшись в разноодежную, пёструю, но общую помыслами толпу, потекли вниз к реке. Люди весело вываливаются из своих жилищ и многочисленных караван-сараев (столько всегда гостей!) и уже кишат муравейниками возле базаров — понедельничного, вторичного, среднего, четвергового и воскресного, — в Новый год открывающихся все разом, невзирая на день недели (столько будет на Новый год товаров!). Люди стремятся на сук ар ракик — невольничий рынок и на рынки Платяной, Ковровый, Арбузный, Рыбный и Мясной. Люди расселись на корточках в саффах — торговых рядах, устроенных вдоль улиц, и залезли в похожие на собачьи будки меняльни. Они глазеют на юных лучников, арбалетчиков и борцов, а те в одинаковых одеждах и приплясывая, как положено, пересекают город, чтобы зазвать население и двинуться затем к раскинутому ещё накануне огромному хазармихи — праздничному шатру, в котором уже должно быть заранее готово угощение всем от Кагана.
Там люди рассядутся за угощение, и в этот момент перед ними явится, подобно солнцу, сам Каган. Он не будет скрываться от народа, а сегодня выйдет к своим людям. Вот так…
Волчонок так увлёкся своим городом, что попробовал шагнуть в него. И тут же опомнился, что сам разрушает лежавший под его ногами лепёшечный город. По настилу под ногами катилась лепёшка. С трудом поймав беглянку-лепёшку, Волчонок трудно разогнулся, нажимая себе на поясницу скрюченными пальцами: ещё в походах он схватил «капкан для ног» — подагру; и теперь был её приступ.
Из кучек народа, толпившегося на берегу, закричали, смеясь:
Эй, принц, как же ты всем нам рассказывал, что, став Каганом, поведёшь нас сразу за Великой Олье — добычей, а сам не то что броню одеть — разогнуться не можешь?
И тут кто-то страшно съязвил:
— Ха, какой там принцу престол?! Он престол под лоток приспособит, чтобы лепёшками торговать…
У Волчонка отхлынула кровь от лица, но он сдержался; стоял, обдувая от приставшей пыли подобранную лепёшку.
Доски моста закачались, поплыли под ногами у Волчонка, как на морской волне; это стражники с острова пустили народ на мост.
Услышав приближающийся топот многих ног, Волчонок согнулся в полупоклоне, как положено купцу, громко закричал:
— О харан — свободные люди! О почтенные рахданиты — купцы и ты, заморский гость Хасдай! Купите у меня самые вкусные в городе лепёшки! Купите, и вы возвысите своё высокомерие, ибо только у меня можно поесть лепёшек, самолично изготовленных благородными руками наследного принца…
Оттеснив голодных и нищих, огромная, как слон, туша надвинулась на Волчонка. Туша была столь жирной и крупной, что даже под халатом чувствовалось, как перекатываются составляющие её шары сала. Лес высоких шапок, «тузурке» (кувшинов), шитых золотом, обступил Волчонка.
— Бросайте монету и берите лепёшек! — Волчонок, как положено торговцу, подобострастно подставил покупателям полу своего халата.
Он играл в торговца и оторопел, когда дождь мелких медных монет — даников посыпался в полу халата. Монеты падали Волчонку на голову, проникали за шиворот. Раскатывались по мостовому настилу.
Однако Волчонок не бросился жадно подбирать монеты. Знал, что такое положено торговцу, раз уж он им стал. Но дальше он играть уже не смог. Гордость остановила его, он не бросился подбирать деньги, и тогда купцы, швырявшие перед этим горстями даники (чтобы произвести друг на друга впечатление!), сами не выдержали, — кряхтя, стали подбирать свои монеты с настила. Даже необъятно жирная туша Гер Фанхас попытался подобрать пару монет.
Когда все даники были собраны, Волчонок отвесил поклон покупателям:
— Товар ваш!
Жирная туша, Фанхас с трудом нагнулся, стал поднимать и дарить другим лепёшки:
— Вот вам всем, люди, от денег, заработанных мной на прибыльной работорговле. А тебе, мой гость, мудрый кордовец Хасдай, да будет длинным свиток твоей жизни, вот эту, самую горяченькую. Клянусь всем своим жиром… хе-хе, прости, клянусь всевышним, ты сможешь всем рассказать по дороге в свою Кордову, что побывал в чудо-городе, где купцы так возвысились, что наследник Кагана сам печёт купцам горячие лепёшки! Хе-хе!..
Пересмеиваясь, местные купцы повели своего кордовского гостя дальше по наплавному мосту.
Гость тоже смеялся с ними, но сквозь его смех нет-нет да и прорывалось ворчание:
— Конечно, заставить принца благородной крови печь нам, купцам, лепёшки — чудо! Но то ли это великое чудо, чтобы вызывать ради него меня, занятого человека, из самой Кордовы?
Гер Фанхас хлопнул гостя по плечу:
— Не брюзжи, Хасдай!.. Я тебя поднял до рассвета, чтобы при свежей росе показать тебе созревшую ягоду, налитую, просвечиваемую. А к полудню увидишь, и как выжмут из ягоды сок. Ох, когда сдерут с ягоды кожурку, разлетятся красные брызги до ромеев и до арабов. По всей Европе содрогнутся сердца от ликования и страха. Тебе же останется лишь достойно, как надлежит свидетелю, на пользу Шехине — Божественной сущности расписать деяние. Понял, свидетель? — и Гер Фанхас, страшно довольный собой, ещё раз увесисто хлопнул кордовца по плечу.
Купцы отошли от Волчонка. Стали в сторонку — ждать. Ждал и Хасдай — почётный свидетель! Не слишком ли долгим путешествием заплатил он за то, чтобы увидеть за занятием лепёшечника на наплавном мосту самого хазарского принца? Как считать! Про другого такого же «свидетеля» Ибн Хаукаля, — чьё описание путешествия к устью большой реки (Волги), истекающей из земель Рус, дошло до нас, — полагали, будто тоже служил он при дворе кордовского омеядского Халифа Абдар Рахмана III и обычно выполнял всяческие поручения везира Абу Юсуфа Хасдая ибн Шафрута. Однако, кроме того, он был также фатимидским осведомителем и ещё порученцем Аббасидоз, то есть работал сразу на три правившие тогда мусульманские династии. Но а этого мало: собранные Ибн Хаукалем политические, географические и иные сведения щедро оплачивали в других государствах. Например, тайную копию с записок Хаукаля недавно обнаружили во дворце Топкану в Константинополе — в дипломатическом архиве Нового Рима. Поймём людей той эпохи: одно было дело — судить о хазарах по каким-то слухам, а другое — получить свидетельство очевидца! Вот почему никто не говорит про Хаукаля оскорбительно для слуха «осведомитель». А благородно: «свидетель»! Ах, уж эти свидетели…
Волчонок, не разгибаясь с торгового полупоклона, смотрел вслед отходившей кучке «свидетелей». Догадался ли он, что «свидетелей» Фанхас привёл не случайно?..
Проводив купцов долгим взглядом, Волчонок выпрямился, медленно снял с себя почётный родовой пояс в железной пряжкой, изображавшей волчицу между двух сопок, и стал убийственно неторопливо пересыпать из полы своего халата внутрь пояса кинутые ему купцами за лепёшки медные даники. Он старался это делать как можно независимее, но облегчённо улыбнулся, когда даники кончились. Тогда он неторопливо повесил пояс, как чётки, на шею, повернулся лицом к медленно всплывавшему из реки солнцу и сел молитвенно на корточки. Крикнул:
— Люди! Голодные! Налетайте! Берите лепёшки задаром. Купцы сегодня оплатили ваш хлеб.
Наплавной мост ходил под ногами ходуном: стражники пустили на мост теперь и толпу с берега. Волчонок прикрыл глаза. По Тере (закону-обычаю), не положено было кочевнику смежать веки при молитве: от богов нельзя, как нашкодившему псу, прятать глаза. Но Волчонок уже знал, что всё равно сегодня он нарушит всё, что положено. Он и так слишком долго смирялся и ждал; и дождался только того, что стал жалким. Однако он всё-таки не ягода, на которую со смехом наступают подошвами, разбрызгивая кровавый сок! Это Гер Фанхас зря про него так рассказывает…
Принц чувствовал, что его обступили. И, не открывая глаз, он видел их: кто в халатах, кто в длинных рубахах, а кто и в шкуре, все с непременной серьгой в ухе, с распущенными, взбившимися волосами — большинство с длинными носами и узкими, как щёлки, глазами, приметным признаком смеси, наглядным приварком котла, в котором уже какое поколение варились вместе прибившиеся под руку Волчицы Ашины осколки разных рас. Они ещё цеплялись каждый за свою веру, за своих отдельных богов, а природа уже делала собственное дело, знай соединяла, сплавляла их и, как тавро будущего, дарила им эти общие, одинаковые длинные гордые носы и зоркие щели глаз. Они пока оставались здесь только толпой, вот как та, что сейчас обступила его, Тонга Тегина, — не всей массой, а только кучкой народа… Но ведь это по вине потомков Волчицы Ашины! Единственно потому, что властители, — те, кто призваны были соединить народ под собой вместе, — объединить единой, способной равно воспламенить сердца всех великой идеей, — не подняли свой дух до этой идеи.
— Ну, не бойтесь! Берите лепёшки задаром! Никто сегодня не побьёт вас… Барс Святослав ещё далеко. Подкрепляйтесь, пока живы…
Тонг Тегин вдруг резко выпрямился и широко распахнул свои глаза. Он уловил, что сейчас, в этот вот миг, взошедшее солнце выкатит свой жёлтый шар, что оно пришло на наплавной мост.
Смотря прямо в ударивший ему в глаза свет, Волчонок закричал молитву кочевников. Он кричал молитву громко и уверенно, чтобы слышали и поверили всё, и растопырил локти, и повёл локтями вперёд, как будто махал крыльями:
— У-у-у-у, Итиль — Чёрная Река! Я, степной народ, верен тебе: обернувшись чёрным вороном, буду вместе с тобою подчищать всё, что снаружи; обернувшись мышью, буду собирать-запасать с тобою всё, что внутри. Обернусь нембе — тонким войлоком и попробую вместе с тобою укрываться, обернусь юртовым черисче — толстым войлоком и укрою от ветра разведённый вместе с тобою огонь. Но, однако, Итиль — Чёрная Река, как же ты допустила такое дело, что Конь голодает? Что разбрёлся туда-сюда Конь?
Тонг Тегин смотрел прямо в бивший ему в глаза свет. Глаза ему нестерпимо жгло. Он не мог оглядеться, чтобы увидеть, как слушают его слова. Но по тому, какая насторожённая тишина затаилась вокруг него — словно это рысь приготовилась к решающему прыжку, Волчонок понял, что его внимательнейше слушали.
И он продолжил:
— У-у-у-у, Итиль — Чёрная Река! Ты что-то сделала не так, лаская, как послушная наложница, лодии купцов и забывая хорошенько напоить Коня. Да и твой брат, Солнце, забрав весь свет у рода Каганов, теперь не знает, что своим жаром делать. Он выжигает Степь, так что скоро вокруг еке ордос — великого двора будут бегать одни бактрийские верблюды. Почему не урезонила своего брата Солнце, о Итиль-Чёрная Река — покровительница кочевников?!
Глаза Волчонка остыли, и он теперь видел, как испуганно и восторженно обступает его толпа. Он воодушевился. Подумал: «Вот, вот с чего ему сразу надо было начинать — с открытых, смелых речей на наплавном мосту к толпам народа!»
Как будто развивая успех на поле сраженья, он побежал и принялся преследовать самое белое Солнце. Он вдруг побежал в пляске орла, как безумец, навстречу брызнувшим ему под ноги белым лучам, он даже замахнулся на них, изображая, будто в руке у него чичуа (длинный кнут). Он бежал в пляске орла по наплавному мосту и охально кричал, вселяя ужас в расступавшихся перед ним людей, поливая их спины холодным потом и настолько лишая сил их колени, что все люди на мосту сами собой попадали ниц.
Тонг обессилел, сам тоже упал на колени, но, махая кулаками, всё кричал:
— У-у-у, белое Солнце! Как осмелилось ты настолько отвернуть силу от всей массы степного народа, что теперь все проголодались и отощали! Придёт Барс, он растерзает нас, обессиленных. Не сметь дурно поступать с Конём! Это я тебе говорю, жёлтое Солнце! Я, Тонг Тегин Волчонок — потомок Ашины-Волчицы, которому само Кек Тенгри — Синее Небо доверило пасти Коня. Отдай! Слышишь, отдай Степи должную силу, Солнце! Не забирай себе весь свет. Зачем тебе столько жара? Слушай Солнце, неужели тебе не стыдно, что уже даже я, наследник Кагана, дошёл до того, что стал кормиться в своём городе торговлей?! Почему, Солнце, ты думаешь только о торговцах? Разве торгующие будут защищать Хазарию, когда придёт Барс Святослав? Мы же все погибнем! Торговцы разбегутся по другим странам, а неразумные хазары все погибнут. Так ведь будет?!
Волчонок разошёлся и вот тут-то и совершил непоправимую ошибку:
— Или ты, жёлтое Солнце, в своей строптивости дожидаешься, чтобы и я тоже, я, сам потомок Волчицы Ашины, переметнулся в иудеи к Неизречённому богу, подобно тому, как уже сделали это иные, сильные завистью к купцам кочевники вроде нашего жирного Фанхаса. Ты дождёшься, Солнце, что у твоей сестры Итили — Чёрной Реки не останется никакого храброго народа в покровительстве, а все мы станем сменившими веру и будем нагуливать себе жир по разным странам не от доброго занятия — скотоводства и войны, а от удобной торговли?! Бутукай — не смей так поступать, или мы, проклянём тебя, наш бог жёлтое Солнце!
Потом, много позже некоторые пожалевшие Волчонка люди (а нашлись всё-таки и такие!) говорили, что он совершил непоправимую ошибку не сам, а потому что на него дурные духи наслали ослепление. А он вовремя не огляделся, — не увидел вокруг себя потрясённых лиц, чтобы в них посмотреться, как в медное зеркало, а опомниться. Он, мол, разгорячился, как бывает с воинами в пылу сражения, которые, начав рубиться, гонят и гонят и гонят коня и не слышат рога, трубящего, что, — спасая себя — пора остановиться.
Однако сам Волчонок засмеялся бы, если бы такое суждение о себе услышал. Он сознательно гнал и гнал дальше коня своей нетерпеливости. Он уже и кулаком помахал солнцу и будто плетью на солнце замахнулся. Но он боялся, что всё равно, даже и это, стерпят боги и люди: уж слишком, как рабы, они стали терпеливы. И тогда с вполне холодной головой и не с пьяной, а с трезвой своей мужской печенью он, издав погромче вопль, чтобы на него хорошенько смотрели, закинув на спину полы своего халата, приспустил дота ай (штаны) и публично показал великому богу свой зад.
Он поднял дотаай, только когда вокруг него, как полоснутая ножом, охнула вся толпа.
— О екес — предки! У нас получилось страшное: последний в роду Волчицы Ашины решил оставить нас без богов!
— О екес — предки! Подскажите, что же нам теперь делать?! Волчонок прогоняет от нас бога!
Тонг Тегин выпрямился, потрогал свои девять клоков бороды, рванул было их, пытаясь принародно выщипать священные знаки рода. Потом снял с себя пояс с пряжкой Ашины, положил перед собой и покорно сел на корточки, как садятся отдающиеся на милость. Он немного посидел так, внушая всеобщий страх, потом достал маленький ножичек для сверления стрел, резанул запястье и, выточив из ранки добрую горсть крови, брызнул вокруг себя.
— Да расцветут в местах, где упала моя кровь, в мою память красные маки, — сказал он. Он знал, что сейчас боги ли, люди ли опомнятся и расправятся с ним, и он искренне хотел самой жестокой расправы, потому что тогда люди о ней подробнее расскажут и уж точно, покка сообщат подробности, перескажут и задумаются над всем, что наговорил, умирая, несчастный (злодей? милостынник? герой?) Волчонок.
Тонг Тегин снова выточил из запястья целую горсть крови и снова разбрызгал вокруг себя.
У-у-у! Где же это пламя, ниспосылаемое с неба, в котором я должен сгореть? У-у-у Почему не выскакивают из толпы на меня свирепые псы с бронзовыми лбами и мордами, как долото, — те, которым плетью служат мечи и которые питаются росою, ездят верхом на ветрах и во время смертных боёв едят мясо людей, а в поход, запасаются для еды человечиной?
Ни пламени с неба от богов, ни псов от толпы не было на него. Солнце прикрылось облаком. А толпа отливала от него, как волна, обессиленно отступала, оставляя, словно принесённые с собой камешки (гальку? пену? мусор?), лишь одинокие фигуры самых любопытных или, может быть, тех, кто не до конца понял всего ужаса случившегося.
Толпа уходила, как уходит вода, чтобы оставить пустыню — мёртвую землю. А он? Он кропил и кропил эту мёртвую землю вокруг себя горстями своей крови. Он словно навечно помечал её своею кровью. Пятившимся от него людям предстал он уже не в человеческом, а в тотемном своём облике: выглядел тогда потомок великой Ашины-волчицы в точности как заботливо обрызгивающий своё место — границы владений — священный зверь.
И показалось даже некоторым, что они видят, сердцем видят: дух Волчонка обрызгал кровью роковую границу и пошёл прочь. А оставленное им тело сидело на корточках и смотрело ему вслед. Брошенное Духом Волчонка тело не только не пало на землю бездыханным — как сброшенная чужая кожа! как уже ненужная одежда? — но вроде как и без покинувшего это тело Волчонка продолжало существование. Волчонково тело не торопилось даже удалить со своего лица девять клоков бороды — свой прежний особый знак, показывавший всем своё отличие от простоволосых. Лепёшечник продолжал сидеть на корточках и вроде даже как ухмыльнулся, — будто обрадовался освобождению. Во всяком случае, в наплодившихся позже легендах о принце Волчонке и пришедшем затем его наказать за вызов богам степном каменном балбале-истукане больше всего говорилось об ухмылке, появившейся на добрых, толстых губах Тонга Тегина после того, как из него вышел, покропил вокруг себя кровью и ушёл прочь Волчонок.
Все на наплавном мосту тогда замерли в страхе и, шныряя глазами вокруг или закатывая глаза к небу (это уж кто как!), стали ждать балбала-истукана. Когда же он наконец объявится, чтобы принародно наказать отступника? Про особое назначение балбалов кочевники знали с молоком матери. Десятки истуканов остались на великом пути кочевых орд из Забайкалья по Сибири на Алтай и дальше, в сторону Урала и Итиль-реки. Грубо обтёсанные глыбы балбалов ставились на крови мщенья: они изображали поверженных врагов. А обтёсанные, почти как скульптуры, воздвигались в память самих героев. По преданию, это каменные тела для душ воинов, переселившихся на небо и ставших екес (предками) И вот известно всем было, что предки ревностно блюдут с неба каждый своё потомство, свои «кош» и «дом» на земле, пасут своё потомство, как заботливые и строгие пастухи хорошо плодящееся стадо. А каменные тела нужны предкам, чтобы они могли сразу, как потребуется для сохранения чести рода, спуститься на землю: помочь людям в бою или освободить Всю Массу Народа от какого неразумного. В Великой Степи, когда люди находят неразумного с проломленным лбом, то непременно назидательно говорят, указывая другим на него: «Вот неразумный достукался! Наказал его за грехи Истукан! Наши великие екес — предки не оставляют без наказания проступков против закона Степи!»
Когда Тонг Тегин бросил вызов богам, то всеобщее потрясение в толпе на мосту было настолько сильным, что все с перепугу отбежали и стали оглядываться, коситься, ждать наказания свыше.
Толпа, как волна, отхлынула от Тонга. Недалеко от него оставались только одни любопытные. И обратим внимание, что были это преимущественно кальирку, то есть люди без печени, посторонние, другой веры, чужие, страха перед Синим Небом уже не испытывающие. Сейчас кальирку выглядели, как мусор, оставленный на песке отливом.
Дальше всех оказался перешедший в иудейство необъятно жирный Гер Фанхас со своими заморскими гостями. Чуть поближе длинноногий Кандар-Каган Песах, по прозвищу Даус (павлин-могильщик). По должности был он заместителем Кагана — главнокомандующим. В войне с крымскими готами Песах лично, всего с когортой наёмных пехотинцев, взял крепостные стены, от которых перед тем, обливаясь кровью, откатились всадники знаменитого своими доблестями полководца Алпа Эр Тонга, старшего брата Тонга Тегина. Оба героя долго соперничали. Но теперь Алп Эр Тонг откочевал со сво-ям полком далеко в степь. Его примеру последовала и другие беки. А на пехотинцев жадный Иша-управитель просто перестал выдавать Песаху жалованье. И без какого-либо войска Песах вот и превратился всего лишь в почётного павлина — красивую птицу, очищающую кости для погребения их в таботаях, по обряду магов.
Рядом с Песахом тёрлась другая кальирку — Серах. Зменноволосая красавица Серах, сумевшая выбиться в прислужницы к самому Иосифу, слыла теперь в городе за его коруку, то есть «глаза и уши». Она была шумно довольна своим положением и даже сейчас, уж казалось бы, при таком страшном событии, забыла о страхе и только вовсю шарила глазами, стараясь запомнить всё, что можно донести Управителю. Впрочем, как подметили два известных городских сплетника Шлума и Мазбар, между своими заботами успевала Серах уже раз и другой подобострастно и обнадёживающее коснуться одежды красавца Песаха, по бедности не имевшего своего гарема.
Шлума и Мазбар, переминавшиеся с ноги на ногу недалеко от Серах, были законными городскими сплетниками. По занятию они оба были торговцами — оба держали по шлейному подвалу. А своё сплетничество они подкрепили титулом «наблюдателей за луной», купленным у жрецов Белого храма.
За спинами Шлумы и Мазбара гордо виднелись ещё два «оповестителя». Уже очень важных, так как они оповещали один — самого Халифа, другой — самого Базилевса-императора. Узкоглазый муфтий, весь в синем, стоял боком к Тонгу, будто обратившись лицом на юг, к Мекке, но взгляд его был кос и не отрывался от лица незадачливого принца. Что-то он ещё выкинет? И как вообще понимать все эти действия обладателя почётной цепи Халифа? Неужели он напрочь забыл, на чьём корабле он сюда прибыл?
А совсем поотдаль, в зелёных одеждах, застыл, нахохлился, как зелёный какаду, новый христианский епископ Памфалон — его рукоположили в этот сан совсем недавно; он был тощ и безлик, и сейчас казалось, что за «непотребством» наследника следит не живое существо, а пустая епископская одежда.
Толпа отхлынула, оставив возле оскорбившего богов принца только кальирку, и стала на почтительном рас-стоянки в страхе ждать, когда придёт с Неба оскорбителю возмездие.
Но тут вдруг раздался заводивший толпу вопль кого-то из кальирку (посторонних), оставшихся недалеко от Тонга.
— Кабары! Бейте лепёшечника! Хорошенько его все вместе поколотим! Если кто боится, что он Волчонок, какой он уже Волчонок?! Волчонок лепёшками не торгует. Он теперь пёс шелудивый! Убьём пса, потому что не может пёс быть наследником Кагана! У нас есть наследнику замена! Разве Иосиф не достойнее его умом и обличием?!
Все сразу и не поняли, что это змеиноволосая Серах подзуживает. Неожиданным было, что кабар — бунтарей, которые бы избивали людей чужой печени, теперь призывала женщина, сама недавно от кабар пострадавшая.
Однако расчёт, видимо, всё-таки оказался правильным. Кто-то смолчал, а кто-то пусть самый ничтожный, глядишь и откликнулся.
— Убьём простоволосого принца! Он пугает нас Барсом Святославом!
— Убьём жалкого пса! Он показал зад богу!
— Убивайте шелудивую собаку, люди!
Муж Серах, Заводной Арс Тархана Булан-младший, первым подался на эти вопли ближе к Тонгу Тегину. За ним кинулись другие. Толпа так же, как прежде, гулкой волной откатилась, теперь опять забурлила, как волна, поднялась, пошла на Тонга Тегина. Она катилась медленно, пересыпаясь, как бархан. Взметнувшиеся кулаки, руки с ножами и плетьми походили на пену и брызги. Толпа прошла и скрыла в себе, поглотила, как камешки, тех любопытных кальирку (не от любопытства ли подличавших?), что оставались вокруг наследника.
Серах предусмотрительно осталась позади. Но всё кричала:
— Пусть отлетит лепёшечник! Смотрите все, как сам народ расправляется с потерявшими божественность Ашинами!
А толпа напирала. Толпа придвинулась к Тонгу вплотную: руки занесены — какая ударит первой?
Потом все рассказывали по-разному.
Одни потом рассказывали в красках, что случилось чудо, и на белом облаке явилась тут к Волчонку необычной красоты Золотоволосая женщина — та, что способна рожать от жёлтого луча, проникающего через дымник юрты. Другие клялись, что Золотоволосая женщина прилетела вовсе не на облаке, а врезалась в толпу на орок сингула — сильной белой лошади с чёрной спиной. И даже описывали, как вдруг появился над занесёнными толпой на Тонга кулаками золотой плещущий прапор или, нет, — золотая женская коса на древке копья. Был такой заведён обычай ещё в дни военных побед в Каганате, что сам Каган прикреплял золотую женскую косу к древку отличившегося воина, и тот нёс копьё в бою, как бунчук, впереди войска. Так вот сначала появилась золотая коса, а потом возникла оскаленная лошадиная морда прямо перед лицом Тонга Тегина. И белые точёные крепкие руки, ловко работая серебряной уздой, отвели оскаленную морду от Тонга, а коня резко развернули боком и отгородили тяжёлым конским крупом толпу от Волчонка.
Золотоволосая отбросила тяжестью лошади толпу от Тонга, затем выхватила короткую плеть и стала неистово стегать по занесённым кулакам, по рукам, сжимавшим ножи и камни. Её удары были точны и метки, кулаки разжимались, ножи и камни попадали на землю.
А Золотоволосая крикнула:
— Что, наследник Кагана? Хорошо я отхлестала твою толпу? Ишь как разъярились, глупые. Сами же ели твои лепёшки, и сами же, как тупое стадо, полезли тебя топтать.
Щёки её пылали гневом. Но синие глаза уже улыбались.
— Они не поранили тебя, Тонг?
Она наклонилась с коня, обняла Тонга руками за шею, прижалась к нему.
— Я отбила тебя, Волчонок!
Она уже совсем отошла от гнева, засмеялась.
Тонг Тегин, однако, попытался отстраниться от неё. Зашептал:
— Почему ты появилась? Ведь ты же отвернулась от меня, когда я захотел стать простоволосым лепёшечником! Разве не ты попрекала меня, что я хочу потерять свою благородную печень и опуститься до уровня презренных?) Не ты ли говорила, что скорее готова увидеть меня мёртвым, чем униженным?..
Она опустила голову. А Волчонок продолжал упрёки:
— Не ты ли не захотела даже видеть меня и обходила стороной наплавной мост, когда я не послушал тебя и всё-таки стал лепёшечником и разложил свой товар на мосту?! Зачем же ты теперь здесь?.. Разве ты не видела, как из меня вышел дух Волчонка? — Тонг Тегин пытался что-то ещё ей сказать в укор, но вдруг как-то замялся:
— Разве ты не понимаешь, любимая, чем ты рисковала?! Как же можно было придумать такое безрассудное — девушке врезаться на лошади в разъярённую толпу?! А если бы кто успел подколоть лошадь?.. Ведь если бы они тебя стащили с лошади, — они бы всей толпой надругались над тобой здесь, прямо на месте!.. Как же можно было пойти на такое безрассудство?! Милая моя, ты рисковала погибнуть обесчещенной?! Нельзя так!
Но Воислава только крепче прижала лицо Тонга к своей груди:
— Волчонок: ты не ушёл! Люблю тебя… Я никогда не переставала тебя любить. Я же дочь купца, и разве для меня могло быть оскорблением моей гордости то, что мой суженый тоже станет торговым человеком? Разве в этом какой зазор?! А отговаривала я тебя от торгового дела только потому, что ты — Волчонок. Ты ведь сам убедил меня, что род Ашины-волчицы живёт ради Эля; что судьба всех «волков» — служить Элю, всему своему народу, а другого пути для людей из рода Ашины нет. Ты ведь сам убеждал меня, что как орлы не ходят по земле, но только парят в небе, так и ты всё равно не смог бы опуститься на землю, к простоволосым, что ты — Небом рождённый! Ты прости мне мою опрометчивость. Я была сама не своя. Как услышала, что Волчонка на мосту убивают, так сразу на коня вскочила — и вот я тут!
Тонг Тегин обнял Воиславу:
— Ты поступила, как поленица — богатырша. Ты как барс. Прости меня, моя любимая!.. Я приношу тебе горе.
— Я давно простила тебя, Волчонок. Ты потерял благородное достоинство, опозорил свой великий поднебесный Дом Волчицы Ашины. Но я тебя душой повяла и простила. Я поняла, что ты отказался от борьбы за власть не потому, что ослабла твоя мужская печень, а потому, что думаешь только о своём народе я не хочешь гражданской войны и смуты. Поняла, ты разгадал хитрый замысел Халифа, который поддержал тебя и возвысил, давал тебе войско я учил тебя в багдадском монастыре блеску науки с одной целью: чтобы затем бросить тебя, подобно волку в овчарню, смущать своих же сородичей. Погрузить державу хазар-кочевников на десятилетия в изнурительную и опустошительную междоусобную войну и тем обезопасить границы Халифата на севере и востоке. Но ты разгадал этот ход коварного Халифа и предпочёл собственное унижение унижению своего народа. Вот какой оказался ты благородный, Волчонок Тонг Тегин. Я же, хоть и была у тебя в твоих детских играх за твою душу-даену и за Всю Массу Народа твоего, не поняла сначала тебя, — так же, как до сих пор не понимает твоей жертвы Вся Масса Хазарского Народа. Но теперь я наконец всё поняла и вот вернулась к тебе!
Начальник стражи Арс Тархан хмуро глядел на широкую спину сильной белой лошади, на которой восседала необычная красотой золотоволосая дочь Руса, и ждал. За долгие годы службы у Иши Иосифа Аре Тархан привык постоянно ждать. Да и куда наёмнику торопиться при нетерпеливом господине?! Тот уж точно сейчас сам примчится или порученца какого пришлёт с приказом, что Арс Тархану делать дальше. Ведь наблюдает же Иосиф со своей башни, что на мосту произошло. Однако через кого будет приказ?
Арс Тархан глянул на Серах. Новая прислужница Иосифа делала ему повелительные знаки. Мол, иди к принцу, а сама закричала:
— Балбал! Идёт священный Балбал наказывать оскорбителя богов!
День двадцать второй. «Арс Тархан — убийца»
Громадный Балбал прошагал.
Сотряс своей тяжестью доски наплавного моста, пугая всех тяжёлым воинским кожаным жилетом с железными чешуйками и железным шлемом, будто одетыми на камень. И охнула толпа в едином порыве!
— Достукался Тонг Тегин!
И не пытался уже никто даже и рассмотреть, как следует, каменного истукана. Чего было его рассматривать, если сразу ясно стало: истукан пришёл всё-таки «обтёсанный», очень похожий на человека, то есть, значит. из стана друзей Кочевников, а не врагов.
И, может быть, поэтому все и не удивились, что истукан не сразу ударил, низвергая принца, как ослушника богов. А вроде как грозно стал допрашивать провинившегося.
Последнюю исповедь забираемого на Небо не полагалось слушать непосвящённым. И люди, вместо того, чтобы, налетев, избить каменьями преступника, допрашиваемого Балбалом, все как-то попятились ещё дальше от Тонга, оставляя его переговариваться с истуканом. На истукана, чтобы не навлечь на себя беду, все старались не смотреть. Следили искоса, как Тонг Тегин, что-то доказывая истукану, бьёт себя кулаком в грудь. И как пытается Золотоволосая, заслоняя Тонга, вмешаться в поединок его и балбала.
— Ну, что же ты, Балбал! Действуй! Верши волю богов! Наказывай оскорбителя! — закричали издалека люди.
Но Балбал медлил. Арс Тархан, — вы, конечно, догадались, что это его принял народ за всамделишного каменного истукана?! — терпел своё прозвище Балбал. Хотя, когда новая Иосифова прислужница и осведомительница Серах принародно стала выдавать его за «священный камень», он обиделся. Подумывал, как бы придраться к чему и выпороть обнаглевшую прислужницу согласно билику об оскорблениях. То, что произошло дальше, то есть то, что люди на мосту охотно поверили в обман, заставило Ар Тархана переменить мнение о Серах. Видимо, она умела высчитать толпу: почувствовала, как шибко разгулялись беложилья от страха, и сыграла ловко. Но вот рассчитала ли, что будет дальше?
«Теперь с принцем, как с загнанным волком, не постудишь! И уж не боги ли прислали ему, вместо талисмана, Золотоволосую?! Неизвестен промысел богов! С чего бы это оставил купец Буд из Русов тут зимовать свою дочь? Сам-то вернулся с другими купцами в Киев за пшеницей, а дочку вот оставил? Только ли товары стеречь? А что, ежели само Небо ему так внушало. Вдруг на медных досках там, на Небе, записано, что дочке его надлежит весной спасать хазарам наследника? Да и как принародно выступить против дочери Руса, когда Барс бересту «Иду на вы» прислал? Нет, тут надо поостеречься», — думал Арс Тархан.
Был и другой, простой довод для промедления. Арс Тархан не был талаем — зайцем. Но толпа отступила, одному поднять меч на такого опытного воина, как бывший арабский полководец Ал Хазари, да ещё поддерживаемый хоть и девочкой, но на лошади и родом из Русов, у которых женщины владеют оружием не хуже мужчины?! Как на такое решиться?
Хорош был замысел змеиноволосой Серах с якобы «Балбалом». Но из-за того, что толпа не вмешалась, а трусливо жалась, безнадёжно провалился. И тогда настырная прислужница Иосифа сделала другой ход. Она вынырнула из толпы, повела бёдрами перед Воиславой и, не боясь её тяжёлого коня, закричала, полуобернувшись к толпе и призывая толпу в свидетели:
— Ах, храбрая дочь Русов! О, ты, я вижу, достойна своего племени. Вон ты ещё какая! Ты только объявилась, а люди уже испугались тебя… — Серах, как гарцуя на коне, крутанула бёдрами, провела ладонями себе по бокам: — Впрочем, немудрено. Я догадываюсь, что у тебя под алой рубашкой паперси-броня, а меж двух твоих набухших бутонов острый нож? Ведь правда, там нож? Я знаю, что у вас, Русов, ни мужчина, ни женщина, ни ребёнок даже по нужде не отлучаются от товарищей без брони и ножа?! У нас воины тут иные признавались, что, бывало, кто побеждал в смертном бою какого Руса а потом начинал с него броню снимать и оказывалось: это была женщина. Я наслышана, что и твоя мать воевала, хотя Всевышний вроде бы совсем для других битв с мужчинами создал женщину… — Серах хохотнула толпе, потом, словно соревнуясь с Воиславой, она сдёрнула с головы повязку и лихо распустила свои змеящиеся, как виноградная лоза, чёрные, как ночь, волосы и заговорила уже без крика, а вкрадчиво:
— Северянка я, конечно, осведомлена, что у вас там, на Днепре и Роси, защищаться от смелого набега хазар выходят с оружием, — все от мала до велика. Но, послушай, Золотоволосая, сюда ты-то чего сейчас прискакала? Здесь нет рати. А наплавной мост в нашем городе никогда не служил в качестве килуес — места, где сходят с коня. Поди найди себе килуес на берегу, сойди с коня там! А потом… приходи. И знаешь, ты нехорошо себя ведёшь? мы здесь все кочевники, — Серах очень напористо зачислила себя в кочевники, — мы кочевники, а ты между нами кальирку — посторонняя… Зачем же ты вмешиваешься в наши хазарские дела? Вон, посмотри — очень важный стоит гость из Кордовы, купец побогаче твоего отца, да и познатней! А он же только смотрит. Разве твои родители тебя учили непочтению к чужим порядкам? Уйди, кальирку — посторонняя! Не порождай у нас еку териу укай — безначалия. Ступай в сторону! Ты мешаешь достойному Арс Тархану, начальнику стражи, выполнить великое поручение, с которым он прибыл к народу из Куббы — золотой юрты Кагана. Посмотрите, люди, это же не истукан, это наш Арс Тархан надел военные доспехи! Не мешай ему говорить, посторонняя!
Воислава, не шелохнувшись, выслушала визгливое поучение от Серах, лишь слегка дрогнули её длинные, как вёсла, ресницы. Однако орок сингула, видно, что-то учуяв, снова оскалила морду. В толпе зашевелились — нераслышавшие переспрашивали, что наговорила Серах. Но любопытством, пожалуй, всё грозило и закончиться.
И тогда Серах пошла на крайность — опрометью рванулась вперёд, подскочила к Арс Тархану, и он не успел опомниться, как она ногтями впилась в его лицо, расцарапала в кровь, в страшную массу. И, оглянувшись на толпу, завопила.
— Эй, харан — свободные люди! Смотрите все! — кричала Серах так, как будто её убивали: — Смотрите, что начертано на челе у Арс Тархана. Он пришёл к нам прямо из золотой юрты. На лице его знаки. Читайте эти знаки! Я прочла! Я вижу горе. Вы видите знаки?! — и, подавая пример, Серах начала сама рвать на себе волосы, с воплями покатилась на землю.
Воислава слезла с коня, подошла к Арс Тархану, стала смотреть ему в лицо. Арс Тархан увидел близко её синие глаза, потом увидел, как расширились и будто вскрикнули зрачки девушки.
Арс Тархан тогда стал медленно поворачиваться всей своей тяжестью, затянутой в кожаный доспех с железными чешуйками фигурой. Он показывал своё лицо толпе.
Он поворачивался по солнцу; и по солнцу, будто одожденная стрелами, стала падать на помост и кататься по нему, как от боли, толпа.
К самому последнему Арс Тархан повернулся к Тонгу Тегину. Тот судорожно скользнул по лицу Арс Тархана взглядом и тоже, как подкошенный, упал на настил, стал извиваться змеёй.
Замерли столбами на мосту заморские гости Хасдай и Сарук из Кордовы испанской. Но гостей потянули за полы халатов и тоже опустили на землю. Воислава осталась стоять одна над толпой, — как древко прапора, и ветер развевал золотой прапор её волос.
Серах, приподнялась на коленях, громко, для всех, настойчиво крикнула Воиславе:
— Уйди ж ты наконец, чужестранка! Как ты всё не поймёшь, что среди нас ты одна — кальирку, посторонняя. Вот ты даже не догадалась, что Арс Тархан так сильно расцарапал ногтями себе лоб и щёки, потому что в Степь пришла укуул — смерть. У нас, кочевников, в золотой юрте великое горе. И все мы плачем и царапаем себе лица. Ну да, конечно, у вас, русов, я слышала, Барс Святослав презирает слёзы, и на тризнах пьют медовуху и стараются веселиться, словно на празднике, когда провожают героя к богам. Но это у вас. А у нас здесь, в Степи, другие обычаи. Не мешай нам, хазарам, в нашем горе. Дай нам всем поплакать, а потомок Ашины-волчицы пусть первым исполнит свой долг перед Степью. Уходи же, кальирку — посторонняя…
Слушая Серах, Арс Тархан уже сам царапнул себе лицо, чтобы подновить ссадины и кровь. Подумал: «Как, однако, нажимает она на кальирку? Чересчур показывает, что она сама не посторонняя! Из кожи вон лезет. Но ход-то какой?! Знаки! Неужели это она сама придумала? Или хитрый Иосиф и такой запасной «случай» предусмотрел? А меня, Арс Тархана, потому не предупредил, чтобы я не пугался, что Серах в раже мне глаза выцарапает».
Воислава вернулась к коню, взяла орок сингулу под уздцы. Золотой прапор волос хлестанул девушку по собственному лицу, будто тоже захотел её прогнать. Лошадь скалила зубы, рвалась куснуть Серах за плечо, не хотела уходить, тащила Воиславу к Тонгу, Воислава о большим трудом увела лошадь.
Арс Тархан шагнул ближе к Тонгу. Нагнулся. Подумал, что ему тоже бы надо, показывая горе, стать на колени. Но быстро не поднимешься в доспехах! В конце концов, он стражник. Как стеречь, стоя на коленях?
Все на мосту катались по настилу, мазались в грязи, рвали на себе волосы и безжалостно царапали в поминальном плаче свои лица, теперь ставшие совсем похожими на жёлтые тыквы, провяленные солнцем и ветром.
Принц подал голос с земли:
— Эй, я разрешаю: нагнись ко мне пониже, доблестный Арс Тархан. Объясни мне, по случаю какого такого горя для всей Степи твоё чело расцарапано в печали?
Каждый человек понимает иной, даже самый простой, очевидный вопрос по-своему! Ищет за очевидным непременную заковыку! Арс Тархану тут же показалось, что Волчонок спрашивает о горе сейчас не бескорыстно. Что он ждёт от начальника стражи вполне определённого ответа. И этот определённый ответ может быть таким:
— О наследник Кагана, о небом рождённый и небоподобный! Я стою в знаках горя — с расцарапанным лицом, потому что только что мои стражники каконец-то ворвались в Куббу и согласно Тере-обычаю задушили того, кто вызывает дождь. Они упрекнули божественного: «У тебя, Каган, пропала сила: ты стал вызывать очень мало дождей и скот стал дохнуть, а люди голодать. К тому же Барс Святослав прислал вызов на войну. Людям нужен свежий Каган! Не тебе же, старой развалине, становиться во главе войска?!» После этого упрёка стражники, как положено по обычаю, накинули Кагану на шею шёлковую петлю и задушили его. Теперь, опечаленный, я пришёл сообщить тебе и всем людям тяжкую весть о кончине Кагана. А заодно хочу заранее выпросить у тебя прощение за содеянное нами над твоим отцом. Я должен быть уже прощённым, когда ты, принц, будешь избран и сядешь над всеми. Это в твоих интересах, чтобы не судить меня.
Арс Тархан нагнулся к Тонгу. Он с удовольствием думал: «Ах, Тонг Тегин! Жалкий!.. Став лепёшечником, до каких докатился ты унижений?! Ты, Тонг, торопливо ждёшь, не удавили ли твоего отца, чтобы тебе очистить место! Ах, теперь неудивительно, что твой отец зажился в золотой Куббе: он понимает, что у него нет достойного наследника!»
Арс Тархан навис над Тонгом Тегиным. Ему очень хотелось с честной печенью иметь право думать про Волчонка плохо. И он ещё надеялся, что Волчонок сейчас хоть намёком подтвердит свою низость. Подтвердит, что втайне ждал смерти отца.
Люди вокруг начали по одному вставать. Но Арс Тархан всё медлил. От острова в почётном полукольце из нескольких стражников появился сам Иша Иосиф. Стареющий, но по-прежнему гибкий и стройный, как тополь, Иосиф шагал быстрой подпрыгивающей походкой — почти на одних носках. Словно он всё ещё продолжал ту ритуальную пляску прощания с заходящей луной, что совершал на рассвете на крыше башни. Злые языки на базаре объясняли, что Иша так подпрыгивает, надеясь скрыть, что недостаточен ростом по сравнению со своей новой прислужницей змеиноволосой Серах.
Иосиф легко прошёл половину моста, вышел на середину и, замедленно подняв к лицу руки со скрюченными пальцами, красиво тоже расцарапал себе лоб и щёки широкими бороздами наискось.
Все снова стали царапать себе лица, многие попадали ниц, опять пошли вопли. В толпе ведь самоистязание может увлечь: люди получают удовольствие от следования общей заразе.
— Ну, что же ты не действуешь, достойный Арс Тархан? — угрожающе ласково спросил своего начальника стражи Иосиф.
Арс Тархан, всё ещё нагибавшийся над Тонгом, выпрямился и, ни слова не ответив Иосифу, повернулся, решительно зашагал прочь с моста к левому берегу.
Иша Иосиф Управитель тоже повернулся и, опять а полукольце своей охраны, направился в противоположную сторону — к острову.
Арс Тархан уходил не оглядываясь. Важно уходил, подпрыгивая на носках, Иосиф. Недоумение было на остальных лицах. Вино пьют, размешивая его с водой. Каждый, пока стенал, полагал, что пил собственное вино по Кагану, — кто вино горечи, кто жалости, а кто и вино новых надежд. Оба, Арс Тархан к Иосиф, уходили прочь, ничего не объяснив, и все испугались.
У края моста Арс Тархан заметил зеленорясного христианского епископа. Епископ деланно безучастно смотрел куда-то в сторону, и Арс Тархан невольно поёжился: с того дня, как вместе с возвратившимся принцем появился новый миссионер от ромеев, тощий и совсем безликий, — миссионер этот не только безучастно подглядывал. Доходили до Арс Тархана слухи, что, подглядывая, он ещё и предсказывал. Монах Памфамир предсказал себе, что станет епископом Памфалоном. А вчера уже послал свой питтакий — извещение в Константинополь о сегодняшних событиях. И нагло объяснил перехватившему питтакий Арс Тархану: «А как иначе мне опередить почтовую службу Халифа, занимающуюся по совместительству доношением и сыском?! Ты делаешь своё дело и не мешай мне делать моё…» Арс Тархан вернул Памфалону перехваченный питтакий. Он знал, что епископ связан с «детьми вдовы». А те повсюду. Достанут, даже если скрыться на родину, в Хорезм, куда он, Арс Тархан, непременно всё-таки вернётся.
За мостом ждал Арс Тархана его личный Заводной, Булан. От напряжённого ожидания Булан даже выпустил кончик языка изо рта над торчавшим кривым зубом-клыком. В точности как Лосёнок, сбившийся со следа. В последние дни Серах, жена Булана, так преуспела у Иосифа. что Арс Тархан побаивался своего Заводного. Не доносит ли через жену?
Арс Тархан твёрдо прошёл мимо зелёного, как какаду, епископа и своего Заводного и только тогда, всем телом обернувшись, громко, для всех, крикнул:
— Э-эй! Од-Тегин! — он именно так назвал принца, — Ну, что же ты не догоняешь меня, Од-Тегин? Я показываю тебе дорогу!
В этом был ключ к тщательно обговорённому во дворце Управителя представлению. Тегин-принц. Од-Тегин — принц огня, хранитель очага, наследник. Писано в заветах предков, что мудрый Каган, восходя в Куббу, должен выделить старшим сыновьям добро, скот и рабов, а огонь очага оставить на младшего, чтобы тот поддерживал покинутых Обожествляющимся его прежних жён, скот и хозяйство. Младшему — с молодой, дерзкой печенью — надлежит потом сменить отца на Каганстве! Вот что значит Од-Тегин.
Арс Тархан шёл вперёд, не сделав знака, чтобы Тонг Тегин поднялся с настила и шёл за ним. Арс Тархан предпочёл притвориться, что ему всё равно. Он всегда так держался: я, мол, сказал, предупредил, исполнил своё, а дальше — ваше хазарское дело. Вокруг него боролись за власть. Наживали деньги. Утверждали себя в потомстве, пуская корни. А заботой наёмника Арс Тархана было получить жалованье для своих арсиев да, по возможности, найти для них сравнительно безопасный объект грабежа (грабёж негласно входил в добавку к жалованию стражников). После того же, как кто-то зарезал в городских воротах его единственного сына, Арс Тархан не видел для себя уже и вовсе никакого личного интереса к этой ненадёжной местности, где не знаешь, к какому богу-то прислониться, где распоясался дурной дэв! И если сейчас он выполнял распоряжение Иосифа по искоренению «лепёшечника» — этого монаха-принца, дошедшего до торговли лепёшками на мосту, то только потому, что знал, что за всей этой «игрой» стоят и «дети вдовы», которым безопаснее не перечить.
Лепёшечник догнал Арс Тархана уже на берегу. Арс Тархан не оглядывался. Они пошли налево, вверх по берегу реки. В ногах, оплетая их, как тысячи мохнатых гусениц, путалась лоза. На правом берегу она воевала с суглинком и прогоняла от воды лепные саманы и деревянные дома. На левом берегу оттеснила от воды юрты и, казалось, выползала из песчаных барханов.
Лепёшечник был настроен дружелюбно и ещё не перевёл дыхания, как заговорил:
— Слушай, Арс Тархан! Ты помнишь, как мои брат Алп Эр Тонг требовал выкорчёвывать лозу? Он говорил, что наш предок Иби Шегуй, из второго колена Ашины, был опрометчив, когда выбрал для своего великого стана это место, где уже ползала, как гусеница, лоза. Он говорил, что над лозой сгорбятся наши люди, как рабы, а от сгорбленных уже не ждать воинского пылу. Но я думаю, мой старший брат напрасно так говорил: виноградарство, как и ловля красной рыбы, служит к доброй славе нашего города. Я только думаю, что надо созвать виноградарей в ополчение и поучить владеть оружием, прежде чем нагрянет Барс Святослав.
Арс Тархан пропустил слова лепёшечника мимо ушей: он был уверен, что обучить ополчение ни в жизнь бы не позволили ни Иша Иосиф, ни купцы, — они боятся давать оружие в руки тем, над кем сидят; иначе зачем бы тогда нанимали они его, Арс Тархана, с арсиями?
На самом краю города, почти возле огородившего город частокола Арс Тархан, наконец, разомкнул уста:
— Ступай: приведи себя в надлежащий порядок, Од-Тегин!
Они подошли к Юрте-на-колёсах, в которой по традиции, сохраняемой ещё с древних времён, жили Ашины. Это было символом того, что Ашины, объединившие вокруг себя в единый Эль всю Степь, множество «кошей» (больших кочевых семей) и «домов» (многотысячных родов), всегда оставались начеку — всегда готовы были напрячь лошадей в свою Юрту-на-колёсах для незамедлительного приведения Эля в порядок. И хотя в городе никто уже не мог вспомнить такого обстоятельства, чтобы Юрта-на-колёсах трогалась с места, но, свято блюдя традицию, Ашины не перебирались ни во дворец, ни в другую юрту. Становясь Каганом, самый достойный из Ашинов уходил навсегда в Куббу (золотую юрту, стоявшую во внутреннем дворе правительственного дворца на острове), но родительский очаг оставался в Юрте-на-колёсах. Колёса её, правда, давно занесло песком, и они полусгнили; лошадей, которые потянули бы цугом передвижную юрту, давно съели; но символ сохранялся.
Теперь возле Юрты-на-колёсах приткнулась и арба с прикрытыми вылинявшим синим покрывалом древними гробами — таботаями. Волчонок так и не смог вернуть их отцу в золотую Куббу. Иша Иосиф приказал стражникам не пропускать туда Волчонка с гробами. Заявил, что святость праха предков и божественная сила этого праха, помогавшая Кагану вызывать дождь, теперь утрачены. Прах предков, мол, осквернён прискорбным случаем его похищения. Мол, теперь таботаи — это всего лишь прах предков лепёшечника, но не реликвия и магическое средство власти.
Всё же Арс Тархан поклонился гробам Ашины.
Лепёшечник заметил поклон и проявил расположение:
— Почтенный Арс Тархан! Сделай честь очагу рода Ашины — поднимись в мою юрту!
Из дымника Юрты-на-колёсах тянуло тёплым пряным запахом свежих лепёшек. Однако Арс Тархан не соблазнился приглашением. Тяжело повернувшись спиной ко входу в юрту, он звякнул доспехами, широко расставив ноги, встал при Юрте-на-колёсах только как почётный стражник.
Принц поднялся в юрту.
Арс Тархан представлял, как лепёшечник, на ходу сняв халат, ринулся к родовому сундуку, вытащил облачение, достойное собрания Сильных, на которое — он сейчас думал — его поведёт Арс Тархан, чтобы провозгласить Каганом. Сейчас совсем другим выйдет лепёшечник — в чёрных штанах и мягких, как чулки, чёрных сапогах; со шкурой чёрной волчицы на плечах; на голове с кривой шапкой, отделанной золотом, а к ноге привяжет копьё.
Лепёшечник именно в таком облачении вышел. Но неприятной неожиданностью для Арс Тархана стали на шее и запястье железные амулеты, изображающие драконов. Иша Иосиф ведь клятвенно уверял, что бояться «драконов», по преданию, охранявших род Ашины от злых духов, нечего, что лепёшечник их продал, чтобы печь голодному сброду свои лепёшки. Арс Тархан съёжился, поняв, что Иосифу ни в чём нельзя до конца верить.
В руках у лепёшечника были ещё и чёрные дощечки, натёртые золою аргала и сшитые ремнём, — знаменитые самбар с письменами, где были записаны поверья, приметы и небесные знаки, которые нужны Кагану для того, чтобы избежать для народа бед и достойно блюсти Эль.
Арс Тархан побледнел: Гадательная Книжка Степи, оказывается, тоже уже была не у Кагана, а у его наследника Тонга Тегина (больше даже про себя Арс Тархан уже не называл Тонга лепёшечником).
А Тонг Тегин подошёл к Арс Тархану, поцеловал дощечки и доверительно произнёс!
— Вот святые дощечки! Ты знаешь ведь, Арс Тархан, как они много для соблюдения Эля значат. А нам с братом они ещё заменили и Карау — наставления отца. Отец ведь не успел нас воспитать, ушёл в золотую юрту.
— Тонг Тегин был очень дружелюбен. Он всё болтал: — Я только ради них и к чтению пристрастился — всё хотел вычитать всю мудрость с этих дощечек. Как ты думаешь, Арс Тархан, что, если я сразу возьму их с собой сейчас?.. Я вот думаю, как же обходился мой отец без всякой мудрости Степи, записанной на эти дощечки, управлял как без них Элем?! Я догадываюсь: отец не взял их с собой, потому что оставлял нас с братом очень маленьких. Вот он и отдал своим детям свою заветную книжку. Однако как же можно в золотой Куббе, на престоле, обходиться без разума предков?! Уж не оттого ля не обрёл мой отец должной божественной силы?!. Так что? Брать мне сразу с собой Гадательную Книжку Степи?
У Арс Тархана перехватило дыхание. Он придвинулся как можно ближе к принцу и, стараясь глядеть ему прямо в глаза, решился на лукавый совет!
— Побереги самбар, мой принц! Мало ли что может случиться дорогой. Они ведь не только твои, а принадлежат Элю. Это ценность Эля. Я бы на твоём месте и священные амулеты приберёг…
Принц принял коварство за чистую монету. Вернулся в юрту, через мгновение уже выйдя без самбар и амулетов.
— Да, пожалуй, я ещё не имею права носить с собой священные реликвии Эля. Но я надел Почётную цепь Халифа, её-то я сам заслужил, — как-то даже почти весело сказал Тонг Тегин и тут же сник:
— Мне тяжко сейчас, Арс Тархан. Лучше бы ты объявил мне там, на мосту: «Теперь лежи, став мясом для птицы и зверя, — тебя жаждут гриф и шакал!» Ты понимаешь, Арс Тархан, я всё никак не могу поверить, что отца у меня больше нет, что он отлетел. Я слышал от других, читал в книгах, что смерть близкого осознаётся не сразу, что сначала всё заслоняет обряд. Вот и я — там, на мосту, я катался в горе по настилу, царапал теки и лоб, а не понял сначала, что отец отлетел от меня… Ведь отца-то я почти никогда и не видел. Он сидел в Куббе — золотой юрте, и отцовские приветствия передавались мне через Ишу Иосифа, а потом и вовсе через тебя… Но я всё равно всё время как бы за отцом тянулся. Ведь сказано вот на этих чёрных дощечках: «Росла молодая сосна невдалеке от старой. Хотела молодая сосна порадовать старую. Вверх к небу упорно тянулась!» Я растил в себе Волка ради всех вас. А вы не понимали меня.
То, что вы, смертные, не понимаете моих высоких целей — это естественно; я утешаю себя тем, что один отец мой знает (ему-то ведь тоже пришлось пройти через такое), как мне непросто растить в себе Волка…
Арс Тархан не выдержал — открыл забрало, чтобы глотнуть воздуху. Он готов был вероломно убить Волчонка, но не человека, который ему доверился. Он вдруг подумал, что всё-таки любил всегда этого Домокчи — болтуна. И ему трудно будет, выполняя приказ Иши-управителя, отправить болтуна на Небо.
Они вышли из городских ворот и опять пошли вдоль воды. Холодная весенняя влага, ещё нёсшая запоздалые льдины, накатываясь на песчаный берег, тянулась, чтобы облизать их ступни. Солнце теперь достаточно поднялось над рекой, но повсюду, зайдя по щиколотки в воду, всё ещё стояли встретившие первое весеннее солнце харан — свободные люди. Увидев начальника стражи в полном доспехе и Од-Тегина в парадном одеянии, люди кланялись им в пояс и тут же снова находили глазами жёлтое Солнце, чтобы вознести к его лучам просящие руки. Необычность наряда Арс Тархана и Тонга все отнесли просто к празднованию Нового года. Звучала общая песнь:
Чёрная Река! Ты делаешь для нас благом и воду,
И семя мужей, и утробу женской груди.
Ты, разлившаяся, целительная!
Ты — покровительница дома и усадьбы, человека и скота?
Родившись на одном из святых капищ, догнала Арс Тархана и Тонга Тегина эта хуриер — песня-молитва, как сигнальный огонь, передаваемая по цепочке.
Арс Тархан замедлил шаг.
Он слушал мелодию хуриер, и из слаженности голосов этих людей, повторяющих слова и ритм древней молитвы, каким-то полуплачем полувосторгом входила в него самого печаль по давно покинутому дому. Все вместе, канту, то есть сообща, традиционно поют хазары весной хуриер, и не знают ведь, что эта традиция докатилась к ним с родины Арс Тархана, из Хорезма, и родилась из гимнов магов. Когда-то, может быть, столетия три назад, в поисках тучных пастбищ вышли предки хазар из соснового урочища на далёкой реке Окон в Забайкалье и потом всё шли и шли через Ибир-Сибир и Дешт-и-Кипчак за солнцем на запад. Они осели на Алтае. Затем от Арал-моря вышли на реку с Двумя Телами к другим людям, тоже поклонявшимся огню и считавшим себя магами. Маги стали учить хазар (кочевников) молиться Оду (огню) на языке мудрых гат (гимнов); маги пытались, просвятить кочевников. Открывали им сокровенную тайну вечной войны Света с Тьмой. Но хазары-кочевники вскоре откочевали от них; пошли ещё дальше на запад, за Урал, на Итиль — вот на эту Итиль (Реку), истекающую из земель Рус. Уходя, хазары всё же унесли с собой в своих обрядах обрывки веры магов и их гимнов.
Арс Тархан остановился. К нему приблизился шагавший за ним Тонг. Принц опять заговорил:
— Послушай, Арс Тархан! Я увидел сейчас, что небо стало таким высоким, будто над всеми нами один хазармихи — праздничный шатёр, а в шатре, вместо опорного столба, столп солнечных лучей! Красиво?! Это тендек — знак нам!
Арс Тархан поморщился; не отвечая, зашагал дальше.
У Тонга к ноге было привязано копьё, он теперь был вооружён, но Арс Тархан смело подставлял ему спину. Он даже хотел, чтобы наследник его убил. Тогда бы сразу прошла эта нахлынувшая на него печаль, да и не надо было бы ему уже совершать то, на что он согласился, испугавшись «детей вдовы». Не лежало его сердца к вероломству.
А вчера ещё Гер Фанхас разбередил ему душу. Спросил; не рвётся ли у Арс Тархана сердце в родной Хорезм? И тут же, подмигивая, сообщил, что завёз на сук ар ракик (невольничий рынок) отличную партию хорезмиек. «Слушай, хочешь ради твоей доблестной службы я дёшево уступлю тебе рабыню для лона? — смущал работорговец. — Свидетельствую: я завёз таких рабынь, что талии у них тоньше, чем тело изнурённого любовью. А бёдра… Знаешь, какие бёдра? Тяжелее куч песка! Брови у них тонкие и длинные, рты — печати Сулеймана, а носы похожи на острие меча. Они похищают всех влагой своих улыбок… Вот какой товар завёз я к нам из твоего родного Хорезма, доблестный Арс Тархан. Хочешь — пришлю рабыню, а хочешь, если обещаешь, что сделаешь для «детей вдовы» полезное, выбирай задаром любую сам!»
— Что я должен сделать?
— Это скажет Мастер.
Арс Тархан понял, что купцы хотят, чтобы он выполнил мерзское поручение Иосифа. Что это приказ тех, кто ищет власти над миром.
Арс Тархан и принц шли вдоль густого чакана, торчавшего из воды тысячью мечей. Свинцово-серая стена чакана порой разрывалась желтеющими сквозь воду отмелями, и на отмелях всюду стояли люди. Такой же сплошной стеной, как чакан. Мужчины были в войлочных куртках и шерстяных шароварах, расшитых орнаментом в виде нескончаемой зигзагообразной линии, вьющейся между двумя прямыми, — так изображалась в орнаменте река, текущая меж берегов. И у женщин на их широких платьях, стянутых высоко под грудью и ниспадающих книзу обилием складок, тоже струился, тёк такой же священный орнамент. Женщин среди молящихся было намного меньше, чем мужчин. Арс Тархан не сомневался — они вышли на молитву все: просто на удалении от города зимовал со скотом бедный люд, и здесь у малоимущих, особенно у нескольких братьев, обычно была одна жена на всех. Вон и на платьях у женщин были вышиты по две-три цветных линии. И на шапке у каждой женщины, в зависимости от того, сколько у неё мужей, было редко по одному, а чаще по дза-три угла.
«Жирные люди, как Гер Фанхас, караванами сплавляют девочек-кочевииц на рынки обоих Халифатов — и багдадского, и кордовского. А тощие люди мечтают долгие годы об одной своей единственной абурин эме — самим завоёванной жене. Эх, кликни тут клич о походе, как сразу, только чтобы завоевать себе женщину, наберётся целая орда охотников! Однако некому кликнуть походный клич», — подумал Арс Тархан и отвёл глаза от реки. Испугался, что думает неположенное.
Арс Тархан отвёл глаза от реки, стал смотреть на берег и увидел детей. Пока взрослые молились, дети соблюдали подогнанные к воде стада. Девочек почти не было: Фанхас, перехватывая у других работорговцев товар, скупал у родителей девочек совсем маленькими. А четырёх-пятилетние мальчики с отцовской или материнской трубкой в зубах без малейшего страха, одним взмахом длинного рукава, разгоняли сцеплявшихся в драку громадных пастушеских псов, бродили между полудиких коней. А развлекались тем, что ставили на колени строптивого верблюда. У каждого мальчика непременно колечко в левом ухе и нож на правом бедре.
Арс Тархан оглянулся на Тонг Тегина. Вот могли бы вырасти ему воины. А он дохмокчи — болтун. Не решился поднять народ, испугался гражданской войны и смуты.
Они уже довольно долго шли. Арс Тархан устал, стал цеплять песок мысами своих мягких сапог. Тяжёлая броня, которая была на нём, ковалась на всадника, а не на пешего.
Тонг Тегин опять заговорил:
— Послушай, почтенный Арс Тархан! Зачем ты меня долго ведёшь вдоль реки? Ты хочешь мне показать, сколь бесконечна, как песок, масса народа, над которой предстоит садиться Кагану? Ты стараешься, чтобы я возвысился духом и напоминаешь мне о «хачи» — ответственности «сыновей почтительности» будущего Кагана перед народом? Однако давай отдохнём, а потом поспешим на собрание Сильных. Где соберутся сегодня тавангары — люди силы и богатства? Было положено прежде собираться в открытой степи. Или в угоду «детям вдовы» всё будет решаться в городе, а ты водил меня вдоль реки в моё удовольствие? Идём скорее, — я тороплюсь, я должен скорее попробовать, воспитал ли я в себе достаточно божественной силы? Смогу ли я стать Яда медекун — умеющим наводить ветер и дождь?
Арс Тархан грустно ухмылялся, думая, каким смешным, как талай — заяц, выглядит человек, не знающий, что ему приготовлено.
— Молись, — буркнул Арс Тархан Тонгу и остановился.
Арс Тархан наконец-то услышал конский топот. Семеро всадников с одним свободным, рассёдланным конём, белым с чёрной спиной, двигались на быстрой рыси из излучины.
Арс Тархан упал на одно колено, развернулся, чтобы держать под прицелом одновременно и их, и «лепёшечника». Когда Тонг надел свои амулеты и шкуру Волка, Арс Тархан не решался его так называть. Но теперь он снова и как-то легко назвал принца лепёшечником.
Туго натянутая тетива лука звенела, как струна, под большим пальцем Арс Тархана.
— Эй, смотри, лепёшечник! Тебя не хотят допустить к престолу. Скачут искоренять! — съязвил Арс Тархан.
Тонг попытался отвязать своё копьё. Не успел. Ара Тархан повёл стрелой и упёр её прямо в грудь Тонгу Тегину.
— Не шевелись! Тихо стой! — Арс Тархан уже не навивал Волчонка именем.
А всадники, не доскакав до Арс Тархана и Тонга шагов тридцать, круто осаживали коней. На спине крупной белой лошади, которую они привели с собой на привязи, как кули, лежали два связанных тела. Всадники спихнули их со спины лошади, и они подкатились к Тонгу Тегину.
И Арс Тархан увидел, как Тонг Тегин помертвел лицом. Арс Тархан тут же воткнул ему стрелу остриём в грудь.
Процедил:
— Шевельнёшься — спущу стрелу!
Сам Арс Тархан ещё не разглядел, кого привезли стражники. Правая рука Тонга тягуче-медленно, стараясь не выдать движения, тянется к копью, привязанному к ноге. Арс Тархан громко приказал:
— Воины! Возьмите все на прицел этого, чтобы не схватился за своё копьё.
Арс Тархан опять не наделил Волчонка никаким именем.
Стражники сияли с плеч луки, прицелились в Волчонка.
Арс Тархан рассматривал пленников.
Это были девушка и старик.
— Девушку мы с коня хитростью сняли. Булан сзади ей на плечи аркан набросил и с коня сразу стащил, она и пикнуть не успела, как мы её связали и кляпом рот ей заткнули.
— А у старика лук отобрали. Старый лук! Уже дерево почернело. Старик грозился нам, что убьёт нас, хотел защитить девушку. Но он так в нас и не выстрелил. Опустил лук и заплакал. Мы его побили немного. Совсем немного, для острастки. Всё-таки уважаемый человек.
— Вот, еки терин — начальник, обоих пленников мы тебе привезли. А всё Булан! Это он засаду придумал.
Лосёнок, еле сдерживая разгорячённого коня, смеялся:
— Оцени, хозяин, своего коточина — заводного! Видишь, как я стараюсь! Какой я находчивый!
— Заткнись, Лосёнок! — рявкнул Арс Тархан. — Чем бахвалишься? На кого засаду устроил? Разве это воины? Забыл, что служишь у честных и порядочных арсиев? Кто нас будет нанимать стражниками, если мы будем женщин и стариков убивать?
Лосёнок оправдывался:
— Начальник! Эта девушка из Русов. Та самая, что на мосту на людей напала. Я думаю, её Барс Святослав заслал… А старик и вовсе поганый. Еретик-проповедник! Уж я-то про него всё знаю: это мой непутёвый тесть. Только я от него принародно отказался. Дочь за себя взял, а его побил. Ты мне сам велел его побить, когда мы его с поличным взяли на дальнем кочевье, где он народ мутил.
Вмешались другие стражники:
— Начальник! Булан правду говорит. Эта девушка очень сильная, мечом владеет, мы её с трудом побороли. А старик? Это же тот самый, что свой двор потерял и под священной Юртой-на-колёсах скрывается… Знает, что его там, по Тере (обычаю), трогать нельзя, вот там и скрывался.
И вдруг совершенно неожиданный даже для Арс Тархана поворот:
— Мы думаем, что он оттого под Юртой-на-колёсах скрывался, что зло против народа хазар замыслил. Ты посмотри, хозяин, старик-то этот из тузурке-кувшинов, А известно, что кувшины к нам перебрались, чтобы смуту сеять…
Арс Тархан ухмыльнулся. На «кувшинов», оказывается, можно было свалить всё.
— Еки терин, начальник, ми уже кое-что поделили.
Как положено! Булану досталось седло, а мне украшения с девушки. Одежду со старика вовсе выбросили — плохая… А тебе, еки терин мы коня привели и вот девушку приволокли. Её в городе все знают — Тана Жемчужина необычна своей красотой. Теперь она твоя доля в добыче. И конь тоже твоя доля. Орок сингула — конь сильный.
— Девушка очень хорошая, золотоволосая. На рынке Гер Фанхас за неё много монет даст…
— Э-э!.. Не продавай, начальник! Для себя её возьми! Такую не ставят при дверях в прислугах. Такую помещают на лоно. Она тебе великого воина сможет родить.
Арс Тархан увидел, как болезненно дёрнулся Тонг Тегин. Сильнее натянул тетиву лука. Тетива издала глухой звук. Она предостерегающе шипела под большим пальцем Арс Тархана. Напоминала лепёшечнику, что он должен быть смирным. Надо было для верности посадить сейчас Волчонка на корточки — так полагалось держать пленного, чтобы он понимал безвыходность своего положения. Но что-то внутри Арс Тархана упорно сопротивлялось такому обращению с Волчонком, которое потом могли бы истолковать как неуважение к священной крови. Начальник стражи — тоже своего рода кул — зависимый. С зависимого нет спроса. Спрос с хозяина. Но вот неуважение, оно уже исходит только от самого куда. Тут на хозяина не сошлёшься.
Стражники продолжали суетиться:
— О, еки терин, этот старик не признаётся в умысле. Он говорит, что Тана за ним прискакала со словами: «Бери лук. Поедем по следу оборонять священную кровь Степи! Дурное над Волчонком творят!»
Арс Тархан согнал со своего лица хмурь; медленно засмеялся:
— Пятки ему прижжём — признается. Вот пусть Лосёнок своего тестя прижжёт. Должен Лосёнок перед нами, что родственника не покрывает, оправдаться.
Стражники слезли с коней, насыпали кучу сухой травы, подожгли.
Потом подняли с земли старика. Грозили:
— Нишит-е, тузурке (будем бить кувшина палками)!
— Кене, тузурке, — говори, кувшин!
Ударили старика палкой, тот обеспамятствовал.
Арс Тархан разозлился:
— А ну-ка, Лосёнок, не отвиливай — бери кувшина за ноги и на огонь: пусть про свой умысел на хазарский народ громко покается!
Булан растерянно развёл руками:
— Он без памяти.
Стражники облили старика водой:
— Называй, кто у тебя сообщники?
— Э, пусть имя бога своего назовёт!
— Имя бога не назовёт. Умрёт, а не назовёт. У него вера такая: нельзя называть имя бога, тогда его бог силу потеряет. Имя бога у кувшинов — страшная тайна.
— Хе-хе! У нас тоже имена родных, если не бить, никто не откроет. Каждый понимает, что имена родителей у него выспрашивают, чтобы род искоренить. Однако на огне всякий выдаёт.
— Ну, не всякий… А потом, если побратим сильный, отчего его и не назвать. Сильный — за себя постоит. А именем его устрашить можно…
Все засмеялись:
— Э-э! Ну, устрашай нас, Вениамин! Или у тебя бог слабый?
Нажимали на Булана:
— Лосёнок! Не отвиливай. Жги, жги своему тестю пятки. Глядишь, узнаешь имя его бога, сам рахданитом — купцом станешь. Ты же мечтаешь разбогатеть?
Старик от огня пришёл в себя, но лишь стонал, стиснув зубы. Арс Тархан видел, как Булан суетится возле разожжённого костра. Как усердствует! Остальные шестеро стражников, найдя доброхота, потихоньку отошли от грязного дела, расселись вокруг на корточках, сами старика не трогали, ограничивались лишь подлыми советами.
Бывший Волчонок стоял, как неживой, как замороженный; стеклянными глазами смотрел куда-то вверх.
Арс Тархан понимал, что Волчонок боится опустить глаза, чтобы не увидеть страдающего от боли старика и связанную с заткнутым кляпом ртом золотоволосую девушку, которым сейчас оказался бессилен помочь.
А сам Арс Тархан всё никак не мог поднять руку на принца. И понимал, что вроде бы нечего ему уже опасаться в этом городе ни богов, ни людей: «Чего страшиться, когда корни ему оборвали, сына убив». А руку поднять не мог?! Страшно было!.. Ведь предпочитал он всегда, коли делать что по службе, так непременно на глазах хозяина — Иши Иосифа… Чтобы сразу всем (и богам и людям!), кто сию службу заказал, наглядно было!.. Здесь же выходило, что как бы берёт он содеянное на себя.
— Эй, Лосёнок! А ты не только пятки — ты и пальчики кувшину поджарь! — буркнул Арс Тархан, разжигая в себе ярость.
Стражники загоготали, одобряя:
— Да стукни ты родственника палкой, Булан! Как следует стукни! Докажи, что правду нам говорил, будто обманул тебя этот кувшин: дочку смазливую подсунул, а богатства не оказалось.
Арс Тархан видел, что трава, собранная в кучу, больше дымила и весёлого огня не давала. Засомневался: не нарочно ли взял Булан мокрую?
Булан бросил старика и уселся вместе с другими на корточки возле густо дымившей травы. Арс Тархан жестом приказал, чтобы подтащили к костру и Волчонка. Стражники было пошли к принцу, но дотронуться не решились. Выждали, пока Волчонок сам подойдёт.
Арс Тархана трусость стражников задела. Он протянул к Волчонку руку:
— Полюбуйтесь: Чёрная Река и Жёлтое Солнце отвернулись от этого… из которого ушёл Волк. Видите, как он холоден. Как ящерица! Он уже живой мертвец.
Припекло. Стражники вытирали пот.
Арс Тархану показалось, что жёлтое Солнце нарочно карабкается повыше, будто алкинчи (наблюдатель), которому хочется позорче всё разглядеть, как Арс Тархан зверствует… Вчера в полночь ходил Иша Иосиф в золотую юрту за биликом (изречением) к Кагану. Ходил, правда, один, без писца и без начальника стражи, — не как положено. Иосиф прибежал после встречи с Каганом из Куббы с озабоченным лицом. Повелел собирать к себе во дворец на диван тавангар (людей силы и богатства). Мол, вышел такой билик Кагана: «Строить новый опорный столб — хорошенько укреплять юрту!» Обычно в своих биликах Каган ссылался на снисшедшее к нему яарин (знамение) от Солнца. Выходило: очень внимательно сейчас жёлтое Солнце к хазарам.
Арс Тархан попытался всмотреться в Солнце, глазам стало больно, и он опустил голову. Он не был ни магом, ни волхвом, и потому, видимо, не дано ему было ничего рассмотреть на лике Солнца.
Прилетел ветер из города и донёс шум: там били в железо.
Арс Тархан удивился. Согласно преданию, род Ашины-волчицы тем возвысился над Степью, что выплавил для Степи железо; и каждую весну потомок волчицы должен был, блюдя обряд и подтверждая свои способности, выплавить на капище на глазах у всех полоску железа. Каган-волк бессилен, а последний Волчонок скатился в лепёшечники. И сегодня на капище принесли вместо горна, тигль. Управитель Иосиф намеревался самолично выплавить для города золото. Железо решено было заменить золотом. Откуда же сейчас эти глухие, тяжкие удары, как по железу, доносимые ветром?
И вдруг до Арс Тархана дошло: да это же из Дома старости!
Он встал поспешно на колени; как ни тяжело было ему нагибаться в доспехах, начал молиться Аллаху. Ах, какой грех чуть было не взял он на свою душу?!
— Екес-е инери карусан! — продолжая кланяться, глухо бросил он Волчонку. Екес-е инери карусан означало: «Ступай на кладбище к предкам для принесения очищающей исповеди!»
Волчонок помедлил, но потом закрыл лицо руками. Повиновался. Когда Волчонок почти тут же отвёл руки, лицо у него было «ушедшим».
Арс Тархан вытащил из-за спины лук, взял в левую руку стрелу, хотя тетиву и не натягивал, и задом, пятясь, отошёл от Тонга Тегина примерно на половину полёта стрелы. Он и стражникам сделал знак, чтобы отошли подальше — оставили Волчонка одного с предками.
Однако Волчонок зашептал прощальную исповедь громко. Очень громко, будто хотел, чтобы не только прародительница Волчонка, но люди услышали его:
— О Волчица! Я рассказываю всё, что было во мне дурного. Однажды мне мой брат Алп Эр Тонг разбил в кровь лицо. Дух Волка во мне был горд и вспыльчив; я схватился за лук, положил стрелу и шагов с десяти стал целить брату в печень. Я бы не промахнулся. Но мать увидела, закричала. А я ещё сильнее натянул лук. Тогда мать сбросила с себя халат, присела на корточки, расстегнулась и выложила на свои колени обе свои груди. Мать сказала: «Братья! Вот видите груди, которые одновременно сосали вы, потому что вы близнецы… А теперь вы готовы в первом гневе убить друг друга…» Брат остался живым. Но я до сих пор вижу белые, как кумыс, полные груди матери с коричневыми горошинами-сосками. Я тогда в наказание себе поклялся, что больше не погляжу ни на какие другие груди… Я сдержал свою клятву. Я не оставляю после себя сына. Выходит, на мне прервётся ветвь Ашинов. Не оставить потомства — самый тяжкий грех перед тобой, Волчица. Но ты должна знать, Волчица, почему я принял монашество. Хотя с детства полюбил одну девушку и не мог жить без неё. Волчица! Во искупление греха я не допускал с тех пор вспыльчивости. Прощал беззащитных. Водил у Халифа полк ка войну. Много брал пленных. Но никогда не убивал пленных. Я пощадил манихся, который хотел задушить меня самого. Но, Волчица, только что из-за меня опять случилось дурное. Глупые люди схватили девушку необычной красоты, которая за меня заступилась. Выходит: тогда расплатилась мать за меня своим женским стыдом, теперь поплатится девушка за меня своей свободой и достоинством! Заклинаю тебя молоком матери, Волчица, отгони зло от этой девушки. Она золотоволосая, из племени Русов. И если ей поверить, то в ней спасение Хазар от страшного Барса Святослава. А я сам отдаюсь дурным людям и отказываюсь от своей защиты.
Тонг Тегин вдруг как-то странно, неуклюже подпрыгнул, совсем уже не как потомок Ашины, а как неуклюжий лепёшечник, что суетился на наплавном мосту возле покупателей. А подпрыгнув, выхватил копьё, что было привязано к ноге, замахнулся им на Арс Тархана, но не кинул, а только подбросил в воздухе и внезапно резким движением переломил древко о колено. Затем он швырнул обломки копья в реку. А вслед за ним стал торопливо срывать с себя все одежды и тоже кидать в воду — и шапку, и мягкие сапоги, и штаны, и пояс, и чёрную шкуру волчицы, — сорвал их и тоже выкинул в реку.
— Вот, возьми всё, Река! Это тебе, Река, мой саку а — подарок вещами за то, что я обидел тебя сегодня на рассвете. Унеси все подарки и убереги Тану Жемчужину… Меня одного наказывай! Вот я стою, готовый к наказанию — голый, без амулетов, отгоняющих злых дэвов… Эй, стражники, ну, что же вы мешкаете — убивайте меня!
Стражники бросились к самой воде — смотрели, как медленно уносила река преподнесённый ей сакуа (подарок вещами). Всё Чёрная Река подобрала — ни одной вещи не прибило к берегу.
Стражники перевели глаза на Тонга. С ужасом и почтением уставились на его шею. Они увидели прежде скрытую одеждой сиявшую алмазами Почётную цепь Халифа!..
— Именем святейшего пророческого присутствия Халифа Ал Мути — правоверные, на колени!
Тонг Тегин напрягся, выпрямился, резким, властным голосом командира повторил:
— Правоверные, на колени!
Все стражники, кроме Булана, попадали на колени и уже с колен стали оглядываться на Арс Тархана, словно спрашивая: «Что же нам теперь делать? Кого слушать?»
Арс Тархан и сам заколебался.
Однако Волчонок усмехнулся и вдруг осторожно снял со своей шеи почётную цепь. С минуту держал в ладонях, словно вспоминая что-то (может быть, свои подвиги, за которые был этой цепи удостоен?); рассматривал влажным взглядом золотые звенья и сверкающие алмазы; потом, как пращу, раскрутил цепь и забросил почти на самую середину реки. Драгоценная цепь мгновенно исчезла в воде, оставив над собой фонтанчик ярких цветных брызг.
Арс Тархан повелел своим стражникам подняться с колен. Подошёл близко к Волчонку, заглянул в глаза. «Неужели принц готов доверить спасение Хазарии этой дочери Русов? Или Барс Святослав уже плывёт на лодиях к границам Хазарии? Уже перешёл границу?»
Девушка с золотистыми волосами из народа Русов лежит в беспамятстве, обобранная догола, на песке?! Ну и что? Арс Тархан привык видеть, что с женщинами обращаются, как в захваченным товаром. Конечно, дочери Русов — гордые женщины. Они свободны и сама крепко держат в руках оружие. Однако разве даже золотоволосая женщина стоит мужской печени?!
Арс Тархан отвернулся?
— Твой отец жив. Видел бы он тебя, как ты из-за бабы стелешься! Мы обманули тебя, чтобы выманить из города, а ты, воезун, вошь, попался!
— Но ты же сам… да вы же все царапали себе лица… Вы все исполнили положенный траур по смерти Ашина там, на мосту?!.
В голосе Волчонка недоумение, жалкая растерянность.
Арс Тархан вспыхнул. Очень искренне вспыхнул, хотя пламя этого гнева он лелеял в себе давно:
— Йирамут йиказу — мелкая рыбёшка! Ты ведь тоже из Ашинов… Это по тебе плакали мы… Ты… Ты… — Арс Тархан споткнулся в словах, потому что соображал, какой бы ещё более унизительной кличкой отпугнуть Духа Волка от этого жалкого тела, которое только по недоразумению ещё носит имя потомка Ашины. Арс Тархан даже улюлюкнул, громко свистнул, отгоняя его подальше. Однако тут же к нему вдруг пришло сомнение. А что, если тотемный зверь бродит ещё рядом?! И тогда Арс Тархану до холода в пятках стало страшно.
Арс Тархан из всей силы пнул ногой Волчонка?
— Воезун, вошь! Не Волк — вошь!
Тонг Тегин упал с разбитым лицом. Не заскулил, как пёс, и не оскалился, как волк. Тихо упал, и, как ни всматривался в него Арс Тархан, из его облика никакого зверя не прогрезивалось, — будто уже не было в его теле никакого духа, даже хотя бы духа крысы или трусливого зайца.
«Впрочем, — подумал Арс Тархан, и откуда бы в этом теле гнездиться какому-то другому тотемному духу? Не посмеет жить ни один другой зверь в бывшем логове волка, даже если оно оставлено — испугается волчьего запаха!»
Арс Тархан, чуть остыв в злобе, нагнулся над Тонгом Тегином, — тот лежал ничком и тихими глазами смотрел в небо. И глаза у него были уже будто не карие, а синие, и волосы не чёрные, а будто тёмного золота. Как словно перешли к нему цвета юной Золотоволосой из племени Русов, что попыталась его спасти. Или это подсинило глаза Волчонку синее небо, а позолотил волосы обсыпавший их жёлтый песок?
Ар с Тархан задержал свой взгляд на дочери Руса, невольно ею залюбовавшись, подумал: «Что же делать с ней? Может быть, в самом деле взять её себе как положенную добычу? И спасти! Когда придёт Барс Святослав, можно будет перебежать к нему: вот, я всегда спасал Русов…»
Чёрный пот падал теперь с брони Арс Тархана на жёлтый песок. Арс Тархан увидел, что золотоволосая девушка всё-таки сумела высвободить руку, и рука её уже скользнула за рубашку между грудей, туда, где дочери Русов всегда прятали острый кинжал. Он замер, прикрыл глаза, уже представляя, как сейчас фонтаном брызнет из груди девушки кровь: он знал, что дочери Русов предпочитают убить себя, нежели пойти в рабство.
Но Золотоволосая затаилась, медлила. Арс Тархан побледнел. Он стоял слишком близко к ней, а дочь Руса, похоже, собралась уйти в иной мир не одна, а захватив с собой обидчика.
Арс Тархан судорожно сделал шаг назад, чтобы дочь Руса, изловчившись, не смогла достать его отчаянным ударом. Он уже передумал делать дочь Руса своей добычей, он боялся её.
Он оглянулся на стражников:
— А что, мои орлуут — приближённые! — медленно заговорил Арс Тархан, словно советуясь, а для этого завышая своих «псов» и заодно и себя в звании: ведь не маленькому вождю — тархану, а только большому вождю — беку полагались «приближённые», с которыми тот может советоваться. — А что, мои орлуут! Не поступить ли нам с этим оступившимся всё-таки по волчьей чести? Не учесть ли нам, невзирая на его дурные поступки, что высокой крови принадлежит этот оступившийся? Положено у нас покойников из дома Кагана хоронить в катакомбах под Рекой. Так вот давайте позволим сейчас бывшему Волчонку самому отправиться в эти катакомбы. Пусть идёт прямо через воду. Так ему короче будет добраться в иной мир.
Арс Тархан сделал паузу, будто раздумывая, опять стал смотреть на дочь Руса, лицо его медленно багровело.
Наконец он вроде как оживлённо, шутливо (хотя у него это не очень получилось) выдавил из себя:
— И вот что ещё, мои орлуут, я подумал. Не будем жадными. Как проводить в иной мир знатного человека без надлежащего подарка? Ведь нехорошо могут о нас подумать. Поэтому дадим же ему с собой в иной мир очень хороший подарок. Отдадим ему из нашей добычи вот эту необычную своей красотой девушку. Пусть берёт её в иной мир.
Разжалась державшая рукоять кинжала рука дочери Руса. Волчонок поднялся с песка, молча взял на руки девушку и медленно пошёл в воду.
Весенняя вода была холодной, и Арс Тархан представил, как схватит сейчас больные суставы Волчонка его болезнь «капкан для ног». Подумал: «Сразу пойдёт на дно Волчонок. В воде и подёргаться не сможет. Вот как я хитро от него Хазар избавил. Без пролития священной крови». Вслух же глумливо сказал:
— Ты взял наш подарок, Тонг Тегин. Но мы тебе подарили только девушку, но не дарили её одежду. Одежда из добычи всегда доставалась моим стражникам. Так что отдай её одежду.
Белой убитой птицей затрепетала оставленная на берегу рубашка дочери Руса. Вместе с рубашкой остались на берегу и путы.
Тонг Тегин вошёл с обнажённой дочерью Руса на руках в воду уже ниже пояса, когда вдруг повернулся лицом к своим гонителям. Гордо запел:
Знайте: я — змея с золотой головой.
Когда золотое моё чрево порезали мечом,
Моё тело легло снаружи дома у дороги.
Знайте: так — это дурно!
Тонг Тегин пропел и побрёл дальше в реку. Дно реки было песчаным, пологим, и уходил он медленно, шаг за шагом погружаясь в воду.
На берегу Арс Тархан с нарочитой торопливой деловитостью отдавал громкие распоряжения:
— Живо для меня переседлать захваченную орок сингулу — белую лошадь с чёрной спиной! И все по коням.
Арс Тархан торопливо отдавал распоряжения и всем своим видом показывал, что уже выкинул из своей мужской печени всякую память о Тонг Тегине. Он хотел внушить это отношение и всем стражникам. Был, мол, принц крови — и нету его. Сам ушёл куда-то… Арс Тархан боялся мести Халифа за Тонга Тегина и мести Барса Святослава за Воиславу. Но, если бы вглядеться в его мужскую печень поглубже, то ещё больше он, — не степняк, — страшился гнева Степи. Какие разговоры пойдут передавать из кочевья в кочевье о гибели наследного принца? Гнильём и жиром обрастёт кость, бросаемая сейчас степным сплетникам. Поползёт змеёй слух о тёмной пропаже Волчонка. А тут ещё Золотоволосая дочь Русов приплетена…
Они уже тронули поводья, когда Арс Тархан увидел, что слишком расторопный Булан проявляет опять усердие: поднял свой лук.
— Воезун, вошь, далеко уползла, Начальник! Надо добить!
Вот от этого-то последнего грязного дела и отвлекал своих стражников Арс Тархан своими распоряжениями. Но Булан, надо же, вылез. И стрелял бы сам. Так нет, спросил — хочет подлость сделать, а вину свою перед богами и людьми на начальника переложить. Мерзкий кул (зависимый)! Арс Тархан едва не плюнул в лицо своему заводному. Сдержался. Побагровел. Презрительно засмеялся:
— В кого целишься, Булан? Не для кула цель. Собралась галка чёрного селезня словить — вздумал простолюдин, чернокостный раб, на своего владыку руку поднимать. Ну-ка, отстранись. Дай сюда твой лук! Я сам… И стрелу йорн дай — жужжащую!
Арс Тархан привычно сильно натянул тетиву. Подумал: «Это мне удача — отобрать лук со стрелой у Лосёнка. Мои-то собственные стрелы со змеиным ядом. А у Лосёнка стрела-то, небось, тупая. Слишком уж он прыток а, чтобы отточить хорошую стрелу, нужна усидчивость». Арс Тархан прицелился. Тетива дрожала у него под большим пальцем. Он взял цель выше и, скосив глаза на стражников, будто бы пробуя, сломал остриё. Все смотрели на уходившего в реку Тонга, и Арс Тархан пустил стрелу мягко, слабо, надеясь что Тонга Тегина она достанет уже на самом излёте. И тут же громко закричал, радуясь, что сделал всё, чтобы Волчонок спасся!
Поскакали!.. А тебе поручение, Лосёнок. Я помню, ты прошлый раз удачно довёз на аркане своего родственника. Волоки опять его. Такое тебе от меня доверие. Отведи своего родственника в степь подальше и брось. Можешь отдать ему свою лошадь. Сам мою возьмёшь! А тесть твой пусть на Русь уезжает. Такая ему от всех нас милость. На Руси смутьяны нам сейчас нужны! — Арс Тархан хохотнул незлобиво.
Всадники резко взяли с места и всё ускоряли ход. Писано в биликах — изречениях хазарских Каганов: «Воистину, утренний вздох обиженного ранит сильнее стрелы из самострела». Потом, уже позже, Арс Тархан убеждал себя, что сам видел последние глаза Волчонка, расширившиеся — со вздыбившимся в них жёлтым песком под копытами отъезжающих всадников и потемневшим, падавшим на песок солнцем. И видел, что успел Тонг Тегин встать боком к стреле и заслонить девушку на своих руках. Волчонок упал от укуса йори. Но водой понесло его к берегу, толкало и толкало волной, пока не вынесло на песок. А рядом о ним кинуло девушку из племени Русов.
Минуло несколько часов. Волчонок пришёл в себя. Тяжело поднялся и стал осматриваться. Сомневался, перешёл ли он уже вместе со своим смертным подарком — золотоволосой Воиславой в иной мир или благодаря судьбе остался в старом мире?
Он ощущал, что небо для него стало синее, песок желтее, а трава зеленее. Но, может быть, это было только так у него в глазах? Выглядело всё, как в ином мире, потому что он потерял много крови?
Волчонок вынул из своего бока стрелу. Понял, что её наконечник перед выстрелом нарочно обломлен пальцем. Волчонок залепил неглубокую рану нодуном (сгустком запёкшейся крови), поднял на руки слабо стонавшую девушку и побрёл в глубь степи.
Он думал: «Если я умер, если я уже в ином мире, то, по Тере-обычаю, мне надлежит сразу пойти искать своих екес — предков. Я даже могу предстать перед ними как семейный человек, раз у меня суженая на руках. Поэтому предки выделят нам с Воиславой юрту, мелкий рогатый и крупный рогатый скот, и разные вещи для Воиславы, чтобы она обзаводилась хозяйством…»
Волчонок нёс на руках золотоволосую чаку (девушку) в Степь иного мира, и ступни его проваливались в песок, оставляли глубокий след. Рана открылась, и тоненькая струйка крови потекла у Тонга по боку, стекла на бедро, капельками падала на землю. Тонг часто останавливался и снова залеплял рану.
На другой день объезжавший ближние кочевья Арс Тархан наткнулся на след Волчонка. Было ещё написано на песке тем глубоким следом, что Волчонок ушёл не торопясь, не делая лишних движений. Понимал, видно, что у него мало сил, а идти к Ашине-волчице ему далеко и что не так просто найти стойбище предков. Арс Тархан назавтра рассказывал по городу, что на песке было написано, будто две нагие души ушли в глубь Степи, уже освобождённые от земных покровов и готовые к небесному очищенью. Но кто знает, не было ли умысла в таком слухе, пущенном Арс Тарханом?
День двадцать третий. «Бек Алп Эр Тонг — двойник»
Люди рассказывали, что на следующий день после того, как обеспамятовавших Волчонка и девушку из племени Русов Воиславу Чёрная Река выбросила на песчаный берег, оказался в открытой степи охотник, который гнался за красным волком. Был этот охотник, старший брат Волчонка, беком Алпом Эр Тонгом. Такое имя принял принц Алп Тегин, когда отказался от своего небесного рождения. Всего на один первый детский крик был он старше брата-близнеца. Но из-за этого крика, с которым он, поторопившись при рождении, первым выскочил из утробы матери, остался младший брат его Волчонок Тонг Тегин хранителем отцовского очага, наследником отцовского имущества и титула Кагана, А Алп Эр Тонг должен был согласно обычаю для старших братьев покинуть родной дом и сам завоёвывать себе имущество в воинских подвигах.
Сейчас, как и пристало храброму баку, надеющемуся только на свою кривую саблю, громко пел бек Алп Эр Тонг степи о гордом, безжалостном ночном походе. Но, однако, слёзы стояли в его узких тёмных глазах и по тёмным скулам стекали. В девяти клоках бороды застревали. Дело было в том, что несколько лун (месяцев) тому назад совершил бек Алп Эр Тонг непоправимый промах. Пришёл к нему посол от Всей Массы Народа Хазар — мудрый Лось-старший и передал желание всего народа, чтобы бек со своим полком ворвался ночью в город, перебил пришельцев и над народом воссел в золотой Куббе, вместо отца.
Лестное предложение сделал беку посол Лось-старший от Всей Массы Народа. Но бека злой дэв попутал. Был бек Алп Эр Тонг очень смелым и воинственным, а вдруг ухватился за «мудрость» соседнего со степью народа табгачей (китайцев).
«Кто действует, проиграет. Кто имеет, потеряет. Боли народ не видит того, что возбуждает желания, печень не волнуется. Поэтому, когда правит Великий, он опорожняет печени и наполняет желудки. Ослабляет в людях волю и укрепляет кости. Он постоянно стремится к тиму, чтобы у народа не было ни знаний, ни желаний и чтобы те, кто знает, — не смели действовать. Великий действует недеянием — и всем управляет. Великий знает, что, когда у народа много оружия, в стране растут раздоры. Когда множатся законы и указы, растут разбои и грабежи. Поэтому великий управитель говорит: «Я ничего не делаю — и народ сам по себе совершенствуется, чту покой — и народ сам по себе исправляется, не занимаюсь делами — и все прославляют мою божественность». Рыжий Иосиф Управитель расхваливал на все лады такую «мудрость». Но никто в Хазарии не поверил в неё. Однако Алпу Эр Тонгу, считавшему, что все его несчастья пошли оттого, что высунулся он с первым криком, эта «мудрость» пришлась по сердцу. За неё, как тонущий за спасительную верёвку, он ухватился и по всякому поводу на мудрость табгачей ссылался. А потому, не подумав, вместо того, чтобы поднимать полк, начал свысока поучать пришедшего к нему посла: «Мой отец не потерял разума, а управляет государством с помощью недеяния…» На что в ответ лишь плюнул на землю старец Лось-старший, посол Всей Массы Народа Хазар, и сказал: «Раз так, то придётся мне отправиться за свежей ветвью Ашины-волчицы на далёкий Алтай. Народ же проклянёт тебя — предателя бека Алпа Эр Тонга. Ты должен отца своего на престоле разумно сменить, народ свой устроить. Но за недеяние прячешься. Недеянием, как одеялом, от ветра прикрываешься. А народу ветер оставляешь!»
Не убил в гордом гневе Алп Эр Тонг посла. Не решился. Тоже во имя недеяния. А теперь плакал. Теперь метался по степи, кляня самого себя за нерешительность, и надеялся если не голову сложить, то хоть оглушить себя весенними страхами и риском. Гнало его всё куда-то.
Вот и сегодня, встав ночью, он всё бродил кругом, пока не увидел пятнистых косуль. Он смотрел на них, натягивая лук. Косули, оглядываясь, поднялись на гряду песчаных холмов. Он выбрал куратук — самку пятнистой косули. Он направил за нею своего снежно-белого коня. Долгой погоней он истощил её силы. Он настиг её на своём коне. Вот-вот, ему казалось, его пёс схватит её и опрокинет, станет царапать и рвать на ней шерсть. Но вдруг пропала косуля, как будто её вовсе и не было. Хотел пёс схватить косулю за горло и задушить её совсем, а перед псом оказался красный волк. «Неужели это не косули, а волки оглядывались, поднимаясь на гряду холмов?! Неужели это дурной дэв послал красного волка заманить меня?» — подумал бек. Но поскакал за красным волком. Конь Алпа Эр Тонга стал стремительным. Туча поднялась, и небо заволоклось. Преследуя волка, Алп Эр Тонг очень спешил. Бек уже представлял, как его пёс схватит волка за голову, как повалив, задушит его совсем. Но вместо красного волка взошло навстречу беку красное солнце. Оказалось, что всего лишь прогнал бек Алп Эр Тонг чёрную ночь, развеял быстрой скачкой тяжёлый сон и ускорил бег Плеяд. В счёте времени родился его новый день. Красное солнце взошло и стало жёлтым.
Алп Эр Тонг поехал за жёлтым солнцем. А чтобы приободрить себя, запел Степи, как подобает воинственному беку, героическую песню:
Выступим-ка мы в поход ночью,
Переправимся через реку Ямар,
Напьёмся родниковой воды,
Пусть будет разбит вдребезги слабый враг.
Припустим-ка мы коней на рассвете,
Будем искать крови Будрача,
Сожжём-ка мы бека Басмылов,
Пусть теперь собираются юноши.
Крикнув, двинем-ка мы коней,
Сшибемся щитами и копьями,
Забурлим и снова стихнем,
Пусть расслабляется жестокий враг.
Будем охватывать и окружать врага,
Соскакивать с коней и бежать,
Рычать будем, как львы,
Пусть будут растеряны из-за этого его силы.
Хо! Будрач разъярился.
Он отобрал своих богатырей.
Снова повернул своё войско.
Он собирается прийти.
Он, должно быть, отказался от своего намерения:
Пришёл сюда его посланец.
Сам он у изгиба долины —
Все богатыри его собираются.
Он не гнушается брать залог.
Он не устаёт навещать должников.
Он не состоит ни с кем в дружбе —
Собирается множество воинов.
Имеки с реки Иртыш
Засучивают рукава,
Сердца у них смелые —
Они собираются прийти.
Древнюю гордую песню про сражение пращуров хазар с народом ябаку (случилось оно на берегу реки Иртыш, ещё когда через Ибир-Сибир переселялись, идя вслед за солнцем, кочевники) спел бек. Но и эта песня не воодушевляла его.
— Зелёная Степь! Умираешь ты без войны? Где твои барабаны, где воины, которые горячатся, ищут вражды и мести, схватив друг друга за бороды?.. У меня девять клоков бороды на лице. Какая зависть сопернику! Но никто не отваживается их выдрать. О Кек Тенгри — Синее Небо! Зачем же ты оставило меня жить, если мне даже сразиться не с кем,? — закричал громко Алп Эр Тонг и утёр длинным рукавом своего халата печальные слёзы. Не на кого, кроме дурного дэва, было ему сейчас переложить свою вину, хоть и понимал бек, что надо бы хоть с дэвом сражаться. А иначе в реку кидайся — больше не вынесет угрызений совести, разорвётся в печали на части его гордая, кочевничья, настоящая мужская печень.
И тут конь споткнулся под Алп Эр Тонгом. Бек очень гордился своим конём. Особый у него был конь — светлой масти. Снежно-белый. «Другие беки выбирают себе коней темно-гнедых мастей, чтобы на них не было заметно крови и враги не злорадствовали, когда беки получают раны. Но я предпочитаю коней светлой масти; потому что полагаю, что как красный цвет румян является украшением женщин, так и кровь из раны, залившая всаднику одежду и тело коня, украсит мужественного воина», — хвастался всегда Алп Эр Тонг. Однако давно уже не было следов крови на снежно-белом крупе его коня. И вот: разучился воинственно скакать его конь — среди бела дня споткнулся?!
Сдавило беку печень:
— Простите, екес — предки, прости, праматерь Ашина-волчица, за то, что сам я, испугавшись, спрятался, как суслик в нору, в своё подлое недеяние. Дурной дэв меня попутал.
Бек выпрямился в седле, поглядел кругом. Закричал воинственно:
— Ах, зелёная Степь! Мой конь спотыкается. Что бы это значило? Какое в этом мне тендек — знамение? Или, может быть, не нравится тебе, что я засолоняю землю? Сказано на чёрных дощечках в Гадательной Книжке Степи: «Там, где в степи падает кровинка воина, там прорастает красный цветок, а там, где падает его слева, проступает соль». Неужели я теперь не способен сеять красные цветы, а только засолоняю землю?
В тот же миг его конь заржал и зовсе встал. И, как на похоронах хозяина, завыла сопровождающая бека собака.
— Мер удууи билее? — обратился бек ко псу. Он возмущался, отчего пёс воет: «Ведь не ранен ещё?»
Но пёс поднял голову к небу и ещё пуще завыл. Бек спросил:
— Из-за чего остановились, мои пёс и конь? Или нету у меня глаз, и я ничего не вижу?! Или нету у меня ушей, и я ничего не слышу?
Бек Алп Эр Тонг подумал, что возможно, у него и в самом деле что-то с глазами и ушами. И тогда он решил просушить глаза: и поднял их к небу и посмотрел прямо на солнце:
— Пусть солнце выжжет из моих глаз мокрый туман! Туман вошёл в них из-за того, что я, бек Алп Эр Тонг, загрустил о потерянной воинской доблести, о красной крови и чёрном поте, о серебряных трубах и о пылающем среди дня факеле, с которым когда-то выезжал глубоко в степь гонец из ставки Кагана. Кликать кочующих беков, чтобы они прибыли к Кагану с воинами для военного похода! В последнее время туман часто застилает мне глаза, когда начинаю думать в степи. Много скопилось у меня в печени злых обид на ставку Кагана — на рыжего Иосифа Управителя, который, когда недавно напали на хазар гузы, даже тогда не захотел снаряжать полки, а вытащил мешочек с золотыми динарами из-за пояса и стал швырять их под ноги требовавшим воины бекам, как хукерчинам. Кричал, что у него хватит монет, чтобы откупиться от гузов, что мир выйдет хазарам войны дешевле.
Бек Алп Эр Тонг поднял глаза к солнцу. Жёлтое солнце ослепило его, обожгло зрачки. Терпя боль, он опустил глаза к земле, потом твёрдо посмотрел прямо перед собой. Тумана больше в его глазах не было.
Но то, что он увидел, было как виденье.
Впереди, словно мираж, среди кунгаулсун (высокой травы жёлтой полыни) стояло его собственное отраженье — такой же совсем, как он, похожий на прыткого коричневого кузнечика, коренастый воин с распущенными длинными чёрными волосами под золотым обручем и с девятью клоками бороды на достойном круглом лице. В одном лишь была разница. Стоял этот воин мультус (раздетый догола). И странно, мягко и скользко блестела его кожа, будто недавно омытая в воде. А на руках у воина была нагая девушка писаной красоты.
Тронув поводья, бек поехал прямо на призрак. Он знал, когда в пустыне едешь на призрак, то «двойник» должен отступать с каждым шагом коня, заманивая героя. Но этот двойник не отступал. Проехав меньше полёта стрелы, бек Алп Эр Тонг упёрся мордой своей лошади прямо в «двойника».
— Ядалаку? — воздел тогда обе ладони к синему небу бек Алп Эр Тонг. Он обратился к защите бога со словом-вопросом: «Совершается наваждение? Или это знамение?!»
Ладони бека дрожали, потому что бек боялся, что злой дэв нарочно заманил его далеко в степь. Подсунул сначала призрачную косулю, а потом призрачного волка, а теперь сам предстаёт перед ним, приняв образ его двойника. Но бек тут же взял себя в руки. И сделал вид, что аиуул (страх) обеспокоил его не больше, чем какасун (заноза в зубах). А в подтверждение, что не дрожат у него больше руки и тверда достойная мужская печень, бек очень громко, на всю степь, попросил:
— Зелёная Степь! Протри мне глаза! А то у меня в глазах какое-то наваждение!
Затем Алп Эр Тонг отвязал от правой ноги копьё и погрозил «наваждению». Хорошенько погрозил. «Наваждение» не проявило никакой враждебности. Тогда и Алп Эр Тонг примирительно водворил своё копьё на место. Привязав копьё обратно к правой ноге и, как положено, приказав себе «коромут (немного времени)!», бек стал взвешивать обстоятельства. Походил двойник, возникший перед ним, на брата Тонга Тегина. Однако уж очень странным был облик, в каком явился ему брат. Уж не умер ли он?
Бек подумал так и уверился в этой мысли своей о смерти брата, потому что уж очень походил призрак на человека, добирающегося со своей душой в виде девушки на руках к загробному стойбищу предков.
Как же он, Алп Эр Тонг, об этом сразу не догадался? Писано в книге магов, будто живут в каждом человеке по два человека: один телесный, которого другие видят, а второй духовный, который выходит из телесного ровно за три дня перед тем, как надлежит ему предстать перед Одом (Огнём-Светом). А чтобы справедливее было принимаемое Одом относительно умершего (идущего к нему человека) решение, а также чтобы всем — и богам, и тем людям, какие уже на небе или каким за их праведное житие на земле разрешено видеть небесное! — принимаемое светоносным великим Одом решение зримо было, полагается согласно учению магов нести с собой умершему человеку к богу свои добродетели в виде юной девушки на руках — нагой даены. Чем достойнее Идущий, тем красивее и чище оказывается его даена. Сначала на трёхдневном пути через степь должен Идущий пронести её на руках. А перед мостом Чинват (мостом Испытания), с которого, не удержавшись, свергаются грешники в преисподнюю, уже между небом и землёй ступит девушка — даена на землю сама. И возьмёт Идущего за руку, назвав «Юношей» (юным он сразу после смерти становится, ибо в ином мире все навсегда становятся юношами!). Осторожно поведёт Идущего по Чинвату. И, если она окажется достаточно прекрасной, то гиены и демоны засмотрятся на неё и забудут стащить Юношу с моста Испытаний в бездну…
Бек Алп Эр Тонг ещё раз всмотрелся внимательно в своего двойника и сказал:
— Хон корба! Зиму прожил! Приветствую тебя, Идущий мой младший брат! Какой ты день в твоём последнем на земле пути? И почему хочешь ко мне обратиться? Не наносишь ли ты себе этим большой вред? Ведь какие такие у меня-то могут быть особые добродетели и достоинства, чтобы ко мне Идущий на Небо с последней исповедью обращался? Хулил я тебя — своего младшего брата Тонга Тегина, наследника, когда узнал, что, вернувшись, позор ты на наш род Ашины-волчицы накликал. На наплавном мосту стал лепёшками, как безродный, торговать. И сейчас я бы за этот позор собственной рукой лишил бы тебя возраста, коли бы ты мне на прощальной дороге, уже как Идущий, не повстречался. Однако, о справедливое Небо, сам я тебя, младшего брата своего, тоже не лучше. Поганый отброс я теперь. Завёрнутый в грязную тряпку непотребный кусок мяса, от которого откажется даже голодная собака; я свой народ предал.
Сказал так бек и в знак подтверждения чистоты и искренности своих слов сложил ладони перед глазами, а глаза возвёл к синему небу, А когда опустил глаза Алп Эр Тонг, то и протирать их не стал — убеждён был, что уже не увидит брата, что исчезнет тот.
Однако нагой брат стоял на месте. Лишь девушку — душу свою опустил брат на землю, и она лежала обсыпанная, будто песком, мелкими жёлтыми соцветиями кунгаулсун. Хорошенько, как одеялом, свежими побегами да ворсинками жемчужными прикрытая — вот как кунгаулсун постаралась! И тут вдруг дошло до бека Алпа Эр Тонга, какую он первоначально по отношению ко встретившейся переселяющейся душе брата допустил промашку. Как же это он забыл, что предупреждали маги, что человек, бредущий в иной мир если и открывается по велению свыше кому живому, то всё равно словами с ним не говорит? Ибо как же ему говорить, ежели он убит и душа его у него уже ка руках, выпущенная из тела?
Бек Эр Тонг поспешно слез с коня, шагнул к брату и участливо сказал:
— Ты не отвечай мне, мой младший брат Тонг Тегин, идущий на стойбище предков. Я обо всём сам догадаюсь, чем мне тебе помочь должно?
Алп Эр Тонг сказал так участливо и твёрдо, потому что был воином, а воин не должен знать сомнений. Но сам он ещё толком ничего не понял и надеялся только на то, что сейчас всё подскажет ему Кек Тенгри — Синее Небо: какой-то вещий знак подаст. И тут опять завыл пёс. Завыл и морду вперёд, лязгая зубами вытянул. И конь прянул. Прянул и осклабился и будто как куснуть Идущего на стойбище предков захотел.
— А вот и яарин — знак мне! — понял бек. — Не иначе как ты, встретившийся мне на пути мой умерший брат Тонг Тегин, устал под тяжестью своего тела? От своей плоти ты сам не смог освободиться?
По обряду магов, полагалось по смерти человека оставлять только кости, которые погружали в таботаи — лепные сосуды для праха. Плоть же с костей умершего очищали для тризны. Смешивали с мясом тут же зарезанных животных и отправляли в общий котёл для поминального пиршества. Но с братом, решил бек, приключилось злосчастие, и некому оказалось справить по нему тризну. Подлым путём его, видно, убили!
Бек покачал головой.
— Кивни мне, мой брат Волчонок Тонг Тегин, верно ли я тебя понимаю? Ты затем сейчас предстал мне, чтоб моя собака и мой конь совершили над тобой благочестивый очистительный похоронный обряд, положенный для «Волчат» по закону предков?.. Что ж! Я сделаю то, что ты хочешь! Меня немного смущает необычность обстоятельств, при которых ты предо мной предстал. Я охотно посчитал бы, что так шутит со мной дурной дэв, и ты всего лишь мираж. Однако собака вот на тебя воет, и конь на тебя скалится. Если бы ты был только призрак, они бы тебя не чуяли. От призрака нет духа…
Бек, подражая собаке, при этом сам потянул ноздрями воздух. Ветер сейчас шёл на него со стороны нагого воина, и бек ожидал услышать кисловатый запах начинавшегося тления. Он заранее даже немного скривился, готовясь с неприязнью почувствовать этот запах. Но на него дохнуло странной, будто речной свежестью.
Бек, на ходу вытаскивая для рокового обряда из-за пояса кинжал, шагнул ближе. И вгляделся в даену — прекрасную девушку, лежавшую в траве у ног брата. Протянул ладонь. Но ладонь его вдруг повисла над телом. Кожа девушки, казалось, растворялась, таяла в серебряных блесках полыни, и от неё шло тихое и сразу начавшее дурманить бека тепло. Как будто жёлтые соцветия полыни, укрывавшие девушку, были крохотными солнышками, опустившимися согреть её. Ладони Алпа Эр Тонга тянулись коснуться тела. Но глаза Алпа Эр Тонга сразу запутались — не могли подсказать ладоням, где же мараа (плоть), а где лишь один свет, — остановившийся свет, словно ставший девушке кожей. Слабый ветер набежал и качнул серебряно-жёлтое одеяло из травы кунгаулсун над девушкой, и свет будто потёк беку навстречу, поднимаясь из травы странным золотистым маревом. Бек Алп Эр Тонг почувствовал, как у него закружилась голова, и в ранней юности увидел он себя, в первом своём походе за воинской олье (добычей). От воинов Хельги (Ольги, княгини Русов) отбивали тогда они Арран. Сбил он с коня русскую поленицу (женщину-воина) и наставил ей в грудь копьё, предлагая добровольно снять шлем. Она сняла шлем, и упали из-под шлема густые льняные волосы. Хотел он протянуть ей шёлковый красный шибилькер (мешочек для волос — знак покорившейся, согласной замуж женщины). Но глядел он на золотые волосы, и голова у него самого, как у пленника, закружилась. В глазах той побеждённой им русской поленицы, как в синей воде, он сам утонул. И… в первый и единственный раз в своей жизни побежал бек тогда с поля боя. От колдовства русской поленицы побежал! А потом всю жизнь жалел о ней, как о потерянной мечте.
И вот теперь бек снова застыдился и растерялся. Застыдился и растерялся перед девушкой — душой брата и преклонился перед братом. Ведь если верить магам, то выходит, что, мол, вот какая прекрасная, золотоволосая и белокожая, как тана — жемчужина, душа была у младшего брата. А бек брата всё поносил?!
И не выдержал — сказал, глядя прямо в лицо уходящему в иной мир брату бек Алп Эр Тонг:
— Счастливый ты! Вон какая через мост Испытаний поведёт тебя даена ослепительная. На неё взглянуть — руки дрожат, голова кружится! Сейчас, сейчас я тебе, каткалдукчи — доблестный воин, смелый и прекрасный брат мой, освободиться от тяжести плоти помогу. Но погоди немного, дай хоть руки дрожать мои перестанут.
И тут увидел бек, что хочет что-то ответить ему его младший брат Волчонок, пытается выплюнуть пересохший сгусток крови из залепленного рта своего. Торопливо остановил брата.
— Не нарушай обета смертного молчания! Не губя свою душу.
Бек оглянулся на своего пса. Спросил:
— Поможешь?
Согласно обряду магов дочиста очищать кости умерших от мяса обычно помогали либо красивые птицы — даусы-павлины для очень богатых, либо собаки. Потому и попросил бек о помощи своего пса. Но пёс бека ослушался. Виновато поджал хвост, шмыгнул в сторону, заскулил.
Бек Алп Эр Тонг стиснул зубы и не стал заставлять пса. Что ж! Он сам срежет с костей брата отслужившую ему мараа (плоть)!
Но прежде, чем основательно заняться похоронным обрядом, захотелось беку поближе взглянуть на тану (жемчужину) — душу брата. Бек встал на колени перед девушкой. Осторожно поднял ей веки, открыл ей глаза. Глаза были синими, как у той русской поленицы, от которой, в её глазах утонув, когда-то убежал юный бек. И почувствовал бек, как исчезает у него из живота печень мужчины. Осталось только одно бьющееся, как птица в силках, сердце в груди. И с кружащейся головой прошептал бек:
— Хочу с тобой в иной мир! Я согласен здесь даже вкусить убийственный трупный яд, от которого умирают в мучениях, за то, чтобы там, в ином мире получить любовное яблоко со следами твоего укуса, русская красавица!
И поднял затем бек глаза к своему брату и сказал тому:
— Ты останься — живи. А я вместо тебя пойду в иной мир с этой таной — жемчужиной, твоей душой. И не смей перечить мне! Видно, такого уж захотело Кек Тенгри — Синее Небо! Я старший брат, и я так решил. И требую, чтобы ты мне беспрекословно повиновался.
После чего, не раздумывая, встал бек, повернулся лицом к солнцу, взял горсть земли и рассыпал землю. Так было положено по обряду перед переселением на небо прощаться с землёю. Он твёрдой рукой поднял кинжал, собираясь поразить себя, И весь напрягся, готовясь нанести резкий удар, и даже немного отвёл назад для размаха руку. Но тут его руку, как клещами, зацепило, схватило, свело запястье.
Бек резко обернулся и увидел прямо перед собой часто дышащее и какое-то искажённое лицо своего брата. И бек опомнился. Он медленно убрал кинжал обратно за пояс, потом поднял тело даены — девушки из травы и осторожно положил на круп своей лошади. Он взял лошадь под уздцы и осторожно повёл лошадь степью.
Бек оглянулся, только когда начал уставать. Младший брат Тонг Тегин тяжело шёл сзади. Он отстал, падал и снова вставал. Но упрямо шёл, трудно переставляя ноги, будто у него болели суставы. Из раны на его боку струилась кровь.
Алп Эр Тонг остановился, подождал, пока младший брат доплетётся до него. Затем сказал, показывая рукой на сочившуюся кровью рану:
— Странно, что так долго не свёртывается кровь? Или ты не мёртвый?
Брат пошатывался, как полынь под слабым ветром, и молчал.
Алп Эр Тонг обнял морду своего коня, поцеловал в шершавые губы. Потом, будто какой-нибудь безродный (заводной) при еки терин (начальнике), предложил своему младшему брату стремя.
— Поезжай ты! Конь у меня выносливый — довезёт двоих, тебя и твою даену!
Младший брат не трогал коня, шевелил пересохшим ртом, порывался что-то сказать.
— Не размыкай рта! Не губи свою душу! — отрезал бек Алп Эр Тонг, прерывисто присвистнул и сильно ударил коня под младшим братом плетью.
Заплясали под копытами жёлтые соцветия кунгаулсун, и исчез вдали сопровождаемый псом нагон всадник с прекрасным телом на руках. А бек, оставшись один в степи без коня и собаки, грустно засмеялся. Показалось ему, что это он сам ускакал. Но тогда тут кто же остался? Бек побрёл куда глаза глядят.
Какое-то время он шёл, но кунгаулсун давно уже не было под ногами и даже золотарник куда то пропал. Ступни проваливались в песок. Он сел. В своё стойбище он направил вместо себя брата. А куда ему самому теперь? Разве что в город? К концу дня, пока опустится темень, может быть, он и доберётся — вот ветром из города тянет.
«Ночи и дни проходят, как странники. Того, с кем пересекутся их пути, они лишают сил. Не радуйся, лошадей, верблюдов, стада овец, золото, серебро, шёлк и другое имущество приобретая. Вещи и имущество человека — его враги. Как может разумный муж любить врагов? Скопив богатство, думай, что это низвергается поток воды — словно валун, покатит он своего обладателя вниз…» Так записано на чёрных дощечках — в Гадательной Книжке Степи. И потому не пойдёт бек в город! Зачем идти туда, где одни враги?
Лучше так вот сидеть, умирая?! И посыпал себе голову жёлтым песком Алп Эр Тонг. Просто так — от унижения духа своего и от сухих слёз, что невыплаканными в глазах встали. И уже не было в беке ни жажды, ни напоенности, ни голода, ни сытости, ни желания, ни удовлетворения. А так — один сухой песок на непокрытой голове, и ядакалаку (показанное богами наваждение) открылось ему во всей своей истине и печали. Бек Алп Эр Тонг отдал своего коня младшему брату и девушке. Их спас. Себя на гибель обрёк. Не ропща, поступил бек так, как повелело ему благородство. Но разве может небо быть несправедливым? Младшему брату всё, а ему?
И внезапно удобное самообольщение озарило бека Алпа Эр Тонга: «А что, если вовсе я не спас младшего брата? А, напротив, поскольку из младшего брата, которому было предопределение стать над людьми, ничего путного не вышло, придумало само Небо хитрый выход, как из пустых двух братьев одного Великого для народа Хазар сотворить! Младшему мой Дух отдало!»
— Опустился я, — даже как-то гордо укорил себя бек, — в вонючий кусок мяса, завёрнутый в тряпку, который собака не съест, превратился. Был когда-то героем степи. В Крыму бил грозных готов. До Роси и Днепра в набегах доходил, Багатыром (богатырём) слыл. А сейчас особенно нужен багатыр для Степи. Моё имя нужно! Мой дух! Ведь гибнет Эль. Великий Хазарский Каганат кормится теперь от торговли, а не от коня, овцы и верблюда. Иосиф Управитель везде кричит, что только он и содержит золотую палатку — Куббу Кагана. Иосиф, может быть, и правду кричит. Он, как может, старается. Но как он не поймёт, что всё равно что трава без земли — торговцы-купцы без кочевого Эля?! Накопят они имущество, а Барс Святослав с оружием придёт и отберёт. Одаривают они прислугу свою богатством. Но люди-то разъединяются, люди каждый сам по себе пошли. Остались разброд и шатание, а дух Степи исчезает. Люди сами Барса позовут, потому что он — багатыр, а багатыр для Степи — словно опорный столб в юрте, к которому крепятся все верёвки. Пуст мой младший брат Тонг Тегин. Он не смог величие Волчонка в себе удержать — на наплавном мосту осрамился. Потерял дух Волка. Однако и я, как трусливый пео, тоже прочь от власти откочевал. Славу свою одеялом покрыл, в укромном месте её скрываю, — уже не по моим отощавшим плечам, не по моим исхудавшим ногам стала теперь моя прежняя слава. И не стар, а состарился, и в возрасте, а без возраста! Впору мне самому Барса Святослава кликать: «Приходи, храбрый Барс, спасать Степь!» Потому я отдаю мой Дух брату.
Неужели умер Алп Эр Тонг,
А скверный мир остался?!
Не отомстило ли ему время?
Теперь вот разрывается сердце.
Бека сбило с пути,
Заменили ему тело и печень.
С другими телом и печенью
Ускакал его дух.
Скачет по Степи новый Алп Эр Тонг.
А я теперь кто же?!
Если теперь побегу,
То чем спасусь?
И поднялся с земли прежний Алп Эр Тонг и пошёл, проваливаясь ступнями в песок, с обсыпанной песком обнажённой головой. Он шёл и пел степи погребальную песню про себя самого.
Дни времени торопят,
Истощают силы человека,
Лишают мир мужей.
Если я побегу, то буду настигнут.
Таков у времени обычай,
Равный удел всем!
Если время, прицелясь, пускает стрелу,
Рассекаются вершины гор.
Когда, положив стрелу, время выстрелило,
Кто сумеет противостоять?
Если время, стреляя, нацелилось в гору,
Рассекается сама её грудь.
Беки загнали своих коней.
Горе их изнурило.
Мужи воют, как волки,
Крича, они разрывают на себе вороты.
Они рыдают, глаза их застилаются слезами.
Время сожгло мою печень,
Разбередило мои раны.
Оно заставило искать прошлое и сожалеть о нём.
Время ослабело. Добродетель стала совсем редкой.
Порочные и алчные возросли в числе.
Храбрые и воинственные впали в уничижение.
Время стиснуло их тела зубами.
Плоть добродетели прогнила,
Её волокут по земле.
Умерла воинская доблесть.
Умер, умер Алп Эр Тонг.
Он споткнулся и упал в песок. Он лежал недвижно, ветер тихонько подкатывал к нему песчинки — жёлтенькие, как соцветия кунгаулсун. Вот насыпал немного на его мягкие сапоги, потом на халат. Теперь сыпал на его непокрытую голову. Вот уже вырос маленький холмик. Он ещё хотел что-то сказать, но губы не слушались его. Он попробовал помочь губам руками, но руки были тяжёлыми и тоже не двинулись. А потом он вдруг поплыл. Качнулся и поплыл, а земля уходила из-под него.
День двадцать четвёртый. «Волчонок на жертвенном столе»
В смятении духа ехал по степи Тонг Тегин с Воиславой на руках на чужом коне и с чужим псом, верно бежавшим рядом. И мнилось ему, что и сам-то он уже и не он. И сомневался он: то ли жив ещё и наяву с ним приключилось то, что приключилось? Или уже на Небо после того, как Аре Тархан лишил меня возраста, вышел я из Чёрной Реки с Воиславой на руках, как о девушкой — даеной? И вот теперь держу положенный для Уходящего трёхдневный путь по небесной степи? И не потому ли так внезапно брат старший Алп Эр Тонг ко мне вышел?! Коня и пса мне отдал — помог, чтобы было у меня всё, как положено Идущему?! И вёл себя со мной брат, точно как будто я уже из царства мёртвых. Всё молчать меня призывал — не оскорблять телесными словами души улетающей своей…
Ощупывает Волчонок Тоне в сомнении себя. Прикасается ладонью к Воиславе:
— Вот, тепла!
Нагибается к кунгаулсун (высокой траве жёлтой полыни):
— Что-то уж слишком, как солнце, горят соцветия?! Что-то уж слишком, как серебро, летят ворсинки?! Кто тут скажет, где истина, а где замешательство, где тендек — небесный знак, а где одно смущение?! Все мы, люди, странники. Странствуем в разных обликах по Вселенной. Сейчас живём, а завтра умерли. Умерли, но в детях воскресли. Умерли, а вот и нет: слава про нас идёт, песни про нас поют, истуканы каменные для нас по всей Степи стоят — это тела нам готовы для возвращенья!
И наставляет себя Волчонок Тонг Тегин:
— Прислушаюсь ушами своими к Наилучшему учению — учению магов. Проникнусь ясным пониманием всего двух истин! Ибо есть всего две истины для жизни в Степи — вера в добро и вера в зло, и каждый человек перед судным днём сам избирает себе одну из них. Зло на добро нападает, от добра зло пропадает, — а других истин нет! Другие какие истины суть только другие слова.
И заходило солнце, и восходило солнце. И восходила луна, и заходила. А при второй луне подвёз усталый конь своего нового хозяина к стойбищу.
Конь миновал несколько крайних юрт без огневища и уверенно направился к стоявшей по самой середине шилтесутай кер (юрте с плетёной юбкой). Волчонок догадался, что это юрта бека.
Свет луны был уже не вечерним — серым, а полночным — жёлтым. Но в стойбище ещё не спали. И Волчонок увидел, как при его приближении испуганно побежали от него люди прочь, как, падая на колени или приседая на корточки, воздевали руки к небу. И тут дошло до Волчонка, что ведь он — мултус (голый) и что ноша у него на руках тоже не прикрыта. Он стал просительно оглядываться по сторонам; но никому не приходило в голову протянуть ему одежды или одеяло. Вокруг? кричали, что, вместо бека, вернулся его Дух.
Из шилтесутай кер вышла немолодая женщина. Она жестом позвала ещё двух женщин помоложе, и они все вместе бережно приняли из рук Волчонка Воиславу, бывшую в беспамятстве.
Пёс, сопровождавший Волчонка, при этом вдруг протяжно взвыл, но, не докончив начатой «песням поджал хвост и поплёлся в юрту. Вслед за псом женщины унесли в юрту и тело девушки.
Волчонок стал слезать с коня. Стремени ему никто, однако, не поддержал. Похоже, что люди решили, что их бек стал бесплотным и ему, как духу, не надо поддерживать стремя. Волчонок понял, что в стойбище бека его приняли за Уходящего в иной мир. За бека, который погиб где-то в степи, а теперь отпущен богами попрощаться с родичами. Чтобы родичи очистили от плоти его кости и совершили тризну.
Тонг опустил узду. Конь заржал и сразу исчез, будто растворился в темноте. Скорее всего, конь привычно побежал в родной табун? «Но что, если он истинно растворился в темноте? Ведь так могло быть, если это конь Духа?» — подумал Волчонок. Он чувствовал, как больно сжалась у него печень.
Он отодвинул полог и вошёл в юрту. Под дымником тихо горел костёр, и возле костра три женщины натирали благовониями тело всё ещё не пришедшей в себя Воиславы.
Он лёг на кошму; смотрел, как ладно работают женщины: словно три старшие жёны ублажали младшую, любимую господином, которой ещё расти, расцветать до ложа.
Женщины растёрли Воиславе тело и теперь, разжав ей губы, вливали в них тёплый кумыс. Девушка пошевелилась и вдруг села! Нагая, она сидела у очага в юрте и, не понимая, где она и что с ней, глядела на всех широко раскрытыми, удивлёнными, синими, как бездна неба, глазами.
Она сидела, поджав ноги под себя, в позе степной богини, и три женщины девятикратно преклонились перед ней и прикрыли её наготу золотым шёлком. Потом одна из женщин, самая молодая, пошла к Волчонку, без смущения обняла его за шею. Он тоже сел на корточки в позу бога Он не сопротивлялся уверенным рукам женщины, растиравшим его тело благовониями. Только почему-то всё прикрывал ладонями лицо.
— А он ещё не остыл! — обернувшись к другим, сказала женщина, продолжая растирать ему тело настоем из трав.
— Наверное, совсем недавно «отлетел»? Вон душа его, — старшая из женщин кивнула на Воиславу, — тоже как живая…
Полог в юрту откинулся, вошли мужчины, поклонились девятикратно:
— Благодарим тебя, достославный Волчонок, что на своём пути на небо ты благородно завернул на своё родное стойбище, чтобы укрепить наш дух.
— Мы по тебе устроим достойную тризну.
— Гонцы уже разъехались по всем соседним стойбищам. К утру со всех четырёх углов приедут харан — свободные люди.
— Многие захотят попрощаться с тобой, славный бек. Не часто ведь Небо разрешает такое: чтобы великий человек в последнем своём пути навестил близких: Люди уж и не помнят, когда в последний раз у нас такое было. Разве что ещё при екес — предках…
— Эй, оро, женщины, разделяющие ложе! Зачем вы загородили от народа душу бека? Дайте всем на даену посмотреть… Вот какая у бека душа красивая — и волосы золотые, и глаза синие! Необычная своей красотой. Сразу видно: из великого рода Ашины бек.
В юрту набилось много народу… Входили в рогатых шапках, шкурах, украшенных орнаментом Реки. Многие были при оружии с топорами-секирами, похожими на рыб. Рядом с лохматыми мужчинами, с волосами до плеч, выделялись бритоголовые женщины (жёны, взятые из племени гузов). Украшения в виде металлических рыб с чешуёй из цветных камней сердолика и рубина позвякивали на их шеях, запястьях, щиколотках.
Шилтесутай кер была очень вместительной, почти как хазармихи (праздничный шатёр), в который даже заезжают на повозках. И всё равно многие ещё остались снаружи.
Внесли четырёхугольный жертвенный стол с ножками в виде волчьих лап. Рядом со столом поставили четыре светильника в виде бронзовых конусов, украшенных спиралями солнца.
Тонг понял, что это стол для него. На этом столе над ним скоро совершится обряд тризны. И вдруг в его теле не стало ни тяжести, ни усталости. Эй! Кто это распускал по Хазарии гнусные слухи, будто несколько дней назад на наплавном мосту вышел из пустого тела «лепёшечника» и пошёл прочь от народа Степи наследный, Небом рождённый, небу равный, небу подобный Волчонок?!
Здесь он ещё! В нём, в Тонге Тегине! И сегодня выйдет к народу, с последним своим роковым и прекрасным властительным словом. Там, в городе, на наплавном мосту Дух Волка вовсе не ушёл из Хазарии прочь, а ему просто не с кем было говорить. Там была лишь кучка народа, толпа. Там не было гордых харан (свободных людей)! А здесь — вот они! Вся Степь здесь! Полна орта! Это те, кто скачут под небесным шатром, где опорным столбом — луч солнца! И зти свободные люди поймут Дух Волчонка. Они опьянятся напитком мужества, забурлят и снова стихнут — и поднимется на коня из их гордого степного гнева, возродится великий Эль кочевников-хазар. Знает Тонг Тегин законы сражающегося со злом слова перед народом.
И самое сильное слово — от смертника!
Нет сильнее напитка, чем речь, произнесённая Уходящим героем.
А это даже весомее, что он будет говорить сегодня свой прощальный заветный билик (напутствие) народу не от себя, а от имени славного старшего брата. Слову брата скорее поверят. На имя брата рахданиты и Иша-управитель не успели ещё вылить столько грязи, сколько уже вылили на него — младшего Волчонка, наследника.
Теперь последний билик Волчонка полетит по Степи, как стрела Неба! «Пусть я умру на жертвенном столе, — думает Волчонок, — но своим прощальным словом я успею поднять весь народ на защиту от Барса Святослава. Прощальную речь Уходящего героя будут, по обычаю Степи, передавать из уст в уста по всем стойбищам. И я теперь наконец-то смогу призвать Великую Степь поставить торговцев на отведённое им Небом место?! Будут с живого счищать с моих костей мясо. Но так десятикратно усилится моё яарин — предостережение! Так раскатится по степи великая молва!» — жертвенно решает Волчонок.
Первый жёлтый луч рассвета ещё не прокрался через дымник, когда Уходящего, держа под руки, возвела на жертвенный стол.
Вокруг жертвенного стола встали, держа каждый в руке по пучку прутьев, знатнейшие. У всех подвешена на локте за тесьму рогатая шапка, пояс повязан, как чётки, на шею. Расстёгнуты, обнажены груди. Лоб и щёки расцарапаны в кровь. Кладут поклоны. Едва заканчивает свой девятикратный поклон последний из удостоенных стоять у жертвенного стола, как снова начинал кланяться первый.
Волчонок встал на коленях на жертвенном столе и завёл назад свои руки, показывая всем, будто они у него связаны за спиной. По обряду это означило: «Развяжите мне руки и позвольте говорить вам слова равно похвальные, как и обидные. Так, однако, чтобы вы не подумали, что я прибыл к вам аман дуурен келеки — говорить с полным ртом!..»
— Ой-ё! — крикнули откуда-то сзади, из глубины юрты, и почти тут же полетели головешки в сложенные вокруг жертвенного стола кучки высушенной кунгаулсун. Трава, вся серебряная, с покрасневшими соцветиями, вспыхнула сразу жёлто и легко. Стоявшие вокруг жертвенного стола отступили и теперь стояли, словно отгороженные от стола огненным барьером; А под самым дымником из таботая — священного сосуда для праха, прокаляя его изнутри и готовя чистое ложе для костей, выполз острый язык совершенно белого пламени и, извиваясь, едва не лизнул верха Юрты.
Вокруг молились:
— «Он» белый, «он» ясный, видный издали. У «него» величайшее и прекрасное тело. Солнце — «его» глаз. Реки — «его» супруги. Молния — «его» сын. «Он» окутан небом, как одеждой, усеянной звёздами. «Он» живёт в бесконечном светлом пространстве.
Все в юрте расселись на корточках. Внесли с улицы уже зажаренного жертвенного быка. Куски раздавали согласно обычаю: более достойным — из лопаточной части, менее достойным — из печёночной. Самый жирный кусок кладут рядом с Волчонком. Этот кусок мяса — ритуальный символ. Обычно мясо с жертвенного стола шло в олеур (остатки), которые потом доставались жрецам, стражникам, прислуге.
Но Волчонок, к оцепенению всех, сам берёт мясо, На зубах тают мягкие мясные волокна, спёкшаяся кровь (жертвенного быка убивают обухом, не выпуская крови), оплавленное сало. Волчонок жестом показывает чтобы не забыли дать мясо и его сидящей здесь же под золотым шёлком даене — девушке-душе.
Волчонок голоден, но старается есть медленней, потому что за ним сейчас следят все глаза. По обычаю, первый, взявший своё мясо, должен и первым поведать о голосе Ода (солнца), проникшем вместе с жертвенным мясом в его нутро. Все теперь поняли: раз Уходящий в иной мир, сам взял своё мясо, то, значит, и будет говорить сам. Не передоверит свой прощальный билик жрецам. Такого ещё не было! Это чудо.
«Но тем весомее будут слова, для которых, чтобы они прозвучали, свершилось чудо!» — думает Волчонок. Он голоден и хочет насытиться, чтобы подкрепить свои силы. Ест не торопясь — хочет, чтобы его подождали. Он знает, что слово, которого очень ждали, всегда выглядит значительней. Наконец, он откладывает свой кусок мяса. Он сидит, накрытый, как и Воислава, его даена, только тонким золотистым шёлком. Он выпячивает грудь, и ему кажется, что у него уже н кривая шапка на тесьме на локте и пояс на шее.
— Слушайте меня, гордые харан — свободные люди! Вот что само Небо повелело мне перед уходом от вас к богам вам всем открыть. Так знайте, харан — свободные люди! Случилось худшее. Когда наши предки зажгли вечный огонь Степи на берегу Орхона, белопенного, как кумыс от жирной кобылы, и далёкого от нас, как Млечный Путь на небе, то образовался вокруг огня Степи могучий Эль — племенной союз-государство. Наши предки пошли за солнцем обживать земли и пронесли наш Од — Огонь через Ибир-Сибир, мимо Арал-моря до Итиля, великой Чёрной Реки, истекающей из земель Рус. Триста лет минуло, как унесли наши предки огонь Эля с Орхона и всегда находили ему достаточно пищи и добросовестно поддерживали. Однако ныне гаснет сила Огня, ибо совершили ошибку паши божественные Каганы… Когда наши предки пришли в эту местность, где мы сейчас обитаем, на нашу Реку и поставили здесь навечно, — полагая, что здесь середина земли, — свой еке аурук, великий стан, то прибилось к нам сюда много пришельцев. Пришли на лодках рыбаки из земель Русов, и поскольку они верят в Солнце, как и мы, то мы им не воспрепятствовали жить с нами рядом. Также пришли к нам с моря Ибрим — евреи, пришельцы, которые сказали, что не могут назвать нам своего бога, потому что он Невидимый и Неизречённый. Наши предки подумали: «Какая может быть опасность от бога, которого не видим и которого даже и назвать-то не называют?» — и не стали препятствовать жить с нами и этим пришельцам… И в таком согласии наших пращуров не было ошибки. Всегда на земле люди перемешивались и учились друг у друга мудрости. Но, учась друг у друга мудрости, народы не должны забывать своё собственное имя. Сказано на чёрных дощечках — в каждом поясе земли существует отдельное другу от друга население: одно оседлое, другое кочевое. И плохо, когда нарушается исконный порядок и люди начинают заниматься не своим делом. Вот арабы. Они устраивала раньше места своих кочевий на пространстве от пределов запада до крайнего побережья Индийского океана в количестве большем, чем требовала численность их народа. А теперь ослабели. Сколько уж лет не могут выиграть войну с ромеями — византийцами! А почему?! Потому что арабы, как мы, нарушили свой собственный порядок. Тоже забыли скотоводство и перебрались в города, заводя себе управителей из пришельцев, а сами Эль — Государство не устраивают.
Гордые Харан — свободные люди! Для кочевников-хазар, чтобы не раствориться и не исчезнуть вовсе, есть одно-единственное спасение. Люди! Небо повелевает: если хотите сохраниться, живите отдельно!
— Живите отдельно! — и сразу натянутая, как лук, тишина.
Волчонок остановился. Он был растерян. Вот и родился его билик. Но состоит он всего лишь из тупой мудрости кабарбунтарей, которую Волчонок сам же прежде всегда осуждал и презирал, как тупо сталкивающую лбами людей из разных народов и не решающую никак вопросов жизни: оставляющую голодных голодными, рабов рабами и несправедливых несправедливыми. «Бейте пришельцев!» — вот какой получился неразумный билик. Разве к атому он хотел призвать свой народ?
Вокруг Волчонка шумели. Он привстал с корточек, колесом выпятил грудь, откинул согнутые в локтях руки назад, побежал на месте, грозя опрокинуть жертвенный стол. Из груди его вырвался клёкот:
Я птица…
Я хищная птица с золотыми крылами.
Добыча моего тела вовсе не истощится.
Находясь на море,
Я ловлю нравящееся мне и ем любимое.
Знайте все: так я силён…
Он закричал так, а укрывавший его золотистый щёлк хлопал на его раскинутых руках, будто перья птицы, и весь он в глазах Всей Массы Народа показался залетевшей к ним в самом деле пророческой хищной птицей.
Известно ведь, что на собраниях Сильных, на тризнах или пирах, когда Великие хотят сказать народу самое важное, то не высказываются смертными словами. Обычные слова для обычных мыслей. Но когда хотят мудрости, то говорят изречениями и понимают друг друга с полунамёка. Прилетевшая и заклекотавшая орлом птица открыла всем, кто собрался в шилтесутай кер на похороны бека, что не собственного славословия ради, а истинно велением Неба говорит, прощаясь со своим народом, Уходящий.
А птица на жертвенном столе вдруг сгорбилась, захохотала, заплевалась и оборотилась верблюдом:
Я верблюд — самец бактрийской породы.
Я брызжу белой пеной. Вверху она достигает неба,
А внизу входит в землю.
Я бегаю, пробуждая спящих
И заставляя встать лежащих.
Вот какой я сильный!
С жертвенного стола были выкрикнуты два заклинания, которые поднимали на войну. Кричать пристало их при камлании самому Кагану, ведающему о часе, когда Небо к воинской доблести особо благосклонно.
Но вот уже нету ни хищной птицы, ни бактрийского верблюда. Теперь сам Волчонок тихо, совсем тихо (в наступившей после заклинаний страшной тишине, в ужасном молчании) добавил, разъясняя свой прощальный билик:
— Мутная струя втекла в реку, замутила всю воду. Отвернулся Конь от грязной воды, отвёртывается Небо от смешавшегося табуна. В юрте хазар сорно, нужна метла, чтобы вымести чужую грязь!
Вот и сказал Волчонок всё, что хотел в последнем билике народу сказать. Но понял ли Волчонка его народ?
Волчонок долгим спрашивающим взглядом посмотрел на Воиславу. Поняла ли дочь Русов сейчас, что он наговорил? Прочла ли смысл мудрости, которую он своим соплеменникам завещал? Воислава ответила чистым синим взглядом, и были в этом взгляде безграничное доверие и решимость ради Волчонка пойти на любые испытания. Хоть на смерть! Дочь Русов защищала его, она не побоялась вступиться за него даже против разъярённой толпы. А он теперь говорит: «Хазары! Русы угрожают нам. Барс Святослав стоит на границе». И ради того, чтобы поднять народ против Русов, он не только гибнет сам, но и рядом с собой обрёк на гибель дочь Русов Воиславу?!
Тонг Тегин опустил глаза. «Ради Эля… — прошептал он, — это только ради Эля!» С молоком матери внушалось ему, что в Степи может выжить только Эль, а одиночек в Степи нет. Слёзы ребёнка?.. Но если ребёнок — семя врага. Чтобы не пророс враг — торопись в первую очередь затоптать семя! Хочешь выжить — искореняй противников до младенцев! Это была страшная истина.
А вокруг Волчонка уже шло обсуждение его прощального билика. Ни порядка, ни старшинства не было. Из тёмных углов юрты кричали что кому взбредёт в голову. Выкрикивали изречения, вкладывая в них более или менее прозрачный смысл.
От полога, с порога юрты, молодо, звонко:
— Мою благородную руку задевает остриё стрелы.
— Выросло под большим родником много камыша.
Эго призывы вооружаться. Молодёжь жаждет взяться за сабли:
— Черивга башлан, анда байатьерлан — привяжись к войску, будешь храбрым.
Ехидный голос из темноты за очагом, тоже молодой, ещё ломкий:
— Одного старого вола заели пугливые муравья. Не способный двигаться, он стоял.
А эта стрела уж не в самого ли Волчонка наметилась?..
На улице за юртой запели нестройно (давно, видимо, здесь эту песню не пели):
Припустим-ка коней на рассвете,
Будем искать крови.
Крикнув, двинем-ка мы коней,
Сшибемся щитами и копьями,
Забурлим и снова стихнем,
Пусть смягчится жестокий враг…
Тёплая волна вошла Волчонку в печень. Вот оно!.. Уже запели! Он всколыхнул, он поднял свой народ!.. Ах, какая тёплая, как кумыс, волна у Тонга в печени: пусть срежут с него живого мясо — он вытерпит, пусть убивают его любимую Воиславу — это вира… Скорбный выкуп, которым надо оплатить выживание Эля.
Воислава, недвижно сидевшая у очага, вдруг встала и пошла к нему. Она шла, гордо выпрямившись, сама как хатун (главная жена). Его, Волчонка, жена! Она перешагнула через ещё светившийся пепел кунгаулсун вокруг жертвенного стола, нарушая весь обрядовый порядок. Стала рядом на жертвенник рядом с Волчонком. Она опять хотела защитить его…
В юрте зашумели. Многие, как были с кусками мяса в руках, торопливо стали класть поклоны Небу. А Воислава смотрела на них всех и приветливо улыбалась. И понял Волчонок, что она готовится к смерти, потому что знал, что женщины из племени Русов предпочитают смерть расставанию с мужем, и, если муж погиб в бою, жена с улыбкой восходит, чтобы сгореть вместе с ним, на его погребальный костёр.
Принося рассвет, упал косо из отверстия дымника жёлтый луч и высветил золотоволосую девушку на жертвеннике, рядом с Волчонком. И тут гнусавый, противный чей-то голос, ломая тишину, закричал из толпы с полным ртом:
— Ха-эй! Наш бек! А ты сам-то ловкий. Нас искать крови поднимаешь. На Барса Святослава идти. Но что с нами будет, ты подумал? Тебе-то что? Ты уже вен какую красивую даену у Неба отхватил — золотоволосую, синеглазую. Необычную своей красотой! Она тебя запросто завтра через мост Испытания — Чинват проведёт — все демоны только на неё смотреть будут. И ты таков — уже в райских кущах; «Юношей» себе вольно на небе гуляешь… А мы?.. Слава Зулькарнейна, Двурогого1, впереди русского Барса бежит, пыль до Неба поднимает. Беспощаден Зулькарнейн Святослав и свиреп, истинно как барс. Порубят нас Русы обоюдоострыми киевскими мечами. Зачем ты нас против Барса посылаешь? Мы хотим с тобой на мост Чинват, — хотим вместе с тобою и твоею душою-красавицей на небо убежать!
Так вот разверзаются пропасти и рушится верное дело. Как же не предвидел Волчонок, что на десяток длинношёрстных баранов всегда найдётся один со свалявшейся шерстью, на десять храбрых воинов с распущенными волосами найдётся один с трусливо заплетёнными, — как у женщины, — косичками?!
— Эй, талаи — зайцы! Забурлим и снова стихнем?.. Ха-ей! А сколько раз мы уже бурлили, — наедались вкусного мяса от ийкилн — жертвоприношения и бурлили…
Эй, талаи — зайцы! Да мы же сюда не бека с честью проводить — мы мяса нажраться собрались…
— Говорят: некий сын, рассердившись на своих родителей, скрылся. Но затем загрустил и вернулся домой со словами: «Да получу я наставление моей матери, да услышу я указ от моего отца»
— Душманны билма, ёлакбья сувсузма; врага узнать — ситом воду черпать!
Последнее изречение принадлежит уже не молодым, его надменно произносит старец. И псе смеются.
Смеются медленно и веско, будто отмеряя удары длинным кнутом провинившемуся хукерчину. Но кто же это — рассердившийся сын? Кто отец и мать?..
— Ха-эй, Волчонок! Ставь в свой лук прямую стрелу. Говори, а кто поведёт нас против Барса Святослава? Кому нам довериться? Уж не в город ли к рыжему Иосифу Управителю ты советуешь нам, молодым, обратиться за карау — отеческими наставлениями?..
— Зачем, бек, ты нас против Барса непобедимого посылаешь? Мы не хотим позорной смерти побеждённых псов. Мы вместе е тобой на небо сразу хотим!
И новый молодой, ломкий голос, заикаясь от страха, что оспаривает мудрость старшего, но всё-таки прёт, как в бою на боко (силача):
— Гг… говорят: овца бб… богача, испугавшись, побежала и столкнулась с волком. Волк сосал у неё молоко. Она осталась жива!..
Вот и глумливый городской ветер в степи. Юный заика прозрачен в своём намёке: овца богача всегда остаётся жива!.. Волчонок слышит эту грязную мудрость, и ненависть вскипает в нём. Он слышит прелый, со вкусом нечистот запашок, будто из канавы, через которую сливает город свои отходы в реку:
— Люди! Зачем подниматься на Барса Святослава? Лучше подкочуем к городу ближе. Даров попросим. Тот, кто кочует далеко, тому купцы дают плохие дары, кто кочует близко, тому дают купцы хорошие дары. А со Святославом-барсом зачем нам бороться? Пусть купцы от него откупаются!
— Пойдём город ограбим!
— Нельзя грабить! Один раз ограбишь, и не будет города. А просить можно часто!
Старческий голос тоже против войны с Барсом!
— Медведь и кабан встретились на перевале через гору и рассорились. Брюхо медведя было разодрано. Клыки кабана были сломаны!..
Рослый воин со шрамами на лице, следами прежних битв, доел свой кусок мяса, запил мясо свежим кумысом и лезет из глубины юрты на середину — его лицо ходит крутыми желваками, мелкие заплетённые косички торчат, как прутья. Он обнажил грудь, у него на шее пояс. Он кричит взволнованно, как шаман, стараясь завести толпу:
— Неразумными теперь стали Каганы, плохих наняли себе приказных. Каганы разучились ходить на войну и в честном и смелом бою добывать себе добычу, она живут от купцов — рахданитов, ведущих заморскую торговлю. Каганы пьют десятину от торговли, как кумыс от бешеной лошади. От Всей Массы Народа спрятался Каган в Куббе, а про Эль позабыл. Вследствие непрямоты правителей и приказных, вследствие подстрекательства и обмана народ Кочевников привёл ныне в расстройство свой Эль — племенной союз-государство… Правители наши сложили с себя степные имена. Они не хотят молиться нашему Кёк Тенгри — Синему Небу.
Выкрики следовали один за одним, как на давно отработанном представлении. «Но, может быть, и вправду всё это у нас давно заучено? — вдруг подумал Тонг. — Ведь которое уже десятилетие творится у нас в Эле всё то же самое…»
Волчонок смотрел в лицо старому воину, который стоял прямо напротив жертвенного стола. Тот кричал, бил себя кулаком в грудь. Его шумно поддерживали, многие потрясали оружием.
Но вот выкрик совершенно сумасшедший, душераздирающий, как вопль умирающего. Кричал совсем молодой каткулдукчи (воин), пробираясь с обнажённым кинжалом прямо к жертвенному столу. Он был необычен, красив и строен, он рвал на себе ворот:
— Люди! Не будем жить при дурных обстоятельствах. Не допустим, чтобы дети наши стали рабами своим крепким мужским потомством, стали рабынями своим чистым женским потомством!.. Народ Степи говорит: лучше мы погубим сами себя. Сами себя искореним!
Он повернулся к Волчонку:
— Ты лишился возраста, добродетельный воин. Ты уходишь от этого дурного мира. Возьми же и нас… Вот я иду с тобою. Где твоя красивая душа, девушка — даена? Пусть ока и всех нас, твоих соплеменников, проведёт через Чинват — мост Испытаний. О народ Степи, все уйдём с Уходящим, пока не поздно, все на Небо вместе с Волчонком!
Кричавший повернулся лицом к Воиславе н, неотрывно глядя на неё, всадил себе кинжал в живот. Пополз, корчась и истекая кровью, к ногам девушки:
— Проведи и меня через мост Чинват, Золотоволосая! Пойдём все с Уходящим в райские кущи. Его даена красивая — она нас всех проведёт…
И новые крики: — Люди, не трусьте!
Волчонок не успел ничего крикнуть, он только инстинктивно попытался загородить Воиславу от тянувшихся к ней рук умиравших. Воислава была на жертвенном столе, как на плоту среди пошедшего смертными волнами моря.
Вокруг были вопли, стоны людей, вспарывавших себе животы:
— О добродетельный Волчонок! Мы поняли смысл яарин — знамения богов! Ты пришёл сюда за нами в облике духовного человека, чтобы захватить с собой свой Эль от этой дурной жизни в райскую жизнь.
— Эй, харан! Торопитесь! Как бы не ушёл Волчонок со своей даеной без нас!..
— Все за Волчонком! Ашины, уходя, обязаны взять с собой свой народ! Он — последний Ашин. Все за ним уходим на Небо!
Волчонок пытался воззвать к разуму, он встал на колени. Он бил поклоны и кричал. Его не слушали.
Люди, умирая, пели «Песню красного скакуна»:
Од создал мир.
Непрестанно вращается небосвод.
Звёзды выстроились рядами.
Ночь окутывает день.
Од создал голубую бирюзу неба,
Рассыпал светлые нефриты звёзд.
Было нанизано созвездие Весов.
Ах, ночь окутывает день!
Скакун промчался —
Красный огонь высёкся,
Он поджёг сухую траву.
Огонь распространился —
Трава от него горит…
Волчонок привлёк к себе Воиславу и закрыл ей ладонью глаза. Он хотел, чтобы она не видела страшных мук умиравших людей.
Скоро всё было кончено. Вокруг Волчонка и Воиславы остались одни трупы.
Волчонок слез с жертвенного стола с ножками в виде волчьих лап и, взяв Воиславу на руки, осторожно пронёс, перешагивая через остывавшие тела, к выходу из юрты. Уже рассвело. Вокруг было голое поле.
На месте становища одиноко бродили оставленные хозяевами осёдланные лошади — не знали, что их хозяев уже нет.
Волчонок поставил Воиславу на землю. Нашёл ей и себе одежду. Накинул платье на неё и на себя.
— Будем выбирать коней?
Она смотрела на Волчонка, не мигая. Потом кивнула. Он выбрал ей красивую белую лошадь с рыжим пятном на лбу, себе — чёрную с белыми яблоками.
До вечера они ехали молча на свежий ветер. Волчонок угадывал путь к реке.
На берегу принц слез с коня; трудно ступая, пошёл по песку к самой кромке воды. Опустился на корточки. Он не говорил ничего и не молился Реке. Он только смотрел на её уходящую в синюю даль ровную чернозолотую гладь. Жёлтое солнце становилось всё больше. Оно краснело. Затем, покатившись по земле, начало медленно сползать в ночь.
Воислава тоже сошла с коня, подошла к Волчонку, присела на корточках рядом, — села, совсем как кочевница. Она положила свои точёные длинные ладони на воду, как на чёрное зеркало. Пахнул тёплый ветер и принёс дым очагов — город был где-то совсем рядом.
Волчонок молчал, вдыхая ветер.
— Неужели ты опять хочешь вернуться в город? Но «дети вдовы» не оставят тебя в покое, Волчонок!.. — сказала Воислава. — Они будут искать нового повода искоренить твой род…
Волчонок кивнул:
— Если мне не поможет Небо, так оно и будет… Но что мне делать?! Я — Волчонок!.. Ты вот и сама тоже скова стала называть меня Волчонком. Я не могу оставить свой народ. А ты, Воислава, должна вернуться на Русь. Тебе бы не возвращаться в город. Тебе не простят того, что ты защищала меня…
Воислава подняла на Волчонка свои большие синие глаза:
— А как же Волчонок станет жить без своей души — даены?.. Или забыл, что я твоя душа?!.
— Ты, ты моя душа, и потому тебе надо уехать. Пусть живёт душа Волчонка на Руси. Тебя убьют здесь, а разве Волчонок вправе рисковать, чтобы принародно растерзали его душу?!
Воислава сняла ладони с воды, поднесла к глазам, будто сняла с воды бересту, будто она перечитывала письмена, которые она сейчас опустит на воду, чтобы Река унесла их далеко-далеко на Русь, в Киев, на Родину.
Потом Воислава обняла своего Волчонка.
— Ладо моё! Мой лохматый! Я никому тебя никогда не отдам, а если ты погибнешь, я взойду на погребальный костёр вместе с твоим телом, чтобы мы могли отлететь в иной мир вместе. Я люблю тебя, Волчонок! Как хорошо, когда мы с тобой вместе!.. О суженый мой! Уже совсем скоро День свадеб, — в свадебном хороводе я выберу самого красивого, самого мужественного, самого храброго — тебя!..
Выпала роса, и из степи до дурноты, до головокружения пахнуло кунгаулсун — высокой травой жёлтой полынью.
Примечания
1. Зулькарнейном звали на Востоке Александра Македонского.
День двадцать пятый. «Иосиф на царском престоле»
«У людей ли я ныне ищу благоволения, или у Бога? людям ли угождать стараюсь?»
Послание к галатам Святого апостола Павла (199, 10)
Царь Иосиф лежал в постели и тихо злобствовал. Уже давно расцвело, уже солнце поднялось, а он лежал в опочивальне один, с зашторенными окнами, и делал вид, что спит.
Там, за плотными занавесами, у Храма напротив дворца цвела весна, там голубела Река и синело Небо. Но Иосиф, по восточному обычаю, за занавесами скрывался от солнца. Он улёгся в постель и даже, — на всякий случай, если бы кто вздумал подглядывать, — мягко закрыл глаза.
Он размышлял о примере ассириянки Семирамиды. Историограф Дино сообщил о ней следующее. Она была красивейшей из женщин, хотя и мало заботилась о своей наружности. Молва об её красоте достигла ушей ассирийского владетеля Нина, и он призвал Семирамиду ко двору, а увидев, влюбился. Тогда Семирамида попросила дать ей царские одежды и разрешить в течение пяти дней править Азией, чтобы всё делалось, как она повелит. Просьба не встретила отказа. Когда Нин посадил Семирамиду на трон и она почувствовала, что всё в её руках и в её власти, она приказала дворцовой страже умертвить Нина. Так Семирамида завладела ассирийским государством.
«А почему мне не дано того, что так легко далось красивой женщине? Почему я должен десятилетиями выкручиваться, прежде чем получить немного власти? Почему такая несправедливость? Ведь я, кажется, уже достиг многого. Каган меня, подобно тому, как Нин Семирамиду, поставил над всем домом своим. А в ответ я посадил Кагана в Куббу, как в золочёную клетку. Но что мне с этого? Ни земли собственной, ни скота крупного рогатого, ни скота мелкого рогатого — ничего-то у меня, чтобы утвердиться в полной своей власти, нет! И весь я сам в долгу как в шёлку, у какого-то поганого прозелита, работорговца Фанхаса, который, по свету с товарами путешествуя, и людей-то больше меня посмотрел, и чудес узнал, и языки повидал другие.
Чувствую, что слопает меня, с потрошками слопает жирный Фанхас. На корню, тёпленького, перекупит он моего начальника стражи Арс Тархана и своих телохранителей против меня наведёт. Объявит затем меня Фанхас неспособным оплатить суфтаджа — кредитные письма и сам, поддержанный всеми купцами — рахданитами, на трон усядется. Против потомков Ашины-то он бы не посмел лезть, а у меня тотемный зверь не тот, чтобы Фанхасу меня стесняться.
Чем мне гордиться? Что пращур мой Булан из рода Лосихи?.. Одной крови с Буланом — тем, что у меня в стражниках? Теперь Волчонка нет. Но не на беду ли свою расчистил я дорожку претендентам на золотую Куббу? Теперь вот сиди и сам дрожи. За спиной-то Ашинов уже не посидишь. Нужны деньги, деньги!»
Иосиф жмурит глаза до слёз. «Кажется, сегодня опять успею перехватить хлебный караван. Всё продумано. Ведь если не шлёт Всесведующий неурожая на Днепр и Рось, то пока можно ещё делать так, чтобы лодии с хлебом из Руси не приходили…»
Тишина. Только противно жужжит за оконными занавесями проснувшаяся весенняя муха. Как тяжко иногда бывает лежать, изображая безмятежный, ничего не ведающий сон.
Если чуть-чуть приоткрыть глаз, ища назойливо жужжащую муху, то сквозь прищур различимо вроде как одно круглое пятно на занавеси — жёлтое и похожее на луну в её каббалической, трехчетвертной фазе. Ах, вскочить бы Иосифу сейчас с постели и попрыгать, потянуться вверх, пожаловаться хоть этой искусственной луне?! «Подобно тому, как я прыгаю перед тобой и не достигаю тебя, так пусть враги мои не достигнут меня в своём стремлении причинить мне зло…» — молится Иосиф.
Не было ни звона мечей, ни грохота распахиваемых дверей — пришли лишь шорохи, мягкие, почти неуловимые. И встала опять вокруг постели Иосифа тишина. Но уже тишина живая, что-то в себе, как беременная женщина плод, прячущая. Кого родит эта тишина?..
Сначала вошли в чарыках (сапогах-чулках).
Это арсии. Встали вокруг постели. Но что же она не говорят?..
И тяжёлые, будто передвигается каменная глыба, шаги.
— Проснись, Повелитель!.. Тебе несу известие!..
А следом тут же — разнобой, гвалт, грохот. Это в опочивальню — больше за зрелищем — ввалилась вся царская свита.
Среди шума Иосиф различил даже женские вскрики. Подумал: «Не перестаралась ли любимица Серах, организовывая такую сумятицу? Всё-таки не очень ловко лежать голым под десятками взоров, когда тебе уже за сорок, ноги у тебя не такие стройные, как у этого токупау — журавля, главнокомандующего Песаха. Да и стан мой уже тоже немного оплыл».
— Проснись, о судсутай — имеющий печень!
Иосиф замер: пусть его расталкивают, пусть даже женщины, всегда отличающиеся подозрительной наблюдательностью, уверятся, что он спал крепким, ничего не знающим сном.
Кричат:
— Корок — спасай уж, царь!
Да, Серах, конечно, незаменима. Надо скорее сделать её Главной женой!
Кричали то, что требовалось!.. Но Иосиф всё таки ещё подождал, потянулся.
И только после:
— Что случилось, мой славный начальник стражи, мои подданные?
Иосиф изображает, что он проснулся. На лице прекрасная бледность. Над гордым носом на лбу морщины сошлись в гийар (мету избранничества).
— Хон карба! Зиму прожили, мои свободные люди!
Иосиф нарочно назвал всех «мои свободные люди», — как называл, согласно обычаю, подданных Каган. Иосиф и веки приподнял над чёрными очами своими очень медленно, словно он уже Яда медекун (умеющий наводить ветер и дождь) и только что проснулся после свидания во сне с самим богом.
Встал, закатил глаза к небу и заломил руки.
— Харан! Свободные люди! Я сам вам скажу весть, которую вы принесли с испугом сейчас ко мне. Всемогущий во сне уже открыл мне её. Я спал, а Всемогущий сказал мне: «Помнишь, давно это было. Проходили Русы дружиной мимо великого Города-на-Реке. Вышли Русы из своих лодий отделить половину добычи, как было договорено, когда пропускали мы их за море мимо своего города. Однако наши стражники арсии, будучи обиженными, что Русы сильно пограбили мусульман на побережье, не довольствовались половиной добычи, а взяли её всю, перебив зазевавшихся Русов!» Всемогущий сказал мне сейчас во сне: «Смотри, царь Иосиф. Такое теперь будет часто повторяться!.. Люди в Хазарии озлоблены. Боятся Барса Святослава, что он нападёт, и отводят в истреблении Русов душу».
Все благоговейно уставились на Иосифа. Какое ещё нужно было подтверждение его святости? Ведь именно злосчастную весть о том, что перебили русов, принесли арсии своему царю. Правда, были это мирные русы, купцы, вёзшие хлеб, а не дружинники. Но в пророческом сне всё виднее видится. Может быть, так и умнее сообщить народу случившееся дело. Так объяснимее.
— О, почтенный Царь! Ты меня уж не вини. Я сам только узнал. Какое горе! — Арс Тархан уж слишком заламывает руки. — Беда, если о несчастий прознаёт князь Святослав!..
Иосиф перебил, вознёс ладони к небу:
— Увы мне! Увы! Что я скажу послу Ольги?.. Одна надежда, что некому будет о свершившемся преступлении рассказать.
Арс Тархан тяжело опустился на колени. Арс Тархан с ходу понял, чего хочет от него Иосиф. Арс Тархан скорбно говорит самое нужное:
— Не вели отсечь мне повинную голову, почтенный Царь. Недосмотрел я. Мусульмане христиан не терпят. Между ними священная война! Как раздору помешать? Не от властей наших сие, а от войны Халифата с Византией. Так и скажем. А свидетелей других, кроме нас самих, нет… Все погибли христиане.
Иосиф насупил брови. Показно думает.
Должны же все видеть, как трудно ему даётся решение?! Решил: — Пошли гонца быстро за епископом!.. Пусть епископ отслужит самую пышную панихиду. Мы должны показать христианам нашу скорбь. А я сейчас тоже прибуду на печальное место. Для разбирательства!.. Но я, конечно, не буду решать один. Я посоветуюсь. Главнокомандующему явиться ко мне на военный совет, а всех остальных отпускаю. Я позже позову, кто ещё будет мне нужен для совета.
Все выходят.
Кандаркаган Песах, разодетый, как павлин, остаётся ждать, пока оденут Иосифа. Прямо в спальне. При постели! Иосиф не возразил. Он знал, что это приятно Песаху — тот был влюблён (или делал вид, что влюблён) в порядки константинопольского двора, а при дворе Нового Рима почитался постельничий самым доверенным человеком Базилевса.
— Слушай, Песах! Ты побудь во дворе, а я гляну на несчастье.
Иосиф мучительно думал, чего бы ещё сказать Песаху. Он ведь оставил его здесь, при своей постели, единственно для того, чтобы показать всем, что Управитель приказывает Главнокомандующему, заместителю Кагана, а не наоборот. А разговаривать давно уже совершенно не о чем Иосифу с Кандар-Каганом… Не о войске же, которого у того нет?
Громыхая доспехами, снова вошёл Арс Тархан. Иосиф поднялся навстречу начальнику стражи:
— Мы пойдём вдвоём на место несчастья, Арс Тархан. А Песах побудет во дворце. Там не было войны. Случайная стычка по причине религиозной нетерпимости. Главнокомандующего не было; значит, не производились военные действия… Барсу Святославу так и объясним, если он узнает.
Впереди Арс Тархан, за ним Иосиф. Им вслед оплаченная, умело подобранная разношёрстная толпа старательно кричала:
— Корок — спасай уж!
Иосиф было посетовал, что Серах чуть-чуть перестаралась — зря вынесла на площадь дворцовую дипломатию. Но потом согласился, что Серах действует неплохо: он ведь уже теперь царь, а царь ведь должен выглядеть спасителем своему народу! Державным соседям можно будет объяснить, как задумано. А толпе? Толпа пусть полагает, что Иосиф сейчас отправляется самолично отбивать нападение на город.
Арс Тархан и Иосиф пересекли площадь.
Садятся в лодку.
Нанятая толпа остаётся кричать: «Корок — спасай уж!» — у причала. Иосиф знает, что кричать так они будут ещё долго. Въедливая Серах уж позаботится, чтобы за денежки они накричались до хрипоты.
Рабы гребли быстро и чётко. Сразу же под городом увидел Иосиф двух стражников, толкавших в спину «зелёного попугая». Так любил называть христианского епископа Иосиф. Он не упускал случая навесить какую-нибудь унизительную кличку на любого мало-мальски влиятельного в городе человека. Так он умно осаживал всевозможных соперников в общественном мнении. Смешной противник менее опасен.
У «попугая» в руке на цепи была дымившаяся чаша, которой он резко размахивал. Почему к новому епископу прилипло прозвище «попугай»? За зелёные одежды? Или за то, что тог, когда Иосиф говорил, неизменно, как эхо, повторял за Иосифом все его слова. Люди думали, что попугай уподобился эху из подобострастия. Но сам Иосиф вычислил, что это от излишней старательности в доносительстве, чтобы лучше эти слова затвердить для питтакия — очередного своего письменного извещения в Новый Рим (Константинополь).
Иосиф даже раскрыл было уста, чтобы дать Арс Тархану надлежащее указание. Но передумал, сомкнул уста: Иша-управитель мог себе позволить лишний раз наставить начальника стражи, но не надо высокомерному Царю опускаться до мелочей! Шепнул себе: «Высокомернее держи себя, Царь! Писано: и увидели они отверстое небо, и вот конь бледный, и сидящий на нём называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует, и увидели они новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали. Твой конь бледный на новой земле — твоё высокомерие! Когда человек начинает гордиться — он уже взбирается на коня в глазах других. Возгордись с достоинством — и пред тобой преклонятся…»
Он сделал неловкое движение, лодка накренилась. Арс Тархан подождал, пока лодка выровняется, потом высокопарно и хитро, словно змея, поднявшая голову, зашипел:
— О повелитель! Среди купцов очень мало было на шеях с крестами. Но мои люди решили пригвоздить всех на кресты…
Лодка ткнулась в песчаный берег, утопая подошвами в песке, Иосиф сначала пошёл посмотреть добычу — не одни же мешки с хлебом были у русов? Иосиф догадывался, что арсии большую часть добычи от него припрятали. Но расследования не учинил, стерпел. Подумал, что больше выручит на своих хлебных амбарах.
— Стражникам можно будет за нынешнюю луку — за этот месяц не платить содержания: вы, вижу, достаточно взяли… — мудро сказал Иосиф, — а в мою долю пусть пойдут мешки с зерном.
Пошли к месту казни. Распятые ещё отлетали к небу. Но с крестов никто не молил о пощаде.
Только один с окладистой золотистой бородой, увидев Иосифа, внезапно начал кричать:
— Почтенный Управитель Иосиф! Помилуй! Что эти душегубы натворили! Всех пригвоздили на кресты!.. Почтенный Иосиф, а меня-то за что? Я же не пасынок, вольный дружинник. Я гость торговый. Меня все хазары помнят. Я отец Воиславы, которую за золотистые волосы в городе Таной Жемчужиной прозвали… Отпусти меня! Я — не пасынок… Я же хлеб в город вёз. У меня собственный корабль. Тут вот и женщины со мной были… Купцы мы… Эй, судсутай, имеющий печень, Иосиф, отпусти меня!.. Отпусти за выкуп! Стражники не трогают мирных купцов. Это же старое Тере. Отпусти меня, дам шидкюл — подарок! Я тебя в городе одарю, как могу…
Арс Тархан при упоминании о шидкюле быстро глянул на Иосифа, но Иосиф, чувствуя, как в гневе бледнеет лицом, в упор встретил взгляд жадного Арс Тархана. Плюнул. Вообще-то он презирал кочевничью привычку плеваться на врагов и показывать им зад, но сейчас он подумал, что это неплохая привычка. Она сразу низводит противников на ступень скота. После таких оскорблений уже заранее невозможно благородство и остаётся только расправа.
Иосиф выругался про себя, его глаза остекленели, бледный гордый профиль заострился. Он негодовал на «балбала». Кто же Арс Тархан, как не тупой «балбал», если за подарок готов оставить главного свидетеля против себя!
Арс Тархан шагнул к купцу на кресте, но тут же отвернулся, вроде как забыл про царский знак, и двинулся в сторону от креста с вопившим о пощаде купцом. Арс Тархан не хотел добивать купца. Он всё-таки хотел получить шидкюл.
Иосиф стал шарить взглядом по стражникам, суетившимся возле крестов с казнёнными. Всегда, когда проводится казнь, есть люди, от её исполнения увиливающие, есть с удовольствием наблюдающие и есть такие, кто жаждут стать добровольными палачами, лишь бы утвердиться в себе. Иосиф замечал, что чаще всего этих добровольных палачей в обыкновенье другие презирают, а то и бьют. А тут и им выпадает возможность кого-то побить.
Купец, мучившийся на кресте, опять закричал:
— Милостивый Управитель Иосиф! Прикажи снять меня с креста. Где же это было видно, чтобы торговых гостей распинали!
Иосиф искал добровольного палача. Наконец нашарил глазами того, кто ему подходил. Будто рыбу на крючок, выудил из кучки стражников молодого хукерчина, явно не арсия по обличью. Он помнил этого хукерчина — тот обычно охранял Арс Тархану спину или водил за ним лошадь. Ну да, это же рогатый муж Серах — шустрый Лосёнок. Сейчас хукерчин сидел возле самой воды и в упоении разбирал какие-то тряпки из награбленного. От радости, что награбил, хукерчин даже язык наружу красным лоскутом вывалил.
Иосиф крикнул:
— Эй, ты, Лосёнок!
Булан-младший сразу подобострастно подскочил, присел перед Иосифом на корточки покорности.
— А ну, Булан, попроси-ка этого крикуна не нарушать тишины, приличествующей при нашем злосчастии, — негромко сказал Иосиф, показывая глазами на Вуда, — пусть помолчит!
Булан выхватил нож, и отец золотоволосой Воиславы вдруг задохнулся в каком-то булькающем всхлипе, а к подножью креста, несколько раз перевернувшись в воздухе, шлёпнулся такой же лоскут, какой торчал изо рта Булана.
Удовлетворённый, Иосиф медленно прошёл меж крестами.
Русы тихо отходили в иную жизнь. Льняные пряди разметались над их остановившимися синими глазами — широко раскрытыми, будто в жажде запомнить и взять как можно больше светлого и хорошего в память с собой из этого, для них уже прежнего мира.
Почерневшие, плотно сжатые (чтобы не издать на стона) губы русов не шевелились. Над крестами, виясь, жалобно кричали чайки. Лакомые до трупов вороны, ещё не смея приблизиться, уже каркали в отдалении.
Запыхавшись, подоспел «попугай» — зеленоризный христианский епископ.
Опустил в растерянности кадило.
Иосиф нагло пошутил:
— Ну что, епископ Памфалон! Трудись, отпевай!.. Видишь, сколько душ Арс Тархан на кресты посадил — и в смерти ухитрился язычников от их бога Солнца отобрать, а тебе отдать. Ты можешь сообщить в Константинополь патриарху, что их всех окрестил. Глядишь, поощрение тебе будет. Да, и не забудь упомянуть в своём питтакии, что это ты меня с русами поссорил. Получишь вознаграждение, — Базилевс ведь очень хочет, чтобы ты меня поднял против русов. Он ведь страшно боится, что русы опять прибивать щит к вратам Царьграда пойдут. А тут русы поостерегутся: меня оставить у себя за спиной не решатся. Видишь, какой ты дипломат ловкий!.. Как удачно хазар с русами стравил!
Иосиф сощурился. Епископ, как эхо, повторял за Иосифом его слова. Он явился, как тень, так и остался тенью, хоть и вырядился в попугая. Но сообразителен: подобный питтакии уж точно пошлёт — своей удачи не упустит!..
Иосиф пошёл прочь. Отошёл уже достаточно далеко, когда, оглянувшись, вдруг увидел сгрудившихся пощажённых пленниц.
Остановился. Решительно вернулся.
— Кто они?
Арс Тархан пожал плечами:
— Женщины! А кто — не знаю сам. Откуда они оказались с купцами? Бледнокожие, светловолосые. Я сначала думал, что поленицы, но оружия при них не было. Пришлось пощадить. Я их приготовил работорговцам. Что заплатят, половина тебе, о Царь, всё как положено…
Иосиф рассматривал женщин.
У многих были отрезаны косы, все были без одежд и украшений. Да, завтра на рынке появятся и платья, и украшения, и ценящиеся золотистые волосы. Арсии не потеряли времени даром.
Иосиф размышлял. Потом жестом подозвал к себе стражников:
— Я попрошу вас об одолжении, храбрые каткулдукчи — воины. Не будьте жестокосердными. Пленниц вы обобрали, так что они теперь дорого не будут стоить. Сами вид товару испортили. Поэтому, я думаю, не надо продавать этих женщин в рабство. Мелочь выручите. Оставьте женщин русам. Уважим обычай варваров — у них ведь принято, что на похоронах женщину мужчина берёт с собой, — Иосиф, говорил так, будто и в самом деле хочет достойно проводить русов и делает своё распоряжение не только потому, что побаивается, что проданные Гером Фанхасом в другие страны эти пленницы наболтают лишнего.
Арс Тархан покраснел лицом:
— Я уже обещал пленниц господину придворному меняле. Гер Фанхас злопамятен. Он обидится, если ты, царь, его лишишь хорошей прибыли. Пощади пленниц, царь Иосиф!..
Зеленоризный епископ Памфалон упал на колени и пополз к ногам Иосифа:
— Смилосердствуй, царь. Не божье дело распинать женщин.
Иосиф передёрнул плечами:
— Я не приказываю ничего дурного. И не надо женщин распинать. Отправьте на небо другим способом. И поймите, они варвары — у них принято умерщвлять женщину для воина на его тризне. Я просто уважаю их нравы…
Шагая назад к городу, Иосиф думал о порочном круге добродетелей. Степняк, как само собой разумеющееся, искореняет род своего врага до младенцев. Сам Неизречённый бог накладывал заклятия на целые города, вроде Вивла, и целые народы, вроде гивлитов. Да и он, Иосиф, не сам придумал сегодняшнее вероломство. Вчера этот, сейчас стоящий на коленках и изображающий из себя милосердного, епископ Памфалон и Арс Тархан — оба усердно подбивали его на это вероломство. Да и заморские купцы вчера принесли ему мешочки с деньгами. Они платили за устранение их торговых соперников.
Солнце поднялось уже достаточно высоко. В сером мареве накаляющегося дня было до нестерпимости неподвижно и спокойно. Лучи солнца омывали своим густым, каким-то жирным светом тела казнённых мужчин на крестах и перекрученные в предсмертных конвульсиях тела женщин, которых посадили на колы.
Иосиф шагал по песку. За Иосифом вдоль берега, как привязанная к нему, следовала его лодка. Он рассердился, жестом отослал лодку.
Когда до города оставалось ещё с хороший полёт стрелы, неслышными кошачьими шагами Иосифа нагнала посланная Арс Тарханом охрана. Арсии обогнули Иосифа и полумесяцем пошли впереди, — низко пригнувшись, без мечей, только с кривыми ножами. Сердито тряслись на затылках арсиев чёрные мелкие косички. Без косичек был лишь один, самый низкорослый и молодой. Иосиф пригляделся — узнал Лосёнка. Как наблюдателен Арс Тархан! Увидел, что обратил Иосиф внимание на Лосёнка, и вот уже отдал ему своего Заводного — включил в личную охрану царя! Иосиф подумал; нужен ли ему под боком рогатый муж Серах? Но потом решил, что всё равно уже пора делать Серах Главной женой — Хатун. А этому Лосёнку возвышение в личную царскую охрану будет наградой — за отнятую жену. Видно, что он жаден, и он будет доволен, если Иосиф по-царски заплатит ему. Иосиф откинул назад свою гордую, красиво посаженную рыжую голову, выставил вперёд свою раздвоенную рыжую бородку. Представил, как прибавится ему блеску при красотке Хатун (Главной жене). Он зашагал на носках, чтобы прибавить себе росту. Он очень заботился всегда о своём росте.
В городских воротах его встретили необычными приветственными криками:
— У-у-у! Лев в берлоге! У-у! Высокомерный царь!
— Воздадим хвалу мудрости иудея Иосифа. Он спас город. Он только что самолично пресёк смуту. Там, на берегу, поссорились христиане с мусульманами. А иудей Иосиф ссору пресёк.
— О Иосиф! Ты достоин белой дохи!..
Серах была незаменима. Как прекрасно она организовала встречу Спасителя Отечества!
Трубили рога, хлопали кожаные барабаны. Иосиф не удержался — самодовольно засмеялся, видя, как, увлекая других, упали прямо в грязь Мазбар и Шлума. Ах, какие почести! Позади распростёршейся толпы улыбалась Серах, красивая, в жёлтом платье из тончайшего виссона. Чтобы он делал бы без неё!.. Как она умно сообразила, что перед царём теперь должны падать все ниц так же, как перед Каганом?! Вот теперь он, Иосиф, в самом деле царь!..
Царь Иосиф чуть помедлил и решительно, как Каган, пошёл прямо по распростёртым телам.
Внезапно справа от ворот какие-то люди в войлочных высоких шапках, подпоясанные верёвками, поднялись с земли на колени, радостно замахали руками. Иосиф поморщился. Серах кинулась к ним, пыталась их оттолкнуть. Но остановилась. Единоверцы радовались слишком искренне, хотя и нарушали порядок.
Сопровождавшие Иосифа стражники, однако, заметили, как обеспокоилась Серах, и усмотрели непочтение. Они набросились на вставших на колени и размахивавших руками «кувшинов» с нещадными ударами:
— Вниз головы! А-а, поганые тузурке. Всюду вы пакостите, вылезаете!
Единоверцев Иосифа избили при нём жестоко. Больше всех старался Лосёнок. Он выхватил плеть и, ловко ею орудуя, сделал из нескольких своих жертв «красных голышей». Иосиф дал избить единоверцев.
Одобрительно думал: «Надо приблизить Лосёнка к себе Вот преемник Арс Тархану. Как он старательно служит моему высокомерию! А эта иудейская тутгара — прислуга! Она вправду обнаглела. Голодранцы, а туда же — мне в единоверцы! Вот уж впрямь коангшиу, вонь. Поганые тузурке — кувшины…».
У Иосифа у самого даже сейчас, в царском обличай, оставался «кувшин» на голове. Разумеется, не войлочный, а парчовый. Но себя он «кувшином» уже давно не считал. Почему он должен считать себя ровней с шушерой, которая не имеет головы, чтобы подняться из грязи? Он-то, Иосиф, ведь поднялся! А они не сумели и, следовательно, по-прежнему заслуживают, чтобы их считали вонью и избивали палками. Иосиф думал: «Хорошо проучили этих тузурке мои стражники. И чему эти вонючие тузурке обрадовались? Да, я приближу кое-кого из своих единоверцев. Не потому, что вижу среди них способных слуг. Просто, поднятые из вони, они сильнее будут чувствовать, сколь мне обязаны. И будут надёжнее. Но теперь на мне государство, я царь Хазар, а не «кувшинов». А «эти» меня только унижают».
Он махнул платком, чтобы ему подали лодку, и поехал на остров к Белому храму.
Сегодня ему ещё предстоял Диван. Он построил его точно таким же, как у багдадского Халифа. Духовная Академия, провозгласив царя своим гаоном, надела на него бело-голубые одежды первосвященника и святую чёрную шапочку первого духовного лица. Но царю нужно ещё место, где он мог бы восседать на троне в короне! Совещание при царе всех сословий пройдёт в его Диване! И обставить Диван надо так, чтобы все чувствовали силу и величие нового царя. Чтобы всё было как прежде когда-то на воинских советах у Кагана в хазармихи (праздничном шатре). Все должны всем существом уверовать: сменил по значимости Кагана и выше его, великолепнее стал царь Иосиф!
Лодка мягко скользила по гладкой чёрной воде к Белому храму. Гребцы опускали вёсла без брызг — слаженно, ровно. И Иосифу подумалось, что вот так же сейчас соскальзывает сама его судьба. Только к храму ли? Семирамида завладела ассирийским государством просто и поучительно. Однако есть маленькая подробность, которую почему-то забывают хронографы. Семирамида была не кальирке — не посторонней. Она была коренной ассириянкой. А он, Иосиф? Должен ли поступить, как Семирамида? Когда чувствуешь, что вот — всё в твоих руках и твоей власти, то невозможно от венца отказаться. Каждый норовит убить своего Нина. Но учит мудрость «детей вдовы»: удержать тайную власть всегда легче, чем удержать власть явную. «Теперь меня понесёт поток, из которого я уже не выйду сухим. Я давно уже совершаю грязные дела, которые не хотела бы совершать моя душа. Раньше я хоть успокаивал себя тем, что я — орудие слепой силы, которая зовётся властью и не может быть ни доброй, ни благородной, потому что сама задача её — подавлять других, властвовать над другими. Я был умелым, хитрым, бессердечным орудием этой слепой силы. Но я действовал от другого имени От имени Кагана! Я прятал за другое имя свою совесть. Теперь царе Иосиф на виду. И уже никому не объяснишь, что ты так же несом потоком власти, как прежде: что ты царствуешь вовсе не от себя. Царь может вмешаться в какой-то отдельный случай. Но я не смогу направить другим путём тот поток власти, который меня вынес и понёс, думает Иосиф, ведь подобно тому, как рахданиты сделали здесь из Неизречённого совсем иного бога, нежели был он у того работящего и доброго, вспыльчивого и гордого, свободолюбивого и честного иудейского народа, жизнь которого растоптали иностранные легионы захватчиков-римлян, отняв у иудеев не только божий храм, но и Родину, — так и из царя иудейского захотят рахданиты «своего» сделать: не царя кочевников, а царя собственной торговой корысти. Торговая предприимчивость подняла Город-на-Реке. Она вливает свежую кровь в его стареющие жилы. Но удержать ли мне эту торговую предприимчивость в пределах интересов кочевого государства? Из Кордовы и прочих сильных общин Неизречённого бога будут требовать попрать интересы кочевников, — а в конечном счёте и самого Города-на-Реке, — служить тщеславию и корысти общин «детей вдовы». А здесь напористые и бесстыжие прозелиты породы Гера Фанхаса будут мордовать Неизречённого бога, превращая его только в символ золотого тельца. И какому народу он, Иосиф, теперь становится царём?! Кто он сам теперь? Кальирке — посторонний?! Но может ли быть царь посторонним для того государства, на престол которого возвела его судьба?!
Иосиф выходит из лодки, идёт к храму.
«Моя цель — не разрушать, объединить! — хочет внушить себе Иосиф. — Я не повторю ошибку своего деда Обадия, который призвал в наши караимские, терпимые к другим верам общины, одержимых нетерпимостью раббанитов и талмудистов из-за моря. Ах, как мне был бы сейчас нужен в гаонах — верховных жрецах духовной Академии веротерпимый караим еретик Вениамин?! Но гаон я сам, и я связан… С кем? С чем?».
Иосифу страшно, он закрывает глаза и, споткнувшись, падает на глазах народа. Долго лежит, делая вид, что упал нарочно. Потом, пачкая голубой хитон, ползёт к храму.
День двадцать шестой. «Рус Буд на кресте»
— Ты Река ли, моя Реченька? Да ты Река ли, моя быстрая! Ты течёшь да не всколыхнёшься, с берегами не сравняешься… Ах, попроси, Река, непогодушку да подымись до крутой горы. Разгуляйся, Река, волнами. Пускай сходят волны ко площади, да ударют-ка в большой колокол. Да в большой колокол родительский. Позовут дочку к умирающему отцу…
Разговаривал Буд с Рекой. На левом низком песчаном берегу пригвождён Буд на чёрный от смолы крест. Второй день он на кресте. И тяжко ему, и давно хочется его душе уйти-отлететь от тела. Но как уйти-отлететь душе в иной мир, коли не попрощался отец с чадом своим?! Ждёт он Воиславу, доченьку. Верит, что прознаёт дочка про расправу за городом — придёт-прибежит.
Взошло и уходит, подошло к горизонту солнце. Прилетели и улетели вороны, клевавшие мёртвые тела. Но ждёт Буд, не отдаёт небесам душу, из последних тяжких сил ждёт. И одна-то его Река-реченька успокаивает. Успокаивает, убаюкивает. Но страшится смежить веки Буд — опасается, что уже не проснётся.
Солнце зашло, закатилось. И уже встала низкая луна. Нависла над крестом Буда. Над крестами с его товарищами убиенными. Над колами с их жёнами, в мучениях скончавшимися.
— Что, луна? Что рано вышла ты сегодня, бледнолицая? Уж ли не на свадьбу к брату любимому, Хорсу-Солнцу, поторапливаешься?
Ах, спросить бы Буду у Красного солнца (ведь всю землю за день обошло-согрело солнце!):
— Свете светозарны, о, прекрасное солнце! Прости мне мою неслыханную дерзость, но скажи мне, господине, где дщерь моя еси? Прознала ли она про отцову муку? Поспешает ли закрыть отцовы очи?
Ах, спросить бы Буду у бледнолицей луны (всю землю луне теперь баюкать!):
— Прекрасная сестра солнца! Прости мне, купцу, мою неслыханную дерзость, скажи, госпожа, где моя Воислава? Дождусь ли я, отец, дщерь свою?
Так вот спросить бы у солнца и луны купцу русскому Буду. Но нечем Буду закричать-крикнуть мольбу своему прадеду Солнцу, сестре Солнцевой, Луне. И с Рекой-реченькой лишь глазами говорит-разговаривает Буд.
Реченька-то — вот, к ногам подбежала, у ног волной плещет. А до прадеда как ему докричать? Вырван злым Буланом язык у Буда, Солнцева правнука, и лишь жалкий клёкот, будто грай вороний, вырывается из его глотки.
Испустил Буд клёкот и затих. И опять хочется ему веки смежить, прикрыть глаза перед дорогой дальней, путём в мир иной, неблизким. Но нельзя, никак нельзя уснуть Буду навеки, потому что не наставил он доченьку родимую, — вот так получилось, что не наставил…
И уже помутнели у Руса глаза, и предсмертная пелена, яко мгла, накатила. А всё всматривается, всё всматривается Буд сквозь пелену в речную даль: ну, что же не спешишь ты принять отцов завет, Воислава?!
Но безлюдна гладь реки, и пустынны её берега. Только никнет на другом высоком берегу трава от жалости, да древа там с тугою к земле преклоняются. Эх, далече залетели соколы, птиц бья, да бесславно пир свой закончили. Эй, Карна, готовь Русам чёрные попаломы, одевай их в траурный саван! Э-ей, Желя, скачи ты, заместо дочери Воиславы, вверх по Реке Рус в землю Русскую, размыкай огонь людям в пламенном роге! Пусть заплачут жёны в Киеве, пусть застонут невесты в Путивле, пусть рыдают матери в Новгороде. Уже им своих милых чад не мыслию смыслити, не думаю сдумати, не очами повидать…
Мгла на реку идёт. Напряг руки Буд — хочет вырвать ладони из гвоздей. Не вырвать: добротно потрудились вероломные убийцы, когда прибивали. Вот и не протереть глаз Буду — серую мглу из глаз не прогнать. Дёрнулся Буд с креста что было последней, уходящей силы, застонал, замычал от боли — и ушёл, отступил от Руса смертный сон. Не смог оторвать Буд своих ладоней от креста, не смог протянуть к глазам своим руки, но пелена с глаз сама спала. И теперь зорчей зоркого снова увидел Буд Реку, и из Реки вышла к нему его павшая в бою жена Словена. В белой с зелёной оторочкой рубахе, с заплетённой тугой косой, с купеческой серебряной гривной на белой шее, с усерязями бадахшанскими, зелёными, в ушах, вышла к нему Словена.
— Добрая память тебе, Словена! Благодарствую, что уже пришла. А я думал, только к утру увидимся. Думал: вот наставлю дочь — и к тебе. Думал, за ночь и довезут меня до иного мира чёрные комони. А ты… ты вот сама пришла!..
И кажется Буду, что обнимают его руки Словену, и хорошо Буду. Неговала его всегда Словена. Не за золото, не за богачество—за прорусость мягких кудрей да очи синие любила! А ведь и можно было его любить. Пустошником никогда не слыл, но и, как мытари, не копил чаги да резаны. А что гостем торговым был? Так это потому, что в деда и в отца — не мог прожить без свиста ветра в алых парусных поволоках, без костров в речной болоний, без дивовища на страны заморские. Да ведь и дела за морями не одни гостевые устраивал: заложился он с юности за Ольгу, великую княгиню, под её покровительство стал, и когда скакал на добрых своих комонях на запад, через всю Европу, по странам немецким до Андалуса и Фиранджа, то гостьбы деял, да и примечал, что говорят в оных странах про королеву русов Вольгу (Ольгу) и какую пользу для Руси из оных стран переять надлежит. Наперёд посольств часто Ольга посылала Буда, чтобы глазом купецким, въедливым, врагов от друзей заране отличил… А и где он только не был. Буд?! На горбатой спине верблюда даже не раз качался — через пустыни добирался на юг до Басры, Ахзаза, Фарса и Кермана, торговал мехами и воском в Дамаске, а в последний поход (потому на два лета и задержался!) — так дела Ольгины в Багдаде с Халифом Ал Мути, у которого мать из русов, рядил-ладил. И не прослужился: с матерью Халифа по-русски речи вёл, ей про Отечество поведал, доброй торговле и взаимности меж арабами и Русью дорожку проложил-подкрепил. Да вот не обскажет уж он Ольге про переговоры с гузами ни первому советчику её, воеводе Свенельду. Последняя надежда была — с дочерью весть послать. Но не пришла закрыть ему глаза Воислава. А ведь и про готов, кои в Крыму осели, надо бы тоже Ольге весть передать, что просят, чтобы под себя их забрала, потому что Иосиф уже оборонить от ворогов их не может.
Говорит, рассказывает, жалуется в мыслях своих Буд родной жене Словене про добытые им важные вести и пробуждается от боли: даже в дремотном забытье державные заботы сил Буду придали. Встряхнулся Буд и… уронил голову на грудь. На что силы последние ему, коли, — как в Бусово время его предки, — на кресте он распят, — осоромленный, с уроненной честью, с вестями, о которых в Отечестве не узнают?..
Ну, где же ты, чадо моё, Воислава? Ужели про сором отца, про смерть мою лютую всё не прознала?! Или бродишь ты где-то меж крестами? В расклёванные лица вглядываешься? Отца опознаешь?.. Сейчас обнимешь отцовы ноги, гвоздями пробитые, снимешь с креста отца своего горемычного, на жёлтую рень, на песок чистый уложишь!.. Раны промоешь. Песню погребальную воспоёшь:
«Чу! Восплачется мала птичка, белая перепёлка. Ох-ти мне, молодой, горевати! Хотят старый дуб зажигати, моё гнёздышко разорити!.. Ой, ты ветер-ветрило, ой, ты река-реченька, ой, луна-месяц, сохраните гнездо малой птички перепёлки, не дайте оставить меня отцу в стране чужой, дикой! Сотворите чудо, ветер-ветрило, река-реченька, луна-месяц, воскресите отца убиенного!..»
Мнится-слышится Буду: близко-близко доченькин плач, близко-близко доченькина песня. Мнится-верится: уже скрипнул тонко песок, и травы в степи заречной зашелестели, и живой водой вот-вот на кресты заплещет, прикоснутся едва доченькины руки к остывающему телу, как возьмёт оно тепло от её ладоней — и заживут-затянутся его раны. И уже хмнится-чудится Буду, что окропит живой-водой, теплом рук своих согреет всех погубленных Русов его доченька, что уже к чарованью она приступила, уже зельем заговорным многих подняла.
И вот осторожно освобождаются от гвоздей раскинутые руки; и соскальзывают тела со крестов; и, неслышно ступая, уже пошли-идут к Реке его товарищи; обмывают кровь вологой-влагой, из Отечества — из земель руських — притёкшей, и за вёсла в быстролётные челны садятся.
— Ой, Воислава, доченька, чадо моё! Отца-то своего воскресить позабыла! — хочет крикнуть Буд; и не кричится ему, спрятался внутри, не выходит из груди его голос: — Ой, доченька, отца-то поцеловать-разбудить не забудь!..
И внезапно чувствует Буд, что обняли-таки, обняли его тёплые и чуть влажные доченькины ладони. И тянется Буд к ладоням доченьки; и веки, уже опущенные, поднимает.
И видит, что это всего лишь волога-вода докатилась, до подножья креста дотянулась, ноги, гвоздями пробитые, омочила. Нет чуда на свете! И глянул в последний раз на реку Буд. И разглядел, что поплыли по реке венки девичьи. Подумал: «Кто-то свадьбы играл? Кто-то лад миловал? Плывут брошенные в воду девичьи венки: вниз по Реке в море уходят — чьё-то отрочество-девичество уносят. Ужли и Воиславы среди венков венок?! По годам-то Воислава уже в возраст входит: пора свадьбу играть. А уж и кто-то будет её милый-суженый?!» И плеснула волога сильнее у подножья креста, и опустил глаза Буд: поднесла волога к кресту узорочье белое, невестино. «Уж зачем ты воде, узорочье невестино?! Уже кто в воде с девицы невестино узорочье поснимал; красоту девичью себе забрал?.. Уж не с невесты ли Хорса-Солнца, не с девушки ли, которую по весне в воду бросают, солнце задабривая, узорочье это вода сняла?..»
И страшней страшного стало Буду: не провидение ли ему? не знак ли небесный? А с волной ещё больше воды прибыло, и подняло невестин наряд: дальше в море нести хотело. Но уцепилось узорочье белое за подножье Будова креста: как снег, у подножья лежит, тихо на воде колышется…
И плеснуло зело на реке. И, как червлёное копьё, уколол синюю небесную высь откуда-то из-за черты меж небом и землёй прощальный луч солнца. Подана повозка Хорсова. И уже не глазами своими, но узрел душою Буд, как стали собираться в прощальный путь души Русов.
Дёрнулся на кресте рядом с Будом широкоплечий могучий молодой Рус. Думал Буд, что давно отлетел тот. Но вот только теперь не то простонал, не то вскрикнул и, бессильно уронив голову на грудь, навсегда затих товарищ Буда по злосчастью. И услышал Буд ещё и ещё такие же стоны-вскрики вокруг, и понял, что то ушли-отлетели последние из умерших Русов. Торопись и ты, Вуд! Вот-вот тронется Хорсова повозка — не могут уже ждать лохматые кони. Уйти надо тебе с ними, с товарищами своими, Буд!
Но не может уйти Буд: и сил нет, а живёт дожидается дочери, весть на Русь с дочерью передать хочет. Сказать должно Ольге — княгине великой… Стоит белая вежа — башня на выходе великой реки Рус к морю. Прыгает на башне управитель Каганов Иосиф, руку на реку простирает, реку цепью железной перегородил, корабли останавливает, торговых гостей убивает. Руси выход к арабам, в Китай и Индию перекрыла Белая Вежа. Пора русскую заставу на белую вежу поставить.
Народов кочевничьих, больших и малых, под рукой хазарского Кагана как ветвей на дереве, — но прогнил ствол. Каган в Куббе — юрте золотой, как в золотой клетке, сидит — государством давно не управляет, славу и силу свою потерял, войска не имеет и, кликни он клич о военном походе, уже войска не соберёт. Посему самое время сейчас для Руси взять те народы, что сейчас под рукою Кагана, под свою десницу. Передать должно Ольге, что пора, пробил час сына Святослава, неразумным Хазарам за дань, что прежде Русь им платила, возмездие нести. Развалилось кочевничье государство: в един город и торговлю ушло, а корки растеряло. Возил прежде купец Буд от Ольги к Кагану свитки посольские с золотой печатью весом не меньше чем в два новоримских солида, посылать какие в грамотах промеж великими державами положено. Теперь хотел передать Кагану бересту, на которой четыре слова только… И представил Буд, как не пустил его в Куббу Арс Тархан, а рыжий Иша Иосиф трясущимися руками развернул при нём, Буде, бересту и прочёл: «Иду на вы. Святослав»… И тянется с креста Буд всё-таки передать самолично Кагану четыре грозных слова. И мнится уже Буду, что за эти четыре страшных слова распят он: казнят в бессильном гневе обречённые владыки послов войны…
И пытается освободиться, и рвётся, как птица из силков, Буд. И не может вырваться. Или, может быть, ему давно уже лишь только кажется, что он из силков рвётся?..
Ждёт Буд Воиславу, дочь, хочет с нею весть Ольге-княгине передать. Не дочери он дождётся, а испытания страшного, в которое, коли не было бы оно засвидетельствовано в старинных хрониках, и поверить было нам бы не можно.
Слышишь, Буд?! Слышишь, как полночь к тебе идёт?! О, Буд, не открывай больше очей! О, Буд, зри, ежли узреть тебе кебом и такое отведено! Отверзни, отверзни скорее очи свои. Зри, как низко склонилась к тебе твоего прадеда сестра — Луна. Хочет сестра Солнца укрепить волю твою, и ты сам укрепись, ибо тяжелее смерти то, что эта полночь приносит тебе.
Ой ли слышишь ты уже крики бранные? Ой ли вопли странные слышишь?! Гневился ты, что распятию отдали тебя, язычника, к кресту пригвоздили. Но смилостивились они над тобою! Ведь не пытали, не мучили, обыкновенным убиением возраст твой пресекли! Теперь же…
Зри: будто искры засветились в темноте. И ярче искры! И костры запылали. И уже рядом звон мечей, и голоса, и бубны приближаются к тебе… Нету у тебя языка, но, покуда не выклевали вороны твои синие очи, помолись хоть взглядом ушедшему Солнцу: проси, чтобы вернуло повозку небесную, тебя в неё захватило, душу твою из тела твоего скорее взяло!.. А-а! И уже скачут, скачут поклоняющиеся Кауру. А и прискакали они на кладбище, а и начинают праздновать свой праздник — по обычаю старому, гуннскому, по обычаю ужасному. Ой, Буд! Или не слышал ты, что, по старому обычаю, заключают здесь убитых врагов в бочки с мёдом и так возят с собой на битвы, будто талисманы. Али не знаешь ты про здешнее поверье, будто труп врага дом охраняет и дождь вызывает?! Ой, Буд, за трупами на кладбище скачут, скачут в полночь поклоняющиеся Кауру. На кладбище в полночь хотят совершить они свой ужасный пир. Не пришла за тобой, Буд, твоя дочь Воислава, а вот эти прискакали, пришли.
Зри: звенят мечи и ножи — среди трупов бьются муж с мужем, а жена с женою в нагом состоянии и наносят себе кровавые рубцы на щёки и руки. Зри: вот и тела мёртвые со крестов и колов снимают, и разврату с трупами предаются. И скачут, скачут, пустив коней в разные стороны. Кому плачь и рыдание — кому игра по-старому демонскому обычаю… Ой, крепись, Буд. До рассвета будут пировать меж крестов поклоняющиеся Кауру. Разные обычаи в Городе-на-Реке, разные племена смешались, и боги тут разные. Немногие в городе верят в Каура; из карахазар такие, из потомков гуннов. Но не заступился сегодня за тебя, Буд, твой бог Солнце; Кауру вот отдан ты…
Умри, умри же скорее, Буд! Умри, не глядите, синие очи! Вот делят с криком и бранью трупы, будто живых пленников. Вот снимают с креста на поругание и твоё тело…
Скачите, скачите же скорее-быстрее, чёрные коки! Пыль в степи заречной поднимайте. Вы схватите, поберите душу купца руського, от тела увезите душу, — не дайте душе его узнать, что сотворят с его телом… Эй, Карна, живее положи на глаза Русу свою чёрную попалому! Эй, Желя! Не пришла к Буду дочь Воислава! Тебе одной размыкать про него по Руси огонь в пламенном роге!..
День двадцать седьмой. «Воислава варит любовный напиток»
На берегу Итиль-реки не за обычным глиняным дувалом, а за бревенчатым забором разместилось в Итиль-городе русское гостевое подворье. Среди других на подворье — истобка киевского торгового гостя Буда. Рубленная из брёвен, топится по-чёрному. Рядом амбары для зерна, под общей крышей кладовые для других товаров. Чуть поодаль своя смолярная для починки и хранения лодий, парная мовница.
На ночь крепко затворены ворота на русском подворье. Крепко спят работники. Только спущенные с цепи псы по подворью гуляют.
Два коня подскакали к воротам. Обнялись всадники.
— Завтра день брачных хороводов, Воислава! Стань моей женой!..
— Я согласна, любимый!.. Прости, что не зову в дом. Но раз завтра у нас свадьба, мне надо приготовить себя к брачному ложу. До утра, мой лохматый Волчонок!..
Открыли ворота разбуженные работники. Не верят своим глазам, что Воислава вернулась. По городу уже пошёл слух, что она погибла.
— А отец мой? Неужели всё ещё не вернулся? Ведь уже очистилась река, идут купеческие караваны, — тревожится Воислава…
Ничего ещё не знают работники о судьбе Буда.
Засыпает в беспокойстве Воислава. Но сон ей снится счастливый. Привиделся Воиславе Волчонок в образе сказочного Девгения Акрита (прекрасного воина). Было, будто прислышалось Воиславе сладкое на гуслях играние и к оконцу она приникла и узрела Волчонка на белой лошади, сам-четвёрт мимо двора едуща. И вселилася в неё любовь. И рекла она: «Как это мимо двора Прекрасный воин ехал и мой ум восхитил!» И возвратился Волчонок… И, услышав его, Воислава к оконцу снова припала: «Аще имеешь ко мне любовь великую, то ныне меня похищай, яко отца моего дома нет, ни сильной моей братии. Или к чему тебе похищать меня? Азъ сама еду с тобою…» Крикнула так во сне Воислава. И пробудилась. Во двор выбежала, будто догоняла Девгения.
Денница ещё даже и не проглядывала. Стояло тугое тихое зарание. Ещё в полной силе были звёзды, и только само небо едва начало мелеть, теряя перед рассветом в своей глубине. Ибо незачем отвлекаться людям днём от дел и глубинами неба завлекаться.
Воислава постояла на крыльце, разглядывая звёзды. Улыбнулась не то звёздам, не то своему растаявшему сну. Плеснула водой из кадки у крыльца себе в лицо. Вернулась в истобку, и вот уже мигом запылали уголья в очаге, как положено перед свадьбой. Воислава начала варить в корчаге пряный, пронзительно пахнущий коноплёй и шалфеем чаровный взвар.
Сварив взвар, Воислава захватила из дома божницу с домашними богами, чурами, и поспешила в баньку. Мовница была уже нагрета, а камни накалены, Воислава скинула с себя сорочку и решительно шагнула, творя мовь, в белые облака поднимавшихся, шипящих клубов пара. Из белого пара она выскочила только затем, чтобы, глотнув воздуха, захватить ивовое прутьё, которым она, теперь не останавливаясь, всё хлестала и хлестала по своему крутому телу.
Давно уже раскраснелась и обмякла её плоть. Давно уже каждой порой, каждой клеточкой открылась кожа, но Воислава упорно всё плескала речной водой, — родной, будто нарочно к ней из Руси притёкшей влагой, на банные камни и всё била и била себя по стёгнам и лону, окачным, округлившимся персям, по всем удам, всем членам своим. Она понимала, что плоть сегодня, как воду песок, должна будет впитать в себя особый чаровный взвар, и боялась недоусердствовать. И уже чувствовала она, что дальше только мучает мовью себя, никчёмно обессиливая как раз в самое заветное, брачное утро. Однако она всё тянула время.
Ещё прошлой весной, когда Воислава, озоруя, пристроилась в весенний девичий хоровод, а её вытолкнули обозвав «нечистым детском» (непомытым ребёнком), она готова была живот положить, лишь бы приблизить время, когда можно будет, приняв в распратенную плоть чудесный взвар, по поверью, открывающий в девушке женственность, с гордо поднятой головой, по праву войти в весенний свадебный хоровод невест. Но сейчас, когда до брачного ложа оставалось лишь несколько часов, а взваром можно было хоть сейчас облить тело, она медлила. Ведь в обряде подготовки девушки к браку для тела тяжкое испытание, которое надо вытерпеть. Испытание таинственное и пугающее, недаром каждая русская девушка должна творить его над собой одна-одинёшенька, не на людях, чтобы никто не прознал про её многие страхи, а коли сердце не выдержит, то чтобы вины ни на ком не было. Потому что, как при родах, когда поднимается душа на ступень выше — была женскою, становится материнскою! — так и тут ступень вверх: была девушкой, но теперь женщину в себе открыть хочет. И взвар должен проверить, выдержит ли сердце её родовые муки. Воислава собралась, решилась — вот сейчас плеснёт на себя взваром. Она согласна. Пусть скорее решают боги: то ли на небо ей сразу пойти, то ли можно ей семьёй (женой) становиться?!
Однако под оконцем Воиславиной истобки совсем некстати вдруг заплакала кочевничья песня:
Весной, когда двинутся талые воды,
потекут бурные потоки,
взойдут светлые звёзды,
внимай моему остереженью без смеха.
Не верь красоте Весны,
не опирайся на воду.
Дверь в мовницу резко распахнулась, и певшие песню две молодые кочевницы, Воиславины подружки, застыли на пороге. Всплеснули руками, закрыли лица рукавами:
— О-е! Что ты делаешь, дочь руса? Да разве ты не знаешь, Воислава, что нельзя у нас в Хазарии, встречая Весну, опираться на воду?.. Дурная примета!.. Хуже нет приметы!..
Кочевницы испуганно отвернулись. Но не уходили.
А Воислава стала перед ними, как была, нагая, распаренная, в клубах белого пара, выставила руки в боки:
— Чего же дурного-то в том, чтобы волноваться, соседушки?! Мне ж замуж сегодня! Умыкать меня сегодня будут! Или немытою мне в брачный хоровод становиться?!
Кочевницы всё отворачивали лица и не уходили.
А Воислава, распаляя себя, припомнила свои прежние с ними бесконечные сыры-боры-разговоры. Веря и не веря, разинув рты, хоть муха залетай, они слушали Воиславины были-небылицы про лихие русские свадебки. «Ажно догнал её Буд, отец мой, со всего маху раз и другой палицей булатной в голову, а Словена, мати моя, рече: — Азъ думала, что камарики покусывают, ажно руськие могучие богатыри пощёлкивают… — да как хватила она отца моего за жёлты кудри: — Ты, Буд, Будушка, возьми-ка, Буд, меня за себя…» Слушая Воиславу, хазарские женщины испуганно и восхищённо отворачивались и кутали лица в тёмные платки, а Воислава свысока смеялась. Она нарочно рассказывала былины, как будто про родных своих, — так к ней родные-близкие, по которым она стосковалась, приходили! И она подбавляла жару: «А как же иначе? Иначе у нас и быти не мочно. Вот и меня возьмите. Не буду я ждать-краснеть, как вы, кому меня отдадут, за подарки продадут. Я любимого сама в толпе выберу, изловчусь и — ну охаживать, а когда побью-покорю, то спрошу: — У тя есть ли охота, горит ли душа, со мною, с девицею, позабавиться?..» Соседки не верили. А Воислава: «Ну и что?! Какой тут зазор? Так и повелю: — Возьми меня за себя… Я же не вечер-ночку, навсегда должна ладо своё выбирать. У нас, у Русев, как? Семье, сиречь жене, долги веки с мужем коротать и здесь, и там, в ином мире. У нас коли погибнет муж, то и самой живой не оставаться: на костёр вместе с останками мужниными почётно взойти, чтобы соборно и там, — Воислава показывала на небо, — вместе и там жити…»
Кочевницы наконец отвели рукава от лица, перестали заслоняться. Воислава осмотрела их; вдруг хохотнула, как взыгравшая кобылица, крутанулась:
— Гей, вы, тоурки — юрточные юбки! Чего дивуетесь? Али я среди вас не смотрюсь? Али я не Тана Жемчужина ваша — вещая, золотоволосая? Ну, что рты разинули? Да я с моею красою захочу — самого Хорса-Солнце приворожу, с ума сведу!.. Э-эх?! Это вы… Вы, кочевницы… Как овцы вы у мужей!.. А я… Ольно уж азъ теперча горячо рассутюсь… Вона я какая и без зелья приглядная. А с чаровным-то зельем… Что глаза пялите? Зельем я сейчас мазаться буду: обычай у нас такой — перед брачным ложем надо кровь свою разогреть. Во намажусь я зельем, и на меня, сударушку, будет раз взглянуть — всё одно что на всю жизнь питья забудущего испить…
Кочевницы-подружки бочком вытеснились в дверь и осторожно и плотно дверь за собой прикрыли.
Воислава опять осталась одна. Плеснув воды на камни, поддала пару. Она уже чуточку себя каяла, что поёрничала.
А как же суженый? Как Тонг Тегин?
Но не в характере Воиславы было отступать. Брякнув похвальбу зазря, она стала упорствовать.
— А что, и Хорса покорю! А ну, Лялюшка-Ляля, Весна Писаная, подтверди мою правду, освяти мою роту-клятву!
Воислава притворно нахмурила свои пшеничные косицы-брови, будто заместо Ляли сторожа себя; потом с криком: «Чур меня!» (это она позвала на помощь домашников: божков-предков!) — плеснула на себя взваром.
Ещё и ещё. Она выливала на себя взвар отчаянно-резко, словно входила в слоть или на жар — в ледяное месиво или на горящее уголье. Взвар обтёк тело коричнево-зелёной, тугой, маслянистой плёнкой, быстро и колко отвердывая в паху и под мышками. Воислава, как-то неловко, будто подбитая птица, взмахнув руками, присела, а выпрямиться уже не смогла. От сладко-кислой куревы, пьяняще разлившейся по мовнице вместе с растекающимся взваром, в горле спазмами перехватило дыхание. Сердце в её груди сбилось и застучало, перебиваясь и больно отдавая куда-то под левый сосец.
— Ой, Хорс! Не забирай меня к себе на небо! Я по земле не нагулялась. Любимый тут у меня!
Превозмогая боль, Воислава всё-таки подняла над собой полуопорожненную корчагу и выплеснула на себя её всю до дна. Курева пошла по мовнице клубами. Голова у Воиславы кружилась, но вот дышать ей стало легче.
— Не бери меня. У тебя такой великий выбор, о Хорс. Меня Волчонок полюбил. Я обещала ему семьёй — женой быти… Молю тебя, о Хорс. Ты сильный, самый красивый. Тебя любая полюбит. Оставь меня Волчонку. Сгинет он без меня…
Внутри у Воиславы что-то оборвалось, и она почувствовала, как в тело её входит странная и радошная лёгкость. И уже представилось ей, что её тело — уже вовсе не её: во всяком случае, не то прежнее сбитое тело отроковицы Воиславы, которое сейчас можно бы ущипнуть, не жалеючи, за стегно и вскрикнуть: «Чур меня!»
Раньше-прежде, когда она чувствовала, что что-то не так, она всегда сразу звала на помощь непременного охранителя своего рода — своего предка, домашнего бога Чура. Но сейчас стегно, которое она, будто клешнёй, ухватила двумя пальцами и даже кожу выворотила для пущей боли, не чувствовалось. Оно онемело. И что было звать Чура, когда эта плоть была уже какая-то совсем чужая, не её рода и колена?! Власть Чура ведь не распространялась на чужое?.. Но чья она теперь становилась, прощаясь с Чуром? Переходила под руку к Хорсу? Или в веру Волчонка?..
Воислава всё-таки ущипнула себя за другое стегно, опять его не почувствовала. Хотела испугаться, но почему-то вдруг развеселилась, как после изрядного кубка олуя — отаи она уже, конечно, пила хмельной олуй (пиво) на братчинах.
А развеселившись, Воислава даже подмигнула стоявшему на принесённой ею божнице Чуру. Она подмигнула Чуру и приметила, что Чур вроде как ей ответил. Его маленькая фигурка, вырезанная из дерева, скрючилась и скорчила ей рожицу. Воислава подумала, что хмелеет, успокоила себя: «Оле! Азъ блюстилась перед испытанием. Лялиным. Обаче оное быдно хмель… Ха! Со хмелем-то азъ вборзе справлюсь! Ради Тонга Тегина, суженого моего, справлюсь!»
Зелёная курева от взвара уже не клубилась. Голова у Воиславы быстро яснела. Воислава воспользовалась этой ясностью и совсем легко и без усилий даже не представила, а ясно увидела перед собой толстое, доброе и совсем безресничное лицо своего суженого Тонга Тегина Волчонка. Воислава представила, как она теперь станет вместе с Тонгом, сложившим с себя бремя помазанника на престол, торговать хлебом на мосту. Какие вкусные бухони у них всегда будут! И как ласково и хорошо он будет смотреть на неё, когда часами снова будет ей, как прежде, глаголить-рассказывать про славу кочевников!
«По городу слух пустили, что я — Тана золотоволосая. Божественна, как Алан Гоа — вещая жена, способная родить Кагана, — подумала Воислава, — ан нет, не быть уже Алан Гоа мне, я стану простой кочевницей. Прижилась-обжилась, и обличьем скоро такая же буду… раскосая…» Она опять засмеялась, вся больше веселея от пряного взварного духа, и даже хотела поискать зеркальце, чтобы построить перед ним рожицы. Почему кочевники так преклоняются перед Алан Гоа? Воислава подумала, что вряд ли только за её красоту. Наверное, Алан Гоа была гордой, властной и, как русские женщины, — воительницей?! Поленицей, как её, Воиславы, родимая мати?..
Воспоминание о матери переменило направление Воиславиных мыслен. Она забыла принца Волчонка. Уже не думала о себе — его жене, Тане Жемчужине. Теперь она думала только о матери. Она даже пощупала свои бёдра, живот, грудь — отец ведь говорил, что она подрастает вся в мать… Предстала ей мати бледной, стоящей возле уже осёдланного коня. Мати была в доспехе и шлеме, с луком и тулом, полным стрел. А вместо меча была у матери короткая палица за поясом. Мати протягивала обе руки Воиславе-малышке. Крепкие, но узкие в запястьях руки, с тёмными полосками на пальцах, следами от снятых украшений, колец-жукозиньев.
«Ты уж замести меня в родине-семье, Воиславинька! Отец, может, к зиме из похода вернётся. Блюди отца. Добрым подружьем ему будь. Сама знаешь, для руса в женщине одной красоты мало. Русу надо, чтобы женщина была лицом красна, станом статна, а умом сверстна. Вот и будь ты отцу, если я с поля боя не вернусь, вместо меня — умом сверстной, во всём ровней, не супротив-ницей. Семью-жену отец новую искать себе не будет. Это у нас, русов, не принято. Однако скажи, чтобы и за мной в «иной мир» отец не торопился. Пусть тебя прежде в люди выведет. А ты ему не едино портомойницей будь. Учись разуму, чтобы отец с тобой думу сдумати всегда мог и слово перемолвити… Ну, всё вот. Передай отцу, что очень ждать я его в том мире буду. Как тебя вырастит, так пусть сразу приходит. Лишнего меня там не томит…»
Боясь неосторожным движением спугнуть видение матери, Воислава замерла. Она совсем не шевелилась и, если бы умела, остановила бы и дыхание.
Мати!!! Сколько раз в дальние-давние, ещё даже не отроческие, а самые детские свои весны с каким-то странным чувством одновременно и радости и зависти подглядывала Воислава, как после мовницы поднимали материнское тело, свежо пахнущее коноплёй и шалфеем, сильные отцовские руки. А мати на руках отца тянулась к нему, покрывала частыми поцелуями его лохматые косицы-брови, и шею, и плечи…
Воислава прикрыла глаза. У неё часто билось сердце. А грудь была туго стянута, как глиняной рубашкой, наполовину затвердевшей, застывшей массой чаровного зелья. Грудь жарко поднималась и при выдохе упиралась в колкие, студящие хлопья. Воиславе стало страшно. Грудь кололо изнутри, будто наконечниками стрел. «Нет, нет. Я нисколечки боли не боюсь и всё разумею, что это испытание», — уговаривала себя Воислава. Но взвар проникал в кожу, студил тело каким-то странным, не обычным зимним, а горячим, будто щекочущим и похищающим холодом. Он теперь сковал её тело уже, как кольчугой.
Воислава с трудом шагнула к оконному волоку, открыла. Дунула на светильник. Банные камни приостыли и мерцали в серых утренних сумерках с красноватой жутью. Воислава взмолилась к отцу: «Отец? Как же не вернулся ты? Как же оставил меня одну — нарушил роту клятвенную: довести меня до венца брачного? Ведь не довёл?! Если ты ушёл в иной мир, то как же придёшь ты теперь к моей матери, не взяв для неё с собою самого дорогого подарка — имени молодца, которому вверил дочь?!»
Кожу холодило всё жарче. Обманывая себя и перед самой собой делая вид, будто поправляет сорочку, Воислава коснулась кончиками пальцев шеломей — своих округлых девичьих холмов. Высвободила из-под взвара будто две вишнёвые косточки из краснеющей мякоти. Помедлив, провела пальцами в ложбине меж шеломей: сняла, — как она себе сказала, — лишний сгусток взвара. Из-под пальцев глянула на неё полоска собственного тела. Воислава опасливо отдёрнула руку: полоска кожи, очищенной от взвара, высветилась слабым, будто идущим изнутри, влажным светом.
Воислава опустилась на колени:
— Ой, Лялю-Лялюшки! Пытай меня тремя котлами, тремя водами обмывай. Отвори во мне сладость женину. Приди ко мне, Будовой дщери, замужество честно, хорошо. Соколом моё прилети, соловьём моё просвистай, горностаюшкой припрядай, серой утицей приплыви — белой лебедью меня оберни!.. Лялюшки-Лялю, красной женой меня оберни!..
Было с ней в детстве, в Киеве, что она едва не нашла себе суженого раньше времени. Малышкой она всё время мечтала залезть на кручу к Перуну, потрогать его золотистые усы и погладить голову серебряную. Взрослые её на кручу не пускали. Но она как-то вырвалась, бросилась из лодки в воду, доплыла до другого берега и птицей взлетела на обрыв, тут только вспомнив, о чём предупреждали её все: то, что теперь ей обратно уже нельзя сойти, что теперь отдала она саму себя Перуну. Тогда отец всё-таки её спас. Челом Буд великой княгине Ольге бил, волхвам всё добро семейное отжертвовал, — однако выкупил дочку у златоусого бога. А вот теперь? Отца-то нет её спасать! Куда она сейчас спешит-рвётся?! Зачем на весенний свадебный хоровод Хорса на себя поглазеть зазывала? Чарозным зельем сейчас обмазалась — ради суженого, ради Волчонка. Но зачем пришло ей на ум прельщать Хорса? Разве она не знала, что это едино, как забраться на кручу невозвратную к Перуну. Как она такое могла вытворять? Надо скорее, скорее в Волчонку, чтобы охранял, защитил от Хорса!
Воислава упрямо тряхнула головой. Ещё можно отчураться — кинуться в воду, быстрёхонько смыть с себя, убоясь брачного хоровода, страшный взвар — тот, что сама она ещё с осени по корешочку, по травке насбирала, приготовила.
Воислава с трудом встала с колен, напряглась — кольчуга лопнула на ней, посыпалась на пол, открывая всё её очистившееся и будто засветившееся изнутри тело. Она всплеснула руками: «Скорее, скорее! Рассутиться надо!» Она попробовала, превозмогая боль, постучать по своему телу ребром ладони, — сильнее, резче. Сквозь боль растирала себя, сбрасывала взвар с себя, помогая быстрыми пальцами пробуждаться, оживать своей коже. Губы её полураскрылись, и в их участившемся, сбивчивом дыхании слова чаровного заговора, которые Воислава твердила, раскручивались, как веретено. Оно всё убыстряло бег. «Лялюшки-Лялю!» Было, будто Воислава оборвала кудель и словесное веретено зашлось только на этом одном беспрестанно прошептываемом заповедном имени «Лялюшка!» Воислава закинула назад голову, обхватила руками, оглаживая, своё тело. Кожа была по-прежнему холодной. Тело будто возвращалось к жизни после того, как было отморожено. Но по всему телу, однако, шло какое-то странное, беспокойное тепло. Не то, обычное, уветливое, которым согревает меховой кожух. Но другое, странное, тепло, будто куда-то с собой зовущее, тревожащее, томящее, словно стекающее с холмов груди.
— Ой, мой Волчонок! О, шерстяной мой! — Воислава охнула и, выпрямившись, стала потерянно обхватывать себя руками. — Ой, милый мой! Родной! Любимый! Да чего же это такое со мной деется?.. Спаси меня, Волчонок! Где ты? Где?
Она ощутила, как словно набухают, беззащитно обнажаются, будто выставляются в срамоте своей, её перси, живот, стёгна, спина, зад…
И ей показалось вдруг (она с ужасом увидела эту картину!), что она стала как женщина на сук ар ракике (невольничьем рынке). Воислава видела на невольничьем рынке, как приказные Гера Фанхаса, желая продать молодых женщин подороже, у всех на глазах стягивали с них одежды. А женщины лишь закрывались ладонями, беззащитно и униженно. И голосили, — убивая в плаче свой стыд.
И вдруг теперь Воислава тоже заголосила. Она слышала себя саму: как она по-бабьи кудахчет, бессильно жалится, причитает. Когда прежде она слышала это жалкое причитание женщин на сук ар ракике, то она всегда, скривя губы, высокомерно отворачивалась, полная презрения. Кровь бросилась Воиславе в лицо: «Неужели я могу быть такой жалкой?!» Но сейчас она ничего с собой не могла поделать. Причитало тело, а она не могла ни повести плечами, ни покрутить стегнами, потому что теперь уже вроде не она приказывала телу, а тело хозяйничало, властвовало над нею, — распоряжалось с помощью растопляющей сладости, стекающей с холмов и заставляющей вздрагивать её всю и будто уже не сидеть, не стоять, не ходить, а плыть. Плыть в тёплой, расслабляющей воде, как в мареве парном и томном… Неужели вот после этого взвара она будет теперь всегда так жить?! В этой ласковой приторможенности и сладком промедленье? С тоской по неге и в бессилье?
Она боролась за жизнь, но с нею было, будто она засыпает. Засыпает навсегда, как замерзающая в степи.
Она пробовала обратать зелье заговором, но, однако, не только поваживание, не только тот искусный, с волхвами выучиваемый сторонний звук, которым заговаривают взвар, но и свой голос не вышел из её вдруг ставшей чужой, неподчиняющейся, расслабленной груди. Прихлынувшая кровь растекалась в тёплом и безвольном зазоре, стеснительном стыде, в котором вопреки себе самой она чувствовала щемящую, умиротворяющую сладость. И вдруг причудилось Воиславе, что она, как овца, трётся о сильную руку Волчонка, желая ласки и уже будто негуя саму себя. И тут же как сказочные крутоверхие терема, вдруг будто шевельнулись и потянулись, вырастая и, казалось, вбирая только в одних себя всю кровь из её тела, совсем стороннего и обезволевшего, выперли и нестерпимо сладко заболели её шеломи. И вслед за шеломями сами шевельнулись и плавно разошлись, как два струга, её стёгна. И с нею стало, как будто где-то на черте между бдением и сном, — потому что в её виденьи цветно и ярко, как в предрассветном смятеньи, явились многие кочевничьи лица. Лица надвигались на Воиславу и будто каждое хотело засмеяться ей в очи. А одно внезапно покатилось, как тарелка. В тарелке были отверстия для ноздрей, для глаз-щёлочек и для рта гармошкой нараспашку. Воислава дёрнулась, бессознательно заслоняясь от надвигающейся тарелки. И в тот же миг будто что-то схватило её. Теперь уже её дыхание было от неё отдельно. Частое и тяжёлое. А тело стало грубо мучить её. Оно вывёртывалось, как ящерица, которая по весне сбрасывает прежнюю свою шкурку. Воислава будто провалилась в пустоту и тут же мягко осела.
И стало с нею потом такое, что она вдруг догадалась, почему волхвы, общающиеся с богами, носят женскую одежду. Из пустоты и прострации пришло к ней мгновение лёгкости, будто даже приподнявшее её над землёй. Длинным и блаженным, воистину как кудесный выдох, всеоткрывающим было это мгновение. Потом Воислава чувствовала, как приостывают её холмы и плывут стёгна. Но мгновение лёгкости всё счастливо длилось. Летело, как парящая птица, и она сама будто была этой лебедью-птицей, и будто летела над землёй, и открывала в себе смысл жизни рода, и постигала свою сопричастность этой тайне. «О, Тонг Тегин, принц мой!..»
Позже, когда Воислава пришла в себя, она, как положено, встала лицом к божнице и сотворила поясной поклон Ляле:
— Ляля! Весна Священная! Кланяюсь за испытание и разрешение…
Теперь Воислава улыбалась. Она прошлась по мовнице и чувствовала, как, будто изнутри разогретые, плавно ведут её уды: и руки, и плечи, и бёдра, и спина. С кожи взвар совсем обсыпался, освежив и очистив её всю и будто даже просветлив.
Она накинула на себя рубашку, легко перебежала через двор в жилую истобку и с каким-то внезапным озорством перед медным зеркалом снова скинула с себя рубашку. Застеснялась, закрыла лицо ладонями, но, зардевшись, решительно отвела руки:
— Эй, Чуры, боги домашние, и ты, истобка! А ну гляньте-ка на красу-басу?! Али не хороша, не ладна без покровов азъ? Ой, мой принц Волчонок, какой подарок я тебе навсегда несу?!..
Она была хороша, и все в доме поняли это.
На Воиславу ласково глядели, почерневшие, окуренные, бревенчатые, срубленные в обло стены. Глядел нежно-мягкий земляной пол: сейчас так и ластился к её ступням. Приглядывались, дивясь, начищенные весёлые корчаги, латки, горнцы, коши — они толпились на прижавшихся, приласкавшихся к стенам скамьях и толкали друг друга в боки, приговаривая: «А и хороша наша хозяюшка Воислава!» А говорун-очаг, ссутулившийся под наивысшим огромным закопчённым рогом дымовода, сплетённым из ивовых прутьев, вроде уж и охальничал-заигрывал с нею, потому что вдруг зашипел и засвистел.
Воислава, гася срамоту, попробовала подмигнуть милым своим товарищам по истобке и, опомнившись, всплеснула руками, кинулась к окошку, торопливо заволокла-задвинула бесстыжую щель. Потом, ослабело, прислонясь спиной к крепким брёвнам и переводя дыхание, сказала уже совсем не по-девичьи, д по-женски:
— Ой, Лялюшки! Ажно совсем осоромилась азъ! Оле, ввёл меня Чур треклятый в стыдобушку!..
Воислава почему-то погладила себе живот, и опять, в который раз в это утро, будто дальний всполох, родилось в Воиславе ощущение детска (ребёнка). Показалось ей, будто детско уже в ней. Ей хотелось материнства. «Берегите меня! Я — женщина! Я готова продолжить род!» — говорило внутри её. Многие ли знают теперь секрет русского чудодейственного взвара, помогавшего девушке в первую же зрелую весну открыть себя в себе: женщину и саму себя в мире?! Воиславе посчастливилось. Она гладила свой живот и светло улыбалась. И, совершенно не стыдясь, думала, как хорошо стать матерью.
Она стала одеваться к брачному хороводу. Распушила расчесала свои золотистые волосы и вложила длинными прядями в серебряные кольца. Накинула на себя зелёную с серебром рубашку. Просунула ступни в зелёные сафьяновые плеснины на серебряных каблучках. Продела в уши серебряные усерязи с жемчужными бусинами.
И стучат по земле каблучки звонкие, сами стан Воиславы плавно раскачивают, бёдрами, как лебёдушка, поводить научают.
Уже на ходу Воислава ловко надела на голову витой серебряный обруч и прикрепила к нему те серебряные кольца, в которые пушистыми волнами были просунуты её золотые, пшеничные, солнцем отмеченные волосы. Серебряные кольца пришлись на виски; и от висков волосы спадали теперь Воиславе на грудь, закрывали высокие холмы. На шею одела гривну серебряную — ожерелье витое.
На мосту Воиславу встретила толпа ходуном.
— Эй, Лялюшка-Ляля, Весна Священная, здравствуй! Я чувствую», что ты рядом со мной. Поможешь мне? Вон свет-то какой стоит синий! И почки проклюнулись! А ночью луна молодая выглянула. Ну, Тонг Тегин, скорее ищи меня!
Воислава зажмурила глаза и окунулась в толпу, как в реку. Её облепило сразу другими телами, стало пропитывать жаром и потом. Все вокруг что-то кричали, обнимали, целовали друг друга. Вот-вот должны были начаться свадебные хороводы.
День двадцать восьмой. «Серах на пороге Соломонова храма»
В праздничный день брачных хороводов Хатун Серах, нагая, лежала в жаркой постели. Серах всегда было жарко — такая уж пылкая была у неё натура. Сейчас она в тьмутысячный раз подсчитывала, складывала сыпавшиеся на неё в последнее время, как из рога изобилия, дары Шехины. Она чувствовала себя на вершине судьбы. Осуществляется то, о чём она не смела даже втайне мечтать. Сегодня Иосиф должен показать её народу как свою главную жену — Хатун. Свершается! Стоило только вложить в отношения с людьми всю свою неутомимость, весь тот природный неостановимый напор, который когда-то помог выжить женщинам рода ибрим, как дрогнула стоявшая перед ней, казалось бы, глухая стена. Из дочери презренного «кувшина» она стала женой захудалого, но всё-таки кочевника Булана-младшего! Затем превратилась из наложницы царя в полноправную жену. А теперь и в первую женщину Хазарского Каганата. Главную жену!
Серах чувственно засмеялась. Растянула свои красивые, полные губы в хищную, плотоядную улыбку. Её чёрные, змеившиеся, как виноградная лоза, волосы рассыпались, разбежались-расползлись по оливковому телу.
Она самодовольно пропела:
— Мои волосы — чёрное пламя; в нём сгорают без пепла. Мои волосы — южная ночь. В них бесследно влюблённые гибнут. А мои груди…
Ах, жалко мне женщин, у которых нету грудей. Что таким делать, когда к ним свататься будут? Была бы какая из них стеной — её бы укрепили серебряными зубцами… Мои груди как башни! За ними город Иосифа может чувствовать себя уверенно…
Серах опять хищно и самодовольно засмеялась. Она знала силу своей хищной зовущей улыбки. Ни один мужчина не мог перед ней устоять. От этой зовущей улыбки мужчины становились увереннее в себе. Обретали хватку. Вот и Иосиф! Если бы не чёрное напористое пламя волос Серах, не её башни-груди, разве решился бы он оттолкнуть дряхлого Кагана и сам сесть на престол? Он был царём грёз красивой девушки Серах — стал благодаря ей царём всей державы.
Девчонкой, ночуя жаркими ночами под раскидистым тополем — гордостью пропахшего рыбьим клеем Вениаминова двора, — Серах часто вслушивалась в крадущиеся в темноте мимо их двора шаги. Она знала, что это влюблённые спешат на ночные сладкие свидания. И всегда тут же представляла, как к ней под раскидистый тополь прокрадывается похищать её ласки сам рыжекудрый Иосиф. Тогда это были всего лишь дозволенные мечты девушки о своём «принце». Никогда, даже когда уже стала она волею необъяснимой удачи первой прислужницей при дворе Управителя, она даже думать не могла, что станет ему Главной женой. Для того, чтобы укрепить своё величие как нового царя, отыскал Иосиф для себя невесту — дочь Кагана, по имени Чичак. Родив Иосифу наследника, она сразу бы осветила древним величием своего небесноподобного рода законность новой царственной ветви. Иосиф уже ликовал в предверии торжественной царственной свадьбы. Серах была в отчаянии, боялась, что юная жена выгонит наложницу с царского ложа. Но даже в этом отчаянии она не упустила свой случай. Когда пылал двор Вениамина и всё рушилось, она успела умыкнуть Булана. Так и теперь. Как ни разрывалось её сердце, уговорила она Иосифа немедленно «сорвать цветок». Сама постелила им постели. Сама, дёрнув за золотой шнур, опустила красный бархатный балдахин, отдав Чичак (по-хазарски цветок) Иосифу ещё до свадьбы. Она умирала от ревности и ждала утра, чтобы её первой увидел после ночи с Чичак Иосиф. Она верила в неотвратимую силу сравнения… А потом она стала больше всех во дворне заботиться о наследнике для Иосифа. Она доказала всем, что для того, чтобы не случилось непоправимой ошибки, хорошо бы, чтобы будущая Хатун понесла уже до свадьбы. Она обращала внимание двора на то, что Чичак оказалась слабогрудой, и старательно заботилась о том, как бы помочь Чичак. Чего она только не придумывала, самолично купая и холя Чичак?! А затем внезапно вспомнила удивительно подходящий древний обычай, который в целях получения здорового, сильного наследника разрешает подмену. Согласно обычаю, Чичак получила право сама не рожать, а положить себе в ноги здоровую, хорошо годную для этого дела рабыню, ребёнок от которой, — раз рабыня лежала у Чичак в ногах, — по обычаю, считается ребёнком не рабыни, а самой Чичак.
Она приготовила для вынашивания Наследника молоденькую здоровую белокожую рабыню, флейтистку из тех, кто услаждали сладкой музыкой отходившего ко сну царя. Она даже уже указала непререкаемым жестом на её место нынче ночью в ногах Чичак. Но в последний момент, когда надо уже было тянуть за золотой шнур, закрывавший на ночь священное ложе царя красным балдахином, Серах отпихнула флейтистку-рабыню и заняла её место сама. Она представляла, что её может ждать после родов. В лучшем случае положение кормилицы. А скорее всего её тихо утопят. Зачем нужна живая свидетельница необычных родов? Проще всего, если эта свидетельница, подарив Чичак ребёнка, сама отлетит на небо, переполненная благодарностью за то, что на земле ей выпало родить для Хатун наследника.
Серах понимала, что решилась на смертельный риск, но упрямо шагнула под красный балдахин и сама задёрнула его, сильно потянув за золотой шнур.
На что она надеялась? Она — жена какого-то захудалого Лося-младшего? Караимская легенда потом расскажет, что дочь богомольного еретика Вениамина отдалась воле Всесвятого, и Всесвятой ободрил её. Но сама Серах тогда верила только в свои опорные башни.
Она ведь замечала, как Иосиф воровато и стыдно поглядывал на неё, когда она, первая прислужница, которой положено было по чину раздевать будущую Хатун ко сну, тягуче-медлительно показывала Иосифу не столько прелести его будущей Хатун, сколько свои собственные прелести.
На ложе Иосиф был растерян и слаб. Молодящийся Управляющий, которого она прямо-таки вынудила объявить себя царём и которому она теперь готова была вместо рабыни принадлежать! Ей пришлось зажечь весь свой пыл, чтобы он понял, что не сможет прожить без башен, которые надлежит захватывать каждую ночь. И Хатун — главной женой Иосиф сделал всё-таки не Чичак, а Серах — дочь сумасшедшего еретика Вениамина, про которого к этому времени уже пошли слухи, что он перебежал в Киев, к Барсу Святославу. Так «башни» Серах победили даже божественную, голубую кровь Цветка. Правда, злые языки в базарных меняльнях трепали и другое объяснение смелому выбору Иосифа, повелевшего утопить за бесплодие Чичак и сделавшего своей женой служанку.
— Слышали? Нашего сбежавшего на Русь еретика-караима Вениамина там, в Киеве, купцы и ремесленники уже старостой хазарского подворья избрали. Говорят, «дети вдовы» Вениамину помогли…
— Влиятельной особой стал теперь Вениамин. С большим значением Русь-то ведь набирает силу! Скоро Вениамин выше нашего Управителя Иосифа станет! Куда торговому человеку за богатыми барышами теперь лучше всего податься, как не на Русь?!
— Вот тебе и еретик!
— Эго он тут был еретик. А в Киеве более подходящего для высокого звания хазарина и впрямь нету. Ещё бы! Из Итиля бежал. Знают, гонимый. Значит, не предаст: торговые интересы Руси, а не хазар, от которых бежал, блюсти будет. К тому же караим, — об особой избранности своей не заикается, с другими народами Руси на равных ужиться хочет. Ясно, что к нему само собой на Руси доверие вышло…
— Э-э, если с «детьми вдовы» дружишь, никогда не пропадёшь. Как Вениамин в гору пошёл?! Вот тебе и простой ремесленник! Великая сила у каббалы!
— Ловкач Иосиф! Взяв за себя дочку Вениамина, лазейку себе готовит, чтобы бежать было куда, в случае прихода Барса Святослава. Барс войной на нас, а он а Киев, на хазарское подворье. Небось уже и капитал в Киев переводит.
— Господь с тобой! Что ты говоришь! Не пожалует тебя за такие мысли Всесвятой. Иосиф же наш, иудейский, царь! Где ты видел чтобы цари от собственного престола бегали?..
Серах вспомнила про подобные слухи и уверенно позвонила в серебряный колокольчик. Явилась её прислужница Валла. Бесшумно и скоро. Серах жестом отослала её. Уже когда та была в дверях, крикнула вслед: — Иди веселись! На улицу! В толпу! А мне пришли цирюльника…
Серах любила быть щедрой, если щедрость ей ничего не стоила. Валла повеселится, а заодно — принесёт для Хатун короб слухов. Слухи ведь как цветы: иные увядают, не дав плодов, но после иного цветенья бывают очень нужные плоды!
Пришёл эфиоп-цирюльник. С тех пор, как Серах велела его хорошенько высечь у себя на глазах за оставленные на щиколотках несколько волосков, эфиоп-цирюльник больше никогда не допускал небрежности и тщательнейшим образом выщипывал волоски на всём её теле до мизинцев каждое утро. Занятие было долгим, но Серах ради своей красоты терпела.
После цирюльника Серах выкупалась в купальне. Два чёрных евнуха тщательно массировали ей кожу и втёрли благовония. Она посмотрела в зеркало, снова позвала цирюльника и велела перекрасить кончики пальцев на руках и ногах. Несколько раз она заставляла заново оттенять глаза и прочерчивать брови. Около часа крутила, складывала на голове так и сяк свои змеящиеся, роскошно-маслянистые, как чёрный виноград, волосы; меняла укладку, форму, искала линии; остановилась на высокой византийской причёске. Закончив в купальне туалет, Серах снова вернулась в постель. Думала о том, что сегодня на сух ар ракике по случаю брачного праздника надо купить своему Иосифу новую наложницу. Управителю (а теперь, тем более, царю!) полагались для развлечения наложницы, и Серах решила покупать их сама. Она понимала, что наложницы царя — это что-то вроде украшений на платье его Хатун. «Броши подбираются так, чтобы оттенить хозяйку, сейчас надо купить очень юную девушку, белокурую. Конечно, не такую, как Воислава — дочь погубленного русского купца Буда. Воислава вернулась, но её надо убрать: она расцвела. В Итиле-городе её и раньше сравнивали с таной — жемчужиной… А теперь как соперница она просто опасна. Не захотел бы Иосиф ребёнка от Золотоволосой, чтобы обожествить свою власть…»
Посмотрела на себя в зеркало, какая она красивая с волосами. И… снова позвала цирюльника. Долго медлила с приказом, глядя куда-то в пространство. Потом вздохнула:
— Обрей меня наголо, мой цирюльник!
Она подставила голову под острую бритву. Она ждала мужа Иосифа. По случаю праздника брачных хороводов он должен был сейчас прийти к собственному брачному ложу со свитой. Чтобы все уверились в его неувядшей мышце, свидетельствующей о здоровье и силе. Серах помнила свой стыд, когда все здесь же, на этой же постели, видели её наложницей, и теперь рвалась ткнуть им всем в нос, что она теперь полноправная жена. «Вот, как истинная иудейка, чтящая Талмуд, встречаю в постели мужа даже покорно бритоголовой!»
Бездушная бритва уже готова была обрезать роскошные, как виноградные гроздья, колдовские волосы красавицы, как прямо в купальню ввалился Гер Фанхас толстый, пыхтящий, в болтающемся одеянии, но такой прекрасный! Он делал Серах подарки один другого дороже, и она приказала пропускать его к себе в любое время и при любых своих занятиях.
Гер Фанхас схватил рукой бритву, сильно поранившись. Упал тяжело на колени: — Не губи своей красы, царица!
Растроганная Серах прогнала цирюльника. Сказала» сама будет лечить ладонь Фанхаса, прикладывая травы к его ране. Гер Фанхас в последнее время всё большее место занимал в её жизни.
— Правда ли, прекраснейшая, будто твой муж готов послать в Киев, на хазарское подворье, свою доверительную грамоту почтенному хакаму — мудрецу, члену духовной Академии Неизречённого бога, Вениамину? Готов назначить твоего отца послом Хазарского Царства при дворе княгини Ольги?
Серах склонила голову:
— Да, я приготовила такую грамоту и печать золотую весом в два солида, какую полагается прикреплять на посольских грамотах великим державам, даже прикрепила.
— Не допускай отсылки посольской грамоты, прекраснейшая. Она погубит твоего отца! Это лучший способ самим продать своего надёжного человека, втесавшегося в доверие к русской княгине! А надо думать нам, кто нам поможет в Киеве, если придётся туда бежать, когда сюда пойдёт Барс Святослав…
Серах выслушала Фанхаса очень серьёзно и вдруг спросила:
— А печать в два золотых? Я могу её себе оставить? На память.
Фанхас долго жирно смеялся, сотрясаясь всеми шарами тела:
— Узнаю жену Иосифа по скаредности. Если муж деньги обстригает, даже медные, то ты хоть золотом с печати поживиться! Тяжело тебе с ним! Не расщедрится!
Гер Фанхас тут же доказал, что он, как раз напротив, чрезвычайно щедр, подарив Серах разодетую в шелка, всю в золоте дорогую белокожую рабыню.
Серах, не стесняясь Фанхаса, сняла с рабыни украшения, перевесила на себя.
Потом Фанхас рассказывал про свою прародину. Что, мол, от предков ещё передаётся, будто там, на Ононе, листья осыпаются весной, осенью там мокрый от дождя лес сразу схватывает морозом, листья на всю зиму примораживаются к ветвям, и леса зимой там стоят одетые, осыпаясь лишь с весенним таянием.
Серах, слушая Фанхаса, разделась, лениво сошла в купальню, томно плескаясь, и внезапно призналась Фанхасу, что она сама в последние дни всё чаще ощущает себя одним из тех пышных деревьев с примороженной листвой, про которые он ей рассказывает.
— Я горячусь с Иосифом, я постоянно саму себя разогреваю, пытаясь сбросить с себя эту пышную, но уже увядшую, лишь примороженную листву. Я сейчас думаю, что только из-за этого несброшенного панциря не проклёвываются почки, не завязывается завязь, и я безнадёжно пропускаю сроки своего цветенья… Я не могу зачать от него…
Она вытянулась в купальне, лёжа на воде на спине так, чтобы Геру Фанхасу были соблазнительно видны её спелые башни, и просто сказала:
— Послушан, толстяк! Уж ты-то, как знаток женской породы, должен меня понять… Понимаешь, я захватила царское ложе, обещая Хазарин Наследника, но я всем существом своим чувствую, что могу родить только от золота. Я люблю Иосифа, но я не готова плодить нищих царей. Ах, если бы ты, мой толстячок, был царём…
Фанхас молчал.
Она закатила глаза:
— Я так отчаянно становлюсь старше и уже начинаю думать о том, что издалека видная корона правителя, столь увлёкшая девочку с волосами, как чёрный виноград, может быть, и не столь уж завлекательна для ставшей умной женщины. Не ошиблась ли я роково и жалко, полюбив не тебя, а Иосифа? А ведь могла бы тебя добиться?..
Говоря так, Серах не лгала. Ей всё чаще уже казалось, что жирный Гер Фанхас, с его огромными доходами во многих странах, был более лакомым куском для награждённой красотой женщины, чем полунищий самозванец царь, которого, того гляди, вместе со всей разваливающейся Хазарией уничтожит Барс Святослав. Пока русы приходят малыми дружинами и поэтому погибают на крестах и колах. Но что, если Барс спустится с верховьев большой дружиной или даже всем войском?! Будь она за Фанхасом, она уже бы заставила его перебраться в Киев. А теперь что ждёт её? Разве что поганая смерть?!
Мысли Серах об опасности от русов легко продолжились в мыслях о Воиславе.
— Послушай, мой толстячок! Могу я тебя, как женщина, попросить о маленькой личной услуге. Я, конечно, знаю, что сама я неотразима. Но лучше заранее предвидеть и устранить наглую соперницу. Ты знаток женской породы. Так вот скажи, тебе не кажется, что Воислава слишком привлекает к себе внимание. Кто-то ведь может поверить, что она — новая «Алан Гоа», которой суждено возродить род Каганов…
— Я уже думал об этом, прекраснейшая. Ты не беспокойся. Я уже подарил волхвам Орок Сингулу — белого коня, на котором ездила Воислава… Теперь всё в воле богов…
Серах вздрогнула. Не сразу взяла себя в руки. Но когда ответила, в голосе её уже была даже игривость:
— Да, ты прав, мой толстячок. Все мы смертны, и нам больше надо доверять воле богов. Особенно чужие судьбы…
Гер Фанхас поклонился и вышел.
Серах встала, пошла к большому медному зеркалу, присланному отцом уже из Киева. Вениамин вообще был совестлив и не одобрял никаких разводов. Всегда внушал отец ей верность. Но, узнав, что она станет Хатуя, прислал письмо с благословением и много подарков.
Не отрывая глаз от зеркала, Серах прошлась.
Представила, как выделится её собственное длинное оливковое тело, с чуть отвислым, как у кобылицы, породистым крупным задом и тонкими, стройными, как кипарисы, ногами, на фоне какой-нибудь бледнокожей девочки.
Да и чёрным, большим глазам Серах, выкатившимся из-под густых чёрных бровей, как месяц из-за грозовой тучи, будет не плох небесный фон глаз бледнокожей наложницы. И уж, конечно, Иосифу будет приятно сравнить её, Серах, белоснежные крупные зубы, обрамлённые красными змеями чуть вывороченных, полных губ, с милым, но, конечно, бледным северным ртом. А профиль? Тут Серах даже самодовольно захохотала. Только у царицы могут быть такие, как у неё, резкие, крупные черты, словно высеченные острым резцом из самаркандского мрамора! Как прекрасно будет глядеться её крупный гордый нос и крепкий подбородок впереди курносого, округлого лица северянки.
Серах загорелась. Она всегда была убеждена, что всех красивей в городе (недаром же отец, купив её мать, охранял её так, как не охранял свой сундук с динарами!). Но уметь так красиво оттенить себя?! Она уже даже захотела пойти сегодня не в сур ар ракик за невольницей, а нагло навестить эту самую Воиславу, которую прозвали Таной Жемчужиной. Чтобы сравниться красотой и победить! «Как это удачно, что девушка вернулась — всё ждёт отца, которого давно нет. Унизить её, победив своей красотой, а потом добиться, чтобы девушку сегодня же отвели на невольничий рынок? За долги Буда? Ведь могли же у Буда остаться долги? Ну хотя бы огромные долги ей, Серах…»
Разработать дальше свой план Серах не успела. Прибыли два стражника (из них один — её бывший муж Булан), чтобы сообщить, что Иосиф задерживается. Прибудет не из своего дворца, а с берега в низовье реки. Пришлось ему опять умиротворять столкновение мусульман с христианами.
Серах глядела на Булана сверху, как будто никогда не была близка с ним. Ей всё-таки было неприятно, что Булан согласился обменять жену всего за одну бледнолицую рабыню.
Разглядывая завёрнутую в почти прозрачный виссон царицу, Булан ел её глазами. Она сама почувствовала лёгкую дрожь. Слабый приятный пот, совсем свои, только её, Серах, особые запахи, терпкие, женственные, приятно соединились со втёртыми в тело заморскими благовониями и окружали Серах, как невидимым облаком, острым призывным ароматом.
«Всё-таки этот варвар был резвее Иосифа», — красиво призналась себе Серах, совсем как цивилизованная Царица. Её тянуло к Булану.
Но, слава богу, завыла с крыши Белого храма гидравлическая труба Магрефа. Звала на праздник свадебных хороводов. Серах прогнала стражников. Поспешно сама надела парадное платье. Это было несложно. Согласно древнему обычаю, платье было сшито из дельного четырёхугольного куска материи Серах надела его сверху, как мешок. Голые руки и голая шея. Ноги видны выше колен Раздувающиеся, словно уже заранее хватающие воздух страсти, породистые ноздри… И тут вошёл Иосиф. Без свиты. Разогретая Буланом, Серах жадно кинулась ему на шею…
Через полчаса в дверях тихо играли флейты. Вокруг ложа медленно кружились полуобнажённые танцовщицы. А полузакрытые глаза Серах следили, как остывают глаза Иосифа. Она и сама чувствовала, как затихают её трепетавшие ресницы и становятся словно мягкими, отупевшими её зубы.
— Ты опять не пропустил мимо города в море дружину русов?.. — вдруг ласково укоряюще спрашивает она Иосифа.
— Что? — мгновенно и резко вскипает Иосиф. — Если твой отец там, в Киеве, прижился, так мне уж здесь и русов, что ли, трогать нельзя?.. Я чувствую, что скоро и Барс Святослав тебе другом станет!..
— Почему же ты тогда так зол, милый?! — Серах делает резкое движение, и флейтистки и танцовщицы разом исчезают, отрезанные падающим на ложе балдахином.
Серах наклоняется над Иосифом. Её пальцы — лисы; торопливо бегут по его телу. Её руки — змеи; обвили его бёдра. Её груди — бутоны; просятся, продолговатые, в ладони. Но царь Иосиф резко отстраняет от себя свою Хатун:
— Что вы все от страха животами заболели? Поймите же все: русы не смогут отомстить! Это утка, что молодой Барс Святослав уже дошёл до вятичей. Их войску не пройти по лесам и болотам. Вениамин, твой отец, не осведомляет, а нарочно придумывает, пугает нас по заданию хитрой Ольги. Вениамин всегда придумывал, мутил воду… Зачем только на мою голову приветила хитрая Ольга в Киеве этого сбежавшего от нас поганого лжеца и еретика?..
Серах насупилась, зло молчит. А Иосиф повысил голос. Он истеричничает, пытаясь заговорить самого себя:
— Барсу не пройти к нам! Нет! Нет!.. Он потому и бересту «Иду на вы. Святослав» заслал к нам с Будом, потому что видит око, да зуб неимет. Стал бы он меня предупреждать, если бы мог напасть. Войны не будет. Ты слышишь, я говорю, войны не будет!..
— Не будет, если Гера Фанхаса сделать Кандар-Каганом — главнокомандующим, — со странной усмешкой укалывает мужа Серах. Не поймёшь, то ли шутит она, то ли открыто издевается.
— Ты хочешь сказать, что наш Главнокомандующий, Песах, — столь пустое место, что его с успехом может заменить даже эта бочка с салом?..
— Фанхас когда-то где-то воевал, а теперь, по крайней мере, имеет деньги, чтобы нанять полки…
— Глупость! Войну с Русью надо выигрывать при дворах властителей — в Кордове, Багдаде, Константинополе. Мне обещали «дети вдовы»…
— Как знаешь, милый! Только я очень советую — дай срочно самую большую должность при дворе Геру Фанхасу, чтобы повязать его здесь, в Хазарии. Повязать с нами… И ещё… Ты не отослал посольские верительные грамоты моему отцу?.. Ты не боишься, что они затеряются в пути? Торговый путь на Русь после твоих расправ стал таким ненадёжным…
— У меня есть надёжные руки… «Дети вдовы»…
— Милый, лучше будет, если отец получит эти грамоты через дочь… Вели отдать их мне…
— Это тебе присоветовал Фанхас? Что-то ты с ним очень дружна… Предаёшь меня?..
Серах молчит. Осторожно опускается на ложе рядом с Иосифом. Замирает, обиженная, безнадёжно остывающая.
— Нельзя было с русами иначе! — навязчиво оправдывается Иосиф. У него вспыхивают глаза. Но не любовью, он нервничает, он хочет убедить (опять больше самого себя!). — Если сквозь плотину дать просочиться хоть нескольким каплям, то польётся струйка, потом усилится, снесёт всю плотину. Русы рвутся в море. Тебе не нравится цепь, которой я перегородил реку? Но что ты понимаешь? Что вы все понимаете? Советчики! И потом разве я это? Это не я! Это они… они… Мусульмане. Хорезмийские наёмники… Тут распря. Религиозная нетерпимость… Арс Тархан совсем вышел из повиновения. Надо его отстранить. Пусть все увидят, какой я справедливый. Хочешь, я сменю его твоим Буланом? Он будет нам верен. Я вижу, он тебя по-прежнему любит…
Серах изгибается телом. Ломучим, сюсюкающим голосом пробует успокоить повелителям:
— Иди! Иди же ко мне, любимый! Дай поцелую! Дай обласкаю тебя… Я только хочу сказать, что купцы могут возроптать. Гер Фанхас жаловался. Торговле ты казнями мешаешь. А с Гером Фанхасом тебе надо считаться. Он староста всех базаров.
Лицо Иосифа порыжело, стало совсем под цвет его накрашенной хной раздвоенной бородки. Над переносицей сплелись морщины. Он отталкивает Серах:
— Нужны мне твои ласки! Защитница рахданитов! А я что, им враг? Я же их послушал! Да это же они… они заставили меня раструбить на весь мир о царской короне, писать письма не по делу, а для звона… «Ах, тут царство Шехины! Ах, народ без государства обрёл своё государство!» Разве это не вздохи рахданитов? А чего добились?.. Сами по всем странам нахвалились, что тут лакомый кусочек… Ты понимаешь — сами Барса за лакомым кусочком зовём! Сидели бы тихо… Ах, нет… Купцам подавай славу… Накричали — мы тут богачи, у веры в Неизречённого свой престол. Ну, вот и объявился у границы Барс Святослав. А что, если он придёт? Что, если он вправду придёт?!
Иосиф хватает Серах за плечи, он трясёт её.
— Это всё твой Фанхас с его золотом…
Серах вскрикнула. Её губы раскрылись:
— Милый, не срывай на мне зло… Я завидую золоту Фанхаса, но я иудейка и верна в любви. Хочу тебя!
Она ласкает Иосифа.
Она вырвалась. Она смотрит на разгорячившегося Иосифа и поднимает, тяня за шнур, к потолку балдахин. Непререкаемым жестом, выбрав самую молоденькую из рабынь-флейтисток, зовёт её к ложу, указывает ей лечь в свои ягодицы. Снова закрывается балдахин. Только бы не остыл Царь. Закон Неизречённого бога разрешает, чтобы за бесплодную хозяйку послужила гнездом для царственного плода её рабыня, которую хозяйке надлежит положить себе в ноги. Серах смотрит на флейтистку, которую положила себе в ноги. Плоска и слишком ещё не зрела… Серах понимает, что сгоряча сделала не тот выбор. Однако как положить себе в ноги созревшую женщину?! А что, если, умелая в ласках, та завладеет Иосифом так же, как завладела она сама, с подножья захватит всё ложе?!
Через час от правобережного дворца великой Хатун Серах двинулась пышная процессия.
И упали ниц, как перед поездом Кагана, перед этой процессией зеваки, давно, с самого рассвета, толпившиеся возле дворца Хатун в предвкушении зрелища; поползли в пыли, расплачиваясь за удовольствие быть зрителями.
Впереди, позванивая саблями, широкой дугой вышагивали арсии, Они безжалостно щекотали саблями зазевавшихся, тех, кто от восторженного страха не успел посторониться и разлёгся прямо на дороге. Сразу за арсиями белые евнухи несли роскошные носилки, украшенные плодами граната. Носилки были пусты. Иосиф и Серах не прятались от толпы, они хотели, чтобы их любили, считали охотно снисходящими к толпе, — и они сами шли перед своими носилками.
Впереди гордо вышагивал Иосиф. На нём была белая мантия и голубой пояс первосвященника Белого храма и Академии. В руке он, как герб, нёс огромный золотой плод граната со вделанными в него сверкающими бадахшанскими рубинами. На лице у царя было очищение и умиротворение. Серах подумала, что царю теперь легко чувствовать себя величественным (холодным? презрительно равнодушным?), царящим над рвущейся к весенним свадьбам (разрешению? празднику плоти?), смятенной толпой, потому что сам он уже получил своё. Она тут же уверила себя, что не получила — своё.
От чувственных дум Серах разгорелась, её тело передёрнуло, дрожь прошла, поднимаясь, от ступнёй до губ. Но она взяла себя в руки. Для вынашивания плода Бог (или его жрецы? какая разница!) разрешает воспользоваться другим сосудом, если отказывает свой. И разве в этом не высшая справедливость, помогающая исправлять ошибки природы?.. Раба-флейтистка, которой она, Серах, сегодня воспользовалась, ведь всецело в её, Серах, власти.
Серах громко постукивает своими золочёными, на толстенных подошвах, сандалиями позади Иосифа. Она возвышается сзади него, как стена. Она делает над собой усилие, и губы у неё становятся, как у царя, довольными, порозовевшими, на них блуждает мягкая сытая улыбка.
Процессия уже возле наплавного моста. За царём и царицей несколько носилок, которые несут уже не евнухи, а арсии. Навалены на носилках тонкие шелка и прочное полотно, жемчуг и драгоценные камни. Кажется, арсии и впрямь разошлись. Они останавливают не только караваны с хлебом, но вообще начали охоту на русских торговых гостей. А теперь вот ещё нагло отдают из награбленного «божью долю».
Жрецы Белого храма уже пристроились к носилкам с добычей. Не отступая ни на шаг и не спуская с неё глаз, идут сзади. Идут чередою по десять. В первом ряду девять высших жрецов в белых мантиях — десятым должен быть Иосиф. Дальше, в жёлтых мантиях, вся Третья Женщина (Иудейская Академия). За нею толпа прислужников, тоже в жёлтом. За желторизными — избранный народ. Лучшие из лучших! Сайарифа, базарганы, рахданиты — все не поленились ещё до рассвета притащиться ко дворцу, чтобы потом на глазах у всего народа вдосталь натолкаться в царской процессии. Они и в самом деле усердно толкаются, нещадно пуская в ход против соседей выставленные локти: какой же купец без локтей?!
Спускаясь к наплавному мосту, процессия изогнулась, как лук. И Серах, хоть она даже не оглядывается, а только немного поворачивает голову и косит глазами, отлично видно, как беззастенчиво пихают друг друга купцы.
Серах брезгливо морщится, кидает шагающему впереди Иосифу:
— Мой бог! Как я не люблю, когда ты таскаешь за собой этих свиней. Ты только посмотри, Иосиф: они же грызутся, будто бегут за кормушкой. А рожи-то какие! Ах, я никогда не думала, что уже столько этих карахазар — чёрных кочевников попримазалось к нашему прекрасному богу?! Как допустил ты нечистых к храму, мой царь?..
Серах возмущается вполне искрение. Ей бы помолчать. Бывший муж её Булан и нынешний милый друг Гер Фанхас — такие же «чёрные кочевники». Да и мать её Мирра… Однако, может, в том и заключается секрет природы, что с трудом пролезший в дверь человек всегда особенно старается хлопнуть ею, чтобы эта дверь была затворена для других. А иначе чего он так старался?! Никогда не было больших борцов за чистоту племени, чем те, кто волею обстоятельств к этому самому племени приблудились. В Халифате самыми непримиримыми к «диким» варварам, к инородцам и иноверцам были жёны Халифов, которые, как правило, попадали в гаремы Повелителя правоверных отнюдь не из «правоверных» стран. Вот и Серах повела себя как жена Халифа! Она упивается полученным правом на спесь!.. Она. разгорячилась, ноздри её раздулись. Она как лицедейка на сцене. Громко возмущена! Иосиф оборачивается к ней. Он снисходителен. Но тоже как-то слишком лицедейски и тоже на публику рассчитан его шёпот:
— Ах, женщины в Неизречённом боге! С тех пор, как раввины подогрели ваше высокомерие россказнями, будто после падения Второго храма вам обязано наше племя, что возродилось, а не исчезло, — вы стали совершенно нетерпимы. Моя милая! Конечно, перед теми иудейскими женщинами, которых римские легионеры, поразграбив Иудею и разрушив храм, оплот веры, увезли с собой в качестве наложниц в Галлию, — надо преклониться! Они, родив сыновей, воспитали их в вере Родины. В вере геройских иудейских мужчин, не сдавшихся Риму и умеревших за Отечество. Однако, дорогая, ты же разумная женщина. Поэтому не кричи о чистоте семени. Ты должна сообразить, что рожали-то своих сыновей те женщины от кого? Увы, от всякого сброда, набранного в римские легионы. Ведь не от чистокровных римлян даже… — кощунствует вдруг Иосиф.
Серах спотыкается и едва не теряет золочёную сандалию. Она размахивает руками вовсе не как царица.
Она подозревала, что Иосиф успел уже её втайне возненавидеть. «Уж и не бесплодна ли я оттого, что ненависть мужа не приносит всходов в моём лоне?.. Я возбуждала в Иосифе высокомерие, строила ему трон, я хотела ему всей власти, всей славы. А он стал уже бояться моего напора. Он оказался слабым! Я уловила настроение толпы, подговарила купцов. А что он?.. Он только строит сложные, хитрые планы, смысл которых — как бы не забегать вперёд, не испугать колеблющихся, не раскрыться раньше срока…»
Серах от злости опять споткнулась. А Иосиф развеселился:
— Ну что ты размахиваешь руками, моя крошка!
Маленькому Иосифу, когда он был рядом с высокой Серах, было особенно приятно называть её крошкой. Он шепчет совсем тихо. Только ей:
— Не сердись, крошка. Не сотрясай понапрасну свои башни — ты так и стену разрушишь. А ты же ведь стена! Ты моя стена! Ты мой оплот!
Потом так же внезапно, как начал смеяться, Иосиф серьёзнеет и опять начинает шептать лицедейски громко. Явно, чтобы слышали в процессии все:
— Слушай, Хатун! В последний раз приказываю тебе: прекрати сеять плевелы — не распускай по городу слухи о засорении отборного семени, не внушай стоящим вокруг меня про необходимость спеси. Запомни, я взял тебя, предпочтя дочери Кагана, не из-за твоих высоких башен: мужчина, если он честолюбив, должен сохранять свои силы и быть умеренным в питье и утехах! Я взял тебя за себя потому, что твой отец ремесленник Вениамин варил здесь рыбий клей. Он был неумыт и безобразен, как каждый местный варвар. Как здешний самый простоволосый и ничтожный человечишка. Теперь, глядя на тебя, этот варвар говорит: «Вот и я такой же, каким был её отец. И если мне повезёт, то моя дочь тоже будет Хатун». И варвар терпит, что порют, делают из него «красного голыша»! Ведь «такой же!» Я вожу тебя вслед за собой, моя милая Серах, а не запер тебя в гареме, где бы ты охладилась, только для того, чтобы каждый, глядя на тебя, вспоминал о твоём отце и мог потешиться надеждой. Помечтать, что вот и он может стать Вениамином — старостой хазарского подворья в самом Киеве. Ты, женщина, нагло и с оскорбительным вызовом хочешь захлопнуть перед чёрным людом дверь, когда надо, чтобы эта дверь всех манила, звала, была для всех заветной… Ты ещё слаба в политике… Ничто так не губит государство, как ересь правителей. Мы, иудеи, здесь многого достигли: мы господа в Хазарском правящем доме. Но мы тем более должны оставить щель в дверях нашего дома для всякого из чёрного люда, кто энергичен, напорист, честолюбив. Иначе против нас поднимут толпу те, кого мы к себе в правящий дом не приняли…
Бледнеет Серах. Она опустила голову, кровь отлила у неё от лица. А губы стали чёрными, как глаза и брови. Она идёт, стараясь ставить свои золочёные сандалии след в след Иосифу. Она думает о том, каким всё-таки противным становится вожделевший мужчина, когда он сыт. «Разве он стал бы так меня унижать, если бы я сдуру не подложила ему эту плоскодонку-флейтистку». Но говорит она другое. Она мстительно язвит:
— Мой царь!.. Отец мой Вениамин часто говорил мне, что слышал от разумных купцов, будто Халифат, Византия, Русь не захотели брать власть над Гогом и Магогом, над здешними местами, потому что сказали: «Разумеется, это тьма кочевых племён, с каждым из которых в отдельности мы могли бы легко справиться. Но если взять их всех под себя, то как бы нам, великим, не раствориться в них, многочисленных и ничтожных?..» Или ты, царь, уже чувствуешь себя мудрее правителей трёх великих держав, если теперь сел на трон над Гогом и Магогом?..
Она противоречит себе, но ей хочется тоже как-то унизить Иосифа перед прислушивающейся процессией.
Иосиф мудро не ответил. Процессия уже миновала наплавной мост и поднимается на остров. Серах все ещё старательно ставит свои сандалии след в след Иосифу. Лицо у Серах теперь надутое, как у обидевшейся девочки. Когда сообразишь, кто мог бы стать твоим защитником, так сладко обижаться!
Иосиф понизил голос:
— А знаешь, Серах, нам надо внимательнее сегодня присмотреться к праздничной толпе. Наши бесценные торговые друзья не оставляют нас вниманием. Базилевс и Халиф держат у нас каждый по высокопоставленному осведомителю, — он говорит ей то, что он уже тысячу раз говорил. Он заговорил лишь для того, чтобы заговорить; испортил настроение, а теперь делает вид, что по-прежнему оказывает ей государственное доверие. Серах понимает это. Осведомитель византийского Базилевса — епископ, а осведомитель Халифа — муфтий. Вернулся вместе с Воиславой Волчонок. Но Иосиф приказал ни в коем случае больше его не трогать. Раз тот уже вроде как не принц, раз без имени, то зачем привлекать к нему внимание и самим возвращать исчезнувшему его имя? Принц Тонг Тегин Волчонок забыт. А лепёшечник никому не мешает… Серах перестаёт надувать губы и больше не делает обиженного лица. Как бы то ни было. Иосиф опомнился: вот снова подчёркивает, что они вместе.
Серах выпрямляется, гордо откидывает назад голову. Больше она уже не идёт Иосифу след в след, а догоняет его, идёт рядом и чуть сбоку. Совсем-совсем рядом и сбоку. Она умеет прощать грубость.
Процессия приблизилась к Белому храму. Снизу, с наплавного моста, кинутого от левого берегами сверху, с моста от правого высокого берега, будто две встречные волны, устремились две возбуждённые праздничные толпы. Столкнулись и рассыпались прахом у ног Иосифа, и Серах. На земле барахтаются люди, задирая головы из пыли: таков ритуал лицезрения Величия.
Серах теперь вынуждена ступать осторожно, чтобы не придавить бросающихся под ноги. «Из Беку у людей разные вкусы, — снисходительно думает царица. — Одних влекут яркие краски весны, неистовство языческих плясок, веселье и смех. Но вот другие — этим нет слаще занятия, чем посмотреть на чужое богатство. Хоть из грязи, но лицезреть пестроту заморских одежд. Впрочем, может быть, среди этих есть ещё и такие, кто приползли сюда ради сладкого страха перед власть предержащими…»
С крыши Белого храма навстречу царю и царице завыла стозвучная гидравлическая труба Магрефа. Кого труба пугает?
— Ты услышь с неба, места обитания твоего, и прости и воздай каждому по путям его, как ты знаешь сердце его, ибо ты один знаешь сердце сынов человеческих, чтобы они боялись тебя и ходили путями твоими во все дни, доколе живут на земле, которой ты дал храм свой! — так под вой Магрефы запели идущие позади Иосифа и Серах.
— Даже и иноплеменник, когда он придёт из земли далёкой ради имени твоего великого и руки твоей могущественной и мышцы твоей простёртой ради, и придёт и будет молиться у храма сего, — ты услышь с неба, с места обитания твоего, и откликнись и помоги ему, сделай всё, о чём будет взывать к тебе иноплеменник, чтобы все народы узнали имя твоё и чтобы боялись тебя!
Серах слушает хор желторизных позади себя и, хотя они опять затянули про иноплеменников, уже не сердится. Чего сердиться? Надо помнить про чудеса! Разве не через иноплеменницу пришла вера в Неизречённого бога в этот город?
Как Серах хотелось бы. чтобы вернулись в Хазарию те времена, когда любому воину неважно, кочевник он или инородец, достаточно было хорошенько отличиться в бою, чтобы Каган сделал его своим Ишей-управителем и доверил ему судьбу государства. Тогда никто не думал о кальирке (посторонних), тогда все, кто сражался в бою, все и были хазарами. Теперь другие нравы. Должность Иши стала наследственной, и её опыт передавался от отца к сыну, как школа, как профессиональный навык, как «ремесло». Иша-управитель стал «царём». А от царя требуется уже не столько смелость воина, сколько изворотливость хозяина, торговца и банкира.
— Иосиф, а ты ведь такой же «ремесленник», как отец мой Вениамин. Только у тебя более престижное, требующее большей ловкости и знаний «ремесло». И «ремеслу» этому не грех было поучиться на стороне — использовать мудрость прежних больших стран. Секту «детей вдовы» называют иносказательно сектой «Ремесла». Но, может быть, и нужны специалисты в ремесле управлять миром?! Да и вообще — почему все так выясняют, чьи корни древнее на этой земле? Бранят других «посторонними». Разве я, Серах, посторонняя, здесь, в Хазарии?! Мои предки-иудеи занимались виноградарством в Дагестане и в низовьях Итиля задолго до прихода сюда кочевых орд из Ибир-Сибири и с Алтая. Это давно моя собственная земля! Исконная, своя, родная! И предки мои лишь потеснились, чтобы дать здесь место кочевникам. Почему же теперь кочевники получили здесь право глумиться над иудеями, называют нас посторонними? — возмущается Серах.
Девять священников в белом догоняют Иосифа и Серах и становятся с ним рядом. Теперь все они простёрли вверх руки. Десять самых близких к богу обращаются к нему: «Зовём тебя, Яхве, незримо сойти в выстроенное для тебя обиталище на земле — храм твой белый. Два дома были у тебя, а разрушены. Снизойди в Третий!.. Гер Фанхас заплатит. Хотим, чтобы временное прибежище твоё стало постоянным!»
Десять самых близких к богу поднялись к храму и, вытянув руки к небу, застыли на самой верхней ступени. Ветер приподнял, наполнил собой их полупрозрачные белые хитоны, развязал голубые пояса, и теперь все десять — будто десять обнажённых скульптур с трепещущими за спинами белыми крыльями — застыли перед входом в храм с западной стороны.
Сейчас выйдут на крышу Белого храма хакамы (мудрецы); пройдут, осторожно ступая меж золотых гвоздей, коими утыкана крыша, чтобы никакая, даже перелётная, птица не села, не осквернила обиталище бога. Подойдут хакамы к краю и объявят, что Третья Иудейская Академия, как положено, собрав сведения от «наблюдателей», произвела подсчёт дней и громогласно удостоверяет: «Сегодня в Итиле-городе разрешается язычникам начать праздновать брачный хоровод. А избранные иудеи приглашаются войти по случаю праздника в храм для встречи с богом».
Замерли десять самых близких к богу на последней ступени перед входом в храм с западной стороны. Видно их далеко, и, наблюдая, как замерли первые, замерли все, кто толпятся в воротах и за воротами храма. Сейчас выйдут хакамы.
О, Ляля-Весна! Все знают, что ты сама вступила в брачный хоровод. Все давно на улице, и уж факелы, оповещающие с ночи, зажжены. Но только сейчас совершится твоё признание. «Будет и на твоём челе, о язычница, удостоверяющая печать!» И ждут все.
Однако разве ждала когда на глазах всех своего часа прекраснейшая женщина?! О хакамы (мудрецы), как вам могло прийти в голову томить прекраснейшую женщину? Серах нельзя войти во внутрь храма. Ни одна женщина никогда не ступала ещё в святая святых, куда в дни празднеств незримо спускается сам Неизречённый. Тогда Серах одна идёт к восточным воротам. Туда, где перед храмом широкий двор. Ещё несколько минут — и во двор хлынет весь поток народа. Но сейчас по восточным ступеням поднимается она одна. Серах поднимается по ступеням, а все ещё лежат в пыли и, подняв головы, смотрят на неё. В такт шагам колышется её тело. Будто дека арфы, округлы её рамена. Каждый шаг извлекает песню, заставляет вторить деку тонким струнам-пукам. Будто два тимпана её чресла. Будто два кипариса её голени. Гулко бьют кипарисы в тимпаны, завораживают дробным перестуком, заставляют всех заслушаться её шагом. Выше, выше ступает Хатун Серах по ступеням восточным храма. Отбивает сандалиями победную песню. Вот последний шаг…
И опять громко завыла, закричала Магрефа. Вспыхнули внутри тёмного храма, будто маленькие звёзды, многочисленные свечи. Стоит Серах на пороге храма — на роковой, священной черте.
И, будто тяжкое облако, опустившееся за нею с неба, поплыло, поднимается от её ног святилище бога. Неприступное и белое. Триста локтей высота стен. Сорок локтей толщина стен. А вдоль стен столпы. Кипарисовыми досками потолок и пол покрыты. Кипарисовыми досками колонны обиты. И прибиты грамоты и титлы на двух языках по всем стенам. Закон бога написан на тех грамотах. А непосвящённому не войти в храм никогда, и не прочесть непосвящённому грамот и титлов, никогда не узнать истинного закона. Ни мужчине непосвящённому не узнать, ни женщине всякой. Ни тебе, царица?
Не переступила Серах черты. Повернулась к народу.
— Идите ко мне. Там, внутри, избранные, а я, женщина, остаюсь со всеми вами. Я, женщина, вас сохранила. Меж чресел моих семя ваше, коли враг на вас заклятье наложит, вынесу. И взращу. Не внутри храма я, но сама я храм и чертог сама…
Так сейчас скажут всем призывно протянутые её руки, а губы ничего не прошепчут, лишь сладостно разойдутся. И, радостный и осчастливленный, хлынет во двор Белого храма народ. Во дворе храма народу место. А царице хазарской — на пороге храма.
О смуглое оливковое тело! О чёрные волосы с зелёной диадемой! О зовущие крупные пурпурные губы! Жёлтое короткое платье поднялось, когда Серах простёрла руки к народу, обнажило крепкие бёдра. «Смотрите на меня, люди! Разве не хороша я? И разве есть кто меня лучше? Вот бёдра мои. Простёрла я к вам руки и открыла вам мои бёдра, моё жёлтое платье. Вот какая я, царица хазарская!»
Серах стоит перед людьми. Нет ещё мудрецов на крыше Белого храма — не вышли. И нет ещё возвещения о празднике. Но уже есть Праздник. Ибо разве царица перед вами сама не Праздник, сама не радость каждому, кто смотрит?!
День двадцать девятый. «Легенда об обращении хазар в иудейство»
Легенда рассказывает, что случилось всё от Серах, у которой мужем был кочевник Булан.
Тот Булан был очень смелый воин и столь отличился в бою, что Каган доверил ему управление. Тогда был такой обычай, что Каган каждый год доверял управление государством самому отличившемуся в бою воину, а не постоянному Ише-управителю. А жена этого Булана, по имени Серах, которую он завоевал в каком-то дальнем походе на Кавказе, оказалась караимкой, из верующих в Неизречённого бога. Вот она и соблазнила Булана сделать себе полезное и перейти в её веру.
Ну, а потом пошли чудеса с Буланом. Стало видеться ему во сие, будто кто-то невидимый приходит и говорит ему: «Твоё намерение приятно творцу, но то, что ты делаешь, неприятно». Булан усилил своё усердие в молитвах и жертвоприношениях, а потом открыл тайну нашептываемых ему слов своим самым приближённым и верным. Те позвали толкователя из тех мест, откуда была его жена. А толкователь поведал про пещеру в пустынных горах у моря. И вот уже все они пошли туда и нашли в пещере священные книги. И шатёр, и ковчег, и сосуды тоже там нашли. И, потрясённые, уверовала все они в Неизречённого.
А затем, возвратившись назад и скрывая, во что, уверовали, тонко, мало-помалу, открывали свою тайну другим, пока уже не стало в Хазарии иудеев столько, чтобы вышло возможным открыто построить Белый храм для найденных шатра, ковчега, и сосудов.
День тридцатый. «Последняя жертва Воиславы»
Нежная ладонь ложится на плечо Тонгу:
— Азъ искала тебя!
Воислава, раскрасневшаяся, возбуждённая предстоящей свадьбой, позабыла, что она уже в совершенных летах и ей надо держаться степенно. Как малый ребёнок, поймала Тонга за руку и сразу тащит на наплавной мост.
Когда-то к празднику свадебных хороводов на наплавной мост чего только не привозили купцы. Были повсюду навалены горы рыбы. Белорыбица и севрюга, стерлядь и осётр. О красной рыбе из Итиля ходили легенды. Так же, как о знаменитой хазарской овце, ягнящейся два раза в год. За рыбой и овцами приезжали в Хазарию из Европы и Азии, и местные хазарские купцы-базарганы берегли своё торговое имя: упаси небо, ежели кто по нерадению или корысти ради продаст чужаку непровяленную рыбу или овцу непородистую — самочинным судом карали базарганы такого своего товарища, и никто в городе не дерзал ни труп опознать, ни впредь называть это опозоренное и навсегда исчезающее купеческое имя. Вот так-то было!.. Да и в самом деле?! Ежели меньше, чем в даник, был на рынке жирный баран, а ягнёнок был в тассудж, ежели громадная красная рыбина весом в сто ман стоила половину даника, то каким же бесстыжим надо было быть, чтобы рынок в городе подрывать — гостей обижать?!
Зимний голод сильно подорвал торговлю. Отпугнули многих гостей и слухи о расправах на берегу, но в праздник брачных хороводов все же оживился наплавной мост.
Есть Воиславе и Тонгу чему подивиться.
У обвитого змеёй индуса весь товар в небольшом мешке. Копошатся там маленькие ядовитые змейки, укус которых смертелен. Хочешь смерти врагу — купи змейку. Но лучше купи своей любимой драгоценный камень. Назови имя самого сказочного камня — и вмиг засверкает камень на ладони индуса. Хочешь посмотреть — смотри бесплатно. Хочешь показать любимой — оставь залог. Колеблется голова змеи, тонкий, острый язычок режет воздух, тают камешки в мешочке индуса, растёт рядом с ним гора из куниц, соболей и белок, из горностаев и лисиц чёрно-бурых и рыжих. Знает индус: никто не вернётся за залогом, ни одна женщина не откажется от его камня.
Ах, Тонг Тегин! Ты стоишь напротив индуса — разве ты не купишь зелёный изумруд для Воиславы? Разве ты не купишь для своей суженой красный гранат?.. О, Тонг Тегин, на одной ножке весело прыгает вокруг тебя твоё счастье! Губами рябиновыми тебе улыбнулось! Глазами синими на тебя посмотрело! Разве ты не видишь? Ты теперь только лепёшечник. Но ты счастлив, потому что рядом с тобой твоя суженая, которая сегодня станет тебе женой.
Слышишь песенку:
Рано-рано солнце играло. Ля-лей, ля-лей, ли-ля-ле!
Раньше того пава летала.
Пава летала, перья роняла.
Красная девка Воислава сзади ходила,
Перья собирала, в рукав клала.
В рукава брала, венки плела.
Откуда увзнялись буйные ветры, дробные дожди?!
Схватили венок с девичьей головы.
Тонг я Воислава обернулись на песенку — в лицом к лицу столкнулись с толстым Гером Фанхасом.
Фанхас осклабился:
— Ха, Волчонок-наследник! Ты что, на Небо заезжал поболтать с «предками»? А тебя уж тут в покойники записали! Как же это Арс Тархан опростоволосился — тебя не убил?! Сгноит его теперь наш гордый, новоявленный царь, бывший скромный Управитель Иша Иосиф, за такую промашку. Не знаю уж, что царь теперь с ним сделает? А ты-то останешься наследником, принцем при узурпаторе-царе! Ведь убьёт! Лучше продолжи торговлю лепёшками! Авось смилостивится!
— Я так и поступлю, как ты советуешь! А что нового в городе, почтенный работорговец? — невозмутимо ответил Тонг Тегин, словно и не видел весь город, как он Чёрной Реке нагрубил, богов задел, а потом вслед за Арс Тарханом на заклинание поплёлся. Гер Фанхас почему-то сразу поддался этой невозмутимости Волчонка. И, может быть, оттого, что давно хотел кому-то на свою судьбу пожаловаться, а больше оттого, что сейчас ненавидел Иосифа, а перед ним был Иосифов противник, неожиданно доверительно возроптал.
— Совсем плохие времена пошли! Иосиф забыл, что от купцов кормится. Себя возвеличил в цари, а мне его поганая Блудница в пустячной справе о пользе работорговли по-прежнему отказывает. Вот не веришь: Блудница! А мне отказывает, — Фанхас грубо захохотал.
Гер Фанхас покосился на Воиславу, но, видно, очень уж ему хотелось щегольнуть своим остроумием.
— Я, почтенный Волчонок, видно, неправильно держал себя с этой Женщиной… Забыл, что не очень умную смазливую бабёнку, чтобы хорошо на ней заработать, надо в день открытия рынка сначала слегка высечь, а потом обрядить её в роскошное платье и, беседуя с ней о её продаже, давать ей почтительные советы, как знатной даме. А я перепутал порядок! — Фанхас вдосталь нахохотался. Грубо как-то осмотрел Воиславу. Зло спросил — А вы оба уж не в свадебный ли хоровод? Ну-ну! — голос Фанхаса стал тихим. — Так я бы тогда на вашем месте очень поторопился!
Волчонок не понял, издевается над ним Гер Фанхас или в самом деле даёт умный совет.
А Фанхас хохотал и хохотал. Потом стал пристально осматривать, прямо-таки как товар, Воиславу. Она вспыхнула, схватилась за грудь.
— Ну-ну! Ты, дочь Руса, не очень, — зашипел, испуганно следя за рукой Воиславы, Гер Фанхас. — Я пошутил! Не хватайся за нож, я же догадываюсь, что у тебя там, на груди, нож спрятан… Не пугай! Мы тут и так все Барса Святослава боимся. Не знаем, то ли оставаться, то ли бежать…
Фанхас попятился; уже на расстоянии, защищённый двумя телохранителями-рабами, повторил издёвку:
— А вы оба, похоже, в свадебный хоровод собрались! Ах, вижу, у тебя губа не дура, гостья торговая. Хочешь самого Волчонка отхватить. Ну, тогда поторопись, а то как бы тебя саму кто помогущественнее не перехватил. Эх, я добрый! Я тебе даю совет: поторопись, красавица!
Воислава и Тонг остались стоять, как облитые помоями. Но не вешать же головы из-за запугиваний работорговца? Воислава по-детски берёт Тонга за руку. Они идут дальше по праздничному, заполненному торговцами наплавному мосту.
Они засмотрелись на крючконосого грека, сидящего на корточках возле целого ряда амфор, ойнохой и лекифов. Вокруг грека толпятся, размахивая руками, женщины и евнухи: грек торгует благовониями. Тонг (что это с ним?) кидается к греку, он выбирает для Воиславы бальзам. Воислава оттаскивает его за руку.
— Не надо мне благовоний! Всё привезёт отец!..
Она отказывается, чтобы не умалить радость отца, который по опасным купеческим дорогам везёт ей подарки.
Она доверительно шепчет Тонгу Тегину:
— А знаешь: я так ждала отца сегодня. Ну, сколько же можно быть в плавании?! Должен же помнить мой отец, что по этой весне мне в брачный круп входить.
Тонг Тегин отводит глаза. А Воислава, заметив, как он отвёл глаза, залилась краской. Ей подумалось, что это он из-за того, что она бесстыдно сказала сама про брачный круг. Тонг Тегин пришёл в монашеском одеянии. «Зачем? Неужели, чтобы без слов намекнуть, что он не хочет уже брать меня в жёны?»
Воислава смущена. Алая краска заливает её лицо. Она поворачивается спиной к Тонгу. Она делает шаг в сторону, порываясь прочь. Он с трудом удерживает её за плечо:
— Что с тобой, гордая Воислава?! Клянусь вечным спасением, что каждому, кто приблизится к тебе с обидой, ты сможешь отвечать: «Не смей меня обижать! Тонг Ал Хазари, которому сам Халиф преподнёс Почётную золотую цепь, охраняет меня своей доблестью, имуществом и кровью».
Воислава немного успокаивается. Уже, скорее, капризничает, укалывая Тонга:
— Но золотой цепи уже нет! Ты же сам забросил её в реку?! — и вдруг краска совсем сходит с её лица. Мертвенно побледнев, она смотрит на Тонга:
— Повтори, что ты сказал! Ты думаешь, я не знаю мусульманских обычаев?! Ты какую охранную клятву сказал мне?! Это же клятва удочерения! Ты что? действительно решил отказаться от меня и стать мне только вторым отцом?..
Теперь бледнеет Тонг Тегин. По мусульманскому обычаю, удочерение не может помешать браку — с согласия приёмной дочери второй отец может стать ей мужем. А что до самой этой клятвы, то она вырвалась у него из-за Буда… Потому что в городе уже многие говорят, что Буд, отец Воиславы, — там, под городом, на кресте…
Тонг никогда не боялся за себя. Но сейчас ему страшно. Как предупредить Воиславу о горе?! Как решиться сделать это в свадебный день? Они с Воиславой столько ждали, столько мечтали, что наконец-то будут совсем вместе…
Однако Воислава, похоже, уже сама всё поняла:
— Послушай, Тонг Тегин! Люди шепнули мне, что мой отец был на кресте распят. Здесь. Под городом. Мне даже одного стражника — Булана, который у Арс Тархана в заводных, показывали. Будто он… Но я не верю! Как же такое можно, чтобы торгового гостя убить?! Ведь не можно?!
Она смотрит в глаза Тонгу, ожидая созвучного ответа. А он молчит. Он сам тоже всё уговаривает себя, что слышанное про расправу над Будом — ложь. Он внушает себе: «Неизвестно же, был ли это действительно Буд? В таком деле нужен достоверный шахид — свидетель!..» Однако он вспоминает, как в Багдаде в бариде (канцелярии Халифа) чиновники делали пометку сомнения на всех неприятных сообщениях: «Нужен шахид». Им не хотелось нести неприятности пред очи повелителя, и они из года в год откладывали дурные вести.
Тонг Тегин хочет отвлечь Воиславу и увлекает её на правый берег к лавкам только что приплывших армян. Здесь сейчас сразу не сообразишь, что это, торговля или скоморохи приехали. Армяне соорудили перед своими лавками с одеждой помост, и выходят на этот помост под звуки рожков и лютен стройные рабы и рабыни, сменяя одежды. Подойди к купцу, торгующему платьем, и покажи: «Это!» А хочешь — ни слова не говори. Купец сам только на тебя взглянет — и уже несут по его знаку приказчики нежно-тканую, белей утреннего снега, мусульманскую чалму для правоверного. Иудею предложат высокую золочёную шапку. Христианке — серебряные сандалии. Кочевнице — сапоги, как чулки, мягкие, ноги обтягивающие.
Увидев Воиславу рядом с Облачённым во Власяницу, купец-армянин отворачивается. Надоели ему монахи-попрошайки. Меняется Воислава в лице. Не привыкла дочь богатого купца, чтобы от неё торговцы отворачивались. Но что это? Купец засуетился, согнулся в три погибели. В руке Тонга кожаный мешочек с монетами. Ах, если бы Воислава знала, что он продал амулеты Волчонка, чтобы сыграть свадьбу! Зачем амулеты правителя обыкновенному лепёшечнику?! Получи, лепёшечник, вместо них мешочек с динарами — амулет торговца. И амулет торговца уже работает. Пятится задом перед Тонгом и Воиславой купец, просит внутрь лавки, товары предлагает.
Шепчет Воиславе купец-армянин:
— Возьми, красавица, русскую шитую рубаху с оторочкой на подоле и пышными рукавами! Серебряные фибулы задаром к рубахе отдам. Бери — не жален дирхемов своего богомольного покровителя! Добром будешь армянского купца поминать! Бери ещё сапожки! Ни у кого не будет таких прелестных сафьяновых сапожек! Ни у кого не будет такого яркого шёлкового платка! А бери-ка, красавица, княжеское корзно! Алое, как кровь, есть корзно! Или, хочешь, голубое, как небо? Есть у меня прекрасные корзна — яркими шарфами будут развиваться на ветру, молодцов приманивать, молодиц дразнить. Удиви покровителя — княгиней в корзне по городу пройдись!..
Купец не спрашивает согласия — складывает подарки:
— Куда отнести?
Восхищёнными глазами, краснея, смотрит Воислава на подарки. Стеснительно принимает — не отказывается. Вот он каким богатым стал, торгуя лепёшками, Волчонок! Даром что сам в бедной власянице. Звенят серебряные дирхемы, переходя из кожаного мешочка Тонга в услужливые купеческие руки.
Раб армянина приготовился Воиславе в дом отнести купленный товар, как положено, на место доставить. Но Воислава шепчет:
— А тебе, Тонг Тегин? Или ты будешь встречать весну со мной в синем трауре?..
И нет больше Облачённого во Власяницу. Не монах, добрый русский молодец прижимает Воиславу к себе. Ему кажется, что он защищает, укрывает её в своём объятии. И может ли Волчонок сам понять сейчас, кто он ей — благородный богатырь, принимающий в своё сердце слёзы несчастного ребёнка? Или трепетный влюблённый, которому судьба вдруг подарила сосуд для его вздохов?
— Своими очами ты врачуешь н вызываешь недуг. Скажи, как зовут моего врача и мою болезнь?
Он щедро дарит ей наур ва нур. Он сравнивает её с небесной чистотой.
Из лавки армянина вышел Тонг худощавым красавцем с обветренным тёмным скуластым лицом. Были у него, как у кочевника, длинные волосы, перехваченные тонким золотым обручем. Но вся одежда русская. Короткая красная рубаха, тонким пояском высоко подпоясанная. Синие штаны, как море разливанное, заправлены в мягкие кожаные поршни. Воистину объявился рядом с Воиславой, вместо согнутого богом монаха, гордый киевлянин. Ну, а что скуласт и что волосы до плеч — так, видно, добрым воином был его отец. Не у соседа дочь себе в жёны умыкнул, а в дальнем походе кочевницу взял. И сын по матери память хранит — кудрей чёрных не обривает, с одним оселедцем, как русы, не ходит.
— Ой, Тонг Тегин! А теперь ты совсем как Девгений Акрит! — Воислава залилась смехом. Потом насупила брови, притворно строго загрозила: — У тя есть ли охота, горит ли душа, со мной, с девицей, позабавиться?..
Ляля-Весна сама вышла к ним обоим, потому что только она могла вернуть Волчонку его тело, уже было отданное богу, и только она могла увлечь чистую, доверчивую Воиславу переступить, хотя и озорничая, порог робости.
Её рука в его руке, и для них это близость и тайна. Сокровенные свадебные близость и тайна, потому что ходят, ходят же за ними тронутые первым загаром босые ступни Ляли-Весны, и любовь навевает им Ляля, открывает взаимность желанья и смущает волнением странным и чудным.
И пьянят уже обоих чужие нечаянные прикосновения, и чья-то горячая рука вдруг жадно обовьёт в толпе стан Воиславы и тут же исчезнет, растворится в сутолке, и чья-то упругая грудь прижмётся к груди Тонга и мгновенно отпрянет.
Скользнул сливово-чёрный взгляд горбоносого кавказца по высоким Воиславиным шеломям, вспыхнул пламенем, задержался на её бёдрах. Распахнулся бордовый халат навстречу Тонгу, и оливково-смуглый живот красавицы гузки позвал мягким, обещающим танцем. Отчаянно задраны юбки над полными, круглыми, зовущими коленями албанок.
А на площадке возле менялен, не стесняясь, выставили свои полные зады в ничего не скрывающем бесценном персидском висконте тонконогие купчихи. Они смеются крупными, жаждущими губами, и потными запахами требующих ласки породистых тел пропитан их смех.
Вокруг Воиславы пиршество тел, и каждое, ей кажется, выказывало себя, каждое кричало: «Я тоже красивая!; Я не хуже других!; Я слаще других!»…
Ещё вчера Воислава со стыдом осудила бы этот пир. Но сейчас ей вдруг захотелось поразить соперниц, тоже выставить напоказ своё налитое, нарядно справленное тело: «Азъ краше всех вас!»
Так было с ней только мгновение. Она тут же засоромилась от своего неподобства и невольно, словно уже, как у мужа, ища защиты от осматривавших её бесцеремонных взоров, прижалась к Тонгу.
А прижавшись, почувствовала, что должна, но не может, не хочет отстраниться-отъединиться: выходило, что тело, разогретое на рассвете Лялиным взваром, решало само. Она отстранялась от Тонга осторожно-осторожно, как-то медленно, растерянно и всё ждала, что он положит ей руки на плечи, что желанно притянет к себе.
Несёт ли их по-прежнему река толпы или осторожно выплеснула в тихую заводь?.. Прошли часы или мгновения, как слиплось их дыхание?..
Знала Воислава, что смутны чувства в Итиле. Не облагораживает их память предков, потому что не помнят здесь предков. Без гордости и не для славы рода падает в эту почву семя. Потеряв имя предков своих, мучительно и болезненно, как за потухающую память, как за последнее и единственное, что осталось у них от памяти, цеплялись здесь люди за веру, от отцов унаследованную, словно осталась эта вера для каждого из них последним талисманом от растворения, от полной потери себя. Но и в вере теперь уже нет у здешних людей постоянства. Оставили, оставили здесь, в городе, источник воды живой; оставили и высекли водоёмы разбитые, которые не могут удержать воды. Не бессмертием народа, а часом наслаждения живут теперь хазары. В разноликой толпе не-народа ищет каждый не в роде себе продолжения, а в утехе забвенья. Но Тонг Тегин! Не такой, не такой же ты? Разве не рассказывал ты мне о Синем Небе и Чёрной Реке, золотистой Земле-Воде?! Разве не о славе Степи, не о бессмертье ли Эля ты пёкся?! А коли стал ты только лепёшечником, так оттого, что высокомерие своё усмирил и часа великого, наследного в терпении ждёшь?! Расправились с тобой, в реке топили, — но ты спасся, ты снова вернулся. Ты пришёл с любовью.
Шепчут Воиславины губы:
— Как зовут отца твоего, воин?
Волчонок медлит с ответом. А у Воиславы никогда так жгуче не пунцовели губы, никогда ещё такими алыми маками не расцветали щёки — разве не помнит Волчонок, что, по обычаю русов, спрашивает любимого об отце девушка, когда признаётся в любви?! Как христиане обмениваются при венце своими обручальными кольцами, так обменивались именами отцов влюблённые в племени русов.
— Моего отца зовут Буд!
— Моего отца зовут Каган!
И опять слилось дыхание. Не касаются губы губ, слито только дыханье. «Неужели Русь пойдёт войной на Хазар, и я не смогу показаться после свадьбы с мужем у родных?» И представляет себя Воислава в Киеве с яхонтовой диадемой, со шпильками серебряными, с каменьями зелёными в волосах. Набелено её лицо, как у персидской принцессы, насурмлены брови, как у угорской царевны, входит она к Ольге во дворец с мужем, заморским принцем. Улыбается Воислава, знает, что уже не ждёт престол Тонга, но разве осудит Ляля-Весна за то, что в Воислава немножко полетает на облаке?! И светится Воиславина улыбка, как выглянувший из белого облака солнечный луч, а ямочка на щеке — как озерцо среди луга. Подняты к небу, как вёсла гребцов, длинные пшеничные ресницы.
— Ах, Воислава! Когда я вернулся, я места себе не находил, но всё боялся к тебе прийти. Твою душу смутить. На тебя, чужеземку, исов местных, за мной охотившихся, навести. Ведь сколько ты потом, когда за меня заступилась на мосту, злосчастий приняла?!
— Ой, Лялюшки! Да и что ты говоришь, мой лохматый Волчонок! Али русы когда любовь предавали, любимых в беде оставляли?! — так отвечает Воислава и знает, что говорят они оба о вечной верности.
— Спасибо тебе, Лялюшка-Весна, что сердце открыла мне, что любимым, суженым, наградила…
Воислава прижалась к Волчонку, и на облаке светлом полетели они в счастье.
И тут забили бубны и арганы. Они ударили мерно и резко, то слегка замедляя, то убыстряя ритм. Глухие удары бубнов, как эхом, отзывались в раскатистых серебряных звонах арганов. И на фоне этих ударов восходили и падали вниз вложенные голоса волхвов, слазивших Лялю-Весну.
В длинных одеждах, с изображеньями идолов на головах, волхвы шли величественными рядами. У каждого волхва была в руке короткая кожаная плеть с ремённым шаром на конце, и эти шары волхвы опускали на мощные круги своих бубнов и арганов, как кузнецы опускают молоты на наковальни. Волхвы ковали счастливые цепи для браков.
Следуя ритму, ряды волхвов то резко прыгали вперёд, то останавливались, раскачиваясь на месте, словно набираясь сил для нового броска. Волхвы вели паству на поклонение к Хорсу, но Воиславе показалось, что они ведут людей на бой, и она прислонилась к груди своего ладо, она стала прощаться с ним так, как прощаются, разлучаясь перед смертным боем, на который поленицей-воительницей уходит она сама.
А Волчонок вдруг тоже, как перед боем, сказал ей:
— А знаешь, Воислава, ладо моё! Я сейчас устрашился. Я знаю, что скоро во всю ширь степи надвинутся на этот город нескончаемые, как колосья, ряды русских воинов с волхвами впереди, вот так же мерно бьющими в бубны и арганы. Но тогда они пойдут спокойно и неумолимо, чеканя шаг в такт бубнам и арганам. И каждый хазарский воин будет страшиться пустить стрелу в наступающую дружину, потому что идущие впереди войска волхвы не боятся смерти: они выходят на бой, уже зная, что падут, но по их телам ринется на врага разъярённая жажда мести, сметающая все волна воинов-русов.
— Вижу, ты знаешь, Волчонок, про то, как наступают Русы? — как-то очень спокойно удивилась Воислава, удивилась, словно снизошла, словно была уже не с ним. — Но ты же принц! Кликни клич. Останови войну. Ты ведь воевал с моими родичами и знаешь, что война будет страшной.
Он, не смущаясь, будто речь вовсе не о её родной крови, с гордостью ответил:
— Да, Воислава! Я воевал с русами не раз. И даже бывало, что и побеждал. Правда, дружины русов, с которыми я сражался, были небольшими, — из младших дружинников.
Воислава насупилась. Потом убеждённо решила:
— Старших дружинников ты бы не победил… Ты должен просить мира для хазар у Святослава. Я помогу в этом тебе!
Они помолчали.
Волхвы прошли. Извилистой лентой их процессия поднималась по правому берегу к обрыву, на котором возвышались идолы. А на наплавной мост вышли девушки. Среди них были многие из тех, кто ещё совсем недавно озорничали в голове гусеницы-толпы. Но теперь все шли зело чинно, на головах у них были венки, в руках зелёные ветви. Клейкие листочки тополя уже чуть вы-пушились из почек, и их слабая, нежная зелень была удивительно к лицу юным язычницам.
Воислава тронула Волчонка за плечо:
— Идут невесты, и я должна пойти с ними, Волчонок. Мы сделали свой выбор, и ты сегодня умыкнёшь меня. Но прежде чем всесильный Хорс закрепит наш союз, он тоже возьмёт себе невесту. Вон, смотри, сколько невест. Одну Хорс возьмёт к себе. Не правда ли, Хорсу будет сегодня не просто выбрать себе самую красивую? Ну, я пошла… — Воислава приподнялась на цыпочки осторожно поцеловала своё ладо в краешек губ.
И продолжился праздник в брачных песнях и плясках.
Вокруг зелёного деревца хороводят свою кудесбу Хорсовы невесты, — какую из них выберет идол Хорсебе в семью? Всем машет приветливо молодыми клейкими листочками деревце, всем равно приветливо советует-приказывает. «Придите вы, девушки, придите вы, красные! Сама я, сама оденуся, ой ляле-ляле, сама оденуся, надену платьико зелёное, ой ля-ле-ляле, всё зелёное, шёлковое! Ветрик повеет — шуметь буду, дождик пройдёт — лопотать буду, солнце выблеснет — зеленеть буду!..» Воислава идёт со всеми в хороводе, плавно поднимает и опускает в ритм окаринам и гуслям свои руки, мягко переступает каблучками. А перед глазами у неё доброе отцовское лицо, — благословил ли бы отец «лагодение» к чужанину, благословил ли бы её свадебку с Волчонком?..
— А я роду, а я роду, хорошего я роду! А я батьки, а я батьки богатого. А мой батька — купец киевский, он ушёл-уплыл со товарищами. Или едет-плывёт он ко мне безобсылочно? Или не ждать мне его — одной жениха привечать? Одной судить-рядить долю свою? Одной без совета отчего за Тонгом пойти?.. — так шепчет самой себе Воислава, а в больших синих глазах её волога.
Украдкой провела Воислава ладонью по щеке, смахнула наземь непрошену слёзку. Соромота берёт её за собственное болезнование. Хочет управить сердце Воислава. Но почему застыл в её ушах, вместо радошно-го щёкота Хорсу, дальний скорбный плач?
— Молодая я невестушка, оглянусь туды-сюды, туды-сюды — на все стороны: вся ли тут моя родня? А нету тут моей родни, а батюшку мово пески взяли. Нету сил мне себя больше обманывать; знаю я, что погублен мой отец Буд, здесь, под городом, воровски казнён, на прибрежном песке. Над очами его надругалися, на похмелье Кауру отдали… Ой, вы ветры буйные! Не хочу в родной Киев возвращатися, на могиле отца остануся. Рядом тут, по-за городом, мой батюшка. Вы взбудите мово батюшко: пусть посмотрит на дитя своё, хорошо ли собрано и на место ли посажено?.. — Воислава вырывает свои руки из хоровода, роняет наземь зелёную ветвь.
Маленькие Воиславины ладони до боли сжимают виски:
— Чур! Чур, скорее меня охрани! Нельзя, нельзя мне вешать-клонить голову. Остановлю дружину князя Святослава — принесу мир хазарам!..
Она стоит теперь одна посреди хоровода с лицом закрытым руками и не видит, как к ней медленно идёт белый Хорсов конь. Вот коснулся белый конь шершавыми губами её нежных рук.
Вот ржёт мягко-нежно, обрадованно ей в самое ухо. Орок Сингула тянется к своей бывшей хозяйке. Счастливо треплет мягкими зубами ей платье. Хорсовым конём теперь сподобился быть за свои стати Воиславин Орок Сингула.
— Здравствуй, мой конь, — обнимает за шею коня Воислава. — Вот, нашёл ты меня! Как тебе жилось без меня?
И свершилось! Развёртывают — несут волхвы белое покрывало. Упал снег среди весны — принёс фату невесте. Бело в Воиславиных глазах. Белым стало небо, и в белое обернулись дома, деревья и люди, и бела вода в реке и среди этой белизны катится-катится к ней белый шар.
— Хорс выбрал невесту! — бьют в арганы и бубны волхвы. — Коня ей послал!
— Хорс выбрал Воиславу! — многоголосно подхватывает толпа, в которой давно смешались с местными славянами верующие во всех других богов.
Поют девушки величальную песню возлюбленной Солнца. Трубят славу Воиславе златокованые трубы. Посадили Воиславу на её белого коня, ведут за серебряны уздцы по кругу. Медленно ступает копытами белый конь. Бегут вслед за конём девицы! Ловят ископыти на счастье. Эй, на Княгиню посмотри-ка, погляди-ка, Тонг Тегин! Вот она, Княгиня Весны, на белом коне! Мягко изгибается её стан, плавно колышится зелёная, серебром расшитая рубашка, а ресницы её как вёсла, что подняли гребцы над синими озёрами.
Гордо сидит Воислава на своём коне.
Уже сухи и только лихорадочно блестят её синие глаза, и пылают её щёки.
Подуло о Реки вечерней зарёй, нежно студит горя» чую кожу. Был день, и день миновал. В ветре приторная сладость, а там, вдали заливается всё голубым и розовым светом. Пропала белизна неба. Стало небо бесцветным, безбрежным и чистым. И очистилась Степь за Рекой. Явилось там, вдали новое, осеянное марево — лёгкое как белое брачное покрывало, что накинули на волосы Воиславе.
Прозрачно, из тончайшего шёлка-виссона, брачное покрывало Солнцевой невесты — и уже сегодня оно растает, чтобы открыть Воиславе за собой тот второй, живущий только чувствами, как музыка, бестелесный мир, куда позвал, её Хорс. Воислава заслоняется ладонью от белого света. Она повёртывается к толпе. Она приподнимает руками брачное белое покрывало.
— Ой, где ты, Волчонок, ладо моё?! — беззвучно шепчут её губы. — Видно, теперь у самого Хорса выпало мне за Хазар просить…
Шумит-кричит толпа под горою. Испытывает Воиславу. Верховный волхв в бубны бьёт, народ опрашивает, какова слава у Хорсовой невесты, не знает ли кто на неё хулы: честна ли, скромна ли, не опозорилась ли до свадебного дня?..
Кричит громко народ:
— Честна!
Кричит громко народ:
— Скромна!
Кричат люди, что всем достойна Воислава избранничества своего. Дружно, весело люди кричат — радостно обряд положенный исполняют. Да и как же иначе? Да и разве может быть-произойти другое? Кто же осмелится Хорсу-богу перечить?.. Коли сам бог эту невесту выбрал, то, значит, нет лучше её и другому слову о ней не бывать.
Ликует народ, славит Воиславу, и уже поднял верховный волхв обе руки, чтобы Солнцу мнение народа сообщить-прокричать. Но тут потеснил кто-то верховного волхва и, как на вече, а не на волховании, слова себе требуя, рядом с верховным волхвом встал.
— Слушай меня, харан — свободный народ хазары! До чего же мы дошли в потере достоинства своего, в унижении печени своей мужской, — закричал человек, вставший дерзко рядом с верховным жрецом, — мы теперь уже кальирку — постороннюю, торговую гостью нашу, а не девушку из нашего хазарского народа хотим послать от хазар в шатёр свадебный к Солнцу—Хорсу. О, харан — свободный народ хазары, совершается непотребное? Люди! Вспомните, разве было когда такое, чтобы подвластные нашему Кагану народы и племена прислали бы ему в жёны девушку не из своего племени?! Да проклял бы Каган подобный народ или племя, заподозрив в лукавстве и готовящейся измене… Я предлагаю избрать Хорсу другую невесту, а Воиславу, торговую гостью, отправить с почестями назад, в Киев. Тем мы и Руси уважение окажем. Барса Святослава умаслим. Накажем Воиславе: пусть Барсу расскажет, что хазары мира с ним хотят.
И смешался народ; уже не может верховный жрец остановить бурление: кто что кричит? кто какое слово высказать хочет? — разве разобрать!
А человек, вставший рядом со жрецом, поправил на волосах распущенных своих золотой обруч, хотя был он в короткой красной славянской рубахе, тонким пояском высоко подпоясанной, и синих, как море разливанное, штанах, заправленных в кожаные поршни, затем поднёс свою руку к бороде, в которой было девять священных клоков. И охнул народ, и если не повалился на колени, то только потому, что растерялся из-за не свойственной для обладателя девяти священных клоков бороды одежды. Но примолкли все сразу, и даже когда вскоре, как следует рассмотрев человека, признали в нём лепёшечника, то всё равно засомневались: «А, может быть, хоть и слывёт за блажного Волчонок, хоть и вот, будучи принцем, торговлей лепёшками начал развлекаться, но всё-таки прав он? Ведь из дома Ашины он, Волчонок, а не какой-нибудь пустой человечишка! Обычаи богов и порядки у них лучше кого-либо знает… Как бы в самом деле, хоть и прекрасна Воислава, но не оскорбился бы идол Хорс, что хазары до того уж упали, что невесту от себя ему из кальирке — посторонних посылают?»
И похоже, что принял такое мнение народа даже и верховный волхв, который потянулся было руками к плечам Воиславы, чтобы отобрать у неё брачное Хорсово покрывало. Однако тут из толпы, из самой середины её, истошный, обиженно-визгливый голос закричал:
— Люди! Что же смотрите, что же вы не бьёте лепёшечника! Сколько он будет ссоры между всеми нами, свободными хазарами, разжигать?! Почему чуть что, так медовую заплату норовят некоторые на одежду хорошим и добросовестным людям нашего города нашить только за то, что, мол, происхождение у кого-то не совсем кочевничье. А знаете ли вы, люди, что эта кальирке — посторонняя недавно самого принца нашего спасла, когда на наплавном мосту его хотели крепко побить. А теперь этот принц, неблагодарный, сам же тут называет Золотоволосую, красавицу нашу, гордость нашего хазарского Эля, посторонней. Да как же так можно, люди?! Давайте же побьём неблагодарного принца! Что вы боитесь, что у него девять клоков бороды? Хотите, я сама их у него у всех вас на глазах вырву?.. Только схватите охальника, а я уж эти клочья вырву. Ведь он теперь уже не принц, а лепёшечник. Всякий знает, что торговца разрешается таскать за бороду, если он обсчитал или обвесил покупателя. А этот лепёшечник хуже, чем обвесил, он народ наш хазарский обокрасть хочет… Он хочет показать Солнцу, что не приготовлено в народе золотоволосых красавиц для его, Солнцева, шатра…
Кричала таким образом, как вы уже догадались, Хатун Серах. Сама же ещё недавно обвиняла она на наплавном мосту Воиславу, когда та заступилась за Волчонка, что Воислава — посторонняя. Теперь кричала обратное. Но у толпы свои законы. Толпа размышляет много позже того, как что-либо натворит. Тогда, когда уже перестанет быть толпой, а станет отдельными людьми. Поэтому, когда Серах начала на Волчонка кричать из толпы с возмущением, получилось, что она сразу и стала «голосом народа». Во всяком случае, того народа, что собрался на площади перед горой. И верховный волхв был уже даже уверен, что умилостивляет сам народ, когда громко объявил:
— Хазары! Не будем спорить — спросим саму избранницу Хорса.
И все закричали:
— Говори сама, Воислава! Можем ли мы тебе верить, что ты от нашего хазарского народа войдёшь в шатёр к Хорсу, что ходатайницей хазарской ты к Хорсу в жёны идёшь, а не наушницей злобной, чтобы против нас, хазар, в пользу Барса Святослава нашёптывать?..
И увидели все, как дрогнули большие, синие, гордосухие глаза Воиславы и две слезы крупными каплями выкатились из них и по щекам её нежным скатились на землю. Под ноги мощной лошади Орок Сингула, на которой Воислава сидела, упали. Прокатились эти две слезы, и снова воспаленно высохли и ещё больше расширились и стали синей ночного южного неба глаза Воиславы.
И затем посмотрела Воислава не на толпу под горой. Не на кричавшую змеиноволосую Серах, спрятавшуюся за толпу, и не на верховного жреца. А посмотрела только на одного Волчонка и спросила:
— В самом деле, почему ты, Волчонок, так не веришь кальирке? Почему разрешил ты мне быть твоей душой-даеной? Но теперь не хочешь отдать Солнцу для блага народа Хазар свою «душу»?..
Не нашёл, что сразу ответить на такой необычный вопрос Воиславы, Волчонок. Только опустил голову.
А Воислава подобрала поводья своего крепкого коня и съехала с горы на площадь в расступившуюся толпу прямо к царице Серах и подняла на дыбы над нею свою тяжёлую лошадь. И закрыла руками голову Хатун Серах, в страхе унизясь. Но Воислава её не раздавила лошадью, а опустила коня перед Серах и сказала:
— Можете мне верить, хазары! Я за вас, а не во вред вам пойду ходатайницей к Солнцу. Женой огненного Хорса сегодня стану. Буду просить Солнце примирить Хазар и Русов, чтобы стали Русы и Хазары жить в вечной дружбе.
И въехала Воислава на коне назад, на гору к верховному жрецу, гордо слезла с коня. Нестерпимо спокойными глазами смотрела, как несли ей волхвы другое, большое, как саван, покрывало, как несли ей крепкие путы — затянуть-связать ей ноги, затянуть-связать ей руки. Вот подняли волхвы на вытянутых руках юную Хорсову невесту — с народом дают проститься. Вот понесли к краю обрыва.
Вот напутствуют: пусть крепче обовьёт она белыми руками солнечную шею, пусть целует и ласкает горячее солнце, пусть выпросит хазарам тепла и добрых дождей на всё лето!
На руках волхвов высоко над народом поднято девичье тело.
Белое покрывало прозрачно, и сквозь него видит Воислава синь реки, уходящую к горизонту.
Сейчас падёт её тело в реку — и не будет её, Воиславы. Может быть, и сохранится её душа. Может быть, и проживёт она в том, ином, втором мире рядом с Хорсом до зимы и скакать будет утренней звездой рядом о ним по синему небосклону. Но следующей весной уже возьмёт Хорс другую невесту. А Воислава? Что с нею? Она знает одно: в этом мире такой Воиславы, какая она сейчас, уже никогда не будет. И в тем, ином мире тоже уже не сможет она ждать Тонга Тегина, как дожидала её мать Словена своего земного мужа Буда.
Через несколько дней найдут где-нибудь внизу по реке рыбаки её обезображенное, распухшее тело, каждая жилочка, каждая клеточка которого ещё сегодня утром так тянулась к свету, к весне, так хотела любить и быть любимой.
Снимут люди с её тела дорогие одежды Хорсовой невесты; волхвам отдадут, — а волхвы их для другой, для следующей невесты на будущую весну припрячут.
А тело сожгут на погребальном костре, поминая добром дочь киевского гостя Буда прекрасную Воиславу, и доброму ветру прах её доверят.
А может быть, и не найдут рыбаки тела; может быть, унесёт его течением в море, и сгниёт оно там в пучине…
Воислава дёргается всем телом, извивается на руках волхвов и… затихает.
Теперь она думает не о теле своём, не о страхах перед пучиной морскою, не о любви своей к Тонгу Тегину, не расцветшей, и не о том, что станется с нею в ином мире. Она думает о доверии людей, подаривших её сегодня великому Хорсу. Думает о своём избранничестве, — ибо не за себя идёт она к Хорсу, она была бы здесь, в городе, счастлива, возвышалась бы любовью к Тонгу Тегину, не слишком удачливому наследнику, а теперь и вовсе не поймёшь кому: не то кмету, не то мниху, но всё равно единственному, любимому, которого она полюбила ещё детском, к которому тянулась всегда. Но вот она должна не с ладо по жизни идти, а уйти к Хорсу. И она пойдёт к Хорсу, потому что кто-то из Отечества должен идти к богу ходатайницей за всё Отечество. Кто-то вот должен похлопотать у богов, чтобы помиловал Хазар Барс Святослав! Отечество доверилось ей, и как может она, позоря Отечество, биться и плакать здесь, над обрывом?.. В своём Отечестве она останется навсегда, — не в дщери собственной, — не будет у неё дщери, — но она останется в дочерях своих соплеменниц, ради которых она и приносит себя сегодня Солнцу.
— Возьми же, возьми меня, Хорс! Возьми меня, Солнце, а дай мир и дожди народу моему!.. Дай мир хазарам со русами. Ой, Лялюшка-Ляля, помоги мне в последнее моё мгновение без стонов долг свой исполнить. Помоги! Ой, Лялюшка, помоги, милая Лялюшка, примирить Святослава с Каганом!
К ней прокрался, пока девушки водили вокруг неё прощальный хоровод, Волчонок: зашептал, чтобы она напрягла руки и ноги, когда ей будут их связывать; постаралась растянуть путы; а в воде сразу попыталась высвободить руки; и чтобы непременно набрала в лёгкие побольше воздуху; Волчонок шептал, что бросится за ней, попытается сразу вытащить из реки.
Он шептал:
— Воислава! Ничего не бойся. Надо только задержать дыхание. Ты помнишь, — ты должна же помнить, как я спасся, когда меня душил дэв.
Она твёрдо ответила Волчонку: — Ладо моё! Свет ты един в моём оконце. Ты — моё солнце. Но ныне не вольна я в себе. Ладо моё! Если я сбегу, кто же тогда будет этой весной ходатайницей перед Хорсом за Отечество? За хазар наших с тобой…
Вот вяжут крепко путами Воиславе руки и ноги. Вот подняли высоко над обрывом. Ударили бубны и арганы. Идут мимо Воиславы прощальной процессией волхвы и народ. Прощаются с золотоволосой Воиславой хазары.
— Лялюшки! — неслышно шепчет Воислава, зовя Весну укрепить её дух.
А может быть, она позвала синюю-синюю Реку, в которой среди последних льдин плавают белёсые небесные облака, или берёзку, тоненькую, с коричневым стволом и клейкими, маленькими, едва распустившимися листочками?.. И сверкнуло ей в глаза огромное, как ромашка, солнце — не Хорс, а «цветок Солнце», темно-жёлтый, с расходящимися, белыми, как лепестки, лучами.
Она падала в воду, а река, тополёк, ромашка-солнце стояли в пятнистых радужных окоёмах, заполняя вместе с тёплыми мягкими слезами ей синие глаза.
— Лялюшки!..
Солнце коснулось краешком реки и медленно поползло в воду. Погас последний луч.
Успеет ли Воислава догнать Хорса, уговорить помочь людям?..
Глухой всплеск развёл гладкие вечерние воды. Пошли хороводом, как подружки, вокруг упавшего девичьего тела волны, разошлись широко-широко и сомкнулись. Ржёт прощально-тоскливо белый конь Орок Сингула с кручи. Стих на миг шум праздника: провожая взглядом погружающееся тело, невольно замолчали люди.
Бьют громко арганы и бубны волхвов:
— Хорс забрал свою невесту, разбирайте же и вы своих невест, юноши!
— Обнимай милую! Крепче, поднимай на руках, выше — пусть поверит девушка в мужскую силу; пусть увидят все, какая из девушек отныне — семья твоя!
— А вы, зрелые мужи, разве вы без верных жён пришли на буйный Хорсов пир?! Али угасла любовь в сердцах ваших?!
— Смотрите, как вспенились чаши медовы, как увлажнились пересмякшие губы…
О, как быстро падает темень на землю. Закрыл вечер синим пологом сплетённые руки, разостлал под влюблёнными тёплую землю, укутал мягким ласковым ветром!
День тридцать первый. «Мерген Добун вступает на Зелёный мост»
Полководец Мерген Добун пел песню у высоко поднятого медного Знамени. Сразу за ним, выстроившись в походный порядок, стоял его боевой полк, а далеко сзади, насколько только охватит человеческий взгляд, колыхалось бесчисленное море татар — ополченцев из пастухов, их женщин, детей.
Вождь! Прими от меня совет и стремись к добродетели.
Став в племени мудрым и великим,
Раздавай свои знания.
Не приступай к делу поспешно.
Осмотрись. Не спеши.
Если спешить, высекая огонь огнивом,
Светильник гаснет.
Следя за врагом своим зорко,
Точи кинжал.
Если враг придёт к тебе,
Иди навстречу с войском.
Остановись против него,
Не бойся.
Держись вокруг, в отдалении,
Стремись захватить его богатырей, отсекая их от войска.
Заставь мечь сверкнуть над его головой.
Бей, рассекая так, чтобы были разрублены
Его шея и щит с панцирем!
— гордо спел, взбадривая себя, Мерген Добун. Потом махнул начальственно рукой вперёд: «Двинулись!»
Величаво пошёл вперёд боевой полк. Как волны, покатилась за ним орда. Через полупустыню — от Арал-моря к Итиль-реке. Полупустыня впереди изумрудно зеленела после прошедшего ливня. На несколько недель она станет проходимой. Открылся зелёный мост, по которому Добун Мерген торопился проскочить на помощь хазарам.
День тридцать второй. «Запах тления»
«В лъто 6473 (965-й год). Иде Святославъ на козары; слышавше же козари, изидоша противу съ князем своим Каганомъ, и съсступишася битися, и бывши брани, одолъ Святославъ козаромъ и градъ ихъ и Бълу Вежю взя.
Се повести времяньных лет, откуду есть пошла руская земля».
И минуло лето. И пришла осень. И снова, как было весной, вспыхнуло в Хазарии сражение зимы с летом.
Зима с летом сражались,
Смотрели друг на друга враждебными глазами.
Они сблизились, чтобы схватиться.
Заняв места друг против друга, они разъяряли себя.
Только теперь сражение шло уже даже не столько с перевесом зимы, а сколько самой смерти. Епископ Памфалон воспользовался тем, что Иосифа-упразителя не было в городе, и занял его место на белой башне. Он отбросил свою ядовито-зелёную тень на весь город и, предчувствуя сбывающееся роковое каббалическое число, вдыхал раздувающимися ноздрями идущий от города сладковатый запах. Запах тления.
Он смотрел на небо, вековое Кек Тенгри, Синее Небо хазар, главного бога кочевых народов. Оно уже не было синим. Теперь его покрывала мертвенная бледность, и, словно заранее оплакивая судьбу хазар, из него, как из продырявленной корчаги, погаными ржавыми струями выливался перемешанный с песком дождь.
Грозно посерела покровительница кочевников Чёрная Река. Она несла с верховьев мутные воды, в которых была кровь. Давно уже никто в городе не смотрелся в реку, как в чёрное мраморное зеркало. И никто на рассвете не выходил на берег — молиться за Кочевника. Даже лепёшечник, бывший принц, после того, как взяла Река его Воиславу, сторонился Реки и своими лепёшками для голодных перебрался торговать с наплавного моста на сук ар ракик (невольничий рынок). Его туда охотно впустил Гер Фанхас, потому что сук ар ракик пустовал — подвластные племена не заплатили дани рабами. Гер Фанхас понадеялся, что лепёшечник своими лепёшками хоть кого-то на сук ар ракик заманит, а там, глядишь, и придёт кому в голову продать Фанхасу малолетнего сына или дочь.
Волчонок лепёшки пёк теперь невкусные, сплошь из коры, и уже не выкладывал из них игрушечные города. Он снова надел мусульманскую синюю монашескую власяницу, скрывая золотой обруч — знак дома Ашины, повязал на лоб синюю куфу (повязку печали) и уныло проповедовал о том, что верующий в руках Аллаха должен быть подобен мертвецу в руках обмывающего трупы. Епископ Памфалон с удовольствием на своих проповедях пересказывал Волчонка. Он надеялся, что городским мусульманам надоест служить живыми мертвецами в руках обмывающего трупы Аллаха и они побегут к Мани. Памфалон не терял тайной надежды затащить в манихейскую церковь, «к детям вдовы», и самого Волчонка. Он видел само провидение в том, что когда-то, ещё будучи не в близком к богу разряде епископов, а в обыкновенном монашеском разряде, он в слепой ненависти к высшей крови своими руками и придушил Волчонка, а тот воскрес. Ух не для обращения ли к Мани воскрес?.. Не для «детей вдовы»?!
Памфалон не сомневался, что Волчонок, уже переметнувшийся от Кек Тенгри (Синего Неба) к Аллаху, сломается окончательно, как только из летнего обхода владений за данью ни с чем вернётся в город весь Еке Аурук (Великий Стан). То, что нынешний летний обход владений был неудачен, в городе уже знали все. Но, как утопающие, хватающиеся за соломинку, всё ещё на что-то надеялись. Памфалон оказался прозорливее. Он запер малую церковь на левом берегу, отпер большой собор на правом берегу (при его предшественнике пустовавший) и проводил дни и ночи на белой башне, подстерегая, когда вернётся Великий Стан, чтобы встретить разочарованных, отчаявшихся участников летнего похода успокоительной службой в большом соборе.
Из обхода данников свита Великого Стана прибыла поевшей своих собак. Салары, амили, тавангары вернулись тощими и злыми, как дерзун (колючая трава). Арсии-стражники походили на пожухший чакан по берегам опустелой реки. Ещё недавно стоял чакан у Чёрной Реки камышовым войском — густым ровным лесом торчавших пик. А теперь поредел, был поломан ветром и медленно умирал, скрипя последними стонами.
По городу пошли упорные слухи, что после самовольного провозглашения себя царём Иосиф во время обхода владений напрасно ставил юрты Великого Стана возле становищ прежде подвластных Кагану беков и тарханов.
— Какой такой царь хазарский на кормление и за данью к нам пришёл? — удивлялись беки и тарханы. — Никакого «царя» над нами никогда не было! Был Каган. Кагана, выходит, нет. А царь?.. Мы не клялись платить дань никакому царю.
И они свёртывали свои юрты и откочёвывали от Великого Стана в глубь степи. А иные из вождей подвластных племён будто бы даже прямо заявили, что будут платить теперь дань Барсу Святославу. А если, мол, новоявленный царь Иосиф этим не доволен, то пусть докажет, что он сильнее. Пусть сразится со Святославом, благо тот стоит с дружиной недалече: в Вятичах.
Иосиф, не имея даже и одного полка конницы, разумеется, навстречу Святославу не пошёл. Вернулся в Итиль-город. Но и здесь его смущал Барс. Над городом, как угрожающий орлиный клёкот, витало Святославово «Иду на вы». Страшной берестяной грамоты, которую якобы передал казнённый русский торговый гость Буд, никто в глаза не видал. Иосиф скрыл её от народа. Но было, будто грамоту эту прочитали все. Народ упивался дурными знамениями, наплодившимися в городе, как мухи на навозной куче.
Епископ Памфалон с удовольствием осведомил о тучах над Хазарией Новый Рим (Константинополь) в специальном, посланном с нарочным питтакии. Приписал отвлечение воинственного Барса Святослава от идеи прибить щит на вратах Нового Рима на войну с Хазарией целиком собственным заслугам и ждал в награду от Базилевса золотого креста с бриллиантами.
В этом же питтакии, — готовя себе место среди святых, — Памфалон обмолвился о том, что, мол, собирается вывести свою паству из Хазарии, как из чумного места. А сам с замирающим сердцем наблюдал, как рвёт свои дельбеке (поводья) толпа, дотоле хитро управляемая в злых выкриках и стихийных поступках с помощью купленных Хатун Серах своих людей.
Теперь билек иркен (кучка народа) бушевала нагло, глупо и зло. А подкормить её всю было не только для Серах, но даже для старосты всех базаров Гера Фанхаса слишком дорого. Гер Фанхас тогда попробовал придавить толпу своим весом. Он, не щадя себя, вспоминал принародно на базаре, как нынешний Каган Огдулмыш, когда ещё не потерял свою божественную силу и не сидел безвылазно, прячась от гнева народа, в золотой юрте, опозорил его, Гера Фанхаса. «Я ещё только начинал своё торговое дело. Боялся сглазу и ходил обтрёпанным, — рассказывал, собирая вокруг себя толпу, Гер Фанхас. — Это приметил Небом Рождённый, призвал меня и сказал громко: «Эй, толстяк, перестань красоваться, если не хочешь палок!» Небом Рождённый предупредил всех, что красоваться дырами на своей одежде не менее дурно, чем одеждой, расшитой золотом». Но обтрёпанная толпа не поняла тонкого намёка Гера Фанхаса. Она не красовалась дырами. Она просто хотела хлеба.
В толпе перестали надеяться на правителя. Уповали теперь только на чудо. И всё упорнее поминали золотоволосую Тану Жемчужину, которую волхвы подарили богу Барса огненному Хорсу. В Итиле ожила память. Из уст в уста ходило старое хазарское предание про золотоволосую Алан Гоа. «Алан Гоа приходила через дымник юрты с первым солнечным лучом для того, чтобы подарить хазарам Небом Рождённого», — вздыхали люди. И тут же указывали: подобной Алан Гоа была Жемчужина Воислава, дочь руса, которую хотел сделать женой, ввести в свою юрту наследник Волчонок. Вот, мол, если бы родила Золотоволосая хазарам нового Кагана, то вернулась бы Элю его сила. Тогда никакой Барс Святослав не смог бы угрожать Хазарии, а заключил выгодный мир. Да и вся жизнь была бы другая…
Шаманы пробовали перехватить «дельбеке» и всё-таки обуздать толпу. Пустили слух, что идол Хорс вовсе не навсегда, а только на лето увёз с собою на небо в колеснице хазарскую Тану Жемчужину, Воиславу. Что накатается золотоволосая красавица на рыжих небесных конях и вернётся с рассветным столбом, исходящим из дымника, в самую достойную хазарскую юрту. Потому что пора, мол, даже и по срокам очнуться Элю, и коли Волчонок отдал свою любимую Хорсу, то лишь для того, чтобы, вернувшись к хазарам, Тана родила Хазарии от Солнца-Хорса настоящего сильного Кагана. Умеющего наводить дождь! И способного противостоять Барсу.
Споткнувшись на сроках, когда пора очнуться Элю, священники всех вероисповеданий города бросились смотреть на небо, заново исчисляя календарь. Но сколько хакамы, маги, муллы, волхвы и попы не вглядывались в небо, дурное расположение созвездий не менялось. И все остальные жрецы смолчали, когда волхвы объявили, что нынешнее лето пало на Знак Мечей и это значит, что Русы придут за обоюдоострыми мечами, которые когда-то давно отдали хазарам в виде дани. Епископ Памфалон срочно запросил Новый Рим, и оттуда, к его радости, также срочно сообщили, что текущий 965 год будет роковым для Гога и Магога, сиречь для кочевников. А что до собственных хазарских кочевничьих гадательных дощечек, то их и перебирать не надо было. Наступил Барс Ил — Год Барса. Как в такой год не разгуляться до хазарской степи, куда он раньше опасливо не забредал, ужасному Барсу Святославу!
Шаманы забили последних баранов и выставили на высоких шестах мясо для Неба — надеялись привлечь красных степных коршунов, которые отпугнут Барса. Но вороньё, сколько в него ни стреляли жужжащими стрелами, к следующему утру склевало всё жертвенное мясо, а ни одного красного коршуна так и не прилетело.
И тогда Памфалон понял, что пришло его время мстить.
День тридцать третий. «Страшная месть епископа Памфалона»
Был самый глухой час ночи. Город спал, и даже стражники в городских воротах прекратили сторожевую перекличку. Дремали, сморённые промозглой предрассветной сыростью. Памфалон встал со своего чернецкого ложа. Оделся, опустившись на колени, несколько раз перекрестил образ святого Петра-апостола, взял в левую руку калило и, надев на шею большой чёрный крест, двинулся через весь город в путь. Он скользил в ночи неслышно и смело. Его правая рука была на рукояти серебряного кинжала. Серой длинной тенью проскользнул он мимо сонных стражников на наплавном мосту, которые, приняв его за пролетевшего байгуша (филина), лишь попятились от бежавшей на них тени и помянули дэва. Они помнили, как поплатился за излишнее любопытство в ночную пору сын Арс Тархана.
Епископ Памфалон спешил расплатиться с работорговцем Гером Фанхасом. Сколько лет он ждал этого часа мести! Думал, что с него зачнёт выжигание хазарской кунгаулсун! Теперь свершается. Гер Фанхас оскопил мальчика, купленного за гроши у бедного ремесленника Вениамина, и продал его с барышом за сие поругание над его плотью в певчие в Новый Рим. Он не догадывается, что сам призвал к себе на глухой час этого мальчика, когда-то начавшего с унижений — с монашества Памфамира (Всего Лишённого), теперь пробившегося в епископы, ставшего близким к богу Памфалоном (Из Всех Родов).
Памфалон серой тенью соскользнул с моста и пошёл по левому берегу. Осторожный работорговец поставил себе расшитую парчой юрту — шилтесутай кер, с плетёной юбкой, как у беков. Но, как ни зазывал его Иосиф, так и не решился переехать на дворцовую площадь, на остров, к Белому храму: предпочёл держаться среди живших на левом берегу своих, кочевников.
Левый берег был песчаным, и ступни Памфалона вскоре стали утопать в намокшем песке. Шаг его замедлился. Ему становилось всё жарче. Сердце билось то часто, как колокольчик, то останавливалось совсем, пропуская удары.
Такой опрометчивости от врага епископ не ожидал. Гер Фанхас призвал его к себе на самый глухой час. Потому что его якобы замучило наваждение. Он широковещательно призывал уже к себе, чтобы отвести, застав с поличным, это наваждение, левитов из Белого храма. Звал шаманов, магов, мулл и волхвов. Они все кадили, прыгали в священных плясках, кропили водой, пугали наваждение. Но якобы оно не унялось и продолжало перед каждым рассветом приходить к Геру Фанхасу. Теперь вот последним, — исчерпав все средства борьбы с жёлтым призраком Золотоволосой, якобы пробивавшимся к нему в юрту с рассветом из дымника, — Гер Фанхас позвал христианского епископа.
Полог в шилтесутан кер был открыт, но Памфалону не удалось незаметно вскользнуть в юрту Гера Фанхаса. Дорогу преградили дюжие гулямы—телохранители, и, только ощупав епископа, они молча пропустили его к своему господину.
Гер Фанхас сидел посреди юрты, под дымником, на корточках над кучей горячей золы и едва не засыпал глаза епископу, бросив в него изрядную пригоршню.
— Садись рядом, епископ, — сказал затем Гер Фанхас, — оно сейчас придёт. Я уже жду.
Памфалон молча стал на колени рядом с Фанхасом: его взгляд, косил на гулямов. Он чувствовал себя опять проведённым хитрым работорговцем. «Как же я не сообразил, что Гер Фанхас зазывает к себе священников не для того, чтобы «защититься от смущения дьявола». Плевал работорговец на «смущение». Гер Фанхас хитроумно подготавливает легенду. Он хочет, чтобы по народу разнеслись свидетельства, что не к Тонгу Тегину, принцу крови, но превратившемуся в захудалого лепёшечника, а к знаменитому сайарифа, меняле-банкиру, Геру Фанхасу, истинному хозяину Хазарии, решила спуститься прямо с Неба, от Хорса-Солнца, Золотоволосая Алан Гоа. И надо отдать Фанхасу должное, он залучает к себе самых лучших свидетелей для того, чтобы никто уж не усомнился, что именно к Фанхасу приходила на рассвете Золотоволосая, чтобы родить хазарам сильного Кагана!..» Сердце застучало у Памфалона и замерло. «Вышло, что я пришёл освятить страшное ловкачество своего врага. Фанхас вскоре всем покажет рождённого от самой Золотоволосой. Уж новорождённого-то Фанхас отличного найдёт! Привык детей покупать у родителей».
Памфалон взял себя в руки. Стал громко молиться:
— Охрани Господи! Твоя бо есть воля миловати и спасти, и Тебе славу воссылаем со безначальным твоим отцом и со пресвятым, и благим, и животворящим духом!
Он молил у Господа о собственной охране, не с Фанхасовой. У того были гулямы.
— Слушай, епископ, — бесцеремонно прервал его молитву Гер Фанхас, — это наваждение c Золотоволосой, приходящей ко мне, меня совсем заело. Я тут против греха соорудил себе твёрдое, с выпирающими гвоздями чернецкое ложе, терзающее тело, и сплю на таком ложе. Но и чернецкое ложе не помогает. Думаю, оно создано дурным дэвом. Для злого сладострастия. Гвозди чернецкого ложа так впиваются мне в тело, будто хотят пробудить мою уснувшую плоть… И теперь я постоянно вижу во сне целые грешные картины — такие, каких у меня на сук ар ракике — невольничьем рынке и то не было. Как в истому впадаю я, изъязвляя своё тело, не то в полусон, не то в бред. И ощущаю я будто не боль, а прикосновение тёплое, и чувствую, как дрожит, переполняется теплом моё собственное тело. И в размыве сна, как в расходящейся речной волне, се всё вижу. Понимаешь, ну её…
Время мести! Епископ Памфалон делал вид, что по-прежнему молится. Его пальцы крепко сжали серебряный кинжал, а его взгляд косил на телохранителей Фанхаса.
Фанхас же вдруг истошно закричал:
— Да вот оно! Вот идёт наваждение!..
И Гер Фанхас стал подкидывать вверх, в дымник, золу из очага. Горсть за горстью, так, что, распространившись по юрте, встало над Фанхасом и Памфалоном облако серой пыли. Мягкие белые ладони Гера Фанхаса на глазах Памфалона превратились от горячей золы в кровавый, рваный, жирный кусок мяса, со слезающими лоскутами кожи. Памфалон отшатнулся от этого мяса, отвёл глаза вверх и… увидел женские волосы. Из дымника Фанхасовой юрты прямо на кучу золы медленно пробивались, колеблясь, жёлтые волосы…
— Вот, епископ! Видишь? Эти волосы!.. Ты видишь волосы?
Памфалон испугался, сник. Хотел бежать. Но ноги его отекли, не двигаясь. Он хотел, спасаясь от Сатаны, быстро положить на наваждение мелкие кресты. Но пальцы его не складывались в символическую щепоть. И, чем больше он тянул, тем всё больше ему казалось, что сейчас из столба света, пробивающегося вместе с волосами через дымник, к ним шагнёт золотоволосая женщина.
Он знал предание. Золотоволосая Алан Гоа приходит через дымник вместе с первым солнечным лучом для того, чтобы подарить хазарам Небом Рождённого! Но что до неё ему, манихейскому, христианскому епископу, гражданину другой, не кочевничьей, а Всея Манихейской Земли?! А что, если Алан Гоа вправду спускается сейчас в юрту Фанхаса, потому что в этом городе только один меняла из всех бывших кочевников ещё имеет какую-то силу? Но тогда действует епископ Памфалон! Призови спасительную молитву и прогони, уничтожь Алан Гоа, чтобы хазары никогда не возродились! Ну же! Вот будет месть твоя!..
Обезумевший Гер Фанхас бросил кидать в жёлтый столб света золой. Повалился рядом с Памфалоном на колени и упёрся лбом в золу. Памфалон снял крест с груди, размашисто перекрестил Фанхаса. Спаси от предприятия супротивного, от ослепления и омрачения!..
И в этот миг, находясь под крестом, Гер Фанхас вдруг совершенно внятно и твёрдо произнёс покаяние:
— Прости меня, Воислава! Это ты ко мне пришла! Каюсь тебе, я волхвов белым конём, Орок Сингула, одарил! Так Серах мне приказала: «Найди белого коня Орок Сингула, на котором Воислава ездила. Конь к ней привязан и обязательно, когда волхвы в хоровод девичий белого коня за невестой пустят, он к Воиславе ласкаться пойдёт. Подари волхвам коня Орок Сингула, а там всё в руках божьих». Прости меня, Воислава! Это я так подстроил, что тебя Хорсу отдали и кочевники без Таны Жемчужины остались. Теперь Эль совсем развалился. Надежд, что кочевники воспрянут духом, уже ни у кого нет. Я виноват, Воислава. Но не по злобе, а по дурости своей всё подстроил. Серах мне за это справу о пользе работорговли выбить через тайные службы Ремесла от Блудницы обещала. А зачем мне теперь справа, когда самой Блудницы—академии завтра не будет? Рушится всё — Барс Святослав на город идёт!.. Зачем я плутовке Серах, как осёл, поверил?..
Жёлтый столб света угас, ровный белый свет залил теперь через дымник юрту. Настало утро, а Гер Фанхас всё ещё пахал своим жирным лбом горячую золу и всё ещё что-то бормотал. И Памфалон, понял, что Фанхас не ловчил, а в самом деле сдвинулся умом.
Епископ Памфалон хотел исчезнуть. Но что-то внутри остановило его. Он надумал воспользоваться странами Фанхаса. Гер Фанхас сам в злодействе своём признался. Будет бояться теперь страшно, что растерзает его народ, если узнает, кто лишил хазар надежд, погубив Алан Гоа. Можно теперь цену за молчание с Гера Фанхаса потребовать. А что, если потребовать от Гера Фанхаса помощи в деле, о котором просит Базилевс?!
Совершенно бесцветным голосом, какой только может быть у тени, епископ Памфалон начал будто бы спрашивать:
— Гер Фанхас! Почему ты не даёшь царю Иосифу денег на подкуп Хана Кури? Ты бы помог! Базилевс уже прислал большие дары печенегам за череп Святослава. Но Куре мало — Куря требует, чтобы хазары тоже его поход оплатили. Куря готов пойти на Киев, Осаждать город, однако, боится, слишком сильна стала Русь. Куря готов стеречь Святослава, но хану печенегов, чтобы прокормить войско в долгой засаде, нужно очень много припасов. Куря сказал послам Византии: «Припасы могли бы мне дать хазары…»
Памфалон сказал так и уже в следующее мгновение по сразу протрезвевшему, круто изменившемуся облику Гера Фанхаса понял, что совершил что-то не то. Гер Фанхас, дотоле млевший в своём наваждении и сладострастных угрызениях совести, даже не позвал на помощь гулямов. Сам резко поднял с корточек всю свою мощную сальную тушу:
— Денег требуешь для Кури? Хочешь, чтобы хазары подкупили печенегов? Паршивый пёс! А ты подумал, что будет потом с нами, иудеями?! Что, если русы дознаются, кто дал денег на подлое убийство?
Гер Фанхас хлопнул в ладоши — и рядом с ним сразу выросли четыре гуляма-телохранителя.
— Слушай, епископ! Я разгадал замысел византийской лисы. Ты сам понимаешь, что Святослав будет здесь, в Итиле, много раньше, чем дойдёт до него весть из Киева о том, что там под стенами появился куря со своими печенегами и ему надо срочно спешить назад. Если при возвращении в Киев печенеги из засады и убьют Святослава, то уже после нашей гибели. Уловка с Курей нужна византийской лисе, чтобы после разгрома Хазарии Барс Святослав сразу не двинулся дальше, на Царьград. Ты служишь не Родине, а Константинополю, предложив мне подкупить Курю. Но потом и Константинополь ты тоже продашь. СЫН ВДОВЫ! А, что?! Задрожал? Думал я не знаю, кто тебя поставил к нам епископом. Жалкий глупец! Я всегда спрашиваю отчёта у Иосифа, на что он тратит мои деньги. Даже когда он приобретал для манихея кафедру здешнего епископа, он дал отчёт своему сайарифе — банкиру…
Памфалон съёжился, он хочет снова превратиться в тень, в маленького человека, каким прибыл в Город-на-Реке этой веской. Он понял, что переступил… Гулямы схватили Памфалона под мышки в подняли на воздух — легко, без всяких усилий. Так, как поднимают «ничто». Памфалон дрожал. Гулямы подержали для острастки епископа на весу и поставили на ковёр у выхода из юрты. Серой тенью, будто не Памфалоном (Из Всех Родов), а снова Памфамиром (Всего Лишённым), выскользнул епископ из шилтесутай кер, от Гера Фанхаса. Фанхас опять, как когда-то в детстве, снова его раздавил, опять размазал в грязь и даже отпустил его, настолько он его не боялся.
Епископ отошёл от юрты в степь и в изнеможении опустился на колени. Быстро светало. Дохнуло ветром, и епископ с ненавистью пытался заткнуть пальцами себе ноздри. Он ожидал нестерпимого запаха полыни. Но ненавистного запаха не пришло. Тогда епископ а растерянным беспокойством огляделся, стал щупать руками стебли вокруг себя и вдруг с жутковатой радостью понял, что заболела кормилица хазарского скота кунгаулсун (высокая трава жёлтая полынь). Она не успела окрепнуть за ветреное, засушливое лето, не набрала соков к зиме и теперь мертвела на глазах, увядая не на зиму, а навсегда. Чернели и будто обугливались её многолетние толстые стебли, обещая хазарам зимой снова бескормицу и падёж скота. А её однолетние тонкие стебли стояли с засохшими и так и не давшими плодов кроваво-красными цветами, словно кунгаулсун сама не захотела продолжить свой род и решила умереть вместе с хазарами…
И засмеялся епископ над всеми ними вместе с Фанхасом. И кончился перепуганный маленький человек, Всего Лишённый, жалкою тенью вернувшийся в него, и снова вселился в епископа гордый Из Всех Родов. Как под звон колоколов, шагал зеленоризный епископ по больной кунгаулсун. Топтал её, принёсшую ему на чужбине в Византии столько мучений своим зовущим сюда, домой, пряным, терпким запахом. И собственная огромная зелёная тень, простёршаяся над поверженной пахучей травой, в эти минуты сладострастного вытаптывания мучительницы вырастала в его собственных глазах до тени рока над всей Хазарией.
Епископские зелёные ризы остались теперь единственным воспоминанием о зелени среди ржавого тления, и Памфалону показалось, что на их пронзительный зов теперь-то откликнутся все, кто хочет выжить. Он возомнил, что, как стадо быков на красную тряпку, так кинутся сейчас все к зеленоризному поводырю о единственной мольбой:
— Выведи нас, пастырь! К великому единому пророку Мани веди нас, детей вдовы, бедных детей природы, брошенной солнцем!
Ему представилось, что вокруг него одни «дети вдовы», он кричал:
— Но вот мы дождались своего: выжгли траву, чтобы вместо проклятых сладостных запахов рожденья, вместо недоступных нам слов «род», «родство», «Родина» — ведь они тоже происходят от рожденья! — здесь вокруг пахло только гарью. На горелом поле, освобождённом от предрассудков памяти, истории, отцовства и материнства, мы потом посеем одного нашего бога Айн — Ничто! По гари обильные поднимаются всходы! И с этими всходами одному Айн отдадим мы эту землю. Создадим Всея Манихейскую Землю. Я сам давно уже не хазарин, а сын Всея Манихейской Земли. И я приходил устранить своего предшественника, потому что тот забыл об интересах Всея Манихейской Земли. Не так он сеял. Не то сеял. Не мог сеять. Не хотел сеять! Убоялся гари?! А я совершил то, что мне было поручено, занял епископскую кафедру и теперь создаю на гари Всея Манихейскую Землю для всех вас… Слава человека яко цвет травный: изсше трава, и отпаде цвет. Работорговец Фанхас со сросшимися бровями был ко мне безжалостен. Оскопил меня — свой живой товар, потому что от оскопления живой товар поднимается в цене. Там, на райской чужбине, в святом городе Новом Риме, каждую ночь, едва я засыпал, я бежал по мягкому жёлтому песку, убегая сюда, на эту реку. И ступни мои всё больше погружались в песок, затрудняя бег, утопали в осыпавшемся песке всё глубже и глубже, и вдруг что-то случалось с моими ногами. Выбираясь из песка, они словно обдирались, становились всё меньше и меньше, пока не превращались в совсем маленькие, детские. И тут сразу я слышал… своё имя. Не Памфамир (Всего Лишённый), а то, какое дала мне на Итили-реке моя мать. Моё истинное имя кричалось мне вслед, и я слышал его. Слышал, хотя и разобрать, как оно звучит, не мог. И я невольно замедлял свой бег, приостанавливался: не оттого, что увязли в песке мои детские ступни, а только чтобы разобрать своё имя… Утопая босыми ногами в песке, мальчик бежал от работорговца, догадавшись, что тот хочет отвести его на сук ар ракик. Однако собственный отец позвал мальчика по имени, и мальчик остановился. С тех пор мальчик не мог вспомнить своё имя, но каждую ночь снова и снова бежал там, на чужбине, по красному песку, чтобы насладиться звуками своего родного имени, пусть даже уже не разбирая его смысла… За именем своим вернулся я, Памфамир (Всего Лишённый), сюда, в родные пределы. Но что увидел? Потеряно моё имя навсегда, как потеряны имена всеми вами, хазарами. Кто вы ныне есть и кто завтра будете? Не знаете сами, как не знаете, будет ли завтра существовать Великий Хазарский Каганат, потому что вытоптали «дети вдовы» хазарскую кунгаулсун — высокую траву жёлтую полынь. Что же теперь? Скажу вам: «Лучше сиротство, чем гибель! Что вы цепляетесь за Родину? Живут же иные народы в рассеянии… Выжжем здесь всё, пока не перезаразились всеми болезнями с чумного места. Выжжем здесь всё! Забудем всё, как я, свои имена. Создадим великую гарь. А по гари потом посеем новую траву для Всея Манихейской Земли!»
Памфалон нагнулся, достал кремень, поджёг подсохшую осеннюю траву. Подхватив длинные полы своих одеяний, побежал он затем прочь от гари, — прочь от соборных стен, от острова, от Города-на-Реке.
Он бежал вдоль реки по песку и чувствовал, как бежать ему становится всё легче и легче. Ступни его проваливались в песке, но внутрь его всё свободнее и шире входила необъяснимая лёгкость, и начало плыть вокруг, как будто бы эта лёгкость хотела оторвать его от земли, а он цеплялся ногами за песок, старался зарыть глубже в песок свои ступни, чтобы его не подняло.
Его нашли в тот же вечер, уже порядком изъеденного шакалами, и равнодушно отдали доклёвывать воронью. Нашедшие его стражники арсии даже не польстились на его зелёные ризы — базар был закрыт.
День тридцать четвёртый. «Запоздалое раскаяние гера Фанхаса»
Из-за чёрной занавеси в Третьем храме неслось:
— Всезнающий дух божественного слова! Сочини разумно печальные песни, чтоб мы плачевным голосом оплакали тягостную потерю нашу. Сокрушение великое надвинулось на наш Итиль, Город-на-Реке, и на всю Хазарию. Мир обратился в горечь, хищные звери ожидают за воротами, готово разрушиться Хазарское славное царство, и вот-вот погаснет луч дивной нашей власти… Ах, сами вырыли мы бездну для невозвратимой потери и злосчастного кочевника ввергли в неё. Дух заблуждения оказался в нас, и тщетно теперь скрываться нам от козней смерти… Ах, сидел наш Управитель Богатством при Кагане, как лев в берлоге. А мы все сидели при нём. Ни властители родов и никто из князей не поднимали на нас руку, и всем нам было одинаково хорошо и благополучно за спиной могущественного Кагана. Но возгордились мы и назвали Управителя Богатством царём. Второго сделали Первым. Теперь постигает нас несчастье! Князь Севера ополчился на нас, не стерпя нашей славы… О люди, неужели отлучился от города хранитель, и высшая помощь нас отвергнет?! Князь Севера Барс Святослав погубит Иосифа, нашего льва?!
Гер Фанхас услышал это в Белом храме, куда на другое утро пришёл после того, как протрезвел от искушавшего его наваждения с помощью епископа Памфалона.
Он уже знал о том, что Памфалона сгрызли шакалы, и считал, что это было для него самого знаком. Мол, не бегай, Гер Фанхас, по богам и священникам. «Все боги равны, как проповедовал когда-то еретик Вениамин, а все священники — на вкус одинаковая падаль, когда попадают к шакалам. Так какая разница, где, в каком храме лежать ничком или ползать на коленях? Раз уже нельзя без храма, то выбирай, какой ближе… Не ходят же люди по нужде далеко?!» — так грубо любил говорить Фанхас. И он посмеялся над участью Памфалона. Он всегда злорадствовал униженью тех, перед кем падал ниц прежде.
Гер Фанхас, лёжа на полу посредине Белого храма, возмущался молитвой, которую желторизные голосили из-за чёрной занавеси. За занавесью, как все в городе полагали, хранились священные реликвии из Второго Соломонова храма — ковчег, шатёр и священные сосуды. Как все в городе, Фанхас сам ценности не видел. Предание передавало, что ещё прадед Иосифа, управитель Обадий, по чудному промыслу нашёл в пещере на Кавказе, на берегу моря, ковчег, шатёр и священные сосуды, привёз их сюда, в Итиль, построил для них храм и положил их в красном углу храма, отгородив чёрной занавесью, дабы простолюдины не испачкали ценности своими взглядами. С тех пор допускались лицезреть ценности только желторизные. И те молитвы, которые требовали особого благочестия при их исполнении, — а значит, благостного созерцания ценностей — желторизные пели народу всегда из-за занавеси. Гер Фанхас, как он ни был могуществен в городе, оставался с народом — за чёрную занавеску, к ценностям, не рвался. Раз положено только жрецам их созерцать, то пусть так и будет. Но сейчас его подмывало лично пойти за занавес и всыпать пару горячих желторизным, потому что явно не тем вдохновились они сегодня от ценностей: сплошное уныние неслось на Фанхаса из-за чёрной занавеси. «Ну, Барс Святослав вошёл в пределы Хазарии. Злосчастие несёт. Война началась. Но зачем народу о том, что война началась, кричать?! Зачем панику среди мелких людишек сеять?! Вот соберётся Великий Диван — совещание Людей Силы при Управителе Богатством Иосифе. Посовещаются, рассудят богатые и сильные, как быть, что делать. Припрячут богатство. Купцы капиталы свои в другие города и страны переведут, а уж вот тогда можно будет и мелких людишек к защите Отечества призвать. Им-то всё равно гибнуть…»
Гер Фанхас шевельнулся на полу, попытался сменить позу. За последние месяцы, готовясь к голоду, он, и прежде будто из сальных шаров состоявший, вовсе оплыл. Брови густые, лохматые, — как их все боялись на суд ар ракике! Теперь он бровями полысел, а телом столь налился, что вот сейчас с превеликим трудом завёл за спину ладошку. Сделал знак телохранителям, чтобы повернули его. Вообще-то рабов в Белый храм не пускали, однако для своих двух рабов-телохранителей Гер Фанхас добился у Блудницы-академии разрешения. Вынесла Блудница постановление, что, мол, так же, как желторизные состоят при ковчеге, шатре и сосудах, так рабы-телохранители Фанхаса должны состоять при его благочестивой мудрости безотрывно. Сейчас телохранители узрели Фанхасово шевеление ладошкой, нагнулись, напряглись, будто поднимали огромную бочку с натопленным салом; одним махом поставили Фанхаса на ноги и отступили назад.
На маленьких ножках, размахивая маленькими ручками, встала тяжело посреди Третьего храма огромная клёклая туша, а не человек. Сейчас эта туша, как бочка обручами, стянута борцовскими ремнями, из-под которых студнем выползло-провисло, себя выказывая, бледное тело, потому что другой одежды, кроме ремней под расстёгнутым халатом, на Фанхасе не было. Маленькие ручки засуетились-заблуждали по телу, пробуя запихнуть назад выползшие из-под ремней грозди сала. Однако ничего у Фанхаса не выходило, и потому сейчас, стоя посреди храма, среди коленопреклонной толпы верующих, он, вместо того, чтобы досадовать на жрецов, не то певших, уж стал досадовать на военные ремни. Носил их когда-то Фанхас, когда кочевником был и на ковре среди бордов-тяжеловесов любил помериться силою. Теперь он хотел этими старыми своими борцовскими ремнями всем напомнить, что он происхождением самый, что ни на есть, свой. Недаром ведь пишет он в накладных на рабов, поступающих на рынки Халифата, Византии и Запада: «Товар от Фанхаса Ал Хазари»! «Я свой! Я хоть и перекинулся к другому богу, но телом свой! Смотрите: я как боко — силач… Вот я халат расстегнул: все на ремни мои смотрите!»
Но сегодня ни борцовские ремни, ни даже жир (вековой предмет зависти всех кочевников!) уже похоже ни на кого в толпе в храме не действовали.
Желторизные за чёрным занавесом завопили ещё громче, ещё плаксивее: «Теперь постигнет нас несчастье. Барс Святослав ополчился на нас…»
И не выдержала печень у Фанхаса (хоть перешёл он к другому богу, но сохранилась у него твёрдая печень), поднатужились маленькие ножки, повернули шары, составлявшие Фанхасово тело, и сказал одному из своих телохранителей Гер Фанхас сальным голосом:
— Ступай за занавеску! Прикажи моим верховным именем желторизным, чтобы они больше вовсе не пели. Заткнулись чтобы!..
Это был самый его лучший раб, иудей, которого Фанхас едва не отпустил на свободу. Очень исполнительный. Но перекосило лицо раба, и не двинулся тот с места. В расширенных зрачках остановился страх. Как можно кому-то из народа, а тем более рабу ва священную занавеску?
— Ступай, раб! Не будет тебе от Неизречённого бога никакой кары. Ты же не человек, ты — раб! Господин твой один в тебе волен и за тебя в ответе. Ну!..
Теперь Фанхас ждал, пока смолкнут желторизные. На полуслове ли они запнутся или до конца молитву пропоют?
Но желторизные всё голосили, а посланный раб внезапно выбежал из-за занавески:
— Господин мой! Украли у иудеев ценности! Одни желторизные там, за занавесом. А ни шатра, ни ковчега, ни жертвенника — ничего нет. Их украли! О горе! Смилуйся над нашим городом, неумолимый Бог! Обокрали в нашем городе самого Бога! Божью утварь всю украли!..
Фанхас сморщился; на что уж искушён был в жизни, а и он не сразу пришёл в себя. «Неужели вправду уже украли?» Почему бы я эти ценности куда в надёжное место не прибрать, коли в городе страхи?.. Однако кто бы на такое без него, Гера Фанхаса, мог решиться? Разве не он в последние годы, почитай что один, храм содержит? Нет, никто не обращался к нему по поводу припрятывания ценностей. И тогда внезапно подумал Фанхас: «А если и воровать-то никогда тут нечего было?.. Если ещё от Обадия тут одна занавеска?..» Так подумал Фанхас, и холодно стало его печени настолько, что будто иголками ледяными её прошило. Перебегал в своё время к другому, более сильному богу, а оказалось, что перебежал — к пустому месту.
Оглянулся Фанхас на народ в храме. Сказал, едва приоткрыв рот, будто выдавил клей из щели:
— Что ты мелешь, жалкий раб? Не кричи, глупец. Не дано каждому мерзкому рабу лицезреть святое. Оттого не разглядел ты ценности.
Теплилась у Фанхаса надежда, что хитрая Серах святыни могла предусмотрительно укрыть. Назад, в пещеру до новых сроков отвезти… Но раб уже не мот остановиться. Охая, кричал на весь храм:
— Украли!.. Ах, люди!.. Вот она нам, кара божия! Сколько уж знамений было. И «голый дэв» с таботаями ночью в город въезжал, и звезда над Третьим храмом стояла. А вороты-то теперь каркать и вовсе не перестают. И вот от нас Бог ушёл я вещи свои забрал.
Гер Фанхас раскрыл рот, но будто клей во рту затвердел, не хотели из щели рта выдавливаться слова. Ах, какое горе иметь сообразительного раба! Проколол весной ему Гер Фанхас при всей Иудейской Академии—Блуднице шилом ухо. Жаль, что печень тогда не проколол… Напрягся всем телом Фанхас, выдавил-таки из себя слова к другому своему телохранителю:
— Помоги глупцу этому! Видишь, Сатана помрачает ему разум. Хочет душой его завладеть. Не дай ему безумному отойти в иной мир. Укороти его время, ну!.. — маленькая ручка Фанхаса зашарила-засуетилась у себя за поясом, протянула другому телохранителю тонкий, как прут, нож…
Когда труп бегавшего за святую занавеску раба опустился к ногам Гера Фанхаса, вздохнул Гер Фанхас, сказал убийце-телохранителю громко:
— Так-то вот! Ты, убийца, не слишком разорил меня тем, что прикончил сумасшедшего. Однако деньги надо беречь. Напомни мне, чтобы я непременно получил цену за этого убиенного моего раба с желторизных. Я надеюсь, что если по совести платить, то они две цены за моего телохранителя должны дать, раз уж такое сумасшествие из-за них с ним вышло…
Гер Фанхас ещё раз вздохнул и, тяжело повернув на маленьких ножках свою грузную тушу, сам потащил её, наступая на людей, через толпу на полу храма к выходу.
Убийца же бросил кинжал с тонким лезвием на пол храма, схватил за ногу труп своего товарища и поволок его вслед за Фанхасом. На белый деревянный пол сочился тонкий кровавый след. Струйка, сливаясь, переплеталась с такими же, но уже давно потемневшими следами, оставшимися от жертвования непорочных агнцев.
Гер Фанхас, выйдя из храма, сел в носилки. К городу подступала полночь. Но темноты не было. Город гулял. Похоже было, что разорили сегодня люди все склады на свечном базаре, потому что где только не теплились огоньки. Прилепленные к домам, горели восковые фигурки. Беспорядочно двигались факелы. Трещали, дымя, деревянные башни, набитые хворостом и паклей.
Носилки на плечах рабов раскачивали огромное тело Гера Фанхаса на наплавном мосту. Навстречу слуги тащили, посадив в плетёные корзины, хмельных богатых хозяек. Иные же (из тех, кого некому было подобрать) уже просто валялись на мосту, и носильщики вынуждены были переступать через них. Несколько женщин в красных кожаных шароварах образовали вокруг носилок Фанхаса хоровод и бессвязно пытались что-то пропеть. Хотя, по обычаю, в Итиле в красных кожаных шароварах ходили доступные женщины, но было похоже, что сейчас в этом наряде не стеснялись щеголять многие. Мужнины обнимались, что-то мыча, и разорванные пёстрые халаты соседствовали с такими же порванными и испачканными белыми рубахами, урядом были мусульмане, христиане, язычники, иудеи. «Это правильно я решил, приказав отдать народу все винные запасы! — самодовольно похвалил себя Фанхас. — Купцы — отцы города в смятении. Царь в страхе. А пьянь плевала на Святослава. И пока в городе будет хоть всё спокойно…»
Гер Фанхас откинулся на подушках. Носилки на плечах рабов раскачивались мерно, как люлька, толкаемая материнской ногой. Гер Фанхас любил носилки в всегда торопился забиться в них, когда у него возникали неприятности и ему хотелось забыться. Может быть, это было с ним потому, что покачивание носилок напоминало ему его детство в кочевничьей юрте на колёсах. Он прикрыл глаза. Пропавшие из Третьего храма ценности не давали ему успокоения. Неужели единоверны без его ведома переправили их уже куда-то? «Дети вдовы» хазарам—иудеям не доверяют?! Или ценностей не было. А ему, прозелиту, не сочли нужным об этом сказать. Впрочем, «дети вдовы» обманывают и своих. А со мной? Не станет козёл бараном, сколь ни взвивай ему рога! Не допустят коровы в своё стадо козла, сколь ни растолстей он!.. Гер Фанхас вдруг припомнил верного своего человека из желторизных, который когда-то предупредил его: «Не ходи, Фак Бука (так тогда ещё звали будущего Гера Фанхаса), в наш храм. Зачем он тебе? Небо своё Синее над собой потеряешь, а потолок деревянный (тот, что в Третьем храме) не обретёшь: кто перебежчику доверится?!» Эх, сейчас бы спросить правду у того верного человека! Увы, нету давно того верного человека среди желторизных. Посчитал боко (силач) Фах Бука того верного своего человека за завистника и вместе е именем своим в старого друга доверительно желторизным отдал. А вот сейчас ясно, что еря отдал. Тогда, сделав ему суд чести, утопили желторизные за предательство бога того человека. А сейчас как бы он Фанхасу помог! Глазами бы его в Третьем храме был! И не чувствовал бы тогда себя Фанхас постоянно, будто он весной среди бела дня в воде сидит, только вымылся, да ещё вымытую одежду разостлал. Охальник, которого Небу за насмешку только и остаётся как ударить молнией за то, что не дождался дождя для всей Степи, один захотел вымыться. А ведь правда: один тогда захотел Фах Бука, впереди всех, в золоте искупаться… Маленькая рука Фанхаса забеспокоилась, нашла в занавесках щель. Из щели его рта выдавилось:
— Стойте, рабы!.. Стойте — не качайте больше носилки. А ну, бегом к Иосифову дворцу…
Больше Фанхас уже не задёргивал занавесок в носилках. Он лихорадочно думал о ценностях. Он решил, что его единоверцы, не дожидаясь исхода, решили тихо смыться без него, Фанхаса. «А-а, нет, мои золотые! Вы теперь не сделаете меня снова кочевником Фах Букой, которого можно бросить дожидаться молнии. Дудки! Ежели даже на вашем чёлне, на котором вы собрались отгрести от этого берега, не так много места и вы думаете, кого оставить, — то не меня!.. Я тоже знаю завет. Сказано: «Я видел под солнцем, что не проворным достаётся успешный бег, не храбрым — победа, не мудрым — хлеб, и не разумным — богатство, и не у искусных — благорасположение, но время и случаи для всех». Я поставил на откровение случая. Я и поймал свой случай, перейдя к вашему богу. Я схватил случай за гриву. Я был боко — силач у себя в чёрном табуне. Но я сообразил, что белому табуну, забредшему на нашу хазарскую реку, нужно несколько скакунов не только своих мастей, чтобы не распугать доверчивых молочных кобылиц одной своей мастью. А теперь, когда я втёрся в ваш белый табун, я уже от вас не отстану…» И вдруг противоположные мысли: «А может, самое время отстать? Вон он слышал, что иные из купцов, что прежде в иудейского Неизречённого бога верили, стали в христианский храм похаживать. Да и сам Иосиф между тремя богами разрывается. В пятницу — в мечеть, в субботу — в Белый храм, в воскресенье — в церковь!.. Уж не присматривается ли хитрый Иосиф, где «рыбе» глубже окажется?.. Этим «детям вдовы» разве можно верить. Оборотни!» И впервые пожалел Фанхас о преданных родных Синем Небе, Жёлтом Солнце и Зелёной Степи. Впрочем, замечено, что иные люди начинают жалеть о родном только тогда, когда на чужих харчах солоно похлебают. Чего ему надо было? Ну, был он в юности Кара Хазаром (чёрным хазарином). Букой. Весёлым Букой! Смелым Букой! Сильным Букой? Боко (оглобля, дышло, силач) был Фах Буна! Он и тогда уже был до того тяжёл, что, когда, перенося ногу через лошадиный круп, вставал в стремя, конь его, хоть и был приземист и мощён, покачивался. Собирались девушки в городе поглазеть, как трутся шары сала друг о друга — те, что составляли Фах Буку. Однако — было нже такое! — любили его за его толстые щёки и густые, мохнатые, тогда никого не пугавшие брови. Девушки запросто подходили к общему любимцу Фаху Буке и сами целовали его, и почему-то никому в толпе не приходило в голову, что этакой распущенностью девушки могут покрыть себя позором, обесчестить своих отцов. Ведь это же они не кого-нибудь простоволосого, увальня, а самого Буку, народного любимца, целовали!
А если собирались за хлебным набизом мужчины, то и тут непременным украшением сборища был Фах Бука. Не он сам, так хотя бы анекдот про него! И всегда добрый анекдот, потому что грязь к Фахбуковым шарам как-то не приляпала; казалось, что само Небо выбрало его на добрые поступки. И сам Фах Бука тогда, наотрез отказываясь зарывать в землю добытую в походе добычу, приговаривал: «Те, кто в зарытии золота в землю усердствуют, лишены доли разума, так как между землёй и закрытым кладом нет разницы. При наступлении смертного часа сокровища не приносят пользы. А с того света возвратиться за ними невозможно. Поэтому я свои сокровища буду хранить в сердце и всё, что в наличности, отдаю нуждающимся, чтобы прославить своё доброе имя!»
Вот как он прежде говорил!.. И всё бы так и продолжалось, коля бы однажды не оказалось среди распоряжавшихся его добром несколько дошлых купцов — рахданитов. Эти рахданиты, взяв у Фаха Буки захваченные им в воинском походе сокровища и рабов, потом вернули Фаху Буке цену вдвое, объяснив, что им удалось удачно перепродать его товар за морем… После этого удивительного случая Фах Бука стал ходить в походы специально за рабами. А затем и сам стал перекупать и перепродавать рабов, И уже больше никогда не раздавал своего добра, а стал быстро копить его… А когда некоторые из магов на родном капище однажды осудили Фаха Буку за жадность, то он, не раздумывая, сменил бога. Стал прозелитом в иудействе, Гером Фанхасом, и ещё больше преуспел. Самым богатым человеком, сайарифа (банкиром), стал. Однако вот теперь, похоже, продали его друзья по новой вере.
Носилки остановились. По площади возле белой башни и дворца даже сам Каган не разъезжал в носилках. Стояло здесь много святилищ. Теснились они, отталкивая друг друга, как люди, локтями. И, как кипяток, крутилась между святилищами разношёрстная хмельная толпа.
Подталкиваемый сзади телохранителем, Фанхас, как большая бочка с рыбьим клеем, вкатился в хмельную толпу. Оскалил мелкие зубки. Были у Фанхаса при большом теле не только ручки и ножки, но и зубки мелкими! Или, может быть, были они обычными, но для необъятного тела всё равно казались недостаточными, слишком уж маленькими?! Сейчас Гер Фанхас вдруг сглотнул слюну. У него всегда, как у верблюда, когда тот ярился в гневе, начинала вдруг обильно течь слюна.
— А ну, падайте все ниц!.. Светлый там Кандар-Каган — главнокомандующий, царский сайарифа — банкир, староста всех базаров, главный сборщик налогов идёт! — кричали телохранители Фанхаса. Но хмельной людской водоворот по-прежнему варился, как кипяток. Никто и не отстранился даже, чтобы пропустить Фанхаса. И разговоров своих никто не прервал. Разве что иные голос повысили, когда между ними втолкнулся Гер Фанхас. Продолжали, кричать через него, как через бочку, и в подкрепление своих доводов хлопали звонко кулаками по живой бочке.
Вот от этих-то неожиданных шлепков и разъярился Фанхас. А вот теперь война на носу!.. А из него, Фанхаса, какой же полководец?! Ему бы на место Кагана теперь! Он место Кандар-Кагана только как ступеньку принял. Каган! Это могло ему подойти. Но не прошла у него штука с Алан Гоа. Сам о своё же наваждение споткнулся. Сам-то поверил. Другие — нет. Не сумел про святость свою слух пустить. Сам знамение придумал — сам и перепугался. Вот как бывает…
В толпе по-прежнему кричали через Фанхаса, как через обыкновенную бочку.
И какие-то дикие не то были, не то сказки кричали, — хотя Фанхас откуда они, эти сказки, знал и мог бы ещё добавить от себя к каждой сказке подробности…
А через него, как через бочку, испуганно оповещали:
— Я видел русов. Они сплавляются из Вятичей.
И тут же ещё более испуганно:
— Да не ври ты! Ежели бы ты их видел, то не было бы тебя тут… Давно бы за море удрал со всеми пожитками.
— Да нет, плывут они. И сверху тьма лодий через волок со стороны Дона на нашу Реку переправились. Ушкуй за ушкуем. А впереди, на первой лодии, молодой князь Святослав, как барс.
Кто-то пытается перебить:
— Люди! Да не видел никого этот болтун! Не понимаю, почему болтунам некоторым, за море никогда не ходившим, вовсе не рахданитам, а серым людишкам хочется тоже изображать, что они что-то знают, кого-то видели! А скажи-ка: какие на вид русы?.. Молчишь?..
Огрызается тот, кого обозвали болтуном:
— Может, я и не видел, но свояк мне точно рассказал. Ты сам-то…
— Чего я сам-то? Да я приказным с самим Герои Фанхасом ходил. В Таматархию… Так вот там русы подобны пальмам. Белокуры, красны лицом, белы телом. И знаешь, русы всегда хорошо одеваются и благородны, как ромеи. Они не носят ни курток, ни кафтанов. Но у них мужчина носит кису, которой он охватывает одни бок, причём одна из рук выходит у него из-под кисы наружу. А по телу, от края ногтей до шеи, наколото у некоторых из них целое собрание деревьев, всяких картин и тому подобно…
— Не бреши, наколки только у некоторых…
— А я разве говорю, что у всех?.. А ещё скажу, что касается женщин, то на груди у многих прикреплена коробочка из золота, серебра или меди, а зависимости от средств, и у каждой коробочки кольцо, к которому прикреплён нож…
— Э, вот это уж точно!.. Такое мы и здесь у русских девушек видели… Тана Жемчужина, Воислава, с таким ножом всегда ходила! К ней из-за этого никто с непристойностями не подходил…
— Да, Воислава красивая была! Жаль, что её Хоро к себе на небо забрал!
— Не богохульничай! Молчи лучше!
— А я и молчу. А ещё у русских девушек мониста из серебра или из золота.
— Это у тех девушек, что из Таматархии! У русов разные племена!
— Ха! Сейчас они все объединились! Под молодым князем, который, как барс, ходит, все собрались, и все к нам плывут…
— С верховьев Итили спускаются, и с Дона через волок к ним подмога подошла. Развеют они в прах наш город, когда придут…
— Э! А я слышал от заморских купцов, что в Таматархии есть дом, который построил один из владык русов на Чёрной Горе. Дом тот окружают диковинные цветы разной окраски и разного вкуса, все очень целебные. И у них там огромный идол Зухал, сделанный в виде старца. В руках у старца палка, которой он приводит в движение кости мёртвых из могил. Под правой ногой Зухала — изображения муравьёв различных видов, а под левой ногой — изображения грачей и других птиц…
— Да не заливай ты про Таматархию — Тамань! Я видел русов из Самбатаса — Вышгорода, что возле Киева. На Днепре у них сам был. Они обычные — такие же русы, какие к нам в лодках раньше спускались, пока их стражники убивать не начали.
— Что-то ты сведущ уж очень! Уж не ты ли русам дорогу к нам показывал? Люди, хватайте вот этого — он русам к нам дорогу показывал!..
— Да не шуми ты зря! Как я показывал, когда я здесь стою.
— Почтеннейшие, почтеннейшие! А я слышал, что русы, хоть их у нас на крестах распинали, вовсе и не христиане. Так что напрасно сейчас некоторые купцы в церковь теперь побежали. Креститься скорее.
— Русы точно не христиане, они поклоняются огню, а большая часть посевов у них — просо. Когда наступает день жатвы, они набирают в ковши просяного зерна, поднимают к небу и говорят: «Господи, ты снабдил нас пищей, пополни нам её!»
— Скоро все мы сами русов увидим.
— Русы — громадное племя!..
— Русы сжигают сами себя в огне, когда умирает их владыка!..
— Русы вручают всё имущество дочерям, а сыновьям оставляют добыть себе всё мечом.
— Русы идут к нам мстить за купцов распятых…
Вокруг Гера Фанхаса стынет дыхание жарких уст и замораживаются обрывки фраз, и вскрики, и придушенный шёпот, на который перешли не столько из желания сохранить тайну (какая уж тут тайна, раз они близко! Дружина Святослава близко!), сколько от испуга. И от всего этого пахнуло на Гера Фанхаса загробным холодом, потому что все они вместе говорили лишь одним голосом. Но самым страшным для судьбы Хазарского Эля голосом. Голосом билек иркен (толпы), у которой нет ни цвета глаз, ни формы носа, ни рисунка губ, нет и языка, чтобы можно было приказать стражникам вырвать его.
Но вот рядом уже и стражник болтает:
— А я не боюсь русов. Я уже одному из них язык вырвал.
На него набрасываются:
— Да не ври ты, хвастливый Лось. Купцу мирному ты тогда язык вырвал. Буду, отцу Воиславы, — той, которую на небо Хорс взял… Вот теперь попляшешь. Теперь они придут и тебе язык первому вырвут… Я первый покажу на тебя, потому что ты мирных купцов сбижал…
— Ах, не ссорьтесь, почтенные. Ну какое теперь кому дело, что когда-то было. Забудем. Зачем пальцами друг на друга показывать? Все мы вместе!..
— Ага! Оказался волк c овечками вместе. Блеет: «Я не волк — это не я вас, овец, съел. Не выдавайте меня охотнику…»
— Надо всех работорговцев сразу русам выдать. Они объявили сакалабов — славян племенем рабов. Гер Фанхас у Блудницы окаянной даже справу на работорговлю сакалабами просил. Благословение, значит, от ихнего бога».
— В первую голову Фанхаса выдадим. К нему уже и наваждение в виде призрака дочери руса приходило. Золотоволосая! Она предупредила его страшно… Все ведь слышали в городе про это яарин, знамение…
Гер Фанхас поперхнулся. Вот оказывается, как глупая толпа объяснила смысл божественного наваждения. А он-то рассчитывал на понимание. И впервые в жизни Гер Фанхас устрашился. Прежде он приучал себя плевать на страх божий. Ведь как бы он иначе разбогател, если бы страх ответить на кебе за слёзы проданных в рабство держал его за руку?! Его пугали всякими яарин, а он хитро сомневался: «Зачем, если задуматься, всесильному богу предупреждать слабого человека? Разве может человек составить пользу богу? Разумный ищет в другом пользу для самого себя. А богу-то с чего это искать себе пользу в человеке? Ну что богу от того, что будет, допустим, какой человек праведен?.. Что богу от раба божия, который тут, на земле, когда он, бог, там, на небе?.. Ничего не может доставить человек от себя богу, кроме поклонения. Однако поклонение лестно лишь от равного, с которым рядишься! Так неужели бог опустится до состязания с ничтожеством?»
Но так легко было хорохориться, когда у Гера Фанхаса был свой дом в Итиль-городе, когда он мог просто заставить себя не задумываться о загробном. Теперь вдруг всё изменилось. Барс шёл на Хазарию. Бежать от него? Но кто Фанхас будет вне Хазарии? Кто он будет даже со всеми своими деньгами там — где-нибудь в Багдаде, Кордове или, допустим, Киеве?.. Карахазарин — чёрный кочевник! Человек без роду, без племени, перекати-поле, зацепившееся колючками в хазарском квартале чужого города. Квартале, про который люди будут с удивлением спрашивать, почему он называется хазарским. Потому что всего через несколько дней хазар не будет!.. Здесь, на Итили, и никогда нигде уже не будет… Хазар не будет, и родины у него никогда не будет… Сколько он продал отсюда, с этой pемли, мальчиков, девочек?! Сколько вывез проданных в рабство за долги взрослых?! Нет их уже там, в других странах, никого! Исчезли, потеряли себя, даже если в влачат где-то свою изуродованную плоть или, напротив, рожают детей в гаремах каким-то другим народам… И всё это сотворил бывший боко (богатырь) Фах Бука, которого когда-то девушки не стеснялись при всех целовать в толстые щёки… Вот за что — за искоренение собственного рода они его, оказывается, тогда целовали. И что, если не ошиблась толпа в смысле знамения: Золотоволосая из дымника приходила! Чтобы тоже поцеловать его за сатанинское дело?! Дочь Руса приходила с неба, чтобы наградить его за то, что он очистил хазарское поле для русов?
Фанхаса трясла дрожь. Он грубо полез сквозь толпу. Скорее, скорее! Прочь отсюда! Прочь от идолов, капищ, мечетей, церквей, домов собраний! Прочь от богов и прочь от народа!.. Сегодня же он скупит все корабли, какие бы цены не заломили за них!.. Нет, надёжнее скупить верблюдов! Скупить верблюдов — и через степи двинуться в глубь пустыни! «Примешь ли ты меня с моими дарами, жёлтая Пустыня?! Ха-ха! Примешь! С дарами всякий гостя примет. Примет — и ночью убьёт. Разве так сам не поступал, когда вошёл в перепродажный раж?!»
Фанхас торопился. Ремни под халатом, удерживавшие его тело вот-вот рассыплются, грудой попадают на Землю. Внезапно он почувствовал, что толпа, сквозь которую он продирается, уже не сопротивляется ему. Она тоже кинулась вперёд играючи. Подняла и понесла тело Фанхаса, как толстое бревно, с собой.
Над толпой истошный женский голос проповедовал:
— Мёртвые мухи портят и делают зловонной благовонную масть мироварника. То же делает глупость уважаемого человека с мудростью и честью Эля. Сердце мудрого — на правую сторону. А сердце глупого — на левую. По какой бы дороге ни шёл глупый, у него всегда недостаёт смысла, и всякому он выскажет, что он глуп. Есть зло, которое доканает Эль даже под солнцем, — это погрешность, происходящая от властелина!..
Фанхасу показалось, что он знает этот голос, что это кричит зменноволосая Серах. Но зачем же теперь Хатун Серах подбивать билек иркен (кучку народа, толпу) против властелина?.. Или все уже так привыкли к тому, что Серах кричит голосом толпы, что теперь сама толпа, когда захотела кричать, закричала её голосом?.. Фанхас попытался заткнуть себе уши. Он насовал, когда визжала, чего-то требуя от него, жена, Хатун Серах.
Его несло в толпе, как бревно в потоке.
— Мёртвые мухи портят и делают зловонной масть мироварника.
— Ворвёмся во дворец!..
— Пусть властитель даёт ответ!..
— Мёртвые мухи…
— Мёртвые мухи…
С крыши дворца глашатаи трубили в длинные трубы и громко кричали, что великий царь Иосиф идёт навстречу своему народу. Что он решил срочно собрать у себя во дворце Великий Диван, дабы обсудить положение.
Глашатаи были освещены факелами, и в них оказалось очень удобно швырять камнями.
— Мёртвые мухи…
Толпа тоже сообразила, что несёт тело Гера Фанхаса, как толстое бревно. Она и использовала его тело как таранное бревно! Раз!.. Тело Гера Фанхаса раскачали. Два! Им ударили в запертые дворцовые двери.
— Да переверните же бревно! Лбом, лбом бейте! Не ногами — лоб твёрже!..
Двери царёва дворца были дубовые, в лоб Гера Фанхаса раскололся раньше дверей.
День тридцать пятый. «Главнокомандующий Песах — несчастный павлин»
Красив в парадной одежде Песах — красен и золотист, как гордая птица павлин. И уж давно не юноша, а щёки у него — белизна, смешанная с нежным румянцем. Губы нежные, слегка открытые. Брови чёрные, непроглядной черноты, и отдалены друг от друга расстоянием должной меры. Глаза большие, блестящие. Волосы его, от природы вьющиеся, подобны цветку гиацинту. К тому же Песах хорошего росту. А длинные ноги его — всем ногам ноги в «коротконогой» кочевничьей стране. Не может быть некрасивых ни женщины, ни мужчины, коли наделила их природа длинными ногами. Женщине или мужчине с длинными ногами надо только уложить волосы свои под стать чертам лица да с пониманием натуры прочертить брови. «Вот желанный возлюбленный в самой поре! Счастлива та, кому выпадет на долю любить его и быть любимой! Блаженство делить с ним ложе, наслаждаясь и гордясь его красотой. Его женщина ощутит себя избранницей бога», — шепчут про Песаха в городе.
Песах шёл на собрание Великого Дивана через площадь. Там вовсю бурлила хмельная толпа, и он нарочно вошёл в её водоворот, чтобы толпа помяла, потискала. Он чувствовал, что это будет его прощание с городом. «Какие женщины сами прижимаются ко мне, пользуясь тем, что в толпе тесно! У них груди подобны кидонским яблокам — грозят сорвать сдерживающую их повязку, а все формы у прелестниц тан соразмерны и нежны, что кажется, что кости у них способны влажно согнуться!..» — радовался Песах и сладострастно проводил себя языком по небу.
Главнокомандующий без армии, Кандаркаган (заместитель Кагана по военным делам), которому стражники по приказу Управителя Иосифа попросту преграждали дорогу в золотую юрту, где томится сам божественный Каган, — Песах сегодня надеялся, что наконец-то пробил его звёздный час.
Песах входит во дворец Управителя. Он поднимается в диванную залу. Ах, какая зала! Днём и ночью, при факелах, топорами стучали, как чудо, валу сотворили. Семь резных буковых столбов поддерживают занавес над залой. А как раздвинется занавес, то открывается синий, как небо, купол с нарисованным на нём серебряным Млечным Путём и Луной — такой завидной, что хоть речи говори, а хоть перед нарисованной луной, как перед настоящей, в сладостной молитве прыгай.
Под рисованным «небом» трои. Трон этот себе Иосиф не заказывал — старый из Куббы от Кагана забрал. Восседали когда-то в хазармихи (парадном шатре) перед народом на этом троне славные Каганы. Теперь — Иосиф. А кто он? Для посвящённых «детей вдовы» — Мастер. Для непосвящённых — Иша (Управитель) при Кагане. Для молвы, распускаемой за рубеж, — Царь… Ах, ножки и поручни трона из золота в виде плодов граната. Поди разберись, чей знак — Мастера или Кагана. Изголовье золочёными розами увито! И, надо же, как в самом Багдаде, даже и заморская птица даус (павлин) уже вот выпущена. Уже важно ходит возле царского трона! В жёлтых перьях птицы зеленоватый блеск. Красноватый цвет её шейки блистает, переливаясь, подобно каплям весенней росы на полях. Золотоцветная опушка груди ниспадает, подбно жемчугу. Кончик её округлого языка подобен зубу. Испускает птица острые звуки, свойственные голос человеческому, и уже объявлено было, что будет надобно советникам всем прерывать свои советы, ежели накричит царственная птица, потому что один лишь Иосиф выше её. Сейчас осваивается возле трона птица. Ходит, пробует свой заморский голос да искоса посматривает, как раскладывают белые евнухи, присланные Главной женой Управителя Серах, парчевые и шёлковые подушки, чтобы, как положено, не на пол, а каждый на свою подушку расселись приглашённые на совет знатные люди.
А в дверях другой «павлин» уже стоит, — тоже пёрышки на себе чистит. И этот, другой, «павлин» — он, Песах. Он следит за тем, куда положит евнух его подушку. «Ближе, ближе к трону положи! Всех ближе», — громко шепчет Песах и монету для подтверждения своих прав показывает. Серебряный динар. Делает вид Песах, что жалко отдать ему этот динар. Раб всё не кладёт подушку, дожидается, пока кинет ему Песах монету. Кинул. Расстался с монетой Песах. Положена, куда надо, подушка.
Прошла в залу стража. Встала — сабли наголо — по стенам. Изнутри вошёл, сел на трон Иосиф. Согласно введённым правилам должны теперь будут занимать места придворные — не толпой вваливаться, а вползать по одному: чтобы все смотрели и сам Иосиф судил, насколько каждый почтителен.
Иосиф хлопнул в ладоши. Песах первым легко упал на пол, дополз до своей подушки, будто играючи, будто ловкостью своей прилюдно покрасовался. Кому тут заметить, что под одеждой у него нож. Уже сидя на подушке и перемигиваясь с Арс Тарханом (мол, на что не пойдёшь ради честолюбия), наблюдал, как обливаются потом жирные амили. Амили (сборщики налогов) вползали в залу, как черепахи. Поверили, похоже, что по согнутости их спин Управитель оценивает их верность государству. Салары (командующие вспомогательными отрядами, набираемыми в Степи) якобы не явились. Впрочем, Иосиф всегда умел так ловко послать за ними гонцов, что те могли несколько лун искать салар и ни с чем вернуться. Иосиф всегда боялся, что беки и салары подкочуют со своими отрядами близко к городу. Не явились и вожди «домов» (родов). Скорей всего за ними тоже нарочно с опозданием были посланы гонцы с приглашением на Диван. Зато базарганы (купцы, ведущие внутреннюю торговлю) и рахданиты (купцы, ведущие заморскую торговлю) ввалились во множестве беспорядочной наглой толпой. Среди купцов явилось много заморских гостей. Купцы галдели и вели себя, как хозяева.
Песах метнул взгляд на Иосифа: пресечёт ли тот хотя бы для приличия подобное нарушение порядка? Однако Управитель отвернулся, будто не заметил непочтения со стороны купцов.
Песах первым крикнул, выказывая свою преданность Иосифу:
— Да благословится великий Иосиф благословениями, которые превышают благословение гор древних н приятности холмов вечных!
Арс Тархан оглянулся на Песаха, тоже крикнула:
— Да будут благословения на голове Иосифа!
Дальше пошло уже по распорядку.
От амилей крикнули:
— Полчища наших войск и щиты наших богатырей могучи благодаря Иосифу!
— Да будут знамёна наших тифсаров и луки наших воинов покрыты неизменным Иосифа величием!
Иосиф приободрился, выпрямился на троне. Он сам составлял ритуал и теперь был доволен, что всё идёт, как им было задумано.
Сафиры (приказные царя) неустаннно кричали:
— Царь Иосиф — поросль плодоносного дерева!
— Царь Иосиф — дерево над источником!
— Царь Иосиф, твои ветви простираются над стеною.
Наконец. Иосиф будто пробудился от глубокомыслия, встал на троне и поднятыми вверх ладонями остановил крики. Открылись двери позади трона, и служители внесли золотые чаши с воскурениями.
Сладкий дым фимиама пополз клубами по зале, ложился на пол между сидящими на подушках, слеплял ноздри.
— Благословением бездны, лежащей долу!
— Благословением сосцов и утробы!
Вот и особое достижение Иосифа — начались очищающие Диван от скверны службы сразу всех четырёх городских религий. Песах пощупал нож под одеждой. Лезвие жгло, как лёд. «За морем, в Халифате, — думает Песах, — кроме религии победителей, придумана целая система покровительствуемых религий. Там «победители» навешивают разные позорные знаки на одежды «покровительствуемых». На христиан, маджус — магов-зороастрийцев и ибрим—иудеев. Но поскольку чиновниками служат в основном покровительствуемые, то сами победители-мусульмане, приходя с прошениями, лебезят: «Семья моя происходит от вас. Мои предки принадлежали к числу ваших мужей». Здесь, в Каганате, — кто победители, а кто покровительствуемые, запутано. По тому признаку, у кого власть, вроде бы иудаизм — вера купцов и Иосифа — должен теперь покровительствовать остальным. Но Каган-то ещё сидит в Куббе и по-прежнему считается верховным, обожествлённым властителем душ. А Иосиф хоть и уже называет себя «Царь», но пока только земной царь.
Иосиф в Диван сегодня пригласил священников всех вер. «А ловок Иосиф, — решает Песах: — хочет сразу четыре груди сосать. Или, нет, он действует по пословице: у семи нянек дитя без глазу?!»
Четверо первых священников наперебой окропили диванную залу водой и обсыпали её пеплом. Потом по их единодушному указанию белые евнухи начали торопливо занавешивать окна.
«А ведь у всех четырёх основных религий города главными орудиями священнодействия служат свечи и пламя. Вера, выходит, что у всех, нуждается в притемнении», — ядовито просто подумал Песах.
Иосиф сидит на троне как живое изваяние. Его все благословляют. Песах злится: «Чего же ты, Иосиф, так затягиваешь представление? Или это как с вином, за которое заранее заплатил кабатчику? Раз уж оплатил, пьёшь до дна?..» Нож под одеждой, казалось, резал Песаху кожу.
Первосвященники всё суетились в подобострастных хвалах. Они все были в длинных, сходных с женскими одеждах. «Мужчины не допускают женщин в свои храмы, а сами принимают облик женщин, обращаясь к своим богам? Как забавно!..» — мысли Песаха пошли в странную сторону. Песах смотрел на одетого в голубое и белое, аскетичного, старательно подпрыгивавшего, как будто он тянется к небу, красавца иудейского первосвященника. На размахивающего кадилом, как тень, тощего и невыразительного, зеленоризного епископа. На толстого и визгливого, кричавшего, как с минарета (который Иосиф снёс!), муллу. На важного высохшего седовласого мага с пучком прутьев в руке. Песах смотрел на священников, а сам думал: «Почему они кадят не мне? С моим гибким станом и длинными ногами, — на меня люди засматриваются, чем я не идол для Хазарии?! А с того дня, как пропал младший Ашин Волчонок, то и военной славы среди всех тех, кто сейчас в городе, у меня больше. Вон в Халифате дейлемсхие шииты посадили Халифа в его сад, как мы Кагана в золотую Куббу, но кто там правление вершит? Амир Ал Умара — эмир эмиров, главнокомандующий, как я! Ведь не бывший же везир — Управитель Богатством — там правит? Иша лишь слуга государства, распорядитель богатством, но не людьми. А против Барса Святослава, что будет делать этот Иша Иосиф? Неужели все они не понимают, что только в военной власти спасение Каганата?!»
Священники наперебой славили Ишу Иосифа.
— Оттуда пастырь и твердыня наша — от Бога, отца твоего, который да поможет тебе, от всемогущего, который да благословит тебя благословениями небесными свыше!
— Да будет счастье покровом Иосифова местопребывания!
— Да всегда будет защищать престол Иосифа многочисленное, как песок на берегу моря, войско!..
Священники славили Иосифа, но их мало слушали. Мешали громко переговаривавшиеся купцы. Песах опять вспомнил, как нагло, толпой, брюхо вперёд, они впёрлись. И вот они опять оказывали непочтение. И неожиданно пришла к Песаху обжигающая догадка:
«Да купцы не просто наглы! Они же напоказ недовольны. Они должны быть недовольны. Иосиф и его новая рьяная прислужница Серах, теперь уже Хатуи, Главная жена, могут распускать по городу любые слухи о благодетельном Иосифе, сохранившем в своих амбарах хлеб для голодных. Но хлеба нет, и уж купцы-то, конечно, понимают, кто организовал голод. А эти изуверские расправы на берегу над караванами русов, вёзшими хлеб?! Нарочно сеялся вокруг страх, чтобы отпугнуть торговых гостей с верховьев Итили-реки. До-сеялись! Все в городе знают, что дружины Святослава двинулись на Хазарию… Серах щедро нашёптывает по секрету каждому о пресечениях религиозных распрей. О том, что на берегу мусульмане по собственному почину из веры в джихад — священную войну убивали русских христиан. Но платок на роток молве не накинешь. Нужно ли было гневить русов?.. Конечно, перекупщикам выгодно запрудить Реку, перегородить её цепями, устроить торги на наплавном мосту… Чтобы встретились здесь, как в огромной меняльне, товары Севера и Юга, закружились в золотом и серебряном водовороте и оставили на липких пальцах местных посредников драгоценную золотую и серебряную пыль. И, разумеется, кто-кто, а уж перекупщики не прочь были, чтобы Иосиф отбил у русов охоту самим ходить с товарами за море. Надеялись, что русы вообще перестанут плавать по Реке, спускаться к Городу?.. Но что они скажут Иосифу теперь, когда русские дружины, вместо торговых гостей, двинулись на Итиль-город?! Теперь узнают, как опасно гневить русов. У русов самый сильный в мире флот. Русы ходят по всем морям. Поднялись по реке и в два часа разграбили даже саму Кордову — столицу Зелёного (испанского) Халифата. Они прибрали к рукам Понт Эвксинский (его уж и называют на картах морем Русов). И ни к чему было рахданитам, у которых у каждого по доброму десятку торговых кораблей, давать теперь Русам вроде как законное право грабить себя на море!.. А теперь вот Русь и Итиль-город возьмёт».
Песаху стало жарко от своих умных мыслей. Он уже верит, что найдёт поддержку. Он нагнулся к тяжело пыхтевшему с ним рядом на своей подушке Арс Тархану. Осторожно прошептал:
— Почтенный Арс Тархан! Да будет мир над твоей головой. Какая прибыль вышла тебе и твоим стражникам оттого, что хлебные караваны русов разграблены?
— Никакой, почтенный Песах! Никакой! Кто одежды отнятые будет покупать, когда людям кормиться нечем! Иосиф велел всех пленных русов перебить, даже женщин не оставил для рынка… — Арс Тархан ответил охотно, как будто именно об этом сам сейчас думал: — Пользы нет, а сколько страха от дурных знамений! Нынче же Год Барса, — Арс Тархан закатил глаза к небу. — Наш Иосиф много глупостей делает. Все купцы недовольны. Люди бегут в Киев. Под защиту Барса. Вон и еретик Вениамин сбежал. Там, в Киеве, хазарские кварталы процветают.. А у нас голод! Другого бы нам Управителя надо.
Песаха начал бить озноб. Горло вспухло, внутри у него всё то горело костром, то обращалось в лёд. Неужели пришло его время? И ему доверят снова вести войско? Кто знает, может, «хазары, померявшись силой, соединились бы со Святославом и на Византию?!. Какая в Византии была бы для хазар и русов добыча!
Ах, почему этот маг так долго не поджигал свой пучок прутьев? И почему пучок прутьев, принесённый магом, столь не густ? А что это мулла в своих криках всё поминает Джабраила? А христианский епископ во время проповеди вдруг и вовсе с ромейского, непонятного большинству, перешёл на местный, хазарский! Да и первосвященник в бело-голубой одежде, — зачем он так настойчиво объясняет, что Неизречённый бог повелел здороваться словом «мир»?!
Бело-голубой первосвященник гневливо пропел:
— Вселенная должна существовать на трёх основах: на истине, справедливости и мире между людьми. Купцов никогда не казнили.
Мулла грозно помянул Джабраила, — наставления которого, поскольку этот ангел приносил их от бога, слушал даже сам Мохаммад, — и объявил, что слово «Ислам» происходит от «Аль Салям», что означает «мир».
Христианский священник на что уж выглядел, как пустая тень, и то выждал своё время и вставил:
— Волк будет жить вместе с ягнёнком, и барс будет лежать с козлёнком. Младенец будет играть под норою аспида, и дитя протянет руку свою в гнездо змеи. И откроется всем обилие мира и истины. И заключится завет мира.
Песах глядит на Иосифа. Неужели тот не понял, что им недовольны все?! Что он должен отдать власть сам, по своей воле Кандар-Кагану — главнокомандующему. Барс на пороге. С сильным может договориться и заключить выгодный мир только такой же сильный полководец!
Иосиф старательно морщит лоб: так, чтобы хитрое переплетение морщин вспыхнуло у него перед переносицей. Перед этим Иосиф рассказывал доверительно всему свету по секрету (ну, разумеется, только «своему свету»!), что, мол, это у него гийар — знак избранности. Всякий, кто рвётся к власти, сам стремится уверить себя, что у него на челе знак избранности! Что будто бы некий жрец из Александрии прочертил ему над переносицей этот особый знак, награждая тайной «детей вдовы».
Песах сам не раз бывал в Александрии — от тамошних египетских каббалистов про особый знак много слышал. Вдруг появившийся на лбу Иосифа, как на челе Мастера, знак остудил несколько честолюбие Песаха. «Конечно, нарисовать у себя в царственной зале небо с Луной (Чистой Любовью) и пламенеющей звездой (Вестницей Вселенной и жизненного духа, заполняющего мироздание) просто, — думает Песах. — И у входной двери несложно Масоновы столпы в виде плодов граната с буквами «I» и «В» поставить. Как Геркулесовы столпы! А с ними ещё десять столпов, будто в каббалическом святилище тайном, соединить. Вычертить ступени, будто бы ведущие в Соломонов храм. Но то ещё не Знание, а один лишь намёк на Ремесло. Только символы…»
Вдруг холодный пот прошиб Песаха. А что, если впрямь Иосиф владеет тайной Каббалы? Ведь юношей посылал Управитель Богатством Вениамин своего сына Иосифа за знаниями не в академию в Суру и даже не в осквернившуюся ересью Пумбадиту (куда обычно ездили учиться хазарские караимы), а в Египет — в чернокнижную Александрию?! Посвящённые люди твёрдо рассказывают, что нашли александрийские мудрецы в наследии аггела лика Еноха-Мататорона-Масона заветное число идеальных сил и число это посредствует между светоносным божеством и помрачённым миром.
Песах вздыхает. Он сам был обязан поддержке «детей вдовы» в том, что стал здесь Главнокомандующим.
А священники в Диване уже явно поднимают бунт:
— Придёт великий день гнева! Кто тогда сможет устоять? Когда будет снята пятая печать, увидят все перед жертвенником души убиенных.
Намёк на убиенных русов совершенно прозрачен.
Песах видит, как Иосиф зеленеет лицом. Затем сразу же лицо Управителя становится белым. Не выдержал: ломая торжественность службы, оскорбляя богов, захлопал в ладоши — тупо, зло.
— Подданные мои! Вы неблагодарные… Став волею бога над всеми вами, сделавшись из Управителя Богатством истинно могучим Царём, я пришёл сегодня к вам в Диван, дабы показать просвещённость свою и прислушаться к советам разных сословий. Я создал этот Диван, чтобы прибавить блеска государству. Я стремился к народовластию, к демос кратос — демократии, как выражались любимые Песахом просвещённые греки, — Иосиф пнул походя Песаха. Предусмотрителен, что ни говори. Сам заранее уничтожает того, кого вдруг могут вместо него поставить. И тут, словно молнией в печень, ударило Песаха. Сегодня должен совершить он задуманное, уже завтра может быть поздно. Он должен стать полноправным Главнокомандующим, а для этого он должен показать силу и убить Иосифа.
А Иосиф гневался на священников.
Иосиф встал с трона, идёт к священникам. В руке Иосифа, как камень, золотой плод граната. Иосиф вроде бы замахивается на Памфалона.
Песах закрыл глаза. Его рука судорожно забралась под халат; нащупала и срывает с шеи цепочку с золотой пластинкой в виде пентаграммы. Золотая пластинка летит на пол. Песах закатывает глаза к Небу и твердит: «Небу подобный, небу приближённый Каган, дай мне собрать войско. Ещё не поздно. Я спасу Хазарию от Барса Святослава. Я водил хазарские полки и добивался для хазар многих побед. Подтверди, что я давно всей душой принял веру кочевников… Здесь, в Хазарии, я узнал славу. Здесь сердце и жизнь мои!»
— О, Кек Тенгри — Синее Небо! — не открывая глаз, Песах приподнялся, его пальцы крепко держат под одеждой рукоять ножа. Тихо, страшно тихо становится в Диване. Песах даже слышит, как тонко ноет залетевший из плавней комар. Песах открывает глаза и видит, как Иосиф укоризненно стоит над уроненной Песахом золотой шестигранной пластинкой. Песах понимает, что он должен говорить.
— Да, я ухожу из твоей веры, Управитель Иосиф, и буду просить Кек Тенгри — Синее Небо принять меня под своё покровительство. Однако не спеши, Иосиф, обвинить меня в предательстве Неизречённого бога. Не от иудейского Неизречённого отказываюсь я. Я водил полки в Новом Риме. Власти ведали, что я иудей. Но я удачливо водил полки, и мне их доверяли и хорошо платили за храбрость. Я перешёл на службу к Кагану, потому что здесь отстроили Третий храм моего бога. Пусть временный. Но я надеялся, что, укрепляя воинскую доблесть иудейской Хазарии, я укреплю храм и приготовлю пристанище моим единоверцам, угнетённым и униженным в других великих державах. Но ты обманул меня, Иосиф. Ты и твои «дети вдовы». Твоей общине не нужна своя иудейская держава. Ты не сзываешь сюда единоверцев и не укрепляешь войска — поручителя державы. Я понял, что ты служишь тем, кто не имеет и не хочет иметь собственной гордой Родины, а временно приживается там, где сытнее и доходнее… Твои люди могут называть себя как угодно — сыны вдовы, дети вдовы, манихеи, поданные Знания или ученики Ремесла, слуги аггела Масона — Мататорона… Я не хочу быть среди вас, и поэтому я бросаю золотую пластинку. Отдай её другому, более покладистому и без предрассудков. Я отныне не служу тайным указаниям, я буду подчиняться только голосу Кек Тенгри — Синего Неба, которое раскинуло свой бережливый шатёр над хазарским народом…
Заморская птица подошла к Песаху, треплет клювом его подушку (он ведь всё ещё стоит, приподнявшись, и подушка свободна). Птица клюёт вытканный на подушке плод граната. Песах отмахивается от птицы.
Все молчат. Иосиф уже спиной к священникам медленно шагает к трону. Поворачивается. Поднимает перед собой на ладони на уровне глаз плод граната — символ Каганата. Вделанные в золото бадахшанские рубины, переливаясь в пламени свечей, красивым пожаром опаляют лицо и рыжие волосы Иосифа.
И опять приподнялся со своей подушки Песах. До трона ему два прыжка. А в зале уже сумятица. Свечи погасли. Узкие солнечные лучи снопами разрезают полутемь, сделали всех будто тенями… Пусть же тень и совершит сейчас возмездие!.. Два прыжка. Дамасское лезвие холодит бедро. И остановить Песаха некому. Положили телохранители свои сабли на пол. Не дождавшись белых евнухов, бросились сами закрывать окна, потому что это степной ветер возмутился — распахнул тяжёлые занавеси с окон, подналёг, поднатужился и принёс прямо в залу Дивана гул толпы с площади, где празднуют Весну, и звонкий девичий смех, над гулом взлетевший…
Потом, уже много-много позже, осенит рассказчиков, что смех вовсе не случайно был в ту Весну занесён в диванную залу хозяином степи ветром. Вспомнят рассказчики, что Яда медекун, вызывающим ветер и дождь, всегда был тот, кто садился над кочевниками, и решат, что это сам Каган с ветром наслал смех. Но это будет потом. Сейчас же хотел прыгнуть с кинжалом на Иосифа Песах — не прыгнул. Только прошипел Иосифу в глаза странные слова:
— Мертвец! Давно труп ты, и тленом от тебя разит, как из той могилы, куда я тебя сопровождал…
А Иосиф как-то странно, воровато, оглянулся на занятый собственным суматошеством Диван и таким же шипящим шёпотом ответил:
— Не свидетелю на проклятого нож поднимать!.. Не тебе, Песах, который мою тайну разделил, о мертвецах кричать!
Обменялись грязными выпадами Песах с Иосифом и замолкли оба. А тут уже и стражники завесили плотно окна, и вошли в залу чередой белые евнухи с новыми зажжёнными свечами. Стал за занавесями уже слабее слышен гул возбуждённой, распоясавшейся толпы на площади перед дворцом.
И тогда поправил царь Иосиф на себе специально надетый для чрезвычайного Дивана широкий первосвященнический пояс. Стянул крепче поясом своё белое, полупрозрачное, из тонкого виссона сшитое одеяние, И растопырил кверху сразу все свои десять пальцев. В полном согласии с таинством Еноха-Мататорона-Масона при всех побудил небо дать благословение низшему миру. Да, так было: на глазах у всего Великого Дивана царь Иосиф масоновым жестом небо к благословению низшего мира побудил. Не убоялся кары со стороны аггела лика — перед непосвящёнными раскрылся. Мести «детей вдовы» не убоялся. Но какие другие у него были возможности поднять себе цену, упавшую в глазах подданных (а в Диване ведь были лучшие люди из них)? Когда там внизу, на площади, вместе с хмельной чернью купцы и менялы, даже бахданиты бунтуют, то что другое мог бросить на весы сейчас Иосиф?.. Не ждать же было ему, пока и его телом, как телом Фанхаса, тоже начнут в двери колотить?.. И пусть за это аггел лика, если не боится потерять своего слугу высокопоставленного в Хазарии, накажет. Хоть плоти лишает, хоть на небо забирает, хоть заново в новую какую плоть на землю засылает!
— Сказано в Каббале, — говорит Иосиф, — что задача души состоит в том, что она во время земной жизни подвергается испытанию: может ли она, несмотря на соединение с телом, сохраниться чистою от земных искушений?.. Если она в состоянии это сделать, то но смерти просветлённою вознесётся в царство духов. Если же она, напротив, запятнает себя земным, то должна будет снова и снова, даже несколько раз, вселяться в плоть, пока не очистится многократным испытанием и не будет в состоянии взлететь в духовный мир. Так сказано мудро и провидчески в нашем Тайном Учении — Хохме Нистаре. И теперь пусть считает аггел, что не выдержала моя душа испытания. Я, может, и сам не жажду с первой попытки на небе зацепиться, в царстве духов остаться?! Может, для моей души полезнее пожить в каком другом теле?.. За кого аггел лика меня принимает? Что я, в другом тело не устроюсь?.. Устроюсь! И, может быть, ещё даже в детях утвержусь! С Серах ведь, все вы знаете, у меня ничего не вышло! И рабынь в ноги ей клали — не вышло… Так, может быть, попорченную плоть мне аггел лика для первой моей попытки на земле предоставил?.. А?!…
Не к месту вроде вспомнил Иосиф про Серах. Вслух со срамным откровением на Хатун пожаловался! Но зато люди подумали: «Ему можно верить. Он искренен!»
Песах понял, что проиграл свою попытку переворота. Сжался. Сидит потерянный на своей подушке.
А Иосиф захлопал в ладоши. В насторожённой, забито притихшей (растерянной? испуганной? подавленной? безнадёжной?) тишине заговорил длинно, громко, торопливо — о времени и полувремени. И о том, что есть сила, которая хочет прийти и отменить праздничные времена. Фразы Иосифа были расплывчаты, завуалированы, но звонки. Иосиф знал пока только, что он должен что-то говорить. Много и веско говорить, чтобы не показаться другим растерявшимся, упустившим делбеке (поводья).
— Подданные мои! Я благодарен Вам всем за ту честь, которую все вы мне оказали, посетив мой Диван. Обещаю, что наведу наш кочевничий Тере — порядок. Я ценю воинскую доблесть Песаха, хотя до прихода к нам в Хазарию где он только ни скитался: он сам признаёт, что продавал свою воинскую доблесть поочерёдно Халифу и Новому Риму. И в Александрии он был, и, говорят, в знаки аггела Масона и его братства тоже посвящён. Так что не ему «детей вдовы» осуждать. Искали мы, что будет нашему городу и государству определённая польза от Песаха. Однако вот уже десять лет не водит наши полки Песах, вызывая законное недовольство многих каткулдукчи — свободных воинов, готовых поискать в бою славы, добычи, отнять женщин и завоевать рабов. Но я заверяю Вас, подданные мои…
Иосиф говорит лишь бы говорить. А сам ищет зацепку. Но вот, кажется, и есть на что перевести внимание. Впопыхах вбежал Шлума, торговец и штатный наблюдатель при Белом храме. От двери завопил:
— О великий царь Иосиф! В Степи тоже люди собрались на совещание. И они объявили, что у них там, а не здесь, у тебя, Собрание Сильных. А в городе карахазары уже с воплями «Проснитесь, кабары — бунтовщики!» по улицам бегут. И в Степи, на том Собрании Сильных, тоже кабар поминают…
Новые известия тоже не из приятных. Но Иосиф не изменился в лице, громко приказал стражникам вывести из зала и побить Шлуму палками. Дивану объяснил совершенно спокойным голосом:
— Э-э!.. Это я его за плохую осведомлённость. Ибо я сам разрешил собраться представителям «домов» в Степи подальше. Я сам туда не пошёл, потому что здесь с вами всеми занят… Вот здесь совещаюсь…
Сказав громко так, Иосиф, однако, тут же поманил к себе пальцем Арс Тархана и шёпотом приказал тому пойти и, хорошенько вызнав у провинившегося Шлумы, что это за собрание и где оно, незамедлительно начать пресечение оного.
Потом Иосиф опять говорит громко и долго. Но в Диване его уже плохо слушают. В задних рядах между синеподушечниками — сафирами (чиновниками) и красноподушечниками — амилями (таможенниками) вспыхнули споры, подкрепляемые взаимными зуботычинами. Диван, похоже, начинал превращаться в такую же толпу, что бесновалась на улице перед стенами Дворца.
Песах видел, что Иосиф явно нервничает. Знает, что надо хватать стражу и мчаться в Степь, на какое-то там самочинное Собрание Сильных. Но боится оставить Диван, не подавив здесь семян распущенности. «Эх, найти бы сейчас слова, чтобы переговорить Иосифа», — думает Песах. Но он не умеет говорить. А Иосиф, — тот явно надеется на бинах (зачинающий дух). Как блуждает по земле излитый вездесущий свет, так согласно учению Масона вечно блуждает меж людей и бинах — одно из проявлений излитого света. В просторечье мы называем его вдохновением. Может быть, потому, что полагаем, что бинах является не каждому, а больше поэтам, художникам, музыкантам, учёным, изобретателям. Никто не знает, отчего вдруг является человеку бинах. Но по некоторым признакам можно догадываться, что мужчинам чаще всего посылают вдохновение любимые женщины. Вспомнит мужчина о женщине, а она посылает к нему ответно, как эхо, излитый свет. Песах знает, что Иосиф никогда не сочинял стихов и за всю свою жизнь не взял в руки ни одного музыкального инструмента. Но Иосиф всегда играл властью, извлекая из власти своей себе радость, как музыкант из самого прекрасного инструмента. Вот и сейчас Песах видит: как будто мощные толчки крови уже пошли разогревать Иосифово тело. Как участилось его дыхание. Иосиф всё что-то говорит, но он уже прекратил катать шары полунамёков в своей громкой речи. Он опустил руку с десятью растопыренными пальцами. Бойцом, заранее предвкушающим своё торжество, оглядывает он теперь весь зал. И на его лице Песах читает: «О, мой бинах! Я тебя поймал! Я ещё ничего не сказал, но я уже знаю, что от сказанного мною загорятся другие. Оно во мне, вдохновение!..»
Иосиф вдохновлён, и теперь он потрясает руками, взывая к Небу:
— Хазары! Вижу пророчество. Вот оно! Я открываю его, извлекая из Каббалы вам! Танай Симон скорбно постился сорок дней, а на сорок первый открылась Танаю огненная тайна, и аггел лика шепнул ему в ухо то, что я вам сейчас открываю. Это две последние цифры года, когда освободится пепел для «Третьего» и настанет «конец чудес». Два столетия люди ждали напрасно, ибо вычисленный год не подтверждался. Но всё великое приходит с третьего раза. Я созвал вас на чрезвычайное совещание, мои подданные, потому что хочу назвать вам полную цифру: «Четыре тысячи семьсот двадцать восемь»! Нынешний год, по исчислению древних!
Иосиф победоносно засмеялся. Песах готов был поклясться, что Иосиф сам не знал, почему он вдруг назвал эту цифру, но цифра ошеломила всех своей таинственностью. И даже самому Песаху вдруг захотелось в неё поверить. А Иосиф заливался соловьём:
— Подданные мои! Сыны Кагана! — о, как ловко оттесняет Иосиф в своей речи от себя Кагана, назвав влиятельнейших людей города сначала своими подданными, а уж потом традиционными сынами Кагана! вон он, бинах, в действии! — Сыны Кагана! Мои подданные! Сердце моё сокрушается сейчас о тех неразумных существах среди моего народа, которые имеют неверное и смутное представление о нашей вере. Потоки заблуждений несутся над нашими головами, и мы полагаем, что нет хорошего пловца, который вытащил бы нас из пучины. Но как милость божия одарила меня чем-то таким, благодаря чему я ныне оказался над всеми вами, то ныне, открыв только что вам всем великую тайну пророчества о Третьем, я тщусь быть и дальше всем вам полезным и вывожу вас на путь истины. Подданные мои! Нам предстоит испытание. Могут перемениться имена, но что в перемене имени? Пыль! Как познание не может быть запятнано, так и божество, хотя и пребывает неизреченно во всех вещах, ими не запятнывается.
Мудро и просвещённо Иосиф говорит перед Диваном изречения александрийского жреца, открывшего людям учение Масона, словно клубы зелёного дурмана из курительницы выпускает. Стелется словесный туман, заполняет помещение, пьянит непонятным, как опиумный мак, мозги размягчает. Кто из слушающих его, раскрыв рот, толстобрюхих амилей, кто из проглотивших палку сафиров слышал когда подобные премудрости?! Дивно и страшно всем.
— Подданные мои! Удачное расположение города сказало нам: «Опустите каждый руки в Реку — и к ним будет прилипать плывущее мимо золото». Вот, я вижу, все амили склонили головы. Все амили подтверждают эту мою правоту!.. Так что же мы тогда смотрим теперь, как кое-кто из нерадивых наших сограждан учиняет на улицах бездумный хмельной бунт?! Как уже убили банкира Фанхаса и епископа Памфалона. Чего люди бунтуют? Испугались, что Барс придёт? Ну так случилось, значит, в мире, что Барс Святослав рядом о нами ходит. Может к нам и пожаловать. А коли мы уж очень боимся Барса Святослава, то давайте наймём побольше войска. Или у нас нет золота, чтобы большое войско нанять?
Теперь наконец-то Иосиф вышел на главное. И, как опытный оратор, Иосиф сделал паузу перед главным делом, из-за которого он собрал чрезвычайный Диван.
Сделал паузу и вроде как само собой разумеющееся сообщил:
— Сейчас евнухи внесут шестигранные подносы. Дайте мне деньги, не Главнокомандующему Песаху. Ибо я помог вам всем заработать много денег, и мне, а не ему, бездельнику, можно верить. Дайте мне, как положено согласно нашему обычаю, возложением на шестигранные подносы деньги, и я незамедлительно найму большое войско против Барса и заставлю Главнокомандующего Песаха не дремать, как сонный кот, а воевать!
Белые евнухи принесли золотые подносы. Идут меж рядов. «Дайте деньги!» — кричит Иосиф. Он знает, что Сильные Люди пришли на чрезвычайный Диван с деньгами — это всегда само собой разумелось, когда созывалось чрезвычайное собрание. Но пока евнухи ходят меж рядов с пустыми подносами. Ни одна рука к подносу не протянулась, ни одна не кинула мешочка с монетами, ни одно движение не поколебало пламени шести свеч, установленных по шести святым углам каждого из подносов.
Поражён Песах. Не действуют на рахданитов (знающих пути!) священные подносы! Или рахданиты уже и вправду другие пути для себя определили? Перевели деньги из Хазарии в другие страны, а Хазарию бросают?
Отчаявшись, Иосиф берёт и поднимает над собой золотой символ державы — «плод граната». Бадахшанские рубины, вделанные в золото, поймав мерцающий свет свечей, вспыхнули военным жаром. Не верят купцы в подносы — поверят в «плод граната». Ах, лучше бы не поднимал Иосиф на руке «плод граната!» Вот и голос, которого Иосиф явно не ждал, не хотел, в который не мог давно уже поверить, что он раздасться может:
— Приведи Кагана! — кричат Иосифу из зала.
Вспоминает Песах, что раньше, когда-то уже совсем давно, так кричали, когда решали Всей Массой Народа выйти на войну. Крик «Приведите Кагана!» означал тогда объявление похода, ибо полагалось самому Кагану идти впереди войска. Боже, как давно такое было! Кто посмел такое вспомнить?! Кто посмел Кагана вспомнить?.. Песах с удовольствием видит, как Иосиф зеленеет лицом, раздвоенный клинышек его бороды мелко дёргается.
— Эй, царь Иосиф! А приведи-ка Кагана! Пусть Каган, как положено, созывает войско. Пусть посылает гонцов за каткулдукчи — воинами по всем подвластным племенам — к каждому племени, от которого у Кагана по жене-наложнице в его великом гареме…
— Царь Иосиф! А ты вообще-то взял на свои предложения благословение у Кагана?.. Может быть, все наши нынешние беды из-за того, что в Куббу — золотую юрту ты плохо заходишь?..
И тишина. Гробовая. Как вокруг таботая (сосуда для праха) перед тем, как поместить в него прах.
Песах видит, как трясутся губы у Иосифа, его красивые пухлые красные губы. Взгляд царя скользит по Дивану. Он явно уже готов проклясть день, когда, подражая Халифу, завёл себе этот Диван для советов. Советуйте, — но знайте же каждый своё место! Он, Иосиф, должен, сейчас срочно кого-то наказать. Гневный взгляд ищет жертву. Песах чувствует, как взгляд останавливается на нём. «Как я бы сейчас подошёл вместо жертвенного козла! Наверняка Серах надоумила сбросить с башни… дауса (павлина)?! Расчёт прост. Песах — Кандаркаган — главнокомандующий. Конечно, меня сейчас к ответу!
Нет, не решился Иосиф подняться на Песаха. Не поймут люди, почему он оставляет войско без полководца. Взгляд Иосифа скользит, ища жертву, дальше. Вот Завулон… Нет, у Завулона дочери замужем за пятью богатыми купцами. Гер Булан? Да, да, этот подходит. Из степняков, переметнулся в Неизречённому богу, помощник Арс Тархана… Удобный мешок для битья. Нет, нельзя жертвовать Гер Буланом… Кто будет тогда присматривать за Арс Тарханом? А за тем давно надо следить…» Наконец Песах видит, как Иосиф находит какое-то малознакомое, раскрасневшееся, расплывшееся от жира неприятное лицо. Царским жестом Иосиф тычет в него рукою, указывая на него стражникам:
— Вот ты!.. Это ты кощунственно усомнился в том, что я забываю брать благословение за свои поступки у святого Кагана? А-а, молчишь?..
У жертвы пересохло во рту. Несчастный выпучил глаза и трясётся от ужаса.
Иосиф опускает палец вниз?
— Арсии! Уберите предателя! Уберите сей труп, ибо что, коли не труп, перед богом человек, который усомнился в своём царе!..
Два стражника шагнули от стены, схватили жертву за ноги, поволокли вон.
— Кол для него подлиннее найдите, чтобы всем на колу был издалека виден предатель! — уже вроде добродушно, словно нравоучая, кричит вслед Иосиф.
На шестигранные подносы начали кидать деньги. Немного. Но здесь — ритуал. Завтра Иосифовы амили, будьте уверены, возьмут за бока каждого, раскошелят всех.
Иосиф закрывает Диван умной угрозой:
— Подданные мои! Было мне вчера явление. Пришёл ко мне от Всевышнего во сне аггел лика Масон и сказал: «Передаёт тебе Господь: я с тобою. Чтобы спасать тебя, я совершенно истреблю все народы, которые вокруг тебя, а тебя не истреблю. Я буду наказывать тебя в мере. Рана твоя опасна, язва твоя жестока, никто не заботится о деле твоём; чтобы заживить рану твою, быстрого целебного врачевания нет: все друзья забы ли, не ищут тебя. В пустыне сейчас вопиешь ты о ранах своих, о жестокости болезни твоей. Однако найдётся. Все пожирающие тебя со временем сами будут пожраны, все враги твои сами пойдут в плен, и опустошители твои будут опустошены, ибо в мире идут по кругу и не знает каждый, где удачное время круга его…»
Песах убеждён, что Иосиф красиво лжёт. Не приходил к нему от Всевышнего аггел Масон. Очень нужен Иосифу аггелу лика Вселенной! Так же не нужен, как оказался не нужен сам он, Песах. Просто издавна люди плетут друг против друга сети заговоров; ради переворотов власти для взбадривания самих себя облекают свои тайные заговоры в одежду красивых и таинственных ритуалов. Эллинский философ Пифагор придумал мистику чисел, чтобы основать свой орден. Александрийские жрецы уворовали мистику чисел у Пифагора, а выдали за откровение аггела лика Масона. «Сыновья вдовы» из иудейских общин, разбросанных в диаспоре — святом рассеянии, и «дети вдовы» из христианских манихейских общин мнят себя посвящёнными в мистические числа Каббалы. Но смысл не в числах, а лишь в ублажении самих себя «посвящением». Посвящением куда? Во что? В торопливо выстраиваемых «пирамидах» тайных обществ считается, что конечную истину знает Мастер, восседающий на вершине пирамиды. Что уж он-то точно общается с посредником Вездесущего! Но кто переубедит Песаха, что каждый Мастер не такой же красивый лжец, как распинающийся сейчас перед одурманенным Диваном Управитель Иосиф?! «Дети вдовы» договорились до того, что идея создания тайных обществ, служащих аггелу лика Масону, благословлена самим Иисусом Христом, когда тот изрёк: «Не мечите вашего бисера перед свиньями, да не попрут его». Вряд ли в этом есть какая-то правда! Ведь сейчас в Великом Диване, чем берёт Иосиф? Да только тем, одним-единственным, что изображает перед свиньями, будто мечет перед ними бисер!
А Иосиф разговорился. Глаза его заблестели. Он и сам теперь верит, что поднимается над суетным гневом, летит в облака бинаха (вдохновения). Его прервал вбежавший Мазбар. Ужасно некстати действовали сегодня оба вестника. Мазбар начал кричать ещё издали, из-за закрытых дверей:
— Великий царь! Срочное известие!..
Мазбар дождался, когда к нему повернулись все головы, и заколотил себя в грудь:
— Великий царь! Караван сверху сплавился. К городу подошёл. Армяне-каменотёсы в караване: они церкви русам строили, теперь с деньгами домой возвращаются. С большой охраной караван. И наш один единоверец с караваном пришёл. Из Киева. Все его у нас тут знают. У нас он прежде ремесленником был. Хотя и еретик… Но наш он. Ему можно доверять. Он даже в Академии сидел. Вениамин! Народ ему поверит.
Иосиф сморщился. Ему было обидно, что Мазбар прервал его пылкую речь. Иосиф хотел было приказать, чтобы Мазбара побили за неуважение к царю палками.
Но вокруг Иосифа все столь заинтересованно обсуждали принесённую вестником новость, что Иосиф, пережидая, пока уляжется шум, сел в кресло.
Слуги решили, что Диван закрыт, и начали медленно задвигать над Иосифом небо. А он не сразу сообразил: сам сидел и смотрел, как соединяется парчовый полог, закрывая нарисованное небо, и Млечный Путь. Но думал ли он, что, может быть, в последний раз смотрит на своё собственное небо?!
Стоявшие у окон стражники, звякнув саблями, качали медленно вытеснять членов Великого Царственного Дивана вон из залы. Церемониал открытия Дивана повторяется при закрытии. Один за другим поползли к дверям советчики. Ползут базарганы и рахданиты. Выползли из залы, вздыхают:
— Зря Песах против Иосифа попёр! Разве так, наскоком, можно…
Песах выползает последним. Ждёт Иосифа. Вот так выгнанный пёс ждёт жестокого хозяина. Иосиф выходит гордо и величественно, хотя уже нет в Диване, кроме Песаха, никого.
Он выходит из диванного зала и направляется в свою белую башню. Псом шелудивым неслышно плетётся за ним Песах.
И вдруг заревела ему стозвучная дозорная труба Магрефа, — беззвучно заревела. Песах выглянул из дворца наружу и видит, как люди кинулись бежать прочь и встали: в страхе остолбенели. Ах, идут, идут к Итиль-городу (Городу-на-Реке) по чёрной Итили-реке под алыми парусами огненосные челны. Сияют драконами на носах. Двадцать челнов, и по пятьсот воинов в каждом. И к острову, ко дворцу с белой вежей (башней) правят. Ужли… Русы со крестов сошли?! На крестах распятые язычники смерть не по их богам не приняли, потому прахом лодии сожжённые не развеялись — парусами кровавыми оснастились. Вёсла, мачты обгорелые, на кресты порубленные, — опять паруса несут, а паруса ветер ловят… А что, если это не призраки убиенных, а воины Барса Святослава? Кто цепи с реки снял, кто русам дорогу открыл, огненосным лодиям не воспрепятствовал чёрную воду бороздить?..
Вот врезались, с ходу врезались челны в берег. Бегут, бегут воины не в кольчугах — в рубахах белых, штанах синих, с поясами широкими, красными, с пиками длинными, с мечами обоюдоострыми. Ах, с мечами обоюдоострыми!.. И встала стена щитов перед каждым из челнов, приткнувшихся к берегу.
И двинулись двадцать стен из щитов и в одну сомкнулись.
«Ой, Магрефа, стозвучная труба из Белого храма! Что же ты страшно воешь?! Почему беззвучно воешь?! О чём, о чём ты, оповестница?! Что же ты Иосифу Управителю, сказать-напророчествовать в последнем страхе моем возжелала?..» — думает Песах.
Упал на колени Песах и молиться начал, чтобы ото гнать от себя страшное наваждение.
Встал, снова на Чёрную Реку поглядел. И увидел, что нет никаких русов, а плывут по Чёрной Реке льди ны, — одинокие и редкие, серые льдины плывут по чёрной воде, пожухшие от тепла и долгого пути льдины. И удивился Песах: «Ведь весенний ледоход прошёл. Откуда льдины?.. Не из земель ли Рус льдины как знамение к Городу-на-Реке вдруг нагнало?!»
Молчали льдины, тихо уходя к морю. И высунулся сильнее из окна в башне белой над Чёрной Рекою Песах. Смело нагнулся (как не падает в чёрную бездну?). К заклятию готов, а заклясть Реку не смеет, — имени бога своего Неизречённого никогда ей не скажет… А без имени как заклясть?!.
И поднял глаза свои Песах к небу, и увидел, что Луна вышла. Рядом с солнцем покровительницей стала. Среди бела дня другим не видна, а ему, Песаху — открылась. И ещё пуще высунулся из окна своей башни Песах — над рекой возвысился. Как у парящего бога, вознеслись над чёрной водой его раскрытые руки. Как пламя на ветру, вспыхнули, разметались его кудри-волосы.
А на небе облака были — и вдруг расчистилось оно. Потому что при чистом небе прямее всего доходят до Вездесущего и Невидимого молитвы! О, прыгнуть бы Песаху над бездной?! «Подобно тому, как я прыгаю перед Тобой и не достигаю Тебя, пусть враги мои не достигнут меня в своём стремлении причинить мне зло!..» Но ведь разве не выпрыгнул сегодня Песах из своего тела?! Сказано александрийским мудрецом: «Тот постигнет тайну, кто узнает Есод — причину причин..» А он, Песах, причину причин узнал.
Упала тень от Песаха на город. Тень над городом летит. Плывут люди в лодках под тенью.
— Как вас зовут?
— Хазары, кочевники мы. Пробились сюда и живём — на Реке без имени. В городе без имени. Хазары — кочевники мы! Вот всё наше имя.
— Эй, люди в лодках? А какой над вами бог?
— А разные над нами боги. Гипподром — ристалище для скачек с закладными у нас не для лошадей, для богов… Ставки у нас на богов ставят. Кто на своего, а кто рискнёт, переметнется… А Иосиф, наш мудрый царь, Мастер «детей вдовы», тот на троих разных богов сразу на всякий случай поставил. В пятницу посещает мечеть, в субботу — синагогу, в воскресенье — церковь…
Была тень. И нету тени. Смотрит незатаенно солнце на город, и облака опять на небе появились. А на реке уже нету льдин — плывут только люди в лодках.
А на белой башне мертвец мертвеца за руку схватил. Падает в реку тело полководца Песаха. Сам бросился или кто столкнул? Об этом «дети вдовы» не расскажут. А непосвящённые люди? Непосвящённым и вовсе что?!
Промолчали люди в лодках. Равнодушно вдоль царёва дворца, мимо белой вежи (башни), мимо Песаха, упавшего с башни, проплыли.
День тридцать шестой. «Святые муки Вениамина»
В старой кенасе (Доме молитвенного собрания), возле караван-сарая, на берегу разбушевавшейся вдруг Итили-реки в полночь тихо и молча, тесно прижавшись друг к другу, под низким и душным потолком стояли иудеи. Стояли базарганы-купцы (ведущие местную торговлю), мелкие менялы, «посредники в сделках», арбузники, меховщики, клеевары. Не толкал один другого, не оттирал с хорошего места и предупредительно не уступал места «нужному человеку». И никто не делал знакомств и озабоченно не спрашивал о ценах на базаре — с таким видом, как будто и у него тоже есть вполне достаточное своё дело и кое-что звенит за душой, для этого дела припасённое. Может быть, тут был кто из Вениаминовых зятьёв, если какая из дочерей уговорила мужа перейти в свою веру. Сейчас все они прослышали про ночного гостя из Руси и сбежались якобы на молитву. Затаив дыхание стоят, делают вид что молятся, а сами ждут одного: чтобы пришёл и успокоил их гость. Среди тех, кто набились в кенасу, конечно, нет ни узурпатора Иосифа, ни рахданитов. Нет ожиревших работорговцев, которые ради успеха всемирной работорговли разделили весь мир, не моргнув глазом, на всего две части: избранное крошечное племя работорговцев и всех остальных — рабов. Нет Завулонов и Пуришаддаев, у которых торговые дома разбросаны равно на Западе и на Востоке, а деньги на случай войны давно в безопасное место переведены. Здесь, в старом молитвенном доме, всё такие же, каким был здесь Вениамин, — в сущности, одни незлобивые и работящие люди. И они будут с надеждой заглядывать ночному гостю в глаза, чтобы он их успокоил. Сказал, что Святослав не уничтожит их, что могут они пока не бежать прочь. Не пускаться опять в скитания, а здесь продолжать заниматься своим ремеслом или торговлей, и ласкать вечером своих детей, и делить ночью ложе со своими приятными жёнами.
В ожидании успокаивающего, как сок валерьяны, как дым гашиша, известия сгрудились все плотно. Единой массой! И хотя не всем нравилось, что среди них затесался прозелит Гер Булан, но и его стерпели. Очень бы хотелось стражника ущемить, не допускать бы к себе. Уж слишком он грубоскул и чёрен. Да к тому же ещё многие помнили: прежде он называл коангшиу (вонью) их, — тех самых, теперь к кому прижался. Люди помнили, и как их нещадно бил этот Булан кнутом, когда они в городских воротах царя Иосифа «не так» приветствовали. Да и после — сам уже на голове высокий «кувшин», серебром расшитый, общиной ему подаренный, одной рукой придерживает, а в другой руке кнут ходит, спины единоверцев горячо ласкает. Однако как Гера Булана теперь в свой круг не допустить, как двери перед ним, поганцем, в кенасу закрыть, коли уже не Буланом, а Гером Буланом его называть надо?! Коли, будто титул, обозначение прозелита «гер» он высокомерно носит?! Как бы вообще все эти новоиспечённые геры, захватывая власть, не объявили обозначение «гер» равным «беку» (вождю) или «тегину» (принцу). Время-то смутное — капиталы быстро растут. Вот и стояли теперь все с поганцем Буланом рядом. Вере преданные, за веру из Халифата или Византийской Империи прогнанные, пострадавшие, но веру не сменившие, — стояли рядом с примазавшимся к ним.
Ждали уже долго, и в ожидание их, словно эхо в пустом тузурке (кувшине), гулко ударялся звон речной волны, разбивавшейся где-то внизу, под высоким берегом.
Вышли из задней двери несколько старцев-хаббалистов. Матерчатый наушник у каждого на ухе, матерчатый ящичек в левой руке; это теффилим, прибор для общения с Айн — Ничто. Что они сейчас слышат из своих ящичков? Старцы протиснулись через всё помещение к парадной двери — хотели обратить на себя внимание, увлечь своим примером. Но в толпе никто не поспешил так же надеть наушнички матерчатые и ящички свои в руки взять, хоть многие их и имели. Видно, не до голоса «Айн» народу сейчас. Другого голоса в толпе ждали.
Ещё ждали. Пока не пустил кто-то по рядам ножницы и бритву. Тогда молча стали люди выстригать и срезать волосы друг у друга. Известно ведь, что в награду от Неизречённого дано всем, уверовавшим в него, носить длинные волосы на голове, бороду и длинные виски. При большой же опасности возвращает верующий свои волосы богу…
Сейчас срезали, состригали люди волосы свои и опять стали ждать.
Вышел старец и напомнил, что нехорошее в городе совершается. Пьяницы-бунтовщики, разгулявшись, уважаемого человека Гера Фанхаса убили. Белый храм никто не навещает, и до сих пор не получил от верующих Бог, как то ему положено, упитанного агнца мужского пола, годовалого и беспорочного. Упрекнул старец людей, что деньги, видно, они на хмельное, вместо бога, пускают. Не в молитве, а в пьянстве и гульбе ищут забвения. А люди в молитвенном доме отворачивали свои лица от старца. Вспоминали, как были в бунтовавшей толпе, Фанхаса на небо отправившей. Как весь день на улице провели с глазами, от хмеля пеленой задёрнутыми, а с ушами растопыренными, потому что уши слухи ловили. Достоверного слуха о Барсе Святославе ждали.
Ест и теперь ждут. Из-за этого только и новоявленного «царя» в покое оставили. Дворец ему не разгромили, — потому что, когда уж во дворец ворвались, кто-то крикнул, что караван сверху из Руси сплавился и с ним вроде как человек свой. Уж этот-то человек должен достоверный слух принести. И толпа хлынула из дворца сюда, в кенасу, рядом с караван-сараем на берегу реки.
Ещё немного уж подождать осталось. Понятно, что надо помыться дать с дороги тому человеку! А потом придёт тот человек в кенасу. Куда ж ему, как не сюда, в дом молитвенный возле караван-сарая, помолиться прийти?! А как придёт, то всю правду про Барса, как есть, обскажет.
Стояли.
Душно под низким потолком старой кенасы. Жарко и потно. И ноги давно затекли.
Совсем заждались гостя. И уж иные, хоть и не до исповедей-общений с богом сейчас, даже про свои теффилим вспомнили. Вот один поправил молитвенную шапочку на голове и из-за пазухи священные ремешки вкупе с матерчатым наушничком и молитвенным ящичком достал; вот другой уже тоже свою коробочку прилаживает, ремешки от виска к запястью тянет.
Ох, как тошно бывает ждать! Вся жизнь этих людей с младенчества предрекалась им как жизнь скорбящих о сроке. Так учила их мать вместе с первой детской молитвой. Потом наставляли их в домах собрания священники: «Терпи в ожидании, что когда-то в будущем сможешь радостно воскликнуть: «Время, которого мы ждали, вот, пришло». Но одно — дожидаться, пока откроются видения мужа вожделения и явятся пророчества, а при этом не забывать заниматься семьёй и делом. И совсем другое — стоять вот здесь, под низким, душным потолком, как под дамокловым мечом, который подвязан на ниточке и вот-вот упадёт на твою голову, и ждать, как скоро ниточка сама оборвётся и ты окажешься со своей семьёй в изгнании и без дома. Ловить слухи и сплетни о том, насколько уже истончилась ниточка.
— Не бывают зряшными знамения, и звезда ещё никогда не останавливалась напрасно, — заговорили в толпе. — Вот ведь убит Гер Фанхас. А кто бы такое раньше подумал…
— Видно, всуе совершили мы то, чего не надо было совершать!
— Что пользы нам, если нам обещано бессмертное время, а мы непотребными сделались и суетными?..
— Нам были уготовлены жилища здоровья и покоя, а мы стали жить худо…
— Нам предначертана слава всевышнего, чтобы покрыть тех, которые жили кротко, а мы пошли по путям злым…
Обмениваются люди жалобами обычными. И вдруг вскрик:
— Не мы распинали русов!.. Арсии виноваты… Пусть их Барс и казнит, а нас в покое оставит…
— Жди больше! Разве арсиям не мы платили? Разве не мы молчали, когда арсии сильничали?..
— Царь Иосиф сказал: «Нас от русов отделяют леса и топи. Через леса и топи русы большим войском не дойдут».
— Говорят: городу нашему вышел срок.
— Пойди спроси беременную женщину: могут ли по исполнении девятимесячного срока ложесна её удержать в себе плод? Всякая ответит не могут. Вот так и с нами! Вышел хазарам жизненный срок!
— Ох, где же этот человек, что из Руси перебежал? Уж он-то про срок знает… Чего же он грехи отмолить с дороги к богу не спешит? Пусть Мазбар за ним сбегает, этого человека поторопить…
— Люди! Близко уже к рассвету. Много было времени у нашего человека из Киева и на пересчёт своих товаров, и на омовение, и на перемену одежд, и на ласковую игру с прислугой в караван-сарае. Не пора ли ему и честь знать! Не кажется ли, благочестивые соседи, что дожидаем мы тут киевлянина, как пророка?.. — кричит сварливый голос.
Оборачиваются люди. Неужели такое вслух сказано? Кто мог себе вслух дерзость позволить? Глядят на сварливца с укоризной люди. Но развязана уже совсем благочестивая тишина.
— Знаете, почтенные соседи, если не скрывать нам друг от друга, что все мы уже не молимся, а лишь ждём киевлянина, то надо признать, что киевлянин нас не уважает.
— Надо, чтобы староста пожурил его за непоспешание…
— Почтенные… А может, торговый гость, которого мы ждём, давно уже в церкви?..
— Как в церкви?!
— А так… Не сменил ли он веру?
— Да нет, говорят, он шёл с армянами-каменотёсами рядом, — высокий, в шапке-тузурке, с верёвкой вместо пояса…
— Говорят, он точно из наших мест и веры нашей…
Вениамин стоял в передней лодии, обнимая венчавшего её нос идола Хорса, и напряжённо всматривался вперёд. Чем ближе было к родному городу, тем мутнее становилось у него на душе, и не знал уже о себе Вениамин, кем он возвращается — спасителем или мстителем? В Самбатасе (Вышгороде), в резиденции Ольги под Киевом, властительница Руси предложила ему пойти в поход с дружиной Святослава: «Моему сыну понадобится управлять в Итиле!» Был Вениамин перед Ольгой искренен, когда, как топчущий в точиле, брызгал кровавым гневом на несправедливости Иосифа и клялся, что, управляй разумный правитель городом, он бы в первую очередь заботился о мире и дружбе с сильными соседями: ввёл бы правила благоприятствования для русских торговых гостей, а раз сам Итиль-город не хочет расходоваться на войско, то даже попросился бы за умеренную дань под руку великого русского князя.
Теперь убеждал себя Вениамин, что польза хазарам будет, если не незнакомый для них и безжалостный, а он, свой, после боя с хазарами от имени Святослава над побеждёнными (пусть хоть врагом посаженный) воссядет. Кому ведь и поможет: обиженный сам своих не обидит…
В быстро сгущавшихся сумерках Вениамин увидел вдали будто чёрную тучу, припавшую к воде. Он понял, что это город, и закричал с носа:
— Вижу город!
Но для всех остальных, кто тут же подбежал к нему, увиделась только туча. И Вениамину что-то шепнуло, что не поздно ещё ему признать якобы свою ошибку, сказать, что обознался, и… сбежать на берег. Не приходить в родной город с чужим войском, но я не предупреждать город. А оставаться в стороне — высадиться на берег и уйти прочь, в новые скитания.
Ежели жизнь иудея состоит из скитаний, то не всё равно ли, от какого времени их отсчитывать? Когда весной Иосиф изгонял Вениамина на Русь, то вся мудрость его была только в том, чтобы отослать главного смутьяна подальше из Хазарии. Однако изменчива бывает судьба: то совсем вниз сбросит, то вдруг вознесёт. Знакомые купцы из русов замолвили за Вениамина слово, а знающие ремесла руки быстро приобрели ему уважение в чужом городе. Так, может быть, где и в другой стране опять повезёт Вениамину? Ремесленников ведь никогда не убивают даже самые беспощадные восточные деспоты — при любом дворе охотно принимают. Бежать? Вениамин даже было подвинулся ближе к борту. Но дочери, внуки почти рядом. Любимая Серах, ставшая царицей! Всего несколько полётов стрелы до них. Как же он убежит, так и не повидав семя своё?..
Взошла луна, и Итиль-город увидели все. Провиднелось то, что казалось лишь тучей, и корабельщики вместе с Вениамином различили теперь частокол стен, петлёй сбегавших к воде, остров посреди реки я наплавной мост к нему с обоих берегов. Белый дворец о высокой белой башней блестел на острове, и на крыше дворца прыгал и тянулся к луне человек в белом блинном одеянии.
— Царь-молится. Просит у Луны помощи! — объяснил Вениамин людям, толпившимся вокруг него. В большинстве это были армяне-каменотёсы. Они спешили на родину в Армению. Побоялись, что война Руси с хазарами затянется, и упросили полководца русов молодого Святослава пропустить их корабль вперёд войска, чтобы они успели проплыть мимо города до открытия военных действий. Армяне поклялись Святославу на кресте, что будут молчать о войске. Вениамин сел на их корабль, обманув Святослава. Сказал, что поплывёт на разведку.
Вот уже подплыли вплотную к городу. Ворота закрыты. Но староста армянской артели взял мешочек с серебряными монетами, пошёл под сторожевую башню, и не прошло много времени, как серебро отворило ворота. Вениамин назвался в воротах торговым гостем из Самбатаса (Вышгорода). Стражники подозрительно посмотрели на потрёпанный тузурке («кувшин») на голове Вениамина, на не очень свежую пеньковую верёвку, подпоясывавшую его халат. Однако допытываться, где его купеческий товар, не стали: Вениамин протянул им монету.
Потом он лежал на земляном полу караван-сарая рядом с быстро захрапевшими армянами-каменотёсами и в сладком горячечном сне представлял, как е рассветом, едва по городу стало можно ходить, он отыскал свою жену Мирру — ту самую, что родила ему тринадцать дочерей. Мирра давно была в ином мире. Но почему не может хороший человек увидеть, чего ему хочется, если воздух пахнет родной кунгаулсун (высокой травой жёлтой полынью), рядом плещется родная река, и так легко и сладко ему, как в те счастливые дни, когда он с Миррой и с сыном-первенцем добрался в этот, вскоре ставший им близким и родным, город?! Вениамин грезил, а в грёзах всё у нас получается легче. Поэтому он нашёл жену свою очень быстро, и она очень обрадовалась ему. Хотя в ноги и не кинулась, ступни пыльные не поцеловала. Но Вениамин-то знал, что она всё равно очень радуется, а в ноги не кинулась и пыльные ступни не поцеловала, потому что бережёт нежность, не хочет вне ложа, впустую пролить хоть каплю из сладчайшей чаши свидания.
И Вениамин сразу поспешил в мовницу (о, как мовница была натоплена! Мирра словно угадала, что её муж возвратится сегодня! Или она, дожидаясь его, жарко холила мовницу, все годы?!). После мовницы Вениамин сменил одежды и возлёг на ложе. Долго лежал с закрытыми глазами. Мирра всё не шла. Но он не обижался; знал, что, расчётливая, она хочет посильнее распалить его. Когда же он совсем истомился, то догадался, что она уже давно сидит на краю ложа: вся белая в белом утреннем свете, с крупным задом, тонкими породистыми ногами и продолговатыми грудями. Её полные, чувственно вывороченные губы уже тянулись к нему, ноздри раздувались, а невысокий лоб и короткие волосы казались нарочно отодвинутыми в тень, чтобы не заслонять огромных карих глаз, сверкающих белками зовуще навыкате.
Вениамин увидел, как сладко вздрогнуло её тело. Одного этого движения достаточно, чтобы сразу кинуться к ней, забыв всё… Но раз она заставила его ждать, то и он потомит её. Он сдержал себя. Наверное, это было его ошибкой. Сладко вздрогнувшее тело, видимо, шелохнуло в нём и какую-то брезгливость. Только сразу он её не ощутил. А теперь, вчуствовавшись, разборчивее отнёсся к её запаху — кисло-сладкому, острому. Всегда сразу одурманивавшему его, но теперь, без торопливости, уже вроде бы даже оттолкнувшему. Смешение пота и сильных благовоний, шедшее от Мирры, показалось ему нечистым. Однако он всё-таки заставил себя протянуть Мирре руку. Взял в ладони её голову, ощутил жёсткость её коротких волос и только тогда мягко сказал: «Я устал с дороги, Мирра. Ты свободна». Она встала, молча поклонилась. Лицо её было бесстрастным.
Он хотел испытать её, а оказался униженным сам. И он сказал ей, что завтра он напишет ей разводную расписку. Что он только затем и вернулся в Итиль из Киева, где ему живётся сладко, чтобы освободить её от брака. Ему легко было такое ей, пугая, солгать, потому что сам-то он знал, что всё равно после сегодняшнего рассвета следующей для них ночи уже не будет. Для всех в этом городе времени больше не будет, ибо вышел городу срок.
Мирра исчезла за занавеской. И почти тут же вернулась. Правой рукой она тащила за собой молоденькую белокурую и белокожую сакалабку-рабыню, а левой рукой, торопясь, на ходу раздирала на ней одежды. Она ударила рабыню и сказала Вениамину: «Ударь её и ты, мой господин!»
Он не стал бить рабыню. У них с Миррой никогда не было рабов, и он теперь удивлялся, где Мирра могла научиться бить их. Мирра была хоть и его жена, но какая-то совсем другая, не та доверчивая, добрая, ласковая Мирра, которая всегда всем хотела добра и одного только не могла до самой своей смерти простить ему, Вениамину, что он поддался уговору работорговца Фанхаса, продал ему их первенца. Он сказал: «Мирра! Я удивляюсь на тебя. Ты стала другая. Неужели ты подумала, что я там, в Киеве, на чужбине, привык к другим женщинам? Не таким, как ты? Ты сейчас хочешь, чтобы я, уже немолодой, готовящийся к свиданию с богом человек, побил невинную девушку только за то, что она сакалабка-рабыня. Хозяин может бить рабыню, когда ему заблагорассудится. Но, Мирра, разве сами мы с гобой не продали Фанхасу в рабство сына?! Представь теперь, что и ему, да поможет ему бог, кто-нибудь вот так же, без вины, причиняет побои».
И Мирра смирилась. Отпустила руку молоденькой белокурой и белокожей рабыни, и та исчезла, пошла искать для Вениамина теффилим — священные ремни в виде наушников с коробочкой, с помощью которых набожные иудеи разговаривают с богом. Когда девушка вернулась с теффилим, то встряхнула пушистыми волосами — и они заструились золотом. И по золотым волосам Вениамин понял, что она — не рабыня. Мирра приводила к нему, вместо себя, Воиславу. Обе ведь уже были на Небе!
Вениамин спросил: «Воислава! Как там у вас на небе? Ведь там нет ни рабов, ни долгов, ни денег?!» Но увидел, что уже отвечает ему не Воислава, а опять Мирра. И у Мирры злое,, обиженное лицо, и она кричит ему: «Почему не побил ту свою киевскую похоть?..»
Мирра, не страшась разводной расписки, закричала: «Отступник! Вернись к женщине своего племени! Не предавай своего бога!.. Отступник!.. Белокурую ему подавай! Иноверец!..» А он торопливо шарил рукой вокруг себя, вслепую искал запропастившиеся молитвенные теффилим, чтобы поклясться ей, что он не отступник. Она всегда была очень вспыльчивая, легко возбудимая, его Мирра, и теперь он испугался, что она вперёд него понесётся к дому молитвенного собрания, чтобы рассказать там женщинам во дворе о страшных белокурых киевских блудницах, которые так совратили Вениамина, что он вернулся домой, а их всё забыть не может.
Вениамин проснулся, почувствовал, что его сильно трясут за плечи:
— Спишь, почтенный купец? А люди ждут тебя давно в кенасе. Иди же скорее помолиться с единоверцами, почтеннейший. Не томи людей!
Вениамин встал с земляного пола, достал из своей котомки другие одежды, начал менять одежды. Он сообразил, что идти ему совсем рядом — в старый молитвенный дом, что за караван-сараем. Он не удивился, что его позвали. Всё было по обычаю. Любой прибывший иудей, справив неотложные дела, спешит в кенасу для очистительной (после странствий с товарами по чужбине среди иноплеменников) молитвы. Ну, а там, конечно, его уже ждут все. И он получает полную возможность сочетать бога и пользу. Душу очистить и сразу себя людям показать. Знакомства восстановить. Людей поучить, — рассказать про цены там, где был, про товары ходовые, про обычаи. И узнать всё, что здесь, в городе, себе полезного.
Когда Вениамин переоделся, то гонец из кенасы поглядел на него с испугом. Вениамин-то снял с себя одеяние, достойное набожного иудея, а надел имевшуюся, оказывается, с ним в запасе одежду, вовсе к посещению кенасы для божьего дела не пригодную.
— Мы в кенасу — не в церковь пойдём! — робко попытался подсказать Вениамину прибывший за ним гонец. Но тот только отмахнулся от гонца, как от назойливой мухи: — Я знаю, что делаю!..
Во дворе караван-сарая Вениамин остановился. Понадеялся, что при полной луне разглядит свой тополь, — тот, что рос у пепелища, где когда-то был его дом. Тополя Вениамин не различил. Но всё равно, глядя в его сторону, опустился на колени, хотел помолиться. Мазбар торопил его, и Вениамин представил, как и в самом деле нетерпеливо должны ждать его в кенасе. Мир полнится слухами. Сам Вениамин, хоть уже и принят был на службу княгиней русов Ольгой, всё же исполнил долг: через «детей вдовы» известил Итиль о сборах великого войска в Киеве. Племена на Руси собирались, как пальцы на руке, в один кулак. Ольга окрестилась во Втором Риме—Византии сама и спешно готовила крещение всей Руси. Храмы росли, как грибы в високосное лето. Зачем Руси принимать христианство? Вениамин был убеждён, что Ольга не собиралась глядеть из-под руки Второго Рима. Значит, соперничество? Единой верой многие народы объединить и на развалинах Второго Рима поставить Третий Рим — Русь… Ну, а перед этим русы захотят обеспечить себе тыл. Прежде, чем идти прибивать щит на Запад, саданут военным кулаком по давнему врагу, Хазарии. Расплатятся за трёхсотлетние дани, а заодно обеспечат себе надёжный торговый выход через Хазар-море в Китай, Индию и арабские страны. Вениамин так и сообщил через «детей вдовы» в Итиль, что война Руси с Хазарией назревает. У Хазарии одно спасение — срочно просить у Руси мира. Заключить договор о торговом благоприятствовании и предложить Святославу вспомогательное хазарское войско для похода на Константинополь. Святослав нуждается в коннице. Иосиф не оценил сообщения Вениамина. Понял только, что Святослав нуждается в коннице, и сразу успокоил себя. «Чего же теперь ждут от меня единоверцы в кенасе? Что скажу что-то другое, когда Барс Святослав стоит уже недалеко от Итиля?..» — поморщился Вениамин.
Он вошёл в кенасу, необычно высокий и худой. Толпа раздалась перед ним и пропустила на самую середину. Свечи бросали своё пламя в его чёрные, невыцветшие глаза, и было что-то странное в его морщинистом лице и голове, блестевшей в пламени свечей, как голыш с берега реки. Не сразу люди поняли эту странность. Но когда «киевлянин» внезапно резко, как стражник, расставил ноги и встал грудью против всех, то вдруг сообразили люди, что «киевлянин» вошёл в кенасу, не покрыв головы. И была его голова бритой, а с затылка кисточкой свисал оселедец, и над бритым подбородком спускались с верхней губы вислые усы… И пришли в ужас люди в кенасе, и увидели, что широко расставил ноги «киевлянин», чтобы ясней показать, что на нём шаровары синие, как разливанное море, а вместо халата — белая рубаха.
— О, горе нам! Как в масличном саду остаются на деревах три или четыре маслины, или в винограднике, обобранном, не досмотрят несколько гроздей те, которые внимательно собирают виноград, — так и мы просмотрели и впустили в дом своего собрания отступника!
— Послан на нас огонь, кто угасит его?
— Угасит ли кто огонь в соломе, когда начнёт разгораться?
И подняты глаза вверх к богу, к Наказующему, заломлены руки. И причитают теперь, как над мёртвым, над тем, кого всю ночь прождали.
— Эй, братья в вере, иудеи! У кого есть нож? Я хочу перерезать горло оскорбителю! В такой одежде сейчас в церковь «перебежчики» ходят, а этот к нам в кенасу нагло припёрся…
Но «киевлянин» засунул руку под рубашку, вытащил из-за пазухи платок, прикрыл платком голову:
— Успокойтесь, братья в вере. Я не стал гойем… Вот видите, я покрыл голову. В церквах молятся с непокрытой головой. У меня просто не было другой чистой одежды, а та, в которой я был в дороге, слишком грязна, чтобы я посмел в ней войти в молитвенный дом. Если бы я остался в грязной одежде, то не соответствовала бы моя одежда моим чистым помыслам… Да и столько наших единоверцев сменило в чужестранье не только одежды, но и имена, чтобы не выделяться! Ибо душа, а не одежды и имя — мерило верности богу! Или не так?
Недоверчиво посмотрели на «киевлянина» люди, а Гер Булан стал пробираться к нему поближе: явно собрался услужить новым своим братьям в вере, искоренив отступника. Но «киевлянин» увидел пробиравшегося к нему Булана и сказал всем:
— Люди! Присмотритесь вон к этому! он знает меня. Скажи, Гер Булан, как поживает твоя бывшая жена, а моя дочь Серах?.. Вижу, что ты её очень любишь, раз перешёл в её веру.
И тут оторопели все люди и повалились на колени, потому что теперь все узнали в старике «киевлянине» бывшего старосту в этом молитвенном доме, благородного и всеми любимого Вениамина. Гер Булан споткнулся и стоял не двигаясь, в странной позе. Все молились богу.
— Почтенные! — проникновенно обратился к молящимся Вениамин, — это хорошо, что вы сейчас сразу решили вместе со мной помолиться. Но что я слышу в ваших молитвах? Вы уже засомневались — спрашиваете сейчас у бога, не дэв ли это перед вами объявился в облике старого Вениамина?.. И над вами злобно шутит? Некоторые из вас уже, слышу, громко просят об изгнании дэва из божьего заведения. Но почему я должен обернуться дэвом? Разве кто видел Вениамина мёртвым?.. Или не слышали вы, что процвёл я в делах на Руси при Ольге, великой княгине. Да вот Гер Булан подтвердит, что он меня немного на Русь сопровождал. И не обижайтесь на меня, люди! Я очень спешил к вам. Дочерей своих даже ещё не повидал. Не обрадовал их, что я жив. Сам я внукам ещё не порадовался, а уже вот с вами говорю.
Старик шагнул было Булану, раскрыв объятия. Видно, давно уже простил Вениамин своему бывшему зятю побои и «красного голыша», которые тот ему учинял, но Гер Булан старика не обнял, а стал сам быстро пробираться к выходу, и людям осталось только гадать, то ли побежал он к Серах сообщить, чтобы скорее надевала праздничные одежды и спешила к кенасе («отец приплыл!»), то ли, верный пёс, помчался к начальнику стражи Арс Тархану (а может, и к самому Иосифу), чтобы оповестить их, что нежелательный присутствием в городе еретик самолично вернулся и мелкий люд слушает в кенасе его бредни.
Растерянный из-за оскорбительного поведения Булана, Вениамин замолчал, переминаясь с ноги на ногу. Люди стали подбадривать его криками:
— Говори, не бойся, как есть! Где дружина Барса Святослава? Идёт он на город или только пугает? Хочет дань побольше с Иосифа взять?
— Не страшись сказать правды.
— О себе расскажи. Как устроился? Какие цены в Киеве?
Крикнули даже, подбадривая старика:
— Похвались, как живёшь, Вениамин!
Известно ведь, что нет ничего слаще для вернувшегося с чужбины человека, чем похвалиться перед своими, показать, что там, вдали, не ударил в грязь лицом, в делах преуспел… Вот и надеялись всё, что когда человек про то, как сам преуспел, рассказывать начнёт, то уж запираться не будет, а, расписывая про себя, заодно всю подноготную картину, какая она там, у русов, жизнь, выложит.
Однако Вениамин, вместо того, чтобы обрадованно сказать: «Вставайте все с колен и меня хорошенько послушайте…», — сам тоже на колени опустился, упёрся лбом в пол и стал неистово молиться.
Переглянулись растерянно люди. Но что было делать? Пришлось всем тоже вместе с Вениамином заново долго молиться. И пока молились, усомнились уже, такам ли Вениамин был заядлым еретиком, как про него потом даже сама дочь Серах рассказывала всем на базаре. Вспомнили, что и раньше Вениамин всегда отличался усердием в набожности, а ежели учению еретика Анана был верен, так ведь здесь многие, кто победнее в городе, сами еретики-караимы. В кенасу вот, а не в синагогу ходят, талмуд не признают, раввинов-талмудистов не любят.
Однако, молясь, поразмыслили люди и о другом. О том, что водил в своё время дружбу этот старый Вениамин с пропавшим Волчонком и с Таной Жемчужиной — дочерью руса золотоволосой Воиславой. Даже пострадал Вениамин сильно за русскую дшерь. Жалели тогда его люди, полагали, что зазря, впустую старик пострадал. А оказывается, хитрым и прозорливым был Вениамин. Знал, чего ради страдание принимает. От знакомства с русами случилась Вениамину великая польза. Так теперь поразмыслили за молитвой люди, и поняли-догадались за Вениамина о том, чего он сам не понимал, не догадывался, и для самих себя вполне удобно объяснили историю, что, мол, Вениамин явно с помощью Буда (того, за городом распятого) очутился на Руси и приобрёл вес в Киеве.
Иные люди ведь всегда охотнее верят в заранее продуманные действия, нежели в игру случайностей. И легче им поверить в низменную цель, нежели в красивые поступки. Бывает, что выйдет у человека неожиданный порыв, однако всякий знает, что жизнь материальна, и поэтому под порыв уж кто-нибудь да и подведёт этакий расчетец, а другие про расчетец сразу подхватят, стукая себя по лбу: «Как же мы сами-то об этом не догадались? Вот оно в чём заковыка!.. А мы-то, дурни, думали… А Вениамин-то, видно, уже давно на русов свою судьбу поставил. Плюнул на заговорщиков — «детей вдовы» и с удачливыми руса ми прозорливо связался».
Короче говоря, иные из стоявших на коленях верующих, вспотевших в тесноте Дома Собрания, вдруг раскусили этого ловкача Вениамина. А Вениамин продолжал молиться среди них — одетый чужаком, и его бритую голову с длинным оселедцем, как у русов, прикрывал от гнева «раскусивших его» только красный платок на затылке.
— Эй, киевлянин! А ну, отвечай почтенному собранию! — сорвавшись, прикрикнул кто-то на старика. Была в нарушившем общую молитву голосе уже не столько нетерпеливость, сколько враждебность. Покатился ком с горы. То непоправимое, что случилось в Доме Собрания дальше, после этого раздражённого крика, разом превратившего молящихся в кучку народа — толпу, поправить уже никак было нельзя. Даже если бы кто и захотел. Но хотел ли кто? Сказано в караимском житии, посвящённом великомученику хазар Вениамину, что и сам Вениамин тоже не хотел ком с горы останавливать. Он почувствовал враждебность со стороны родной общины, но решил во искупление злой враждебности этой отдать себя богу и стать мучеником в вере для будущего народа — крымских караимов. Открыл ему Вездесущий, что, спасаясь от русов, побегут хазарские караимы-иудеи в Крым и что без своего великомученика, который, следуя примеру ткача Анана, укреплял бы их веру, дальше им быть никак нельзя. И некому больше среди хазарских иудеев, кроме ремесленника Вениамина, пострадать за святую веру. Ему страдать!
В Киеве он выучил поговорку: «Не красна изба углами, красна пирогами»; так и с богами: красные углы при смене толка вероисповедания остаются прежними, а пироги-то напрочь вкус меняют. Ещё в молодости Вениамин уже страдал за веру. За четверть века перед нынешним случаем здесь же, в кенасе, на собрании общины он держал ответ за то, что отказался под новый толк подстроиться. Было ведь как. Жрецы Неизречённого бога, получив поддержку от нового потока беженцев-талмудистов, людей преимущественно богатых, открывавших в городе каждый своё торговое дело, тогда решили не пускать в Белый храм караимов (сторонников толка Анана) и стали провозглашать, что караимское учение о равных пророках Моисее, Христе и Магомете, отправлявшихся единым богом к разным равным народам, — ересь; что все караимы не достойны оставаться среди иудеев. Жрецы вызвали караимов на собрание общины, чтобы поспорить с ними по богословским вопросам перед всеми, но говорить никому из вызванных, защищать учение Анана, не дали, а просто их избили. Тогда, двадцать пять или больше лет тому назад, был Вениамин ещё достаточно крепок и быстро оправился от побоев, которыми ему хотели доказать, что он принадлежит к избранному богом племени. Караимы, как их ни били, не отреклись от Анана, и Вениамин показал тогда пример стойкости в убеждениях.
Теперь же он был стар. Он был стар, а предстояло ему опять обратиться к людям с таким словом, которого они не хотят услышать. Как когда-то талмудисты заранее уже решили не слушать.
Сказал себе Вениамин: «Ты стар: чего же боишься? Разве старик должен бояться, что честным возьмёт его к себе Вездесущий? Или ты уже и сам в том, что должен сказать, сомневаешься?..» Вениамин всё ещё стоял на коленях, но уже поднял голову. Он никогда не был трусом. Сражался с целой стаей волков и выстоял, а тут… Он встал с колен. Затаив дыхание, ждали эти люди его известия. Но действительно ли ждали от него правдивого известия? А может быть, они ждали обмана и успокоения? Только успокоения. Он выпрямился. И без того необычно высокий и тощий, он напрягся, невольно приподнялся на цыпочки и казался теперь крепким колом, вбитым посреди храма. А все ещё были на коленях. Все глядели на него. И молчали. А он уже знал, что им скажет. И про талмудистов-раббанитов (раввинов, ортодоксальных), которые всегда считали, что только они правоверны, потому что презирают всех других, потому что хоть и называют свой талмудистский толк веры в Неизречённого бога толком для избранных, но на самом деле запугивают богом, его жестокостью, его беспощадностью этих самых своих несчастных «избранных». И про высокомерие «избранных», которому грош цена, потому что это высокомерие самомнения и зазнайства. От тупости собственной самомнение и от ничтожности собственной зазнайство.
И ещё про золото. Может быть, больше всего про золото. Про жёлтую чуму, в которую многие повергли самих себя и от которой надо всем бежать.
«Женщины беспечные! Встаньте, послушайте голоса моего! Дочери беззаботные, преклоните слух к моим словам! Содрогнитесь, беззаботные! Ужаснитесь, беспечные! Сбросьте одежды, обнажитесь и перепояшьте чресла! Будете вы бить себя в грудь о прекрасных полях, о виноградной лозе плодовитой. На земле этой скоро будут расти только тернии и волчицы. Чертоги будут оставлены и шумный город покинут…» Вот так он, Вениамин, сейчас заговорит. Ещё мгновение — и так он заговорит. Ему бы только несколько нетерпеливых криков навстречу, тогда бы легче ему бросить их это в лицо.
Но они не кричали.
Кто же выкрикивает, стоя на коленях? А они ещё стояли на коленях. И Вениамин вдруг подумал, что ортодоксальные заставили «избранных» всю жизнь стоять на коленях. Или нет — разрешили ползать? Ползать, собирая золото! Ну, что вот: насобирали они здесь, у реки, как намыли, много золота, а Эль—Племенной Союз-Государство развалили, город и всю Хазарию под меч подвели, и некому их самих теперь защищать, ибо нет Эля, нет Государства. И самое большое, на что теперь эти люди способны, это срезать свои волосы и ждать. Чуда от бога? Нет, собственного заклания!.. Они могли только замереть, как птица, на которую поглядела змея. Они хотели только оцепенеть.
Они всё ещё стояли на коленях. Они привыкла цепенеть с надеждой. Цепляясь за надежду.
Но чем он их мог обнадёжить? Он прибежал к ним, чтобы предупредить о войске Святославовом, которое через несколько дней возьмёт город. Но ведь не понравится им его предупреждение! Им надо уже сейчас бежать или собирать войско, чтобы драться насмерть. Но они ведь не хотят ни бежать, ни драться.
Он сказал иносказанием:
— Боже, душа, которую ты мне дал, чиста. Ты создал её. Ты её образовал. Ты вдохнул её в меня. Ты оберегаешь её во мне, ты сегодня её у меня примешь, но возвратишь её в дни грядущие.
Прозрачно для всех он намекнул, что их всех ждёт смерть, и пошёл к выходу, перешагивая через молящихся.
Они молча провожали его недоумёнными взглядами. Они не захотели понять, что он прямо сказал, чтобы они позаботились о своих душах.
Зачем он потом остановился у выхода? Зачем обернулся? Зачем громко крикнул им, открыто обнажая свой тёмный намёк:
— Выведите Кагана!
Он несколько раз выкрикнул с порога эти два тотемных слова, известные всем хазарам и обозначающие войну, ибо Кагана выводят, чтобы поставить впереди войска, идущего на смертный бой.
Вениамин смотрел на перекашивающиеся лица, в мутнеющие от страха глаза.
Ещё мог уйти, не ушёл. Напротив, вернулся на середину молитвенного дома. Пока возвращался, уронил о головы платок — не поднял. Прикрыл обнажённую голову обеими ладонями и, опустившись на колени, так начал молиться.
Он не должен был молиться за вот этих. Он не верил, что им можно выпросить помощь у бога. Если бог один-единственный для всех, — как поучал Анан, — один для мусульман, христиан и для иудеев, — то тогда почему бог должен теперь прийти именно иудеям на помощь? На помощь рахданитам, которые не хотели жить от виноградников?! Рахданиты не хотели жить от стад. И от честной торговли они жить не захотели. Им показались малы доходы, и они сделали плотину и перехватили чужое. Почему же за то, что иудеи-рахданиты перехватывали чужое, иудеям теперь должен прийти на помощь бог? Иудеи сами виноваты, что передоверились рахданитам. Теперь бог поможет другим, кто придёт восстанавливать справедливость.
И всё-таки Вениамин стал молиться за иудеев. За них, потому что с ними — его дочери и будут с ними его внуки! Так уж устроен мир, что душа человека там, где посеяно его семя. Беда Вениамина была в том, что в дурной почве оставил он семя. Но что ему было со своей бедой поделать?.. А потом Вениамин вдруг подумал, что когда войско во главе с Каганом выйдет для сражения навстречу Барсу Святославу, то и он, Вениамин, должен будет пойти с этим войском. Надо будет только обязательно уговорить Серах, чтобы она бежала из города. Он ей укажет, есть у него надёжный человек в Киеве, который её примет. А самому придётся пойти с войском против дружины Святослава. А как же иначе?
Вениамин поднял голову и заговорил:
— Братья мои в боге! Я только за тем и вернулся в город, чтобы пойти на бой с Барсом Святославом вместе с вами. Другого выхода уже нету. Иосиф упустил время для мирных переговоров. Я тоже возьму пращу и пойду впереди среди пращников. Я раскручу пращу и буду метить в полководца. Метить в Барса, хоть Барс и облагодетельствовал в Киеве меня. Святослав силён. Но если на нашей стороне будет бог, мы умрём достойно. А сейчас пойдём все вместе совершить ташлих. Перед тем, как метать камни, всегда полагалось исповедоваться. Чистую исповедь от нашего погрязшего в грехе стяжания города не посмеет уже принять ни один священник, кроме самой смерти. Но мы можем сами совершить ташлих. Вспомним этот древний обряд нашей веры. Мы подойдём к реке, и пусть каждый вывернет все свои карманы и начнёт вытряхивать в уходящую воду все свои грехи. Всё, всё до крошки, мы должны будем вытряхнуть из своих карманов. Никому уже не понадобятся ни его деньги, ни закладные на имущество других, ни своё имущество. В уходящую воду бросим злополучное имущество. Помните: надо очень старательно вытряхнуть всё из своих карманов, чтобы не осталось ни крошечного греха…
Вениамин говорил, молитвенно стоя на коленях, а глаза его искали глаза людей, молившихся вокруг него.
Но он не сумел встретить ни одних глаз, от него отводили глаза.
Он повысил голос, потому что ему показалось, что а уши от него все тоже отводят.
Вокруг него была тихая, мёртвая стена, глухая, как опустившаяся ночь.
Потом сзади, из-за этой стены кто-то также тихо, но вполне внятно сказал: «Братья в вере! А может, ещё всё обойдётся, если мы все договоримся, что вроде как ничего не слышали… А?»
И в тот же миг Вениамин почувствовал острую боль под лопаткой. Всё поплыло у него под глазами. Он чувствовал, как режет острое лезвие его тело, и хотел обернуться, чтобы увидеть, — нет, не своего убийцу (зачем ему было лицо убийцы?), а бога. Потому что известно, что в час смерти верующим в Неизречённого бога наконец-то показывается, открывается сам бог.
Но вместо бога прямо перед собой Вениамин увидел лицо Мирры. Только почему-то у неё теперь были не чёрные, а белые волосы. Мирра улыбалась к что-то говорила, а он никак не мог разобрать что, и он тоже торопился ей что-то ответить. И не успевал.
Тогда он собрал все свои силы, повёл плечами, сбрасывая с себя навалившиеся на него тяжко дышащие тела, и встал над всеми. Он стоял над всеми, необычно высокий и худой, как граничный столб, вбитый почему-то посредине молитвенного дома.
Что привиделось тебе, сыну Амосову, во дни Озии, Иафама, Ахаза и Езекии? Не те ли же, что увидел сейчас, вместо своего бога, Вениамин?
Видит, видит Вениамин, что погибнете вы, обступившие его, как фарисеи Флавия.
И он крикнул:
— Погибнете вы, — и не оттого, что из корня змеиного выйдет аспид! Не летучий дракон грядёт к вам. Армия Святослава плывёт по Реке. Голубое корзно пляшет на плечах полководца, боевые хоругви и знамёна на носах лодий. Белые рубахи, как на мне, Вениамине, на гребцах. Как положат гребцы вёсла, как возьмут все они в руки по мечу обоюдоострому!..
Ему было ответом многоголосие:
— Бейте отступника!
— Распнём предателя!
— Царь Иосиф приказал казнить на месте всякого, кто будет сеять панику, требуя вывести Кагана к народу.
Не разложено было камней на гладком, укатанном полу дома собраний, а то бы каждый бросил в него камень.
— В тот день укреплённые города твои будут как развалины в лесах и на вершинах гор. И будет пусто, ибо ты забыл бога спасения твоего, — шепчет, умирая, Вениамин.
— Что шепчет еретик?..
— Эй, а ну, ударим его ещё раз! У кого сила есть, все ударим. Будет он войну накликать!..
— Бейте, бейте его! Убивайте! За убитого отступника бог на том свете по семь грехов снимает!..
…Он лежал с глазами открытыми к небу. Его тело выкинули из молитвенного дома. Когда Гер Булан привёл к его вытянувшемуся телу царицу Серах, Вениамин ещё дышал.
Серах наклонилась над ним. Он прошептал»
— Здесь пощады не будет. Беги в Киев, дочка…
Серах сама закрыла своему горемычному отцу чистые глаза.
День тридцать седьмой. «Прозрение Арс Тархана»
Гер Булан поймал свою удачу, сообщив царю Иосифу о появлении в кенасе и гибели там Вениамина. На следующий день титул джавшигара (командующего флотом) Иосиф передал начальнику Булана Арс Тархану. Теперь Арс Тархан должен был стоять на носу единственного царского корабля и ждать, пока царь Иосиф соизволит взойти на корабль. А на Арс-Тархановом месте суетился выдвиженец Гер Булан.
У Арс Тархана на душе было муторно. Не смертнику ли подарены два громких, но пустых титула? Не своему ли человеку, Геру Булану, повязанному вероисповеданием, освобождена ключевая должность? «Если ворона узнает о грозящей опасности, она проклёвывает лёд. Мудрый человек, когда ему делают намёк, понимает быстро…» — думает Арс Тархан. Он не хочет быть глупее вороны. Дела хазар плохи. Самая пора проклёвывать лёд.
Царь Иосиф с утра показывался городу. Трижды пересёк его вдоль и поперёк в сопровождении множества стражников во главе с новым начальником стражи Гером Буланом. Пересекая город, Иосиф был в доспехах и панцире. Чтобы все видели, что он готовится к войне. А в полдень захотел ещё и на военком корабле поплавать. Джавшигар Арс Тархан увидел, как машет издали Гер Булан платком. Подаёт джавшигару условный знак причаливать — подавать Иосифу корабль.
Ударили хлысты по двадцати пяти рабским спинам вдоль правого борта и двадцати пяти рабским спинам вдоль левого. Прикованные к скамьям гребцы повели корабль к правобережному причалу, где обычно швартовались заморские челны и взимался бадж (налог). Ещё вчера здесь стояли лодии армян-каменотёсов, приплывших с верховьев реки, из Руси. Сегодня причал пуст. Армяне с рассветом поспешно ушли к морю; другие же иноземные корабли покинули город ещё раньше.
Джавшигар Арс Тархан ошибся по неопытности: не подал вовремя команды «сушить вёсла» — и корабль врезался в причал, едва не сломав себе нос. Царь Иосиф молча взошёл на корабль, не попрекнув нового джавшигара; молча уселся в одиноко стоявшее на корме царское кресло.
И тут по знаку Арс Тархана сразу же ударили хлысты по рабским спинам, и корабль резко отошёл от берега, не захватив шедших за царём несколько на расстоянии, как положено, стражников. Арс Тархану было приятно, скосив глаз, насладиться растерянной физиономией Гер Булана, но, разумеется, важнее было то, что теперь царь Иосиф оказался снова в его руках. Иосиф дёрнулся было приказать вернуться к берегу, но, подняв руку для знака, тут же опустил её — увидел, что вокруг Арс Тархана достаточно вооружённых воинов.
Корабль медленно скользил к длинному, вытянутому острову посреди Итили-реки, на котором неприступной крепостью, щетинясь бойницами, стоял царский дворец с высокой белой вежей (башней). Далеко была видна с башни степь, далеко видно вниз и вверх по реке.
Что видно сейчас с башни? Ходят слухи, что бросился Волчонок-лепёшечник в степь по кочевьям — собирать войска. Знает Арс Тархан, что это только слухи. Торгует лепёшками на базаре Волчонок. Неужели оставила Ашина Волчица свой Эль?.. Неужели отдаст подкрадывающемуся Барсу на съедение?
Арс Тархан в последние дни рвался на крышу башни. Ему казалось, что оттуда уже видно будущее хазар. И он даже отдал своим самым надёжным людям приказ выслеживать лазутчиков Барса Святослава.
Но надёжные люди ничего Арс Тархану не донесли (или, может быть, они решили, что доносить теперь удобнее Геру Булану?). А с башни царь Иосиф прогнал даже титулованных «Наблюдателей за Луной» Шлуму и Мазбара. Иосиф теперь наблюдал с башни только сам. Со страху высматривал ли он тоже Волчонка в степи? Хотел что-то первым успеть предпринять один, сам? Или, может быть, Иосиф боялся слухов о враге и паники больше, чем самих врагов?..
Военный корабль с Иосифом сначала плавал вдоль берегов и вдоль острова, стараясь привлечь к себе побольше внимания. Потом Иосиф дал знак, и Арс Тархан повёл корабль к царскому дворцу. Но не к парадному причалу, а тихо и скромно ткнулся у чёрного входа во дворец. У парадного причала царя давно ждали, прея в тяжёлых золочёных халатах, тавангары (знатные города). Тавангары пришли требовать от царя: «Вывести Кагана!» Иосиф пытался скрыться от них. Тянул время.
На помосте корабля Иосиф сидел в белом халанжевом кресле, рыжий, гордый. Делая вид, что не заметил мелкой уловки Арс Тархана, оставившего царя без личкой охраны. Сначала, правда, Иосиф сделал поползновение опуститься на колени и помолиться. Но, видно, не решил, какому он сейчас богу должен здесь, на корабле, на глазах у всего города молиться? К чему приравнивается корабль — к чьему спасительному ковчегу? мусульманскому, христианскому или иудейскому?
Дворец расположился на острове ровным четырёхугольником. Впрочем, хотя его и именовали дворцом, но даже перед парадным входом не был в нём ни пышных порталов, ни кариатид. Предки Иосифа, начав передавать свою должность Иши-управителя по наследству, слишком чувствовали свою временность в Итиле, чтобы разоряться на дорогостоящий строительный камень, который надо было бы завозить по морю с Кавказа или сплавлять по реке из Руси. А тем более поскупились нанимать в других странах камнерезов и плотников. Зато они не пожалели кнутов на спины рабов, насыпавших широкую глинобитную стену, отходившую от дворца и оберегавшую весь остров. Поскольку стена охватила весь остров — и дворец, и храм, и даже многочисленные виноградники, — то остров, пожалуй, теперь мог выдержать длительную осаду. С лодий Святославу с ходу остров не взять. И, наверное, есть надежда у Иосифа дождаться, пока на помощь подойдут покровительствуемые кочевые племена. «Но вот захочет ли Степь выручать Остров?», — засомневался Арс Тархан. Он ждал, не перебрасывал сходни с корабля на берег. Рабам надо было скатать небесно-синюю, как первосвященнический пояс, кошму, расстеленную в парадном входе, и перенести её к чёрному входу. Без синей кошмы Иосиф не захотел сходить с судна, взяв таким образом реванш за уловки Арс Тархана.
Иосиф всё ещё сидел в своём белом халанжевом кресле на корме корабля — невозмутимо, выпятив вперёд подбородок с раздвоенным клином рыжей бороды. А Аре Тархан со злорадством наблюдал, как по обеим сторонам синей кошмы встают прибежавшие тавангары. Рядом отчаливали от острова и мимо царского корабля один за одним уходили в сторону моря ушкуи. Ушкуи были старыми — из тех, что когда-то хазары купили у русов вместе с зерном. Тогда их выкинули на берег, теперь плотники срочно залатали лодки, чтобы вывезти людей и товары с острова перед ожидаемой его осадой войском Святослава. Гуськом прошла целая колонна ушкуев, в них увозили связанных рабов. На последней из них Арс Тархан увидел Серах. Она стояла на капитанском мостике и небрежно махала Иосифу рукой. Главная жена царя Серах не задержалась даже на тризну по отцу своему Вениамину. Погрузила весь живой товар (якобы завещанный ей Фанхасом), объявила Иосифу, что поскольку владеет отдельным дворцом, то имеет право не спрашивать у него разводной записки, и двинулась вниз по Реке.
Царь Иосиф отвернулся от прощально махавшей с корабля царицы.
Улыбаясь, Серах крикнула:
— Царь Иосиф! Я скоро вернусь!
Арс Тархан рассмеялся. Он никогда не видел, чтобы крысы, сбежавшие с корабля, на него возвращались.
Царь Иосиф, наконец, ступил на синюю кошму; посреди кошмы нахально лежала горка берёзовых поленьев. Вокруг закричали: «Выведи Кагана!»
«Теперь посещения Куббы тебе, кажется, уже не избежать, кончилось твоё единоличное царствование», — ухмыльнулся про себя Арс Тархан и, сойдя с корабля, двинулся вслед за Иосифом. По обычаю, Кандар-Каган (главнокомандующий) согласно Тере должен был самолично сопровождать Управляющего в его посещениях Золотой юрты. Но главнокомандующий Песах был мёртв. Джавшигар Арс Тархан стал и главнокомандующим.
Рабы несли им навстречу длинные русские свечи. Несмотря на яркое солнце, свечи были уже зажжёнными. Запах плавящегося воска напоминал о мёде, о хмельных медовых тризнах. О златокудрой девушке Воиславе, дочери руса, которая могла стать женой Волчонка и спасти Эль. «Жаль, красивая была Тана Жемчужина», — вдыхая запах плавящегося воска, подумал Арс Тархан. «Когда-то я стрелял в неё, но ветер отнёс стрелу, и стрела поразила Тонга. Как бы то ни было, нет на душе сейчас у меня греха за смерть Таны. Хоть этого греха нет!..» — Арс Тархан обрадовался тому, что был однажды не меток.
Подошвы Арс Тархана мягко тонули в ворсе синей кошмы. Он ступал осторожно, будто крался. Став джавшигаром, он сиял с себя броню, ходил теперь лишь в лёгком, чёрном с красным, плаще и даже сам себе казался необыкновенно лёгким. Ничего общего не имеющим с прежним «истуканом». Ему хотелось сейчас расстаться с «истуканом», потому что на «истукане» было много грехов. А час расплаты по всем признакам был слишком близок.
Иосиф нагнулся за поленьями. По обычаю, Иша должен был сам поднять поленья, как слуга Кагана, и гордое Иосифово тело обмякло, спина сгорбилась.
— Вот теперь я вовсе не Царь, а только Иша, который сейчас пойдёт на поклон к Повелителю. Впрочем, полезно даже для царя почувствовать себя в шкуре «заводного», — Иосиф ёрничал. Хотел убедить Арс Тархана, что его унижение временное, что он был не халиф на час, а всё у него вычислено. Или это он так успокаивал себя?
Арс Тархан тихо злобился: «Ну-ну, Иосиф! Давай беги, неси поленья божественному, могущественному Кагану, чтобы Небом Рождённый мог на их огне тебя очистить. Потом Каган допустит до себя твою грязную душу! Ах, как забавно, что тебе положено пресмыкаться, очищаясь перед Каганом, именно с берёзовыми поленьями. Ведь их привезли из страны Русов!..» Сколько уж лет Иосиф под любыми предлогами всячески избегал обряда посещения Куббы. Объявлял всем, что посещал, а сам не посещал! Даже по весне! По обычаю, установленному ещё основателем династии управителей, каждую весну Ише-управителю надлежало очищаться перед Каганом за прежние грехи и получать его благоволение на новый год. В первое время у Кагана испрашивали благоволения на площади принародно. Потом — лишь при тавангарах во дворце. Иша Обадий ритуал перенёс в Куббу. Но Каган ещё иногда являлся народу, Иосиф вовсе перестал выпускать Кагана из Куббы. Смертные люди уже не смогли проверять, испрашивается ли благоволение. «Наблюдал» один-единственный свидетель — Кандар-Каган Песах. Арс Тархан поёжился. Выходило, что он теперь будет единственный свидетель.
Между тем они с Иосифом все бежали вниз-вверх по лестницам дворца. Рядом с Иосифом, несмотря на яркий день, колыхались свечи, которые несли скороходы, своим огненным кольцом как бы огораживая его от грязного мира. Иосиф бежал быстро, и скороходы со свечами в руках едва поспевали за ним. Арс Тархан видел, как напряжённо Иосиф смотрит себе под ноги. Вспомнил, что во время обряда Иша не смеет оступиться. Это бы означало, что духи выразили в нём сомнение. Лицо Иосифа взмокло. Арс Тархан обнажил меч. Тере (обычай) строг. Наблюдатель обязан убить Ишу, если тот окажется слабосильным. В кочевой державе вековым обычаем было предусмотрено всё, чтобы управители оставались ими, лишь пока были бодры.
Иосиф покосился на меч Арс Тархана и прибавил ходу. Арс Тархану бежать за Иосифом с обнажённым мячом в руке стало неудобно. Он начал бояться, что сам споткнётся.
По всем лестницам дворца, наблюдая обряд очищения, набилась тьма зевак. Беспрерывно ударяли бубны. Беспрестанно, пронзительно и жалобно пели трубы.
Наконец, Иосиф выскочил из дворца во внутренний двор. Бубны и трубы сразу затихли. Иосиф всё-таки растерял часть поленьев из охапки, которую взял в руки. Услужливые доброхоты подложили ему обронённые поленья. К Арс Тархану подошёл чёрный раб и протянул чёрную свечу. Арс Тархан убрал меч в ножны и взял из рук раба чёрную свечу.
Иосиф ступил на жёлтую кошму, бежавшую через внутренний двор, где виднелся частокол, а за ним высилась Кубба — золотая юрта Кагана. Жёлтая кошма принадлежала уже Куббе. Стражники, даже сам начальник стражи Арс Тархан, никогда на неё не ступали, на жёлтую кошму. Они несли службу вокруг Куббы. Внутрь Куббы допускались одни евнухи, ибо в Куббе жил не только сам Каган, но и весь его огромный гарем. Покойный Песах, когда был Кандар-Каганом, упоённо, сладко хвастался, что ласкал красавиц, предложенных ему Каганом в гареме Куббы. Песах всегда много врал про свои подвиги, но ведь была же среди его вранья и какая-то правда? Арс Тархан помедлил. Потом осторожно поднёс огонёк своей свечи к берёзовым дровам на руках Иосифа. Заранее смоченные нефтью, дрова вспыхнули жирным, густым пламенем. Вытянув подальше от лица руки, Иосиф побежал с дровами к юрте. Тамарисковый частокол, окружавший юрту, был с высохшими головами на многих кольях. Кошма вела прямо на такие колья. Арс Тархан вытащил меч, забежал вперёд Иосифа, раздвинул мечом колья, освобождая Иосифу проход.
Вот и отдёрнута волочёная кошма, занавесившая вход в Куббу. Иосиф даже не дождался, пока Арс Тархан задёрнет за собой кошму. Облегчённо швырнул прямо себе под ноги священные дрова. Захлопал громко в ладоши, заорал, как будто боялся.
— Эн, евнухи, живо вина! Передайте Кагану, что Иша прибыл. А пока предложите нам, как желанным гостям, выбрать по красавице из его гарема, чтобы развлекали нас, пока мы ждём…
Появившиеся чёрные евнухи затоптали догоравшие священные поленья. Расстелили ковёр. Откуда-то из темноты, из глубины (Кубба состояла как бы из нескольких больших юрт) принесли кубки с вином. Арс Тархан принял кубок. Не дожидаясь Иосифа, поднёс свой кубок к губам и выпил вина. Он был мусульманином, но его мучила жажда. Оправдываясь, сказал, будто виночерпий:
— Царь, я проверил, вино без яда.
Когда оба, Иосиф и Арс Тархан, расселись на ковре, евнухи принесли шёлковых цветов и осыпали их цветами. Лепестки цветов были пропитаны благовониями и источали острые ароматы. Иосиф, вдруг забыв о своём высокомерии, тронул Арс Тархана за плечо:
— Сейчас будут музицировать, танцевать и петь шестьдесят наложниц Великого. А ты, храбрый моряк, выбирай себе любую… Каган не откажет… — в Куббе, выпив вина, Иосиф стал вести себя с Арс Тарханом, как с приятелем. Он даже подмигивал ему, строя рожи. В Куббе была полутемь. Сквозь узкий дымник дневной свет пробивался слабо и превращал всю внутренность Куббы будто в царство теней.
Заиграла музыка, и Арс Тархан не столько увидел, сколько догадался, почувствовал, что ей в такт движутся какие-то фигуры. Глаза его уже попривыкли к сумраку, и он различал то гнущийся к земле стан, то колышущийся обнажённый живот, то протянутые к нему и Иосифу руки. Сверкнул смеющимся цветом драгоценный камень и отразился в блестящих белках чьих-то глаз. Выплыла вереница горящих свечей. Она текла из тёмной глубины юрты, свиваясь в мерцающий, манящий клубок. Свечи горели слабо. Не освещали, а словно только манили светом. И музыка была тоже слаба, тихо зазывала. Мягко звенели струны чанга, глухо откликнулся низким рокотом рубаб. Но созвучия быстро гасли, едва различимые, таинственно далёкие, как печальное эхо. И даже крик ная, негармоничный и пронзительный, был здесь лишь как вопль похищаемой женщины, задыхающейся в мешке.
Ближе и ближе подвигался к Арс Тархану клубок свечей. Вот поплыл прямо на него. Мелькнуло перед его глазами бледное женское лицо. Резко очертились насурмленные брови, ударило в нос запахом амбры, и тут же погасла свеча, поднесённая к раскрывшимся багровым губам. И снова ударило ему в нос запахом амбры, и приблизились вплотную куски лица. Отдельно губы, брови. Как задутая свеча, пропал в темноте тонкий силуэт. Как тень, как бесплотное движение воздуха, принёсшего амбру. Как порывы слабого дыхания, уступающего место второму, третьему, десятому смутному облаку. Они гасли одно за другим — лица, как свечи, являющиеся и исчезающие. Рубаб тихо уговаривал Арс Тархана, а най всё кричал, будто похищаемая женщина. Иосиф опять тронул Арс Тархана за плечо:
— Не теряйся, храбрый каткулдукчи, воин! Возьми своё! Когда ещё представится случай узнать, каковы на ласки дочери ханов и племенных вождей…
Амбра была в дыхании, надвинувшемся на Арс Тархана и жаждавшем слиться с его дыханием. Грубо, животно Арс Тархан схватил одну из полупрозрачных фигур; ему казалось, что он хватает тень, воздух, что-то ускользающее. Но почувствовал, что опрокидывает на ковёр плоть. Он с треском рванул укутывавший эту плоть прочный зербафт. Разорвал ткань руками, будто высвобождая пленницу из мешка. Нагое тело выпросталось из одежд и поникло на ковёр среди шёлковых цветов. Закричал най. Надвинулись из глубины свечи — много свечей. Высветили обнажённую красавицу, и в близком, теперь вполне отчётливом свете Арс Тархан увидел под своими руками дряблую кожу, костлявое, сухое тело старухи, жалко улыбающийся беззубый рог. Он хотел отшатнуться, но его руки всё ещё обнимали её тело. Он силился остановить своё желание. Но его собственное тело, содрогнувшееся от брезгливости и омерзения, как будто только и ждало этой собственной судороги, чтобы разрешиться в гнусной пляске. В этот миг представилось ему, что он сам не человек, а город, и пляшет не он, пляшут все, весь Город-на-Реке, пляшут хазары, возложив руки на тлен и обманывая себя, что не для них давно привезли таботаи — гробы для праха. И тут пришло освобождение. Через секунду Арс Тархан что-то кричал и брезгливо отпихивал ногой от себя комок разорванного зербафта, и поминал Хызра, хотя сам прекрасно понимал, что таинственный хызр (неумирающее существо в зелёных одеждах) виноват тут не более, чем та его собственная мерзость, искупаться в которой его умело подтолкнул Иосиф. Поминать хызра можно бы было тогда, когда, вместо старухи, к нему сейчас вышла бы дивная шестнадцатилетняя гурия. А он? Сам он столько лет охранял этот гарем и должен был помнить, что уже тридцать девять лет не проводили по жёлтой, ведущей в Куббу кошме ни одной новой жены для Кагана, ни одной молодой наложницы. С чего же тогда здесь, внутри «таботая», он возмечтал найти лалы как рубины и перси как яблоки?
Иосиф обнял Арс Тархана за плечи и закричал:
— Эй, евнухи! Принесите наблюдателю крепкого набиза, самого крепкого! А вот эту дрянь, разорвавшую на себе самой перед его невинными очами одежды, посадите на кол. Она опозорилась. Напомните же ей и всем гражданам города, что здесь вы, евнухи, не едите государственный хлеб даром, а блюдёте справедливость и достойную строгость. Вынесете её из Куббы и посадите за блуд на кол, чтобы все это видели.
Евнухи молчали. Но Иосиф ласково и внушительно, объясняя им, будто детям, повторил свой строгий приказ. Набиз, густой и крепкий, ударил Арс Тархану «в голову, и он, уже глупо смеясь, наблюдал, как евнухи подняли, будто куль, и понесли на кол женщину, завёрнутую в разорванный зербафт. Всё было на его глазах. Евнухи подняли бьющуюся женщину и одним резким движением опустили на тщательно заточенное остриё. Она кричала, её тело конвульсивно дёргалось. Арс Тархан пьяно и глупо хохотал, думая о том, как бывают похожи зачатие жизни и смерть.
Иосиф опять обнял Арс Тархана:
— Вот твой грех стёрт и уничтожен. Кол с трупом вынесут на ветер, и там будет медленно остывать то, что было телом. Остыл ли ты? Не думай, что осквернился. Нет бабы-дряни, значит, уже нет и твоего стыда с него.
Иосифу в голову тоже ударил крепкий набиз, иля он хотел надёжнее связать подлыми словами, как арканом, Арс Тархана. Он всё говорил, говорил:
— Послушан, мой храбрый моряк! Ты ведь теперь моряк! Ты не заметил, что у этой пытавшейся соблазнить тебя старухи был лоб блудницы? Да ты не опускай голову. Подними голову гордо! Чист перед людьми не тот, кто не совершает пакостей, а тот, против кого нету свидетелей. Её нет. Она на колу. А русы? Ты их не бойся… Вот видишь, я их не боюсь, а я их уже видел со своей башни. Никто в городе ещё не видел, я со своей башни уже давно вижу и молчу. Потому что знаю, что надо молчать. Все бегут. А русы пройдут мимо. Я тебе говорю, что русы пройдут в море. Русы же не такие, как мы. Они разумные. Они не прикоснутся к городу, потому город наш для них такая же старуха, завёрнутая в золотистый зербафт, какую изнасиловал ты. Старческое, уже не дающее всходов лоно. Утроба бесплодия — вот что такое хазары. Мы же уже умерли. Ты слышишь? Хазары умерли. У тебя, Арс Тархан, есть дети? Нету! Дэв зарезал твоего сына! Бог не дал тебе бросить в эту землю семя. И мне не дал. Я взял молодую жену, Серах, и та сегодня сбежала. Но ты слышишь: ч спокоен, потому что я. знаю, что она сбежала бесплодной. Бог не даёт хазарам бросить в землю своё семя. Все вымирают. Волчонок? Где он? Пришла к нам Тана Жемчужина, красавица, золотоволосая Воислава. Нет её. Погубили её умирающие хазары. Пришёл от «детей вдовы» епископ Памфалон? Уж он-то надеялся, что посеет в душах… Негде, некому у хазар сеять в душах… А Гер Фанхас? Ах, ужасная гибель? И кто после него? Вениамин, отдавший дочерей за сакалабов, тоже растерзан.
Арс Тархан расставил широко ноги. Иосиф тоже поднялся. Шепнул, заговорщически подмигивая:
— Здесь, на ковре, неудобно. Я тоже хочу. Отойдём в сторону.
Пока они оба опрастывались, Арс Тархан думал: «Вот жалуется мне Иосиф. Но мне-то до хазар что?.. Все в городе подтвердят, что у меня нет в Хазарии гробов моих предков. Мои отчие гробы в Хорезме. Это не моя земля. Я был здесь только наёмник. Я так и объясню Барсу Святославу, что я здесь был наёмным командиром со своими воинами. Все это подтвердят. Русы сами сейчас служат в гвардии у Базилевса и у Халифа. Русы здесь тоже до арсиев служили. Разумеется, когда начнётся битва, то мы выполним свои обязательства и выйдем на битву. Русы не терпят предателей. Но после неудачной битвы моё полное право попросить Барса Святослава, чтобы он принял меня с моими арсиями к себе на службу». Арс Тархану так понравились собственные доводы, что он, забывшись, по-приятельски похлопал по плечу остающегося с носом злосчастного Ишу Иосифа. Он уже внутренне попрощался с ним. Евнухи объявили, что великий Каган желает отпустить грехи Ише.
Иша Иосиф и наблюдатель джавшигар Арс Тархан послушно встали на колени. Опять задрежженели бубны, завизжали наи. Теперь вспыхнули сотни огней — свечи, факелы, плошки. Языки пламени жёлто и красно отразились в золотистых пластинах, прибитых на мощных опорных столбах, поддерживавших свод юрты, и в золотых нитях, которыми была расшита юрточная юбка. Нагие, с раскрашенными в жёлтое и красное телами, в одних золочёных набедренных повязках, чёрные евнухи плясали танец огня. Они прыгали, катались по земле, рвали, крича, на себе волосы, грозили злым духам. Потом жёлтой рекой потекло золото. Евнухи выносили из глубины и расставляли на усыпанном душистыми ветвями рейхана земляном полу золотые чаши, кубки, сосуды, всевозможную утварь. Они выкатили огромную золотую бочку с мёдом и прицепили к ней массивный золотой ковш. Потом евнухи наполнили водой кубки. Полили водой невидимых духов, моля их напиться и не забирать с собой дождь — оставить дожди Кочевнику.
После пляски огня евнухи вынесли золотые ложа. Череду золотых лож, украшенных сапфирами, изумрудами, агатами. У лож были ножки в виде золотых павлинов, лисиц, львов, верблюдов, лошадей и ещё каких-то совсем диковинных зверей. Арс Тархан смотрел на золото и удивлялся, как эту древнюю утварь, которой пользовались ещё первые Каганы кочевников, давно не прибрал к рукам и не распродал Иосиф? Или он посчитал, что, в живой могиле — в «таботае», каким стала Кубба, клад надёжнее сохранится? Скорее всего, Управитель посчитал именно так. Но тогда, почему не увезли всё это золото сейчас, когда подступил Барс? Неужели Иосиф собирается оборонять остров? Безумец!
На золотые ложа тем временем возлагали Кагановых жён. Их выносили откуда-то из кромешной темноты и несли, как несут знамёна на ристанье, торжественно, гордо; и опускали, как опускают, складывают десятки знамён к ногам (могиле?) победителя. Их лица были белы, как мел, стан был только древком, а голова только шпилем к полотнищу, но по-прежнему каждая из двадцати пяти Кагановых жён гордо крепила к себе цвета приславшего её к Кагану народа, её родного народа. Каждая оставалась залогом верности (каким, ей внушали, она должна стать, когда её отсылали из родного дома и помещали в Куббу), навсегда уверовав в своё символическое предназначение! Двадцать пять народов когда-то объединил в себе кочевничий Эль под именем Великого Хазарского Каганата. Объединение было временным и давно уже стало условным. Но разве знамя, материя которого выцвела и постарела, всё равно не остаётся на все века знаменем?.. Пусть даже памятным знаменем утраченного величия, возложенным к повапленному гробу прежней славы!
Великий Каган Хазарии появился в золотом, похожем на птицу кресле, которое везла тройка чёрных, изображавших вороных коней, рабов. Одной рукой старец держал серебряные вожжи, а другой придерживал полупрозрачный сосуд с плавающим в нём в меду человеческим телом. Чёрные рабы, изображавшие лошадей, вывезли птицу-кресло точно на середину Куббы, под столб света, падавший из дымника, Великий Каган встал в кресле, принимая от прислужника ковш с водой. Арс Тархан и Иосиф, перегоняя друг друга, поспешно поползли к стопам Божественного. Арс Тархан давно уже разуверился в божественной силе Кагана. Как можно было в ней не усомниться после того, как Иша посадил Кагана в Куббу, как в клетку, а Каган не смол испепелить Ишу? Но вот увидел Арс Тархан Кагана и испугался, и пополз, и уже преклонился перед ним.
— Встаньте, презренные! — старческий голос дрожал. Иосиф встал с колен, Арс Тархан остался лежать у ног. Трясущимися руками нашёл Каган воротник Иосифа, на ощупь, наклонив ковш, вылил за шиворот Иосифу воды. Потом, водя рукой, стал искать Арс Тархана. Над Арс Тарханом склонилась круглое дряблое лицо, похожее на прогнившую тыкву. Белые бельма виднелись в глубоких трещинах глазниц. На подбородке, вместо девяти клоков бороды, болтались девять волосин. Каган вылил на голову Арс Тархану оставшуюся в ковше воду. Прошамкал:
— Пусть вода войдёт в ваши жилы и напоит их, как землю дождь. Пусть вечно зелёными будут всходы вашей доблести и никогда не высохнет святой посев правды в печени вашей! Те, кто скачут на рыжих конях и видят весь мир, позволили страшной печи окружить Эль Кочевников. Но мужайтесь. Да будет всегда в жилах ваших дождь, чтобы обратить жар искр в мягкость розы, черноту дыма в белизну лилии, горящую силу огня обратить в творящую. Примите же от меня помазание телом врага побеждённого. Обмажьтесь кровью сильного врага — обретёте силу всех своих врагов…
Каган наклонился ещё ниже над Арс Тарханом и пригнувшимся Иосифом и, зачерпнув ладонью из полупрозрачного сосуда с плавающим в меду человеческим телом, стал обмазывать настоянным на трупе мёдом лица Ише Иосифу и Арс Тархану. Арс Тархан стерпел, хотя считал этот кочевничий обычай глупым и диким.
«Почётно верить в Аллаха, — полагал Арс Тархан, — на худой конец, можно понять уверовавших в Иисуса и Неизречённого бога, хотя Аллах единственный велик и могуч. Но поклоняться трупу арабского полководца Абб Ар Рахмана Ибн Рабия Ал Бахили? На такое способны только карахазары — чёрные кочевники, которых десятки лет бил этот арабский полководец, пока на тридцать втором году хиджры, шестьсот пятьдесят втором христианской веры, однажды по собственной неразумности не попал храбрый мусульманин в дрожавшие перед ним руки… Они теперь вот перед ним, даже мёртвым, дрожат. А мой долг перед Аллахом разбить этот сосуд и похоронить, как положено, правоверного…» Так подумал Арс Тархан, пока Каган мазал ему лицо мёдом. Но тем не менее он подобострастно сам подставлял своё лицо под всё новые н новые мазки, сомневаясь в том, что они принесут ему спасение, но одновременно опасаясь и того, как бы по неразумности своей не лишиться спасения.
— Встаньте, слуги мои, и говорите, зачем вы пожаловали ко мне, отрешившемуся от мира вот уже много лет? Я, Небоподобный, Небом Рождённый, мудрый Каган кочевников, готов вас выслушать…
Иша Иосиф молчал. А о чём мог говорить Арс Тархан?.. Тогда Каган прервал молчание сам:
— Расскажите мне, вы, пришедшие ко мне, кто сейчас правит хазарами и Городом-на-Реке? Подобрали ли вы достойного Ишу после того, как я проклял прежнего неразумного Ишу Иосифа и повелел ему лишить себя возраста?..
Арс Тархан ощутил, как тупо сжалась его печень, а конечности, ноги и руки похолодели. Он смотрел на Иосифа. Неужели он, Арс Тархан, вошёл в Куббу с мертвецом? Или он пришёл в Куббу с дэвом, обернувшимся прежним Ишей Иосифом?
«Каган давно приказал Иосифу удавиться. Иосиф не мог воспротивиться. Не было за несколько столетий существования Хазарского Эля случая, чтобы кто-нибудь воспротивился приказанию, изречённому из уст Кагана. Божественный Каган только говорил, кому истёк возраст, а тот сам убивал себя. Так всегда было…» — Аро Тархану не стало хватать воздуха, вслед за печенью сдавило и сердце. Он отполз от Иосифа, как от зачумлённого. И вдруг суеверно догадался, почему бесплодна Серах и не помогли рабыни, положенные на её чресла, сколько бы она их не клала. Не рожают женщины от мертвеца!.. И он с ужасом понял, почему стала бесплодной Степь, и отняло Небо продолжение рода у него, Аро Тархана, подослав «голого дэва» зарезать у него сына!.. Не дарует Небо бессмертия тутгаре (прислуге) мертвеца!.. Мертвецу надо было прогнать из Хазарии дух, потому что мертвец только тем и отличается от живого, что у него нет духа. Мертвец учил всех копить мёртвое золото и поручил Арс Тархану извести Волчонка, потому что Волчонок был живым. Такова была тайна последних лет существования Хазарии. Но почему же Кандаркаган (главнокомандующий) Песах, который прежде сопровождал Иосифа в Куббу и, значит, знал это, никому, однако, не открыл этой тайны?! Поднял на последнем Диване нож на Иосифа, но не решился объявить Дивану почему?! А к людям и вовсе не подумал даже на площадь пойти и о преступлении рассказать? Не раскрыл этой, самой главной, тайны — про мертвеца Иосифа?.. Или эта тайна «детей вдовы», которую могут знать только посвящённые и её нельзя, подобно имени Неизречённого бога, непосвящённому доверить?! Страшны «дети вдовы»!
Арс Тархан полз прочь от Иосифа. Полз медленно, как черепаха, на которую взвалили тяжесть.
Но разве не взвалила сейчас на него ризк (судьба) в самом деле великую тяжесть тайны?!
Арс Тархан отполз в угол юрты и только тогда поднял глаза на Иосифа.
Иосиф стоял рядом со старым Каганом и молчал. Потом оглянулся на Арс Тархана и равнодушно как-то, будто это даже сейчас нужно не ему, а только стоящему перед ним старику, проговорил:
— Возьми назад своё то прежнее заклятие, старец! Возьми для своей же пользы!
Иосиф будто дарил назад Кагану его слова, милостиво возвращал их сглупившему старику:
— Возьми назад своё заклятие, потому что это я, Иосиф, опять перед тобою. Ты осудил меня к лишению возраста, а я остался править. Я даже лучше правил. Прежде меня иногда называли, «царём», переводя так из подобострастия точный титул Иша — Управитель. А после того, как ты наложил на меня заклятие, мне ничего больше не осталось, как принародно надеть на свою голову корону. Теперь я хазарский царь. А ты стал ещё дряхлее. И ты настолько дряхл, что забыл, что срок твоего каганства давно истес, как давно истёк срок твоего разума. Это я держу тебя на каганстве, потому что мне хватает своего разума и мне даже удобнее держать на каганстве Кагана с погасшим разумом. Так что возьми быстренько своё заклятие назад, иначе я прикажу пришедшему со мной джавшигару Арс Тархану накинуть сейчас тебе на шею шёлковый шнур и удавить тебя. Пойми, мы давно уже должны были над тобой такое сделать. Ведь когда ты заступал на каганство, ты сам определил себе срок, который давно минул. И ты сейчас всё равно что труп… Так не упрямься: благослови же лучше меня теперь — уже не Ишу, а царя Иосифа!
Арс Тархан, отползший к краю юрты, процарапывался под юрточную юбку; ему было жутко: мертвец просил благословения у мертвеца…
Благословил ли Каган после этого предостережения Иосифа? Свершилось ли воссоединение мёртвых? Люди после рассказывали разное. А как потом было проверить?..
Сначала отполз Арс Тархан в сторону и пытался процарапаться под юрточной юбкой наружу, чтобы убежать. Потом вернулся, схватил золотой шнур, занёс его над головой Кагана и предложил Иосифу:
— Давай перетянем шею этому ослепшему, выжившему из ума старику, чтобы вернуть Элю померкший разум.
Однако Иосиф почему-то не дал задушить Кагана, хотя и надо было согласно традиции удавить его, как положено, золотистым шёлковым шнурком.
Арс Тархан сообразил, что Иосиф не хочет собственными руками возводить на каганство принца Волчонка. Ведь если раньше он хоть мог надеяться на то, что запрячет затем Волчонка в Куббу, то теперь, ввиду войны, Волчонка полагалось бы вывести впереди войска. А отдать Волчонку войско, а с войском власть — такого, даже стоя сам на краю бездны, Иосиф не допустит. Скорей всю страну погубит.
Тогда Арс Тархан решил немедленно сам взять власть. Он схватил меч и с кличем: «Аллах, помоги мне покончить сразу с двумя мертвецами и воссесть на достойное меня место!» — бросился на Иосифа и Кагана Тонга Огдулмыша. Замахнулся и не разрубил мечом ни Иосифа, ни выжившего из возраста Кагана. Он вспомнил, что Барс Святослав под городом. И взять на себя власть — значит выходить с Барсом на сражение. А он, Арс Тархан, не Волчонок, чтобы его именем поднялась Степь. Таботаев с прахом собственных предков у него здесь нет. «Кто же, даже если я сейчас и вынесу сверкающее на солнце медное Знамя из Куббы и кликну под знамя народ, — кто за мной пойдёт?..»
Арс Тархан звякнул мечом и в нерешительности остановился. А царь Иосиф торопливо сказал Кагану:
— Вон слышишь, как звякнул меч. Поторопись взять свои дурные слова назад, старик. Ты тогда сказал их с полным ртом. Выплюни всё из своего рта и скажи сейчас: «Благословляю!»
Каган долго молчал. Потом спросил:
— Повтори, с кем ты пришёл ко мне, Иосиф?
— С джавшигаром Арс Тарханом…
Каган прошамкал:
— Встаньте оба на колени передо мной.
Арс Тархан подошёл к Иосифу, и они оба опустились на колени.
Каган намочил обе руки в мёде, простёр над ними. Чётко и внятно, совсем не шамкая (как он только так сумел?), произнёс:
— Иша Иосиф и джавшигар Арс Тархан! Вас ждёт иной мир!
Арс Тархан вздрогнул. Это был приговор к смерти. Ему тоже. Почему и на него накладывает заклятие Каган! Неужели Каган прозрел, что Арс Тархан хочет взять власть?
А Каган снова и снова повторял своё заклятие.
— Я проклинаю вас обоих. Вы не нужны Элю. Сделайте с собою то, что надлежит делать людям, которым теперь место в ином мире!
Дряхлый Каган поднялся даже на цыпочки, силясь придать громкость своему голосу, но с каждым его новым выкриком его голос садился, слабел, скоро он ужа только хрипел. Арс Тархан положил меч: проклятый Каганом, он суеверно боялся теперь брать власть.
Иосиф положил руку на плечо Арс Тархану, привлёк его к себе, засмеялся в ухо:
— Жалкий старик! Пустоцвет! У него всегда был слабый ум, как слаба мышца. Он не вырастил сына в Куббе, а там, на воле, от Ашинов остался лишь жалкий лепёшечник, который сам отказался от правящего высокомерия. И торгует, как последний лавочник, на базаре. Без высокомерия какой же он претендент в правители? Ашинов больше нет. Ты понял?.. Теперь только я властен.
Иосиф опять засмеялся в ухо Арс Тархану, и Арс Тархан почувствовал, какие у него мокрые и липкие губы.
Каган шипел:
— Псы! Жалкие псы! Я проклинаю вас обоих!
Опираясь на плечо Арс Тархана, Иосиф поднялся с колен сам. Затем поднял джавшигара. Напрягся, звонким визгливым голосом, так, чтобы могли, если прислушиваются, расслышать даже во дворце, выкрикнул:
— Благодарю тебя, великий Каган, за благословение. Я поступлю так, как ты, Божественный, велишь: я стану вместо тебя во главе войска. Я, царь Иосиф, сам подниму медное Знамя, отливающее, как диск солнца, и поведу войска за собою на врага!..
Увлекая за собою Арс Тархана, Иосиф стал пятиться к выходу. Они опрокидывали стоявшие на земле многочисленные золотые кубки, наступали на древнюю утварь, давили пятками золото.
Когда дневной свет резко ударил Арс Тархану в глаза, он высвободился из Иосифова объятия. По жёлтой кошме они шли от Куббы ко дворцу уже как положено: впереди гордый, прямой, весь в белом, Иосиф, позади него, в чёрном плаще, джавшигар с мечом на красной перевязи, как у Халифа.
Арс Тархан пропустил Иосифа во дворец, сам остался во внутреннем дворе. Махнул рукой стражам, стоявшим снаружи Куббы. Когда они обступили его, сказал:
— Слушайте, арсии, меня не как джавшигара, а как вашего вождя. Мы, арсин, уходим… Не станем сторожить Куббу. Здесь некого сторожить… Идите по домам, передайте всем нашим: «Мы возвращаемся в Хорезм!.. До прихода Барса Святослава мы должны успеть покинуть Хазарию».
Стража Куббы состояла из самых доверенных и самых старых воинов, и им не надо было дважды повторять команды. Арс Тархан мог быть уверен, что до восхода луны семьсот арб, нагруженных детьми, женщинами и скарбом, в сопровождении воинов уйдут из Города через восточные ворота в Степь.
После того, как все стражники разбежались выполнять его приказ, Арс Тархан здесь, во внутреннем дворе, постелил себе под колени платок, повернулся лицом в сторону Мекки, стал молиться. Меч на красной перевязи он снял и положил рядом. Арс Тархана мутило. Потом стало рвать. Его рвало, и комья паршивой слизи падали на обнажённое лезвие положенного меча.
День тридцать восьмой. «Прощальный подвиг Волчонка»
Хазары дружно пели злую, с совершенно прозрачным намёком песню над схваченным Иосифом.
Он познакомился со мной, стал однокорытником.
Он торговал моим товаром.
Он поладил с хозяином караван-сарая,
Утаив, он захватил моего жеребёнка.
Найдя удобный случай, он сблизился с хозяином,
а со мной стал нарочно браниться.
Когда он похитил моего жеребёнка, мы с ним расстались,
а он и мою овцу увёл.
Мне говорили:
«Не питай склонности к нему,
Не катись следом за шакалом,
не орошай свою землю гнилой водой».
А он попросил у меня слугу.
Мы стали с ним свояками, а также попросили друг у друга наложниц.
Теперь мне стало невмоготу:
он взял и моего любимого невольника,
Если он тебе повстречается, пробуди его ото сна,
пусть идёт прочь, опечалившись.
Он продал моего слугу.
Он не накормил досыта мою собаку.
Он хотел загнать моего коня.
Он увёл моё счастье, моих гусей и пеликанов.
Зачем я с ним познакомился, обнимался, сошёлся с ним,
относился к нему благосклонно?
Он погубил моё лето.
Да, такую вот страшную песню про примазавшегося однокорытника распевали, обнявшись и раскачиваясь, на своём большом сборе хазары. А у их ног, посреди круга, лежал уже обмытый и приготовленный к лишению возраста Иша Иосиф. И все подходили и плевали в таз с водой, которой его обмыли, и плевали затем на него самого, благо, будучи нагим и ничем не прикрытым, он уже не внушал никакого почтения.
Но на большом сборе в степи, недалеко от города, не только распевали злые песни и плевали на Ишу Иосифа. Но ещё и кричали столь громко и непристойно, как будто это был вовсе не сбор хазарских тавангар (людей Силы, вождей «домов»), а какая-нибудь сходка паршивой тутгары (прислуги). И поминали добром кабар (бунтарей), когда-то поднявших восстание в Хазарии против власти иш-управителей и потребовавших казнить всех подряд пришельцев. Тогда кабар прогнали Всей Массой Народа, и они ушли — откочевали с мадьярами, венграми — далеко на Дунай. Теперь о кабарах жалели. И орали:
— Булка болку — поднять восстание!
— Да прославятся кабары!
Так кричали сейчас люди на большом сборе и хватали друг друга за пояса, забыв о том, что не на кого им поднимать оружие, ежели все они тут сами — тавангары и их слушаются все домы (роды).
— Пришельцы подстроили, что ветер разорвал хазар михи — праздничный шатёр и поставили вместо него дворец!
— Пришельцы превратили ставку Кагана в «город» и привадили к нам иноземных купцов!
— Пришельцы забыли про кочевников!
— Пришельцам не нужна доблесть! Они перекупают и перепродают. Они копят деньги и дают их в рост. Теперь они увезли свои деньги!
— Воспользовавшись тем, что стражники арсин сбежали, Управитель Богатством Иша Иосиф ограбил золотую юрту и всё добро вывез в Чуфут-Кале, в Крым.
— Ах, что мы теперь, тавангары, скажем Всей Массе Народа?!
— Ах, где мы были прежде?! Почему только сейчас, когда пришли русы, мы вспомнили, что мы — тавангары и отвечаем за свои домы!
— Как мы допустили беззаконие!? Где была наша сила, пока мы кормились от купцов? Что же нам теперь делать, когда подступил Барс Святослав, а у нас нет войска?! Что скажем мы Всей Массе Народа?
— Ах, где же полк, за которым мы послали на Алтай своего вестника — Булана-старшего?! Мы так на него надеялись!
— Сам Булан-старший умер, но полк идёт к нам. Он уже на Урал-реке.
— Ах, что же мы наделали — не послали раньше посла за полком?.. Теперь русы пришли, а полк о» знаменем, за которым мы послали, ещё в пути!
— Ох, был бы у нас ударный полк, вся Степь поставила бы к полку свои ополчения!
— Ой, люди, горе нам! Масса Народа попрекает нас: «Я была народом, составляющим племенной союз. Где теперь Эль? Куда, нерадивые тавангары, вы Хазарский Эль подевали? Зачем мы поставили вас над собой, ежели вы выбрали дурного Кагана слабого, лишённого божественной силы?..»
— Прошло время, когда наши рабы становились рабовладельцами, а наши младшие братья не знали своих старших братьев, и сыновья не знали своих отцов благодаря благосостоянию, обширности и дальности наших кочевий. Зачем мы сгрудились возле города? Зачем стали кормиться, как собаки, объедками от пришлых купцов?.. Горе нам! Плюйте же на Ишу. Это он нас продал пришельцам. Иша Иосиф один во всём виноват. Это он нами столь плохо правил, что пришёл нас наказать русский Барс.
— Он обокрал золотую юрту. Он трус — собрался бежать в Крым!
— Убьём Ишу Иосифа! Вспомним наш старый обычай, согласно которому, когда дела идут плохо, надо прежде всего лишить возраста правителя!..
— Иша Иосиф потерял силу!.. Убьём скорее Ишу Иосифа!..
И тавангары-и все другие, кто пришёл на большой сбор снова по очереди подходили и плевали сначала в таз с водой, которой обмыли, приготовив к закланию Ишу, а потом плевали на самого Ишу. Плевали и опять поносили пришельцев.
Иосиф лежал голый, закрывая лицо руками. Он думал, как же глупо он попался в ловушку. Вчера до луны длинной вереницей арб ушли из города во главе со своим вождём Арс Тарханом все арсии. Ушли, объявив через глашатаев по всему городу, что, отслужив, они уходят к гробам своих предков, возвращаются к себе на родную землю. Иосиф с помощью отряда Гера Булана (объединившего тем немногих, кто был среди стражников из местных людей) быстро занял Куббу. За ночь торопливо погрузил на ушкуи золото Куббы и отправил в Крым. В Чуфут-Кале. Там в своём древнем храме иудеи-караимы согласились сохранить золото Кагана. Иосиф не доверял еретикам. Но у него уже не было выбора.
Затем Иосиф велел глашатаям разгласить по всему городу, что царь Иосиф вместе со свидетелем джавшигаром Арс Тарханом посетил золотую юрту и Каган при свидетеле благословил Иосифа самому, вместо Кагана, стать впереди войска.
Вскоре Иосиф получил письмо с большого сбора тавангар в степи. Тавангары специальным гонцом вопрошали: «Означает ли объявленное по городу глашатаями, что Каган уступил своё место царю Иосифу?» Иосиф увидел в специальном гонце с большого сбора признание и радостно откликнулся: «Да, конечно, означает!»
Гонец ускакал, а затем появился снова:
— Большой сбор приглашает Кагана Иосифа на разбор его действий!
И вот тут Иосиф попался. Он страшно обрадовался и даже без сопровождения оставшегося у него маленького отряда стражников во главе с Гером Буланом один помчался на большой сбор. Он спешил принять почести большого сбора как вновь избранный Каган.
Он опростоволосился, потому что забыл про исконный хазарский обычай, согласно которому в смутное время хазары всегда начинали восстанавливать порядок с того, что перво-наперво удавливали своего Кагана. «Раз начались бедствия, значит, Каган распустил дельбеке — поводья, потерял свою Яда медекун, божественную силу, и должен быть лишён возраста!» — всегда считали хазары.
Иосиф въехал на большой сбор тавангар победителем. Его первая речь на «столе» Кагана была блистательна. Он уселся на Каганов стол и гордо начал нравоучение.
— Подданные мои, поскольку прониклись вы сейчас все ко мне душою, то открою я вам, что случились в нашем Хазарском государстве многие печальные обстоятельства. Государство из-за недеяния Кагана вышло из порядка, и поэтому мне пришлось принять на себя всё бремя власти. Я помню, как кому-то не нравилось, когда в интересах славы государства толмачи переводили для заморских гостей мой прежний титул Иша-управигель более понятным для иностранцев — «царь». Возможно, кому-то, недальновидному и недалёкому, не понравится теперь, что я разрешил назвать меня Каганом. Но что делать? Не идти же на сражение с Барсом Святославом без медного Знамени и самого Кагана впереди воодушевлённого войска. Кому-то не нравится, что я взялся пасти стадо. Однако известно всем, кто чтит народную память, что стало с теми, кто не желал пастись в общем стаде и хотел обойтись без пастуха. Сохранено в наших книгах, что десять сыновей было у пращура нашего Тогармы, сына Иафета. Седьмой сын Хазар выдвинулся среди братьев своих силой и хитростью. Взял бремя власти. Но не захотели слабые братья быть у своего седьмого брата под рукой. Ослушались выдвинувшегося в «пастухи». Но вот где они? — спрашиваю я вас. — Где ныне потомки этих братьев? Где семя Авийора и Занура — хищных горцев Кавказа, иверийцев и зинариев? Нет ни славы их, ни их самих! А потомки Тариса — крымские тавры? Потомки Аваза и Угуза — расторопные вархониты и гузы? Есть они среди нас, — но славы у них нет: у Хазара вся их слава. Не захотели быть нам послушными и равными с нами братьями — так стали данниками Хазара. А где смуглолицый Визал и бледнолицый Тарна? Тех и вовсе нет: басилы и тариане растворились в нашем хазарском племени, ушли в песок, как вода. Лишь один-единственный Булгар из десяти сыновей Тагармы сохранил независимых потомков, ещё имеет собственное, не рабское тело. Но расколото у Булгара тело пополам — на реку Дуна, Дунай, откочевала, о ханом Аспарухом, спасаясь от нас, одна его половина. А другая половина во главе с ханом Сувазом, чувашом, ещё сидит выше нас на нашей реке.
Тавангары слушали возбуждённого, пылкого Иосифа и раскрыли в оторопелости и удивлении свои уши. Да за какого Хазара так стоит теперь Иосиф? О каком своём пращуре он, Иосиф, здесь говорит? Ведь тот Хазар мечтал дойти до последнего моря, воевал угров и булгар. Тот хотел покорить на своём коне Вселенную и единственно что ждал, — так подмоги: ждал, когда однажды весной снова снизойдёт к кочевникам Кек Тенгри — Синее Небо и, — как было уже, когда прошла орда Хазара, — польёт дождями мёртвые земли между Урал-горами и Каспием-морем, чтобы там могли зазеленеть всходы, и по зелёному мосту примчалась бы новая орда с Алтая, из глубин Сибири и Забайкалья сюда, в Европу. Тот Хазар был каткулдукчи — воином, а этот, нынешний, из Города-на-Реке — он же всего только торговец. Он размягчил своё семя, он другой!..
И Иосиф вовсе разгорячился. Он убеждал всех, что он всегда только и думал о своём народе — о хазарах. И тут сам поставил себе ловушку. Ему поверили и решили его почётно казнить во благо народа. Он даже и рта не успел раскрыть, как вокруг закричали, что вот, он пришёл, благородный Иосиф, чтобы принять на себя кару богов, вместо Кагана лишиться возраста, раз сам он признал, что все эти годы вместо Кагана был «пастухом» и управлял народом.
Теперь вот и лежал Иосиф нагой, прикрыв голову руками. На его шее уже обвивалась золотой змеёй удавка.
И уже начали двое самых старых из тавангур тянуть за оба конца золотого шнура-удавки. Иосиф захрипел и глаза закатил.
Но вдруг белый конь Орок Сингула мощно проломил тамарисковый частокол, которым огородили место собрания. Белый конь вёз арбу, покрытую синим обтрёпанным покрывалом, и, ломая оглобли у арбы, встал на дыбы; а стоявший на передке арбы, как возница на передке боевой колесницы, человек с золотым обручем в волосах закричал:
— Иекууеаи — остановитесь!
Тянувшие за шнур-удавку старики испугались окрика и выпустили из рук концы золотой удавки.
— Иекууеаи! — властно повторил человек с золотым обручем в волосах. — Заклинаю вас девятью клоками своей бороды, отпустите этого недостойного! О кого мараете свои старческие руки?! Разве жизнь этого негодяя столь ценна, что способна стать платой богам за грехи нашего благородного Эля?!
Люди всматривались в кричавшего, а тот легко, как зверь, соскочил с передка арбы на землю и встал перед всеми, растянув губы в грозной улыбке, предостерегающе оскалясь.
— Ашина! Волчонок! — оторопело выдохнули все.
Произошло замешательство. Люди Силы в городе в последнее время как-то уже совсем позабыли про то, что лепёшечник на базаре, нередко задаром раздающий хлеб бедным, на самом деле Великий Принц. Имя-то звучало, но смысл его за будничными делами как-то совсем стёрся. И вот вдруг Великий Принц снова напомнил всем, что он из рода Ашины.
А Волчонок повернулся к священному костру и произнёс такое заклинание:
— Од, Огонь негаснущий! Боже вечный! Ежели ты прогневался на Эль Хазар за грехи и согласен взять во искупление их вот этого человека, — и Волчонок кивнул в сторону полузадушенного Иши, — прими во внимание, что у меня больше грехов за разорение Эля перед тобою, чем у этого обнажённого слуги. Мой род по ленности и глупости своей сам отдал его роду управлять нашим богатством, я же, потомок Ашины и наследник Кагана, торговал лепёшками на базаре в угоду желавшим унизить мой род. Я полагал, что постигаю состояние всей массы подданных своих, а сам власть отдал и о предназначении «волчьем» своём и обязанностях перед Волчицей-прародительницей и Всей Массой Народа забыл. Я позволил этому слуге творить всё, что он хотел. О, негаснущий Од! Согласно Тере — обычаю-закону отвечает господин за нерадение своей тутгары, прислуги. Не могу поэтому я допустить, чтобы наказали вместо меня, принца, простоволосого человека, который был всего лишь Ишей моего рода Каганов. Ежели род Волка позволил роду иш измываться над народом, а себе оставил одно безвластное сидение в Куббе, то достоин искоренения. Потому позволь, вечный Од, коли не смог я, носивший в себе дух Волчонка, ничего другого доброго сделать для своего Эля, хотя бы, — раз сейчас для искупления грехов жизнь понадобилась, — отдать свою жизнь за Эль. Прошу тебя, Од, меня во искупление грехов сейчас возьми!
Так громко выкрикнул, гордо стоя Тегин Волчонок, а потом вытянулся к земле, схватил обеими руками медный таз, в котором были обмывки с тела Иши Иосифа, приготовленного к лишению возраста, и стал жадно пить обмывки.
Он пил, и все медленно опускались на колени и один за одним протягивали руки к священному костру.
Он пил, а все один за другим начали молиться теперь за его душу, потому что вышло, что всё-таки Волчонком уходит на небо к своим предкам незадачливый лепёшечник добрый Тонг Тегин. Взял он на себя бремя долгов Эля — не разрешил за грехи Эля перед богами поплатиться своему прислужнику, ише, сам пошёл на небо ответ за неразумности держать.
Волчонок же снова повторил:
— Возьми, Од, достойный откуп с Эля хазар! Взял Хорс к себе Золотоволосую Воиславу Жемчужину! А ты, Од, забери последнего потомка Ашины-Волчицы… Или не откуп?..
Люди молились за душу Волчонка. Видели люди, что хочет совершить он поступок достойный, добро и светло смотрели на него. И вдруг все вспомнили, что не только домокчи (неисправимым болтуном) он был, всё о каких-то надеждах рассуждая. Не всегда на мосту лепёшками торговал. Был скромен в жизни Тегин и выбирал коней темно-гнедых и других подобных мастей, чтобы не рисоваться пролитой в сражении или на ристанье кровью. Был также он большим удальцом в стрельбе из лука. Аланкит нума (деревянный лук) был ему послушен.
Прославил Волчонок имя Хазар в заморских землях, стал полководцем и у арабов прослыл знаменитым Тонгом Ал Хазари. Вернувшись, по-прежнему был скромен и только о народе своём заботился.
И внезапно подумали люди: «Что же мы можем натворить? Допускаем, чтобы ушёл от нас дух Волчонка на небо, а тело, в котором он вырос, чтобы и вовсе перешло служить другому богу и стало ходить где-то там, в мусульманском раю, в обличье бродяжки-монаха… Ох, какие же мы неразумные — хотим остаться в трудную пору без Волчонка!»
И тогда закричали все люди в один голос:
— Корок — спасай уж!
Разумеется, не будь русов, приближавшихся к городу, то скорей всего, не оказались бы столь покладисты все эти люди и не закричали в один голос так, как закричали.
Но сейчас:
— Корок!
— Спасай нас, наследник Волчонок!
— Спасай нас, Небоподобный!
— Спасай, Небом рождённый!
— О Тонг Тегин, мы готовы всякую твою речь слушать до конца!
— Согласны мы тебя во всём слушать!
— Вперёд до солнечного восхода, назад к солнечному закату, налево вплоть до полуночи — там, внутри этих пределов, находящиеся народы все были твоим предкам подвластны! Сколько народов твои предки устроили! А ты, Тонг Тегин, устрой нас!
— Если ты уйдёшь от нас, мы можем погибнуть! Ты не смеешь так поступать, потому что дух Волчонка должен опекать нас.
— О Тонг Тегин, если ты останешься с нами, ты сможешь править нами и возродишь Племенной Союз!
— Ах, Тонг Тегин, не знал наш неразумный народ, сыт он или голоден. Не думал народ, будет он голоден или сыт. Раз насытившись, мы никто не думали, что можем быть опять голодны.
— Корок — спасай уж!
Они в один голос кричали ему о своём раскаянии, а он влез на свою арбу, держал в обеих руках медный таз и всё пил из него — обмывки грязные с тела Иши Иосифа пил, будто парной есук (кумыс). И он видел, как, стоя на коленях, теперь протягивают к нему с надеждой руки те, кто раньше за надежду осмеяли его.
— Ты, Тонг Тегин, — для нас бог судеб! Утром и вечером ты будешь скакать на пегом коне. Встретишь ты человеческого сына. Он испугается. «Не бойся, — ты скажешь, — я дам тебе счастье!
Дай! Дай нам счастье, Волчонок! Стань нам чёрным богом судеб. То, что сломано, ты соедини! То, что разорвано, ты свяжи! Будь нам божественным Каганом! С тобой мы хотим идти на бой, о Тонг Тегин, ты — наша «чёрная змея с золотой головой»!
Волчонок дослушал славословия, потом слез с коня, осторожно поставил медный таз с обмывками на землю, потом сбросил с себя синий мусульманский монашеский халат, уложил его бережно — так, чтобы тот, кому халат после него достанется, не посетовал на него за небрежность. А сам лёг на землю и вытянул шею, подставляя её для золочёной удавки. Рядом торопливо снимал со своей шеи золочёную удавку пришедший в себя Иосиф. Тонг Тегин протянул к Иосифу руку за удавкой и накинул её себе на шею.
Иосиф поспешно отполз в сторону. Теперь Тонг Тегин один лежал рядом со святым пеплом. Всегда, когда проходит Большой Сбор, привозят заранее в чистое поле тлеющие угли от вечного огня Кочевников, охраняемого далеко в степи верховными шаманами. Лишь после того, как раздует ветер угли и перекинется огонь на подброшенные к ним сухой можжевельник и полынь, означая, что небо согласно с местом, выбранным для собрания, ограждают воины острыми кольями священное место. И сколько бы затем часов или даже дней не продолжался Большой Сбор, охраняют боги, показывая своё благоволение, яркое, звонкое пламя, согревающее Сильных внутри тамарисковой ограды и напоминающее им, что они призваны свершить волю богов во имя Всей Массы Народа кочевников.
Но сейчас, когда Волчонок, приготовившийся к великому закланию, лёг рядом с пламенем, то ли шаманы, обслуживавшие пламя, засмотревшись на невиданные обстоятельства (как прискакал Волчонок и как грехи на себя принял!), забыли подложить сухой травы, или сам язык пламени на Волчонка засмотрелся и вовремя не перебежал на подложенные стебли, но, едва накинул Волчонок себе на шею удавку, как замешкался огонь: светляки, слабо бежавшие по углям, натужно и сине полыхнули и пропали вовсе. Огонь умер.
Огонь умер, и это увидели все, следившие за Тонгом. И все поняли: вот яарин, — вот знамение новое подаёт Большому Сбору и Всей Массе Народа кочевников негасимый Од.
И нужен был кто-то, кто растолковал бы мудро новое знамение Всей Массе Народа и Большому Сбору, который за Всю Массу Народа сейчас решать собрался.
И тогда, видя всеобщую растерянность, ловко поднялся с земли униженный Иосиф. Оглядел всех и громко сказал:
— Вот, харан — свободные люди, вам знамение!
Всё, больше ничего другого не сказал и не добавил к сказанному Иосиф. Но люди уже поняли, как он мудр, н опомнились, и тут же решили, что напрасно хотели извести его по неразумности и немудрости. И усомнились люди: так ли они с мудрым поступали, как надлежит по Тере (обычаю-закону)?
С молоком матери, с первым добрым шлепком отца внушалось всегда хазарину, что существуют для него и над ним Од (Солнце) и Тенгри (Небо) вверху; а Этукен (Земля-Вода) внизу. Толмачи, искусные в языках других народов, переводили Этукен коротким словом: Родина, Оду и Тенгри, поднявшимся над Этукен, потому и молились всегда хазары, что нет кочевника без Солнца на Небе и Воды-Земли под ногами и что ничего другого хазарину не положено и не надо. И пусть не срубить хазарину столь большого опорного столба, чтобы можно было им подпереть Небо, прикрепить к нему войлочную юрту и сказать. «Это моё!»; пусть не окружает кочевник Родину кирпичной стеной, как иные оседлые народы окружают свои города, но верность Родине всегда заменяла хазарину опорный столб, а Тере (обычай и закон предков) служил войлоком его юрты. Со дня сотворения мира Вся Масса Народа хазар берегла отведённое ей богами и оттого размножалась и тучнела… Потом случился непорядок: иные люди пришли и перемешались с кочевниками; соблазнили кочевников кормиться не от скота, а от торговли. Теперь, расправляясь с Иосифом, думали тавангары на своём собрании, что жертвуют подкармливавшим их царём ради Тере (обычая) и для восстановления порядка. Однако вот почему-то послали боги новое яарин (знамение). Никакого сомнения тут уж нет, что послали боги важное и страшное знамение. И стоит сейчас гордо перед всеми мудрый Иосиф и указывает рукой на погасший огонь.
И внимательно посмотрели собравшиеся на Собрание Сильных люди на Иосифа и на Тонга, уже надевшего себе на шею золочёную удавку.
И проговорил тихо один старик:
— Поминание бессмертного мудрецы назвали второй жизнью. Создают бессмертие добрые дела. А с чего это принц, плохо вырастивший в себе Волчонка, к другому богу переметнувшийся, в бессмертие рвётся? За Иосифом-то больше было полезных нам дел, хотя бы уж потому, что всем нам, знатным людям, он давал должности, от которых можно было извлечь доход…
И подал голос второй человек:
— Рахданиты пришли и расселись среди нас, кочевников, и поставили город, и занялись извлечением прибыли. Однако кто мешал кочевникам тоже заняться извлечением прибыли? Разве не могли мы, кто хотел, — научиться торговать, как Гер Фанхас? И тогда все бы мылись в банях, и сияли золотом, и носили тонкие одеяния, разноцветные и разукрашенные.
И упрекнул себя вслух третий:
— Ах, не сами ли мы виноваты, что продолжали жить в бедности, а сметливые люди тем временем разделили между собой наши доходы и воспользовались нашей доблестью? Зачем винить других в собственной нерадивости и лени? Как может народ хазар дальше жить, созидая свой вечный Племенной Союз, когда оказался нерасчётлив и недальновиден?!
И поддержал громко четвёртый:
— Весной наш обычай был таков, что никто не сидел с утра в воде, не мыл рук в реке, не черпал воду золотой и серебряной посудой и не расстилал на земле вымытой одежды. А когда мы видели, что такое совершает кто-то другой, то быстро садились на коней и старались ускакать подальше от дурного места, потому что зачем быть рядом с теми, кто накликает на себя сильный гром и молнию?! Сейчас, если мудро подойти к обстоятельствам, то надо признать, что беду купцы-рахданиты на всех нас, хазар, уже накликали. Так не сесть ли нам всем скорее на коней и не унести ли ноги подальше от Города?..
И закричали люди:
— Убежим!
— Убьём Ишу Иосифа!
Нет, удавим Волчонка!
— Перебьём всех купцов!
— Нельзя лишать возраста купцов, когда мы сами виноваты…
Так внезапно раскололся Большой Сбор, и не стало на нём голоса Всей Массы Народа, а стало много разных голосов, и при погасшем вечном огне стали лаять все вразнобой, как лают голодные псы без хозяина. И кто знает, может быть, люди, как псы, в бессильной злобе бросились бы перегрызать друг другу глотки. Но тут, незаметно разгородив проход в тамарисковой ограде, чинно, будто на параде, подметая землю длинными завитыми хвостами своих коней, въехал прямо на место собрания отряд каткулдукчи (воинов) во главе с Герои Буланом. Сильный отряд въехал — о саблями наголо и копьями, у каждого к правой ноге привязанными. Никому никогда не разрешалось конными въезжать в священный круг собрания. Оскорбление это совещающимся и угроза недвусмысленная. Однако разве не показал уже сегодня всем сам Волчонок такой пример?!
И переменились роли.
Где тот Иша Иосиф, которого обмывали, приготовляя в жертву? Он уже спрятался снаружи тамарисковой ограды. А кто пришёл? Выходит вслед за воинским отрядом из-за ограды одевшийся в парадное платье Красный коршун с лицом царя Иосифа. Где его только что случившееся унижение и растерянность? Вернулись к Иосифу втрое, вдесятеро сила и величие! Как горд и будто точён царский профиль! Как высокомерен коршуний нос с раздувающимися ноздрями! Губы Иосифа рдеют, как влажные вишни. Очи Иосифа пылают, как костры, под сенью витых, как древко лука, бровей. О, как величественно откинута рыжая голова! Раздвоенная борода упирается прямо в небо! Красный коршун пустыни снова царит над степью — он, Иосиф!
— Подданные мои! Сыны Кагана! Все вы стали свидетелями, что свершилось великое знамение. Навсегда погас огонь дома Ашины, и всем нам предстоит вместо него зажечь для себя огонь свежий и сильный. Нового правящего дома огонь! Ашинова ветвь высохла и обуглилась. Небо хочет, чтобы поставили мы над собою Кагана от новой зелёной ветви. Но прежде хочу я держать с вами совет. Я хочу выслушать вас, являющихся сливками Всей Массы Народа хазар, и поступить в согласии с вашими общими мудрыми наставлениями. Хазары! Я пришёл говорить ввиду грозящей всем нам опасности. Честно и прямо, как подобает правителю уважающему своих подданных. Так знайте! Корабль государства, управляемый многими вёслами, может быть потоплен небольшим утёсом, торчащим из моря, ежели примутся за работу кормчего многие люди с различными устремлениями и будут стараться направить корабль в личных интересах. Не будем же уподобляться маленьким муравьям, которые хотят в одиночку заесть вола, Подданные мои! Я надеюсь только и всецело на одних вас. Поэтому отпустил вчера от нас чужеземцев арсиев во главе с Арс Тарханом… — Иосиф подтвердил эти свои слова величественным жестом. Из стражников я оставил с собой только самых верных во главе с Гером Буланом, на которых можно надеяться… Я сделал так, полагая, что в наших обстоятельствах самым главным должно стать укрепление власти… И я рад, что вот даже бывший наследник, презренный торговец-лепёшечник Тонг Тегин, который не сохранил в себе высокую породу Волчонка, понял, что при нынешних обстоятельствах, кроме меня, Иосифа, нет другого более верного и надёжного хозяина Элю. Все вы стали свидетелями тому, как Волчонок пришёл сюда, чтобы сохранить меня в этой жизни, а самому уйти в другой мир. Ибо я, Иосиф, здесь сейчас для хазар нужнее. Я благодарю Волчонка за похвальное желание отправиться ходатаем за хазар к богам на небо и попросить их, чтобы они помогли мне, Иосифу, устоять во славу хазар перед русами. Но я хочу посоветоваться с вами, хазары, а должны ли мы отпускать на Небо Волчонка?..
Да, умел убеждать Иосиф. Если ему дать говорить, то становился он, как бог, всесильным и могущественным, он правил душами слушающих его, как опытный возница разгорячёнными конями, он знал, и когда хлестнуть, и когда окриком подбодрить. Он и вдалбливать нужное в умы умел: сколько вот уже он раз повторил про знамение и как ловко обернул знамение против рода Ашины!
А с каким достоинством и уверенностью он говорит, глядя людям прямо в глаза, умиротворяя, воодушевляя их своей откровенностью!
— Тавангары! Я знаю ваши сомнения! И я не хочу спорить. Конечно, иные из пришлых людей, имея опыт оседлости, зажили лучше, чем вы, более достойные. Однако я призываю вас, претерпев стыд на короткое время, сохранить спою славу на вечные времена. Тавангары! Военные подвиги и богатая добыча помогут теперь сравнять в нашем городе бедных с богатыми. Здесь сейчас нам больше нужны не купцы, а воины. Простим же Волчонка из рода Ашины, — не будем отправлять его ва Небо. Поскольку Небо дало вам знак, что угасла божественность его рода, то какой же теперь из него гонец на Небо?!
Иосиф подошёл к Тонгу и самолично снял у него с шеи золотую удавку, накинул на него одежды. Возвратил ли этим своим жестом царь Иосиф свой долг Волчонку? Подарил поверженному врагу жизнь в благодарность за спасённую жизнь собственную? Нет, Иосиф был прилежным учеником Ремесла. А в уставе Ремесла стояло первым пунктом: «Мораль смертных пагубна для избравших своим ремеслом управление людьми. Помни, что правитель стоит над толпой и сам сочиняет для неё удобную мораль». Иосиф ни на миг не задумался бы отправить Волчонка в иной мир, если бы у него не было опасений, что от этого пострадают не только его человеческая совесть и врождённое чувство благодарности (на это бы он со вздохом закрыл глаза). Иосиф не казнил Тонга Тегина потому, что был мудр и понимал, что люди сегодня, в данный момент, думают так, а завтра с трезвой головой уже способны думать по-иному, что сегодня люди ненавидят и зверствуют, а назавтра скорбят душой и проливают слёзы умиления над своими жертвами. Не всегда всуе убитый противник — самый безопасный. Когда дело идёт о душах людей, то души как-то больше всего склоняются перед павшими. Живой заставляет стоять перед собою на коленях с помощью кнута. Перед павшим люди охотно становятся на колени сами и начинают превозносить его порой даже за то, за что прежде хулили. Мудрый Иосиф побоялся, убив, сделать из последнего в роду Ашины народного героя. Иосифу нужно было, чтобы последний из рода Ашины сам бы склонился перед ним и пошёл к нему в тутгару (прислугу)! Чтобы выиграл для Кагана Иосифа бой с Барсом! Вот тогда государственный переворот, который проходил в Хазарии больше полувека, можно бы считать наконец завершившимся.
Иосиф хлопнул в ладоши. Хлопка его, видно, уже заранее ждали за оградой, потому что прибывшие с отрядом Булана слуги тут же внесли внутрь ограды и положили рядом с пеплом от погасшего вечного огня Эля большую шкуру быка и разложили на ней куски свежепеченного мяса. Из-за этого мяса, из-за этой шкуры припоздал Гер Булан со своим отрядом и оставил Иосифа один на один с Большим Сбором, что было, разумеется, опрометчивостью. Но теперь вот была исправлена опрометчивость.
Иосиф встал на шкуру и закричал, что есть силы:
— Эгей, харан — свободные люди! Эгей, тавангары — люди Силы и богатства! Эгей, все кочевники, Хазары! — у него даже голос по-особому задрожал, когда он произносил: «Хазары». — Пробил час. Отведайте же все со мной вместе мяса войны. Отведайте и встаньте все затем на шкуру моего полководца. Вы только попробуйте, какое лакомое мясо приготовлено для вас по моему приказу. Но то ли ещё будет?! Хазары! Сколько лет подряд требовали вы все от меня, чтобы я приказал вынести шкуру войны и пригласил вас в поход за лакомой олье — добычей. Однако обстоятельства складывались так, что, зная о вашем желании, не мог я сразу такового содеять, потому что тогда было ещё не время. Но вот теперь время! Уверяю вас, я делал всё, чтобы избежать напрасного риска и не подвергать испытанию вашу доблесть и ваш дух без крайней надобности. Вы знаете: я всегда придерживался того осторожного правила, что можно и не ходить в дальние походы, если добыча, как рыба, сама обильно приплывает в ловко расставленные нами сети. Сегодня ожидаемая добыча пришла к нам настолько огромной, что мы не справимся с нею и сами окажемся её жертвою, если не объединимся все вместе. И все, как один, не встанем на общую шкуру войны. Вот я вынес вам свою шкуру войны. Вставайте! Я согласен сам повести вас всех на победный бой!.. Вставайте же скорее!..
Иосиф перевёл дух. Он видел, что все мялись, переступая с ноги на ногу. Многие оглядывались. И понял Иосиф, что сейчас крайне нужно ему найти для них заразительный пример. Кто-то должен был, как бык, привычно заводящий стадо в загон на бойню, затащить всю эту мнущуюся толпу (иначе как о толпе Иосиф о собравшихся не думал!) на шкуру войны. И тут Иосиф остановил взгляд на Волчонка Тегине. Каким примером будет, ежели Волчонок, сам когда-то признанный полководец и последний из рода Ашины, встанет на принесённую им, Иосифом, шкуру, то есть признает Иосифа своим полководцем.
Иосиф снова похлопал в ладоши. Опять пригласил всех:
— Отведайте испечённого мною мяса! Станьте на мою шкуру!..
Прикидывал в этот момент Иосиф, как бы посподручнее, когда возникнет очередь к его шкуре и возникнет давка за мясом, мигнуть Геру Булану, чтобы втащили на шкуру и Волчонка, а потом и показать бы всем на это.
Однако судьба на этот, раз распорядилась с Иосифом иначе. Опять приготовила она ему неожиданное, заранее им не обсчитанное, чего никак вроде и вычислить было нельзя.
Мялись все, переступая с ноги на ногу, а на шкуру войны (желанную шкуру войны, о которой столько лёг только и мечтали, едва напьются хмельного кумыса!) никто становиться не хотел. Оказалось, что хоть и называли они её в своих мечтах шкурой войны, но не о войне, а о лёгкой добыче думали, теперь же, когда русы подступали к городу, думал каждый больше о собственной шкуре. Потяжелели плоские лица, свидетелями нелёгких раздумий заходили на них желваками тёмные скулы, и уже даже переминаться с ноги на ногу перестали тавангары. Замерли.
Нетерпеливо глянул на тавангар рыжий прекрасный Иосиф. Что же медлят? Разве не подкармливал он их всегда, как полезных псов; разве не назначал амилями (сборщиками налогов)?.. Но, видно, хоть и пел на базаре скоморох, что давно нету печени у тавангар, что стали они куклами, подвешенными к верху шатра, хозяин которого дёргает их, как хочет, за верёвочки, однако было даже для кукол сегодня слишком — вернуться в свои домы с сообщением, что, мол, я отведал Иосифова мяса войны и стал на шкуру Иосифова полководства. То есть так, мол, и так: обязался я тем самым прийти со всем своим «домом» (родом) в полную власть полководца Иосифа.
«Ах! — наверняка думали про себя сейчас Тавангары, — если я вернусь с Большого Сбора к своим сородичам с сообщением, что встал на шкуру Иосифа, чтобы идти сражаться с самим Барсом, то не посчитали бы меня за женщину, ибо женщина известна непостоянством в мыслях. Никто ведь никогда не признавал Иосифа ни за полководца, ни тем более за Кагана, идущего впереди войска со сверкающим, как солнце, медным Знаменем. А тут выступать против русского Барса Святослава?! Ах, как бы не прогневались мои сородичи и не поступили бы со мной, как с изменившей дому женщиной. Известен ведь обычай: изменившей дому, мужу своему, женщине следует учинить допрос и после того, как она под палками и пыткой непременно сознаётся, надлежит зашить ей верхние и нижние отверстия тела и, завернув в кошму, бросить в воду… Ах, как бы за признание Иосифа полководцем мне самому завёрнутым в кошму после пыток не оказаться?» Не захотели представители домов, чтобы с ними поступили, как с потаскухами.
Иосиф наморщил лоб, подозвал Гера Булана. Лосёнок расторопно подскочил, и Иосиф ещё раз благословил всевышнего за то, что тот внушил ему мысль приблизить к себе Лосёнка. Отойдя от Иосифа, Лосёнок подошёл сзади к Тонгу и упёрся ему в спину копьём против печени.
— Покажи, Тонг Тегин, всем пример, — сказал громко Иосиф. — Ты сам был славным полководцем, много думал об Эле. Теперь ты больше всех понимаешь, что надо немедленно выходить с войском навстречу русскому князю Святославу. Собирать большое войско и выходить всем на битву. Покажи пример. Забудь обиды. Стань на мою шкуру!..
И увидели все, как кровь потекла по спине Тонга Тегина. Это впилось в неё остриё копья Гера Булана. Ещё семь копий стражников тут же начали щекотать Волчонку спину.
Но Волчонок только сплюнул смачно себе под ноги и спросил:
— Что ты надумал, Иша Иосиф? Для кого ты шкуру войны расстелил? Уж не хочешь ли обманывать каких-нибудь пахарей, у кого вместо меча лопата, вместо панциря кожаная накидка, вместо коня гордого, с высокой гривой, бык пахотный? Не к тем ты, жалкий, пришёл со своей шкурой!..
И крикнул ко всем Тонг Тегин:
— Эй, Вся Масса. Народа, уходи прочь! Все уходите! Барс Святослав не пойдёт за вами в степь. У него мало конницы. Степь широка! Оставьте здесь Ишу Иосифа с его тутгарой — прислугой, а сами все свёртывайте юрты и скорее уходите. И знайте: прискакал ко мне в город вестник. К нам идёт на помощь полк со знаменем. Бегите на восток — встретите этот полк, который идёт с Алтая. Проситесь под руку бека Мергена. А меня оставьте одного — искупать грехи ваши. Зачем Хазарам сражаться о Русами? Разве Русречник не был прежде братом Хазару-кочевнику?!
Выкрикнул так Волчонок и запел. Он стал петь степную песню, как будто уже едет по степи и поёт ей колыбельную.
«Буч-буч» — поёт семюргук,
Клюём корм ради своего горла.
Моя душа-перепел, который
Бьётся в огне…
Красиво запел Тонг, и все его слушали, и даже Булан-Лосёнок не решился оборвать Тонга, а только незаметно стал надавливать на копьё, упёршееся против печени Тонга.
Тонг Тегин же, закончив песню для Степи, запел песню о луноликой девушке. Все видели теперь, что его тело терзают копья и что улетает он, и уважительно молчали, слушая новую песню. Тере (обычай) разрешает герою, уходящему на небо, раскрыть то, что скромность всегда заставляет держать в тайне. Герой имеет право обнаружить, уходя на небо, свои чувства, и даже признаться людям, что жил с разбитым сердцем. Поэтому никто не осудил Тонга Тегина за песню о луноликой девушке, тем более, что все сразу догадались, о ком он поёт.
Её глаза колдовские,
Её душа — золотой свет,
Её лицо — жемчужина.
Тана разбила моё сердце.
Я спросил её: «Златокудрая,
Направляясь к нам, как
Ты прошла через обширные равнины,
Высокие, большие плоскогорья?»
Она моргала синими глазами,
Она смеялась мне в ответ:
«На пути к тебе, принёсшем многие мученья,
Твёрдые холмы стали мягкими,
Ибо моё сердце устремилось к тебе!..»
Волчонок упал с исколотой копьями печенью, и люди поняли, почему он примчался на арбе с таботаями — священными гробами дома Ашины, почему настоял, чтобы его отправили ходатаем за Эль к богам. Люди поняли, что перед ним был пример его любимой, отдавшей себя в жертву Хорсу-Солнцу…
А на шкуру Иосифа после строптивости, проявленной Волчонком, так никто и не встал. И хотя изворотливый Иосиф всё-таки вывернулся, и приказал привести из разграбленной Куббы дряхлого Кагана Огдулмыша (который оказался с бельмами вместо глаз и потерявшим слух и язык — всё ведь можно растерять по дороге, когда ведут тебя слишком долго), и заставил старика всё-таки взять в руки не поднимавшееся много лет медное Знамя Кочевников, но пошли люди на битву за Каганом, а не за Иосифом. Впрочем, многие полагают, что лучше бы и не ходили…
День тридцать девятый. «Пожар в Соломоновом храме»
Звонкий детский голос громко пел на площади под окнами Белого храма песню:
Разгневанный, я направился за добычей,
Я зарычал, словно лев,
Я рубил головы героев. Кто меня удержит?
Мужам я отделил головы от шей,
Золото и серебро я захватил.
Кто за меня не радуется?
Кровь Руса текла, как вода,
Кости Руса легли, как горы,
Его крепкое мужское потомство стало рабами,
Его чистое женское потомство стало рабынями.
Мы хлынули на них, как поток,
Мы появились у их селений,
Мы разрушили их храмы,
Мы нагадили на их идолов.
Дети играли в войну с Барсом. Дети повторяли обряды взрослых, которые вчера во главе с Каганом вышли из города и пошли навстречу Барсу, и тот ребёнок, который так звонко сейчас пел, изображал шамана, стоявшего за спиной Кагана и певшего за него, а другой ребёнок, который изображал самого Кагана, только разевал рот и шлёпал, облизываясь, губами.
Дети играли в победу над Барсом. Но Иосиф уже знал, что свершилось противоположное. Он посмотрел из окна храма, засмеялся сухо и зло и приказал Геру Булану:
— Пойди, Лосёнок! Прикажи детям не играть больше в войну!
Во дворе Белого храма была масса детей — родители свели их сюда на время военных действий. Под защиту храмовых стен.
Дети замолкли. Иосиф подумал, как удачно всё-таки получилось, что он не вышел на битву сам, а отправил одного Кагана, сам же взял отряд Булана и объявил, что остаётся на острове, чтобы до последнего оборонять храм.
— Мы умрём красиво! — сказал вслух Иосиф и обнял вернувшуюся к нему Серах. Она оказалась лучше, чем он думал о женщинах. Царица прихватила, отправила в Крым богатство Фанхаса, как она сама объяснила, не ради корысти, а чтобы было на что беречь и тайно хранить где-нибудь в пещерах скинию и ковчег. Это она заранее позаботилась и украла их, вывезя из храма, где всё шло к тому, что святыни могли осквернить или разграбить. Отправив сокровища, Серах успела на дороге перехватить направляющееся в Крым золото из Куббы. И тоже направила в надёжное место. А сама вернулась и старалась в эти последние дни всячески сгладить тяготы, сделать всё, что можно, для Иосифа. Она и отряд Гера Булана удержала от бегства. Ей нравилось, что среди всеобщего уныния и смуты она выглядела неизменившейся — красивой, молодой, уверенной, напористой, деловой, преданной.
Иосиф дружески обнял верную Серах и благодарно засмеялся.
Отпустив жену, долго пытался остановить улыбку. Ладонями массировал себе лицо. Его «мускулус ризориус» (мышцу смеха) свело от напряжения, кожу лба собрало гармошкой, щёки раздуло, губы растянуло, и он всё никак не мог разгладить их. Улыбаться Иосиф начал ещё вчера на рассвете и беспрерывно улыбался весь день и всю ночь.
Он улыбался, когда ему сообщили, что подкупить присоединившихся к Барсу союзников не удалось. Хан печенегов Куря взял золото. Но ударить в тыл Барсу наотрез отказался, обещал, что пойдёт постращать Киев (и разумеется, пограбить окрестности). Обещал, что готов подстеречь Барса в засаде. Но сражаться в бою не захотел ни в какую. Чуваши, мордва, меря, все встали под голубое знамя Святослава. Лопнули и надежды на гузов, — те дали свою конницу в помощь Барсу и от вероломства отказались.
Пробовали хазары купить самого Барса… Иосиф улыбался, когда Барс отказался от огромного выкупа.
Улыбался, когда тавангары после этого вышли из повиновения Иосифу — собрали вооружённых родичей и кое-какие подкрепления, присланные из степи, и, уже не спрашиваясь у Иосифа, посадили Кагана на арбу, поставили перед ним воина, который за Кагана держал медное Знамя, и всё-таки двинулись навстречу Святославу. Тавангары понадеялись на удачный конный бой с Барсом. Ударили против гузского вспомогательного войска. То рассыпалось. Но за ним оказались ощетинившиеся копьями пешие ряды. Хазарская конница, с ходу напоровшись на русские копья, тяжко погибла. Ожидая подхода русов к острову, Иосиф проулыбался ещё и всю ночь. Он помнит завет Неизречённого бога, что надо делать весёлое лицо, когда не знаешь, что делать. И, пожалуй, исполнил этот завет слишком старательно, во всю показывая окружившим его женщинам (и богу!) свои белоснежные и, несмотря на несчастье, заботливо начищенные ревнем зубы.
Он подозвал к себе Серах и рассказал ей при всех забавную историю, как во время пожара, когда уже рушилась крыша, муж никак не мог оторваться от жены. Он погладил по головкам двух чужих малышей из числа прятавшихся в Храме и пошутил, что охотно сделал бы одного из них — так, мол, они оба красивы — своим наследником. Но теперь, кажется, уже ему нечего им завещать. Он вёл себя с женщинами и детьми так, как будто не было сейчас в государстве для его главы более важного дела, чем заботиться о подросшем семени и о том, как ободрить женщин. И он смеялся беспрерывно и в душе благодарил Айн-Ничто за то, что надоумило его такому надёжному способу остаться в памяти бесстрашным героем и смельчаком. Так прошла ещё ночь!
Однако к утру, когда он узнал, что Гер Булан вместе со своим отрядом «надёжных воинов» перебежал ночью к русам, его «мускулус ризориус», не выдержав нагрузки, сдала. Мало, видимо, он тренировал её раньше. Лицо у Иосифа одеревенело, превратилось в сплошную маску смеха, усеянную вдруг проступившими застарелыми оспинами и неуклюже украшенную будто приклеенным, раздвоенным клином зелёно-красной бороды (брадобрей со страху перепутал пропорции красителя). Теперь, чтобы убрать с лица маску смеха, Иосифу приходилось массировать лицо руками, помогать пальцами мышцам, и с каждым разом эта помощь удавалась всё труднее и дольше.
Обойдя двор и расставив воинов, Иосиф вернулся в храм. Он искал прохлады. Но и внутри всегда холодного, золотисто-белого храма было сегодня жарко. Горевший всю ночь по обоим берегам город раскалил воздух, и тот, словно нагнетаемый насосом, теперь устремлялся к острову, — к холму, на котором стоял Третий храм. За несколько часов горячий воздух высушил и сморщил, как урюк, кипарисовый потолок, мозаичный пол и резные украшения, прибитые к колоннам. Глинобитные стены храма отдавали жаром, как камни очага.
Серах приказала желторизным (она очень усердно командовала всеми и даже перестаралась, решившись приказывать в храме) погасить огонь в жертвеннике — достаточно было искры, что храм вспыхнул, будто склеенный из китайской бумаги, и все находившиеся в нём сгорели бы заживо.
Какое распоряжение? — с каким-то обречённым весельем думал Иосиф. — Сгореть в храме — разве не красивая смерть? Это же смерть праведника!»
Иосиф с тем же обречённым весельем уверял себя, что при всей безусловной древности поклонения Неизречённому богу в его исторических свитках недостаёт великомучеников. Выходило, что сам-то бог весьма устрашал людей, а вот люди за бога сами не мучились. Иосиф предположил, что Неизречённый, видимо, хотел обойтись без наивных упрямцев, вся святость которых состоит лишь в том, что они ложились под колесо судьбы, даже не попытавшись хоть чуточку сдвинуться с проезжей части.
«Поздние веры, отпочковавшиеся от веры Неизречённого, похоже, с лихвой возместили потребность в святых тупицах. Сколько было одних столпников, сидевших на столбах в оковах по собственному желанию?!» — Иосиф подумал о столпниках, и как тут было не ухмыльнуться. Маска смеха, явившись на его лицо, причинила ему сильную боль.
«О, мой Бог! Я почему-то всегда полагал, что Ты и сам презираешь тех, кто слишком прямолинейно исполняет в Тебя веру. Однако, хочешь, я сегодня, — не смогши родить от себя самого детей, — рожу Тебе, Богу, великомученика? У великомученика этого, будет вполне звучное имя, знакомое многим за морями. Какая всё-таки умная идея пришла когда-то в мою голову, когда я немножко похвастался на бумаге и разослал своё хвастовство эстафетой к кордовскому везиру Хасдаю через всю Европу?! Теперь заговорят во многих богатых домах Кордовы и Багдада, Константинополя и Киева: «Ах, владетельный царь Иосиф сгорел заживо в храме, не пожелав оставить своего бога. Значит, велик этот бог!»
Иосиф поднял глаза к потолку: потолок чернел на глазах. Иосиф перевёл глаза на стены: глинобитные стены были в паутине трещин. Он шагнул к двери. Он шёл к выходу — Иша, опрометчиво ставший «царём», и думал: «Властителем этой страны был я всегда. Но странное дело: меня стали прославлять одни и поднялись против меня другие вовсе не в те годы, когда я безраздельно царил, но только после того, как я сам раструбил о своём царствовании на весь мир и принародно водрузил себе на голову корону. Неужели так устроены люди, что власть им не во власть и сила не в силу, покуда не поставлены на оных печати?! Неужели люди повсеместно живут только печатью?! Только печати слова поклоняются и за печать слова умирают?.. Всем был я здесь. Но безропотно сносили моё самовластие кочевники, пока не заставили меня обстоятельства объявить себя равным Кагану, — и тогда тут же мои подданные не нашли ничего лучшего, кроме как попытаться принести меня в жертву за грехи свои и, лишив возраста, отправить на небо?! И ведь отправили бы, не смилуйся надо мною глупость наследника… О великий Масон, аггел лика! Эн-Соф, — осмелев, назвал Иосиф громко вслух другое, неизрекаемое, имя своего Неизречённого бога, — неужели ты предал меня?!».
Он думал все другие слова, а вслух только громко кричал и кричал иеизрекаемое имя своего Неизречённого бога.
Он думал: «Сейчас разрушатся храмовые стены.
Пусть хоть разрушатся они не безгласно, а с именем Бога моего!..»
Но смолчали стены, и даже эхо не откликнулось на Иосифа крик. Будто умер бог его. Неназванный, — всем для всех был он, а названный — пустота.
И встал на колени, и возопил тогда Иосиф:
— Соратники мои! Подойдите — не найду я мудрого меж вами. Ты, Гер Фанхас, где ты? Об двери во дворец мой тебя разбили!.. Ты, Арс Тархан? К предкам своим убежал от меня ты… Ты, Гер Булан? Что-то давно уж не слышу я голоса твоего во храме? Говорил ты мне, что, как лодия, плавает твой конь. Коня твоего я во дворе храмовом не вижу? Донесли: к Барсу перебежал Булан. А ты, Памфалон! Разве я не поднял тебя из простоволосых с помощью своих людей в Константинополе, подкупивших владельных бога твоего?.. Но со страху разорвалось твоё трусливое сердце… Не считал я тебя своим единоверцем, Вениамин, но ведь помиловал. Однако и тебя нет: сам ты себя по неразумности своей на жертвенник положил, сам себя ножом толпы проткнул… Кто ещё? Ах, есть у меня бесплодная жена Серах. Убежала—прибежала! Бог с нею, с бесплодною. Куда ни побежит — плода не принесёт… Прошли дни мои. Думы мои — достояние сердца моего — разбиты. Если бы я ожидать стал, то преисподняя — дом мой. В тьме стелить мне постель. Гробу говорить: «Ты — отец мой!» Червю: «Ты — мать и сестра моя!..» Эй, где же моя надежда? Кто её теперь увидит?.. И оставляемое мною, кто со мной разделит? Серах, где ты? Где клятвы твои?!
И тогда вышла из темноты храма к Иосифу чернокудрая Серах, и к нему прижалась, и сказала, прикасаясь пальцами к короне на его голове.
— Я не убежала. Я здесь. Я с тобой всё разделю. Никто, кроме женщины, тебя теперь не увидит. Никто, кроме женщины, с тобой, обездоленным, беду твою, как ложе, не поделит… Что мне жизнь моя в бегстве, когда ты, такой красивый и гордый, не обласкан?! Дай защищу я тебя! Дай тебя в себе сохраню — величавого!.. Всегда одного тебя я любила, как увидела, ненаглядный, красивый мой! Об одном тебе мечтала, в надеждах своих на тебя надеялась!.. Поцелуй же меня долгим поцелуем — не побрезгуй перед огненной пещью!.. На всё я ради тебя, прекрасный мой, готова. Но что сделать мне сейчас? Что совершить? Какой тебе от меня нужен подвиг? Каюсь я, грешная: о себе молодой я подумала, когда русы к городу подошли. Испугалась, бежать одна хотела. Ведь не только чтобы ценности в Крыму, в горах, в караимском храме древнем Чуфут Кале спрятать, скинию и ковчег для единоверцев наших, из Хазарии исходящих, сохранить, села я на лодии уплывавшие. Но тебя, ненаглядного, единственного моего, бросить собралась. Подумала, стар уж ты, а я юна. Осень у тебя, а у меня весна. Зачем мне с тобой погибать? Итак всю себя я, без остатка, тебе отдала, юность свою цветущую с тобой, окаянным, ненасытным, погубила! А ты-то пожил — много за пять десятков лет своих удовольствий и почестей имел, много сладкого вина высокомерия выпил, в тщеславии выкупан, преклонениями умащён. Я же веточка зелёная, с листочками изумрудными, солнцу не нарадовавшаяся, перед луной высоко не напрыгавшаяся. Зачем мне неизбежное раньше срока принимать? А не умнее ли, не полезнее мне принять за отца своего Вениамина-великомученика распаянные приношения от единоверцев? Как на титлах в древнем храме Чуфут-Кале имя его золотом выпишут, насмотреться! К народу выйти, чтобы знал народ, что семя великомученика с людьми осталось — вот в дочери живёт, а дочь внуков, достойных деда, народу своему родит…
Серах вздохнула:
— Так, каюсь, я, грешная, думала. Но, видно, думать полезно для себя — это одно. А думы свои противу сердца своего, противу жилочки каждой, тебя, любимого, помнящей, по тебе воплем тоскующей, — это совсем другое. Дочь любви я! Дочь крови горячей! Не хотела возвращаться, а не заметила, как я вот вернулась. Вот опять обнимаю тебя. Тело твоё чувствую, и мне хорошо, и сердце сладостью полно. Скажи теперь, как мне дальше быть? Вспоминаю я историю предков. Пример и опору душе ищу. Была бы я Иудифь, вдова иудейская, красива видом и привлекательна взором, Барс Святослав, подошедший к городу, стал бы для меня как Олоферн из рода Навуходоносорова. Уж исхитрилась бы! Вся я соблазн, и нет стражи, которая сможет остановить меня. Сняла бы я тогда голову с Олоферна. Только вот беда — не вдова я. Как мне при тебе, живом муже, прелюбодействовать? Даже и святого дела ради прелюбодействовать не велит иудейский закон!
Сказала так и опустилась Серах на колени рядом с молившимся мужем своим, прекрасным Иосифом, и упала в ноги ему, и заголосила, как по покойнику голосят.
— Ой, любимый, прекрасный мой! Почему уже не вдова я, чтобы за тебя отомстить? Почему ждать часу своего должна?
И в ответ усмехнулся Иосиф и руку свою к змеившимся чёрным кудрям своей Серах протянул. Но не погладил её волос, потому что шёл уже от них такой жар, что показалось ему, что вспыхнут они, если их погладить, как пакля от прения. Отдёрнул он, как от костра, руку и сказал:
— Вот ты и вправду Серах — огонь! А вдовой-то стать куда торопишься? Ещё солнце за небосклон нс зашло, природа не овдовела.
Проглотила слёзы Серах:
— Зачем над тайной усмехаешься? Знаю я давно, что все мы — «дети вдовы». Отец мой Вениамин посвящённым был и от любимой дочери тайны не скрывал. Знаю, что считают христианские еретики манихеи вроде убиенного епископа Памфалона себя тоже «сыновьями вдовы» и что из-за этого их в преступной связи с нами, посвящёнными в Йоциру, обвиняют. В знании Каббалы и закрытых чисел, в прочих от «детей вдовы» исходящих совращениях! Знаю я, и что ты с манихеями нашими городскими всегда на одном языке говорил. Всё знаю. Помню, что наравне с моим отцом, Вениамином-мучеником, ты себя всегда тоже «ремесленником» называл. Говорил доверенным своим: «Разве управление не требует навыка потомственного ремесленного, цехового?! Разве везир — не профессия? Разве у иш (везиров) не может быть своих тайн мастерства, что, как во всяком порядочном цехе, от отца к сыну передают, а чужим, чтобы не похитили навык, тайны не доверяют?» Я всё помню!.. Только где же сейчас твоё «ремесло»? Что же оно тебя использовало, как девку непотребную, и бросило — на потеху, на расправу воям Барса тебя, Мастера, равнодушно отдаёт?! Или ты не Мастер?!
Поднял гордо голову Иосиф; хоть и на коленях в молитве последней, однако гордо сказал:
— Мак бенаш! Истлел труп!
Надо полагать, что Мастером Хирамом чувствовал себя в тот сладостный миг Иосиф. Известно всем про Хирама, что это он, сын одной вдовы, из колена Неффалимова, призванный Соломоном, храм и притвор храма строил. А посвящённым известно и о том также, что, строя храм, разделил он строителей на разряды, чтобы получали строители каждый согласно труду своему и в соответствии со своими талантами и усердием. И потому мастерам шепнул заветное слово, зная которое они получали только им одним награду положенную, а подмастерья взбунтовались, захотели получать столько же, сколько мастера, и убили Хирама; мастера же нашли его могилу и над нею, покрыв себе руки белой тканью (в знак невиновности своей) сказали друг другу: «Мясо отделилось от костей. Мак бенащ! Труп истлел».
Мастера и до сих пор таинственно друг другу так говорят, сделав эти слова посвящением и подмастерьев низких в свой круг с тех пор — и впредь навсегда — не допуская. Погиб Хирам, но подмастерьям заветного слова, чтобы они не по трудам своим могли получать, всё-таки не выдал. Вот и Иосиф тоже решил для себя, что уйдёт он теперь в мир иной героем, но не предаст установлений. Оттого гордо и поднял голову, хоть и стоял на коленях. Оттого и сказал, как в завете:
— Мак бенаш! Истлел труп!
Хотел он тоже, чтобы и о нём слово передавалось из поколения в поколение, от мастера к мастеру.
Поднялась на ноги лежавшая ничком и рыдавшая у ног Иосифа верная Серах. И встала рядом. И обе руки к нему, прося, протянула и закричала, как иод рукой палача на плахе:
— Нет! Нет! Не хочу! Не истлел ещё ты, муж мой, прекрасный Иосиф! Зачем ты себя и меня на смерть обрекаешь?! Ради кого и чего? Что нам с тобой от того будет, что от мастера к мастеру кто-то на ухо «Мак бенаш!» прошепчет?! Мы-то рядышком в землю сырую сейчас ляжем. Мы-то никогда уже друг друга сладко не обнимем, на ложе не взойдём с любовью. Бежим отсюда скорее, милый, прекрасный мой. Сёстры мои за сакалабами в замужестве. Укроемся у них. Не отдадут шурины мои ни меня, ни тебя, мужа моего, в обиду. Переждём, укрываясь у них, беду, а там, глядишь, и небо развиднеется, и луна полная выйдет, нам поможет! Давно уж не чужие мы этой земле — родная земля нас не выдаст!
— Родная… — искривилось горьким смехом лицо Иосифа. И нельзя было понять, то ли мышца смеха, перетруженная, опять его подвела: гримасу, вместо тёплой памяти, от бессильной усталости изобразила; то ли сам он только уже горечью жил, горечи хотел и одну горечь из себя выдавить смог. — Это ты, Серах, говоришь, что родная земля нас не выдаст?! Ты, которая меня всё ссорила с нею! Не твои ли слова, что кочевники — скот, купцы — псы, ремесленники — тутгара-прислуга. Одна ты — Чёрное Пламя. Ах, дитя вдовы! Ах, единственная женщина, принятая в тайное общество!.. На! Вот — теперь наглядимся на пожар. Пламя сами зажжём, в пламени сами погибнем! Мы очень красиво будем гореть! Роскошное зрелище!
— Любимый мой! Зачем ты так? Я вернулась не чтобы сгореть с тобой, а чтобы спасти тебя!.. Сохранить лик твой на земле! Ясный, гордый лик. Нет тебя прекрасней, мой Иосиф!.. Лицо твоё — чистое золото, кудри твои — пальмовые гроздья. Очи твои как голуби на водных потоках, купаются в молоке, сидят у разлива. Губы твои — красные лилии, капающие миррой текучей. Ноги твои — мраморные столбы, поставленные в золотые опоры. Облик твой — как Ливан, ты прекрасен, как кедры его. Таков ты, мой милый, таков мой муж. Завидуйте, женщины Хазарана! «Досталась я милому, и меня он желает, — пойдём, мой милый, выйдем в поля, в шалашах заночуем. Выйдем утром в виноградники: зеленеют ли лозы, раскрываются ль бутоны, зацветают ли гранаты? Там я отдам мои ласки тебе». Разве тебе для счастья меня мало?! — я хочет обнять Серах своего прекрасного Иосифа, голову ему свою чернокудрую на плечо положить.
Говорит: — Вместе мы. Что нам ещё от жизни надо?.. Пойдём же скорее, пойдём отсюда. Из ада этого прочь, Иосиф? Пойдём в поля — там переночуем и решим, как быть дальше… Всё начнём с тобой сначала. В чём-то мы здесь ошиблись… Сироты мы теперь с тобой, мой царь! Истинно дети вдовы-природы. Бежим: добрые люди сирот пожалеют…
Растрогался Иосиф. Протянул было опять руку, что-бы обнять за плечи свою Серах, но отдёрнул руку — показалось ему, что чёрное пламя его лизнуло. Сказал:
— Какие же мы сироты, Серах, коли сами мать свою извели? Если дети убили свою приёмную мать, то равно тяжек грех. Что ты Единому скажешь: «Нашла я, сирота, себе землю. Обласкала она меня, поила, кормила, а я её разорила… Прости меня, Единым За сиротство пожалей?..»
Попыталась Серах поцеловать любимого:
— Не бери на сердце, мой царь?.. Разве не о благе для Хазарии ты думал? Много разных языков слилось в один общий котёл у нас в Хазаране. Ты обольстился: «Торговля — мир. Торговый язык — для всех един». Разве ты виноват, что рахданиты стали ссорить языки? Не кричали: «Тот купец плохой, потому что конкурент мой». Кричали: «Тот купец плохой, потому что не на святом языке говорит. Прогони-убей гойя!» Много разных сект развелось у нас в городе: «дети вдовы», «сыновья вдовы», прочие заговорщики-еретики. Все тебе нашёптывали: «Обопрись тайно на нас? Мы тебе через сообщников своих в чужих землях поможем. Мы тебя там поднимем, а ты нам тут благоволи». Ты поверил! Но вышло, что кордовскому Ремеслу помог, а собственное Отечество разорил. Обманули тебя, любимый мой, эти преступники… А ты ведь мудрым был. Ты мне сам открылся: «Ту веру царь должен принять, над которой царит. Тот язык беречь, которым правит». Как ты на Большом Сборе хазар ненависть в пользу обернул!.. Разве ты виноват, что ржа далеко зашла, что они тебя после Большого Сбора не послушали. Кагана старого под знамя вывели?! О, ты ещё найдёшь применение своей мудрости. А сейчас прочь нам отсюда надо!.. Приободрись, Иосиф! Ну, обними меня, мой желанный! Муж мой! Прикоснись ко мне, найдёшь силы бежать!..
Не прикоснулся, однако, к возлюбленной Иосиф. Молча с колен поднялся и пошёл к порогу храма. Ни одного стражника во дворе храма уже не было. Лишь жались к стене храма осиротевшие ребятишки. Они были испуганы и больше уже в войну не играли.
И засмеялся Иосиф.
— Эти — сироты, забрать их некому. Так же вот и я сирота. Был царь, стал дитя вдовы.
Ему было приятно подумать о себе, как о сироте. Думалось ему, что вот народ, о котором он заботился, отбился от руки его, царя своего.
С порога храм было видно, как в городе по обоим берегам затихает бой. На левобережье сражалось ополчение ремесленников. На правобережье пытался каждый защитить свой дом. Сражались купцы, не вышедшие вчера навстречу Барсу Святославу вместе с Каганом. Однако настоящего боя уже давно не было, ибо разве можно было назвать сражающейся толпу обезумелых мужчин, которых медленно обступала белая стена. Мужчины умоляли о пощаде — им в ответ кидали брошенные ими сабли.
«Варвары! — подумал Иосиф. — Они хотят остаться благородными и по своим варварским представлениям полагают, что оказывают этим мужчинам великую милость, разрешая отправиться на небо непременно с саблями в коченеющих руках».
На широкой стене, опоясавшей двор храма, у костров, разведённых под чанами с кипящей смолой, суетились воины из особого отряда Неизречённого. Они были в голубом, как Иосиф, и в руках у них были черпаки с длинными древками. Они собрались защищать до смертного вскрика ковчег и священные сосуды. «Вот мученики, по которым я печалился, — подумал Иосиф. — Только не великие, потому что безымянны. Нет ни у кого из них громкого, как у меня, имени; и ни звания, ни должности тоже нет… Ах, знали бы вы теперь, что собрались умереть, защищая в храме то, чего уже в храме нет. Впрочем, что вам?.. Сочинители напишут славы вашей ради, что бог увидел ваш подвиг и сотворил чудо и самолично прибрал сосуды, так что когда ворвались варвары, то отдёрнули они чёрную занавеску и увидели за нею только пустоту. Ах, напрасно я, видимо, ухожу из храма. Раз должно ещё случиться такое чудо, то не сгорит храм. Или он сгорит уже после того, как свершится чудо?.. Всегда ведь храмы сгорают после того, как успеет совершиться в них чудо!..»
Иосиф подошёл к смертникам, охранявшим Храм и остров. Были они пока без дела. Воины Святослава не торопились осаждать храм. Там, в городе, по обоим берегам реки они преспокойно продолжали заниматься своей нехитрой игрою, выкуривая из горящих домов остатки разбитого противника и заставляя врагов умирать с саблей в руках. Воины Святослава так увлеклись этой своей забавою, что, к удивлению Иосифа и вопреки обычаям войны, предпочли её насилию над женщинами и грабежу. Драгоценные вещи они просто кидали в общие кучи посреди улиц. Женщин и детей направляли к берегу реки, где рядом с вытащенными на берег бесчисленными челнами уже варилась на кострах пища, сидели раненые, вокруг которых суетились волхвы, прикладывавшие к ранам кровоостанавливающие коренья.
Иосиф поднялся на стену, постоял возле одного из чанов с кипящей смолой. Её приготовили лить на головы наступающих. Какой-то лучник, похоже, булгарин из союзных со Святославом войск, увидев снизу корону на голове Иосифа, как бы нехотя прицелился, выстрелил. Все на стене замерли, видя, как убийственно медленно, словно замерев в полёте, приближается к голове Иосифа краснопёрая стрела. Стрела прошла над короной. Иосиф, по-прежнему улыбаясь одеревеневшим лицом, спустился со стены и попросил открыть ворота.
— Куда ты, царь?! — спросил открывавший ворота смертник в голубом одеянии. Иосиф не ответил. Он вышел из храма и зашагал по острову мимо своего дворца к наплавному мосту. Он видел, как за ним выскользнула из храмовых ворот и побежала жёлтая тень, похожая на Серах. Но не приостановился. Он шёл на левый берег — туда, к кострам с ранеными вокруг них, к пище, к детям и женщинам.
Он ждал, что сейчас ему в спину попадёт пущенный пращи камень или между лопаток вопьётся стрела, направленная из окна храма. Камень не попал, а стрела не впилась.
Он уже шёл между дерущимися. Возле одного из горевших домов он отломил чудом не обуглившуюся зелёную ветвь и взял её. В голубом наряде первосвященника, с широким жёлтым поясом, с короной на голове и зелёной ветвью в руке он казался себе очень внушительным.
Солнце ещё было низко, и в косом утреннем свете, прямо против которого шёл Иосиф, горящий город почудился Иосифу похожим на лоскут из красного шёлка, нашитый на чёрное полотно многоводной Реки внизу и синий шёлк Неба вверху.
И вдруг увидел Иосиф занесённый над собою меч, и город стал в его глазах белым-белым, а Река и Небо одинаково чёрными. Меч был всё ближе. Но когда Иосиф, ожидая удара, закрыл глаза, то услышал крик — пронзительный крик женщины. Он открыл от крика глаза и увидел, что у самых его ног корчатся два куска человеческого мяса — два обрубка в лоскутах жёлтой материи. Всё, что мгновение назад было прекрасным женским телом. Он перешагнул через обрубки, и, когда перешагивал, то ему показалось, что от одного обрубка на него, застывая, глядят не мигая прекрасные чёрные глаза Серах, а над ними треплются в воздухе, как чёрный факел, её волосы. Волосы были как чёрный виноград, и гроздьями мелкие колечки свисали, длинными лозами пряди по плечам расползались. У неё были губы как алый сок. Однако какое ему теперь могло быть дело до той, кто заслонив его от меча, приняла смерть раньше, а ему на несколько мгновений жизнь продлила?..
Он шёл по наплавному мосту и удивлялся на себя: почему он не приказал сжечь этот наплавной мост? Или у него не поднялась рука уничтожить то, что было его детищем и принесло ему столько звонкой благодарности, которую он мог часами считать (щупать? видеть?). Он споткнулся, зазевавшись. Споткнулся о что-то тяжёлое, тёплое и липкое и выронил свою зелёную ветвь.
Нагнулся, подобрал, зажал в кулак, снова поднял зелёную ветвь над головой. Но теперь с ветки капало ему на лицо что-то тёплое и липкое. Иосифу не захотелось поднимать глаза на свою зелёную ветвь, чтобы не убедиться, что он уже вымазал свою ветвь мира по оплошности кровью.
Барса Святослава он узнал сразу, хотя и был Святослав без голубого княжеского корзна на шее. Святослав уже снял с себя доспехи и стоял коренастый, в белой рубахе и широченных синих штанах, с кисточкой-оселедцем на бритой голове.
«Таким вот и описал мне тебя в осведомительном письме из Киева Вениамин, а я по привычке Вениамину не поверил», — подумал Иосиф и, сообразив, что судорожно сведённая мышца смеха всё ещё кривит его лицо в широкую улыбку, неожиданно для себя вслух, громко и представительно, умело подобрав славянские слова, сказал:
— Приветствую тебя, Барс Святослав — великий полководец! — Я слышал, что ты нуждаешься в расторопном Ише-везире?..
День сороковой. «Мерген Добун над гробами»
Сокровенное сказание (летопись кочевников) сохранило о хазарах последнюю запись под годом Барс Ил (965—966 гг. по нашему календарю). Летописец записал: «Поздней осенью года Барса случилось ещё следующее. Пришёл на Итиль-реку с Алтая призванный хазарами полк со знаменем. Сын Добуна Мертен согласно воле отца хотел взять хазар под себя. Но, видно, слишком долго добирался полк — никаких достойных людей, чтобы взять их под себя, Мерген на Итили-реке не нашёл.
Полк вышел к Итили-реке перед рассветом, и сначала воинам полка показалось, что они видят впереди чёрную тучу, припавшую к воде. Но, подскакав, ближе, воины различили остатки города. Обуглившиеся развалины на острове посреди реки. А по обоим берегам заброшенные землянки и юрты, среди которых бродили одичавшие, голодные, готовые растерзать человека псы. В небе каркало бесчисленное вороньё. Вдоль реки стоял засохший чакан, меж голых стеблей которого сиротливо гулял холодный ветер.
Недалеко от города полк наткнулся на частокол, внутри которого остались следы священного огня. Рядом с выжженным кругом, уткнувшись в его края сломанными оглоблями, стояла полусгнившая арба и лежало несколько древних таботаев.
— К полному упадку, видно, пришёл этот Эль, — сказал, разглядывая гробы, Мерген. — Даже священный прах древних предков некому у этого народа поднять!..
Воины Мергена слезли с коней, горестно склонили головы.
Затем Мерген поднял своё медное сверкающее Знамя и повёл было полк назад, на восток, навстречу восходящему солнцу.
Но, заслоняя восходящее солнце, с востока возникло пыльное облако. Оно росло, как смерч, надвигалось. Затем небо потряс гром тьмы копыт.
Это прикатилась за полком орда. Она с ходу ударилась о преграду Реки и, смешавшись, растеклась, как в половодье. Люди рассёдлывали лошадей, ставили шатры юрт, зажигали костры. Мирные пастухи-татары начинали жить.
Люди заселяли свободную землю. Земля на берегу Реки была слишком обильной, чтобы пустовать. И прикатившие за победоносным полком ордынцы, а среди них в основном были люди из обнищавших, разорённых захватчиками племён, как дети, радовались дару Неба.
Мерген долго смотрел на этих счастливо готовившихся к мирной жизни людей, потом широким взмахом воткнул в землю сияющее звонкой медью Знамя:
— Здесь наша земля, татары! Готовьте послов мира к нашему брату, речнику Русу. Коли укрепим братство, никто больше нас с нашей земли не прогонит!.. Сами себя погубили хазары неразумные. Теперь мы будем здесь жить, братья русов, татары!..